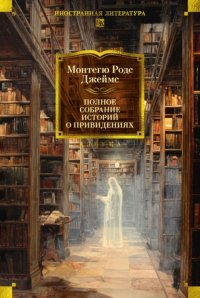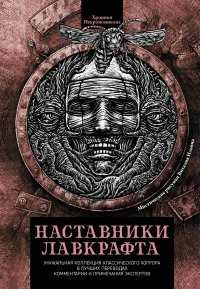Читать онлайн Стенающий колодец бесплатно
- Все книги автора: Монтегю Родс Джеймс
© Жданова Т. Л., перевод на русский язык, 2021
© Шокин Г. О., перевод на русский язык, 2021
© Марков А. В., вступительная статья, 2022
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
Путь паломника как путь охотника: о Монтегю Родсе Джеймсе
Бывают писатели, которые постоянно прямо или косвенно рассказывают о своем совершенствовании, отчитываясь то ли перед собой, то ли перед публикой. Для них важно, чтобы их новый роман впечатлил критиков больше, чем предыдущий, чтобы сборником рассказов они закрепили заслуженный успех, а театральная постановка сделала их знаменитостями в самых высоких кругах. Этот путь можно условно назвать путем воина, хотя, конечно, литература – вовсе не война.
Другие писатели – паломники, которые всю жизнь проясняют какую-то одну мысль, десять или двадцать лет работают над одним романом, мучительно совершенствуя сами основы литературного творчества. Они в конце концов достигают своего Иерусалима, и их главная книга или даже несколько главных книг законно стоят на полках читателей, востребованные как хорошая и даже блестящая литература.
Но есть и третий тип писателей, которых можно назвать охотниками. Таковыми были, например, Чехов и – во многом – Монтегю Родс Джеймс. Эти писатели могут ограничиваться рассказами, но могут столь же свободно выбрать и большую форму, подобно охотнику, который может стрелять дичь, а может пойти на медведя. Они свободны и в этом гениальны, ведь если путь паломника всегда необходим, то прогулки охотника могло бы и не быть, – но вдруг мы наблюдаем ее!
По воспитанию М. Р. Джеймс, конечно, паломник: усердный филолог, знающий не только цену каждому слову, но и исток любого волнующего литературного сюжета. Останься он паломником, мы говорили бы об очередной прозе филолога, остроумной и эрудированной, однако принадлежащей своему времени. Но Джеймс остался в истории культуры как охотник, поэтому его влияние ощущается в мировой литературе до сих пор. Им восторгался Лавкрафт, и у него не перестает учиться Стивен Кинг.
Его рассказы – точно бьющие в цель сообщения об ужасе, который равно владеет и книгами, и бытовыми обстоятельствами. У страха, согласно Джеймсу, велики не только глаза, но и руки: страх пугает не только воспоминаниями и вращающимися в уме формулировками, но и действиями, таинственными исчезновениями и не менее таинственными разочарованиями. Но чтобы разобраться в его даре рассказчика, расскажем немного о нем самом.
Будущий писатель родился в 1862 году в семье англиканского священника и провел детство в Саффолке, на востоке Англии. Этот край спокойных утиных рек, пикантных сыров и бесконечных раскопок каменного, бронзового и железного веков, конечно, не мог не впечатлять: казалось, здесь смешиваются эпохи, и каждая из них что-то недоговаривает. Сельская местность – сцена действия многих рассказов Джеймса: для него это вовсе не идиллические пейзажи и не предмет любования заезжих горожан, но место, где приходится – и чем дальше, тем больше – делать жизненно важный выбор. Страхи этих мест, кладбища и реликвии – прямой призыв героям рассказов не ограничиваться опытом и целями своей жизни. Напротив, им приходится всякий раз измерять свою жизнь и риск своей смерти некоей большей мерой.
Джеймс, будучи подростком книжным, а не компанейским, получил лучшее образование: закончил Итон-колледж, а после – Кембриджский королевский колледж. Он стал сотрудником Кембриджского музея, знаменитого Фицуильяма. Целью этого музея было не просто коллекционироание всего на свете – от первобытного искусства до полотен импрессионистов, – но и реконструкция искусств: его сотрудники изучали способы литья и правила старинной музыки, системы государственных наград и ритуальные формулы документов разных частей света. Конечно, Фицуильям похож на все музеи, но в нем имеет место чуть менее жесткое разделение на предметные сферы, унаследованное от дворцовых собраний, при котором коллекция китайских ваз не имеет ничего общего с собранием монет Великого Шелкового пути. Здесь, наоборот, отделы оказываются хотя бы отчасти проницаемыми, что и позволяет установить некую общность между Тицианом и, например, промышленным станком. Джеймс, конечно, внес свой вклад в исследования, способные «разговорить» разные искусства: в своей диссертации об Апокалипсисе Петра, раннехристианском апокрифе о благах рая и ужасах ада, он рассматривал, как из простых словесных формулировок возникают совершенно картинные образы загробной жизни, а из страха перед своими и чужими пороками – ожидание скорого конца времен и нового созидания Вселенной.
Мировоззрение, согласно которому мир конечен и обречен на циклы гибели и возрождения и в котором есть древнегреческий экпиросис, древнеиндийская пралайя или древнескандинавский рагнарек, не может создать жанр триллера, ведь все ужасное уже произошло и еще произойдет. Кроме того, ужасное не может быть предметом текущего переживания и тем более заботой писателя-«охотника». И в то же время в чувствах, которые выразились в Апокалипсисе Петра, мы находим именно триллер: ускорение времени, желание скорейшей развязки, завороженность тем, как ужасно все может закончиться, если вовремя не найти самое прекрасное разрешение.
В триллере исследуется напряженность человека, сделавшего ставку на добро, пусть эта ставка и невелика. Проблема в том, что выигрыш героя не до конца предрешен. Но все же ставка, которую персонифицирует, например, страшный артефакт, приносящий разрушение в мир и вместе с тем позволяющий герою противостать этому разрушению, уже сделана. Внимание к артефакту со стороны «охотника» не менее существенно, чем умение «воина» думать о началах и концах эпохи или умение «паломника» внимать началам и концам собственного пути.
Джеймс был университетским преподавателем и администратором, которого мы без затей назвали бы «кабинетным ученым», не будь его кабинет раскрыт навстречу новым впечатлениям и новым функциям привычных вещей. По сути, на материале привычной английской жизни, в том числе и кампусной жизни Кембриджа, он делал то, чем потом гордились сюрреалисты, в чьих текстах зонтик встречался со швейной машинкой, а телефон оказывался лобстером. Правда, сюрреалисты, показывая ограничения привычных понятий, не способных выразить суть события, решали вопросы языка: они противопоставили затертое словами бытие и событие открытое новому моральному действию. В то же время для Джеймса бытие вовсе не было чем-то затертым или банальным, напротив, именно оно создавало ритм появления ужаса и ритм его преодоления. Бытие, согласно английскому писателю, это хронометр, точно отмеряющий ужас, и нужно лишь научиться правильно им пользоваться, чтобы ужасов в нашей жизни стало меньше.
Джеймс много интересовался как древней историей, так и современной техникой; даже не то чтобы интересовался, он легко ориентировался в том и другом. До самой своей смерти в 1936 году он сочинял рассказы, потому что видел в этом деле продолжение самого духа английской литературы, «заточенной» собирать семью вокруг книги, собирать разных людей вокруг любых отпечатанных листов, и рассказывать, как близок мир мертвых миру живых. Да, мертвые рядом, но именно поэтому людям надо уметь жить вместе и совместно узнавать, когда же именно мертвые приходят к нам, узнавать, чтобы правильным способом взывать к жизни и суметь пробудить себя в самый подходящий для пробуждения момент.
Читатель, конечно, знает о традиции рождественского рассказа: этот рассказ часто пугает, но в конце концов близость в нем побеждает любую даль. Все оказываются рядом: и волхвы с пастухами, и дети со взрослыми и бабушками и дедушками. Эта близость может быть трагична, но история о ней не звучит горестно. Новаторство Джеймса – в психологии, а не в самих сюжетах, хотя как творец сюжетов он был изобретателен, как никто. Обычно в рождественском рассказе мы легко понимаем мотивации персонажей, например, диккенсовского Скруджа, – и когда он был закоренелым скрягой, и когда он раскаялся и преобразился. У Джеймса мы скорее догадываемся, например, о том, какой испуг для героя был поворотным, а какой – только сопровождал «главный» испуг, заставляя героя немного задуматься и глубже почувствовать ситуацию.
Джеймс был блестящим чтецом: он сам читал свои рассказы. Кембриджские самодеятельные актеры считали за честь слышать знаменитого профессора, который так же убедительно рассказывал о привидениях, проклятых замках и таинственных предметах мебели. Как будто дело было на лекции и он сообщал, для чего предназначались этот нож или эта ритуальная маска. Когда ты читаешь собственные сочинения вслух, то все возможные повторения или поспешные сюжетные решения оказываются налицо, и поэтому в таком чтении – высшая дисциплина писателя-фантаста. Тексты Джеймса, впрочем, не обязательно читать вслух, их даже не обязательно читать внимательно, но совершенно необходимо – осмотрительно. Только так можно понять, что могло напугать героя и при каких условиях привидение оказывается именно привидением, а не посторонним шумом.
Джеймс, безусловно, и основатель, и классик жанра ghost story (рассказ о привидениях). Конечно, о привидениях говорили задолго до него, достаточно вспомнить такие классические тексты, как «Нортенгерское аббатство» (1803) Джейн Остин, «История с привидением» (1819) Эрнста Теодора Амадея Гофмана или «Легенда о Сонной Лощине» (1820) американца Вашингтона Ирвинга. Но сам Джеймс видел истоки своей фантазии о привидениях не в прозе, а в поэзии: идеальным произведением в этом смысле он считал «Ленору» (1773) Г. Бюргера, балладу о путешествии на коне с мертвым возлюбленным. Читая этот текст, приходишь к важному выводу: только верность любимому человеку, даже после смерти, – та этическая модальность, благодаря которой ты оказываешься достоин всех своих приключений и вообще своей жизни. Ворох событий этой баллады рассмотрен сквозь призму этого нераздельного влечения любви и к смерти, и именно поэтому произведение осталось шедевром на все времена.
Точно так же Джеймс аналитически разбирает нравственные начала каждой своей истории и выясняет, в какой ситуации возникает долг, в какой – терпение, а в какой – готовность принять испытания. Его варианту «Леноры» проза придает не вялость, как можно было бы ожидать, а стремительность. Это и есть гений «охотника» в литературе: он выясняет, чего на самом деле хочет герой, видит, когда человек должен ставить предел нашим желаниям (и как именно этот предел ставится), и понимает, что в этой ситуации порой никак не обойтись без привидения. Поэтому после чтения рассказов Джеймса мы чувствуем, что весь окружающий мир становится едва ли более гармоничным, но совершенно точно – гораздо более упорядоченным.
Александр Марков, профессор РГГУ и ВлГУ
Стенающий колодец
Истории, которые я пытался сочинить
Мне никогда не хватало ни умения, ни терпения сочинять истории – я имею в виду исключительно истории о привидениях, других я и не пытался писать, – и порой мне доставляет удовольствие вспоминать об историях, которые время от времени приходили мне на ум, но никогда не воплощались в должную форму. Именно в должную форму: некоторые из них я на самом деле написал, но теперь они покоятся в ящике письменного стола или где-то еще.
На этот случай можно привести довольно расхожее выражение Вальтера Скотта: «Глядеть на (них) снова я не в состоянии».
Эти истории были написаны плохо. Хотя попадались и такие, в которых содержание отказывалось расцветать в той среде, которую я придумывал для него, а в изложении других писателей даже появлялось в печати. Хочу их вспомнить в пользу кого-нибудь другого (кто сможет найти подходящий им слот).
Вот, например, история об одном человеке, который ехал в поезде во Францию. Напротив него сидела ничем не примечательная француженка зрелых лет с усиками и с выражением упорства на лице. Читать ему было нечего, за исключением старомодного романа, купленного из-за его переплета.
Назывался этот роман «Мадам де Лихтенштейн». Когда обзор из окна вид его vis-a-vis[1] ему наскучили, он стад лениво перелистывать страницы и наткнулся на разговор двух персонажей романа. Они обсуждали свою знакомую – женщину, проживающую в огромном доме в Марсилли ле Гайер. Сначала они обсудили ее дом, а потом – тут мы добрались до самой сути – таинственное исчезновение мужа этой женщины. В разговоре упоминалось и ее имя, и герою моей истории показалось, что имя это ему откуда-то знакомо. Тут поезд остановился у полустанка, и путешественник, вздрогнув, проснулся… с раскрытой книгой в руках… Женщина напротив встала, и на бумажке, прикрепленной к ее сумке, он прочитал то самое имя. Дальше он отправился в Труа, откуда ездил на экскурсии. И во время одной из них он оказался… был как раз час обеда… в… да, в Марсилли ле Гайер. Напротив гостиницы на Гранд Пляс стоял вычурный дом с тремя фронтонами. Из него вышла хорошо одетая женщина, которую он встречал раньше. Разговор с официантом. Да, леди – вдова, вернее, предположительно вдова. Во всяком случае, никому не известно, что произошло с ее мужем. Тут нас и постигает неудача. Разумеется, в романе разговора, который якобы читал путешественник, не оказалось.
Еще была очень длинная история о двух студентах последнего курса, проводящих рождественские каникулы в деревенском домике, принадлежавшем одному из них. Следующий наследник поместья, его дядя, проживал неподалеку. Внушающий доверие и эрудированный священнослужитель, который обитал вместе с дядей, завязал дружбу с молодыми людьми. Возвращение в темноте после обеда у дяди. Непонятная тревога, когда они проходят мимо зарослей. Загадочные бесформенные следы на снегу вокруг дома утром. Попытки соблазнить друга и изолировать хозяина, вытащив его наружу после темноты. Полное поражение и гибель священно служителя, на которого, решив оставить в покое другую жертву, набрасывается фамильное привидение.
Еще история – о двух студентах Кингз-колледжа в Кембридже шестнадцатого века (которых на самом деле оттуда выгнали за занятие магией) и их ночном путешествии к колдунье в Фенстантоне. На перекрестке Хантингтонской дороги, где поворот на Лолуорт, они встречают компанию, впереди которой идет, упираясь, фигура, явно им знакомая. По прибытии в Фенстантон они узнают о смерти колдуньи. А потом читатель узнает о том, что они увидели на ее свежей могиле.
Есть истории, которые были-таки написаны, но частично. Другие лишь мелькали у меня в голове, но так и не материализовались. Например, о человеке (естественно, человеке, за которым что-то водилось). Сидел он как-то вечером у себя в кабинете и внезапно услышал легкий шум. Он быстро обернулся и увидел, что из-за оконных занавесок выглядывает некое мертвое лицо – мертвое, но с живыми глазами. Прыгнув к окну, он быстро раздвинул занавески. На пол упала картонная маска. Но за занавесками никого не оказалось, и дырки в маске для глаз были всего лишь дырками. Но что можно из этого сделать?
Вот идете вы быстро ночью домой в предвкушении отдыха в теплой комнате, как вдруг кто-то касается вашего плеча. Вы удивленно останавливаетесь, оборачиваетесь, и какое лицо или не лицо предстает вашим глазам?
Произошло что-то вроде этого, когда мистер Плохиш решил покончить с мистером Хорошишем и выбрал для этого замечательные заросли близ дороги, откуда можно было выстрелить. Так почему тогда мистер Хорошиш в сопровождении друга, который вдруг решил составить ему компанию, обнаружил мистера Плохиша валявшимся на дороге? Он успел сообщить им, что в зарослях его ждало нечто и даже манило, чего было вполне достаточно, чтобы они туда сами не полезли. В данном случае имеется возможность развить сюжет, но мне было лень облекать историю в слова.
Можно также придумать рассказ о рождественском печенье. Если его ест нужный человек, то он находит внутри записку с сообщением. По всей вероятности, он рано покинет компанию, ссылаясь на недомогание; правда, более правдоподобным поводом для этого может послужить «предыдущая договоренность о длительном пребывании».
Замечу в скобках, что многие обычные предметы в состоянии злой воли. Поэтому будьте осторожны, когда находите экипаже какой-то пакет, особенно если он содержит обрезки ногтей и волос. Ни в коем случае не приносите его домой. С ним к вам может явиться кто-нибудь еще… (Многие современные писатели полагают, что многоточия – прекрасная замена необходимым словам. И действительно, их так легко писать. Вот вам еще немножко…)
Как-то поздним вечером в понедельник ко мне в кабинет зашла жаба, и, хотя ее появление ничем особенным не уличалось, мне показалось, что не стоит предаваться размышлению на подобные темы, а то можно увидеть более грозных пришельцев из иных миров.
Я все сказал.
М. Р. Джеймс
Мистер Хамфриз и его наследство
Лет пятнадцать тому назад, то ли в конце августа, то ли в начале сентября, у загородной станции Уилсторп, что в Восточной Англии, остановился поезд. Среди сошедших с него пассажиров был высокий и довольно симпатичный молодой человек с саквояжем и с кипой перевязанных бумаг в руках. По тому, как он оглядывался вокруг, было очевидно, что он кого-то ждет, и он таки дождался. Начальник станции, бросившийся было к поезду, спохватился и, обернувшись к полному, преисполненному важности, с круглой бородкой человеку – тот в замешательстве обозревал поезд, – подозвал его кивком головы.
– Мистер Купер, – закричал он, – мистер Купер, вон, кажется, тот джентльмен, которого вы ждете. – Затем он обратился к пассажиру: – Мистер Хамфриз, сэр? Добро пожаловать в Уилсторп. Вас ожидают мистер Купер и экипаж прямиком из Холла. Да я думаю, вы и сами это знаете.
Тут, приподнимая шляпу, подошел мистер Купер, после чего последовало рукопожатие.
– Я с радостью вторю прекрасным словам мистера Палмера, – произнес Купер. – Мне следовало бы первым воспроизвести их, мистер Хамфриз, но я не знал, как вы выглядите, сэр. И да будет день вашего прибытия с этой минуты красным днем календаря для нас.
– Благодарю вас, мистер Купер, за ваши добрые слова, – ответил Хамфриз, – и вам, мистер Палмер, тоже спасибо. Я очень надеюсь, что подобная смена… э… владетеля… о чем вы, несомненно, глубоко скорбите… не окажется в ущерб тем, с кем я с нынешнего дня буду знаком.
Поняв, что выражается не очень удачно, он запнулся, и мистер Купер прервал его:
– Об этом вы можете не беспокоиться, мистер Хамфриз. Смею заверить вас, сэр, что вас ожидает радушный прием со всех сторон. Ну, а что касается смены владетеля, что повлекло ущерб соседям, так ваш покойный дядя…
На этих словах мистер Купер тоже запнулся, может, выражая тем самым повиновение своему внутреннему голосу, а может, просто потому, что мистер Палмер, громко откашлявшись, попросил Хамфриза предъявить билет. Затем двое мужчин оставили крошечную станцию и по предложению мистера Хамфриза двинулись пешком к дому мистера Купера, где их уже ожидал завтрак.
Отношения, в коих состояли эти персонажи, можно обрисовать несколькими словами. Хамфриз совершенно неожиданно получил наследство от дяди, причем ни дядю, ни его собственность он никогда не видывал. В мире он пребывал в полном одиночестве, обладал прекрасными способностями и добродушным характером и последние четыре-пять лет работал в некоем правительственном учреждении, что никак не соответствовало образу жизни сельского джентльмена. Он был робким и застенчивым и за исключением гольфа и разведением садика иных занятий на воздухе не знал. Сегодня он впервые приехал в Уилсторп и впервые принялся за обсуждение с управляющим поместьем, мистером Купером, дел, требующих безотлагательного разрешения. У вас может возникнуть вопрос: а почему он приехал только сейчас? Разве его присутствие не требовалось на похоронах, хотя бы ради благопристойности? На сей вопрос ответить не трудно: в то время он был за границей, и адрес его добыть было невозможно. Таким образом, он отложил свой приезд в Уилсторп до тех пор, пока там все не будет готово. И вот он в уютном доме мистер Купера прямо напротив дома приходского священника и пожимает руки улыбающимся миссис и мисс Купер.
В ожидании приглашения к завтраку все разместились в гостиной на довольно-таки замысловатой конструкции стульях. От стеснения мистер Хамфриз обливался потом.
– Знаешь, дорогая, – проговорил мистер Купер, – я только что сказал мистеру Хамфризу, что надеюсь и верю, что день его прибытия в Уилсторп станет для нас красным днем календаря.
– Да, я не сомневаюсь в этом, – сердечно ответствовала миссис Купер, – и многие, многие другие дни тоже.
Мисс Купер также пробормотала что-то в этом роде, а Хамфриз попытался сострить, заявив, что следует сделать красным весь календарь. Слова его были встречены пронзительным смехом, но явно оказались непонятыми. Далее последовал завтрак.
– Вы что-нибудь знаете о наших местах, мистер Хамфриз? – поинтересовалась мисс Купер после небольшой паузы. Такое начало предвещало более удачную беседу.
– Нет, к сожалению, не знаю, – ответил Хамфриз. – Когда я сошел с поезда, мне показалось, что здесь должно быть чудесно.
– Ах, места здесь и впрямь чудесные. И в самом деле, я даже иногда говорю, что лучшего места не найти во всем графстве. А люди здесь какие, у нас их здесь много. И какие у нас устраивают приемы в садах. Правда, боюсь, вы чуточку опоздали, мистер Хамфриз, летний сезон уже закончился и все соседи разъехались.
– Да? О боже, какая жалость! – воскликнул Хамфриз с некоторым облегчением, так как эту тему он был в состоянии развить. – Но, видите ли, миссис Купер, даже если бы я, приехав раньше, я бы не смог посещать их, верно? Вы же знаете, недавняя смерть моего бедного дяди…
– Ну, разумеется, мистер Хамфриз, как я могла такое сказать. – Мистер и мисс Купер невнятно поддержали ее. – Что вы, должно быть, подумали обо мне? Простите меня, прошу вас, простите.
– Ну что вы, что вы, миссис Купер, я нисколько не обиделся. Должен признаться, что смерть дяди не причинила мне огромного горя, ведь я никогда и не видел его. Я хотел сказать, что некоторое время мне, вероятно, не следует принимать участие в подобного рода увеселениях.
– Вы так любезны, мистер Хамфриз, правда, Джордж? И вы действительно прощаете меня? Но подумать только! Вы никогда не видели бедного мистера Уилсона!
– Ни разу в жизни, даже писем от него не получал. Да, кстати, это вам следует простить меня. Мне удалось только письменно поблагодарить вас за ваши старания нанять для меня прислугу в Холле.
– Ах, мистер Хамфриз, это-то как раз не стоило труда. Но я очень надеюсь, что эти люди окажутся подходящими для вас. На должности дворецкого и экономки мы взяли пару, которую знаем много лет, – прекрасные уважаемые люди. А мистер Купер нашел людей для конюшни и сада.
– Да, мистер Хамфриз, их там много. Главный садовник служил еще у мистера Уилсона, он – единственный, кто остался из прежней прислуги. Большая часть старых слуг получила небольшое наследство от старого джентльмена, и они уволились, а ваши новые экономка и дворецкий, как верно заметила жена, заслуживают полного доверия с вашей стороны.
– Так что, мистер Хамфриз, все готово, и вы можете ступить в ваше поместье прямо сегодня, чего, как я понимаю, вы и желаете, – сказала миссис Купер. – Готово все, за исключением компании, а в этом вопросе, боюсь вас ожидает разочарование. Но, как мы поняли, вы сами возжелали приехать без отлагательства. Если же я не права, спешу вас заверить, что мы будем счастливы, если вы захотите пожить у нас.
– Я нисколько в этом не сомневаюсь, миссис Купер, и крайне вам благодарен. Но мне кажется, мне следует не медля сделать этот решительный шаг. Я привык жить один и найду, чем заняться в вечерние часы… документы, книги и тому подобное… А если мистер Купер сможет уделить мне время и показать мне дом и участок…
– Конечно, конечно, мистер Хамфриз. Я к вашим услугам в любое время.
– До обеда, папа, ты хочешь сказать, – пояснила мисс Купер. – Не забудь, мы собираемся к Браснеттам. А ты все ключи взял от сада?
– Вы хорошо разбираетесь в садоводстве, мисс Купер? – полюбопытствовал мистер Хамфриз. – Не будете ли вы так добры разъяснить мне, что меня ждет в Холле?
– Ну, не знаю, хорошо ли я разбираюсь в садоводстве, мистер Хамфриз… цветы я очень люблю… но парк при Холле прелестный, я часто об этом говорю. Он такой старомодный, весь зарос кустарником. Еще там старый храм и лабиринт.
– Да что вы говорите? А вы когда-нибудь по нему ходили?
– Н-нет, – ответила мисс Купер, поджимая губы и отрицательно качая головой. – Мне очень хотелось побывать там, но старый мистер Уилсон вечно держал его закрытым. Он даже леди Уордроп туда не пустил. Она живет неподалеку, в Бентли, и вы знаете, она-то как раз разбирается в садах и парках, если вам это интересно. Поэтому я спросила папу, взял ли он все ключи.
– Понятно. Что ж, я должен обязательно посмотреть лабиринт и, когда изучу путь, показать его вам.
– Ах, спасибо, спасибо, мистер Хамфриз! Вот посмеюсь я над мисс Фостер (она – дочь священника, они сейчас уехали на выходные… такие приятные люди). Понимаете, мы постоянно шутим, кто из нас первая проникнет в лабиринт.
– Садовые ключи, должно быть, в доме, – сообщил мистер Купер, разглядывая большую связку ключей. – В библиотеке их там много лежит. Ну а теперь, мистер Хамфриз, если вы готовы, нам придется попрощаться с дамами и предпринять нашу небольшую экспедицию.
Как только они вышли из парадных ворот мистера Купера, Хамфриз был вынужден пройти сквозь строй собравшихся на деревенской улочке многочисленных местных жителей, внимательно его разглядывавших и приветствовавших снятием шляп. Далее, в садовых воротах своего поместья, ему пришлось обменяться несколькими словами с женой привратника и с самим привратником, отвечающим за состояние дорог в парке. Однако у меня нет времени, дабы предоставить полный отчет о его последующих передвижениях. Осмотрев участок примерно в полмили между воротами и домом, Хамфризу наконец удалось задать несколько вопросов своему попутчику о дяде, и мистер Купер безотлагательно пустился в подробные объяснения:
– Просто невероятно, как сказала моя жена, что вы никогда не видели старого джентльмена. И все-таки… не поймите меня превратно, мистер Хамфриз, я хочу доверительно сообщить вам, что, на мой взгляд, между вами и ним есть некоторое сходство. Я не хочу сказать ни слова в осуждение… ни единого слова. Я могу рассказать вам, каким он был. – Мистер Купер неожиданно остановился и устремил свой взгляд на Хамфриза. – Он был, как говорится, человек в футляре. Болезненно сомнительным. Да, именно это слово характеризует его точь-в-точь. Да, таким он был, сэр, болезненно сомнительным. Не принимал участия ни в чем, что происходило вокруг. Осмелюсь предложить вам, сэр, вырезку с несколькими словами из нашей местной газеты, в которой я, воспользовавшись случаем, работал. Если я правильно помню, в них самая суть. Только не спешите, мистер Хамфриз, с впечатлением, – продолжал Купер, выразительно постукивая Хамфриза по груди, – что я хочу сообщить нечто недостойное о вашем дяде. Ваш многоуважаемый дядя и мой бывший работодатель был в высшей степени достойным человеком. Честный, мистер Хамфриз, ясный, как свет, разумно мыслящий во всех делах. Он обладал чувствительным сердцем и великодушной рукой. Но, увы, камнем преткновения являлось его злополучное здоровье или, если точнее выразиться, отсутствие здоровья.
– Да, бедняга. Он что, чем-то страдал до своей последней болезни… которая, а вовсе не возраст, как я понимаю, и погубила его?
– Именно так, мистер Хамфриз… именно так! Мерцающая искра долго тлеет в печи. – Сии слова Купер сопроводил соответствующим жестом. – Золотая чаша постепенно перестает вибрировать. Но на другой ваш вопрос мне придется ответить отрицательно. Абсолютное отсутствие жизненной силы? да; особые жалобы? нет, если не принимать во внимание постоянный неприятный кашель. О, да мы почти у дома. Красивое здание, мистер Хамфриз, как вы считаете?
Вышеприведенного эпитета здание и впрямь заслуживало, только его архитектура отличалась некоторой причудливостью – очень высокий дом из красного кирпича с обычным парапетом, почти полностью скрывавшим крышу. Будто посреди сельской местности воздвигли дом городского типа. У здания были высокий фундамент и ведущая к парадному входу на редкость впечатляющая лестница. Вследствие своей высоты дом явно тяготел к пристройкам, но они отсутствовали. Конюшни и остальные служебные здания прятались за деревьями. Хамфриз датировал дом семидесятыми годами или около того.
Супружеская пара зрелых лет, которую наняли дворецким и экономкой, ожидала у парадной двери, которую они распахнули при появлении своего нового хозяина. Их звали, как Хамфризу было уже известно, Калтон. После небольшой с ними беседы он составил благоприятное впечатление и об их внешности, и об их поведении. Было договорено, что следующий день он посвятит изучению столового серебра и винного погреба вместе с мистером Калтоном, а миссис К. предоставит ему сведения о постельном белье и тому подобном, то есть где что находится и где должно находиться. Далее, отпустив Калтонов, они с мистером Купером начали осмотр здания. Топография его для нашей истории значения не имеет. Огромные помещения на первом этаже вполне устраивали нового владельца, особенно библиотека – широкая, как и столовая, и с тремя окнами на восток. Приготовленная для Хамфриза спальня находилась как раз над библиотекой. На стенах библиотеки висели весьма симпатичные картины, но лишь некоторые из них были по-настоящему ценными. Мебель вся была старой, да и книги были изданы не позднее семидесятых годов.
Узнав о небольших изменениях, которые его дядя предпринял в доме, а затем и ознакомившись с ними воочию, а также обозрев дядин блестящий портрет – украшение столовой, – Хамфриз был вынужден согласиться с мнением Купера, что в его предшественнике вряд ли присутствовали привлекательные черты. И ему стало грустно, что ему совсем не жаль – dolebat se dolere non passe[2] – человека, который либо с чувством доброты, либо без какого-либо чувства вообще к своему незнакомому племяннику сделал так много для того, чтобы тот жил хорошо: Хамфриз ощущал, что в Уилсторпе он будет жить счастливо, и особенно счастливо, скорее всего, в библиотеке.
И вот настало время осматривать парк – пустые конюшни и прачечная могли подождать. Итак, они двинулись в парк, и вскоре стало очевидно, что мисс Купер была права, когда говорила о больших возможностях переустройства сада. Да и мистер Купер хорошо справлялся со своими обязанностями садовника. Болезненный мистер Уилсон, вероятно, был не в состоянии… разумеется, не в состоянии вдохновляться новыми идеями относительно садоводства, тем не менее было видно, что то, что там было сделано, совершено под руководством опытного человека, ну а снаряжение и оборудование были просто превосходными. Купер был удовлетворен тем восторгом, который выказал Хамфриз, и теми соображениями, который тот время от времени вставлял.
– Чувствую, – заключил он, – вы найдете себе здесь занятие по душе и сделаете это местечко значительнейшим прежде, чем несколько времен года пролетят над нашими головами. Жаль, что с нами нет Клаттерхама – он главный садовник, – да он бы и был с нами, если бы, как я вам уже докладывал, его сынок, что смотрит за лошадьми, не свалился с лихорадкой, бедняга! Мне бы очень хотелось, чтобы он слышал, как вам все здесь нравится.
– Да, вы говорили, что он не может сегодня прийти, и мне очень жаль его, но и завтра ведь есть время. А что это за белое сооружение на пригорке? Это тот самый храм, о котором упомянула мисс Купер?
– Именно он, мистер Хамфриз… Храм Дружбы. Построен из мрамора, доставленного из Италии специально для этой цели дедушкой вашего покойного дяди. Может, хотите посмотреть? Парк вы уже хорошенечко разглядели.
Своим обликом храм полностью повторял храм Сивиллы в Тиволи, только гораздо, гораздо меньше. В стену были вставлены какие-то древние барельефы с надгробным орнаментом, и от всего сооружения веяло путешествием по Италии. Купер достал ключ и с некоторым трудом открыл тяжелую дверь. Внутри оказался очень красивый потолок, но мебель почти отсутствовала. На полу в основном стояли крупные круглые каменные плиты, на каждой из которых на чуть выпуклой поверхности была вырезана одна-единственная буква.
– А это что такое? – вопросил Хамфриз.
– Это что такое? Как говорится, все имеет смысл своего существования, и я полагаю, что и эти плиты обладают им, как и все остальное. Но каковым является этот смысл или являлся (тут мистер Купер заговорил нравоучительным тоном), я, увы, теряюсь в догадках, сэр. Все, что мне о них известно – и это можно рассказать в нескольких словах, – только то, что ваш усопший дядя перенес их сюда из лабиринта еще до того, как я явился сюда. Таким образом, мистер Хамфриз…
– Ах да, лабиринт! – воскликнул Хамфриз. – Я совсем забыл – нам надо же и на него посмотреть. А где он?
Купер подвел его к двери и указал палкой вдаль.
– Устремите свой взор… – проговорил он. В такой манере высказывается Элдер Второй в «Сюзанне» Генделя:
- Устремите взор свой на запад,
- Туда, где дуб касается небес. –
Устремите свой взор туда, куда указывает моя палка, на место прямо противоположное тому, где стоим сейчас мы, и я обещаю вам, мистер Хамфриз, что вы заметите арочный вход. Как видите, он как раз в конце тропинки, которая тянется параллельно той, что привела нас к этому зданию. Вы хотите пойти туда прямо сейчас? Потому что тогда я сбегаю в дом за ключами. Вы идите, а я через несколько минут присоединюсь к вам.
Итак, Хамфриз побрел вниз по тропинке, ведущей к храму, миновал вход в сад от дома и потащился вверх по заросшей дорожке к указанному Купером арочному входу.
Сильное изумление охватило его при виде окружавшей весь лабиринт высокой стены и железных ворот, навешенных на арочном входе, но потом он вспомнил, как мисс Купер рассказывала, что его дядя никого не пускал в эту часть парка. Он уже стоял у ворот, а Купера все не было.
Несколько минут он уделил чтению надписи, вырезанной над входом «Secretum meum mibi et domus meae»[3], и попытке разгадать ее смысл. Затем его охватило нетерпение, и он впал в раздумья: а не перелезть ли через стену? Этого явно не стоило делать – другое дело, если бы на нем был старый костюм. А может подергать замок – он такой старый? Нет, не получается… тут замок душераздирающе скрипнул – что-то сломалось – и упал к его ногам. Хамфриз толкнул ворота, продрался через крапиву и оказался внутри лабиринта.
Лабиринт представлял собой дорожки, закрученные в виде спирали, по краям которых высились тисы, но все пространство совершенно заросло кустарником необъятной ширины и высоты. И тропинки стали почти непроходимыми. Лишь ценой получения царапин и ожогов от крапивы совершенно мокрому Хамфризу удалось продраться сквозь заросли – во всяком случае, обратно найти дорогу будет легко: он уже проломал себе путь. Насколько он помнил, в лабиринте ему еще не доводилось бывать, и, по-видимому, ничего от этого он не потерял. Сырость, мрак, запах поверженной пуцинеллы и крапивы чувства бодрости не вызывали. И все же не такой уж и сложный этот лабиринт.
Он был почти (кстати, пришел ли наконец Купер? Нет!) в середине лабиринта, причем дошел туда, совершенно не думая, куда он идет. Ага! вот и центр – как же легко оказалось до него добраться. И тут его ожидала награда.
Сначала конструкцию, представшую его глазам, он принял за солнечные часы, но, когда раздвинул ветки ежевики и стебли вьюнка, выяснилось, что конструкция не такая уж и обычная. Перед ним была каменная колона в четыре фута высотой, верхушку которой венчал металлический шар, медный, судя по зеленой патине, и покрытый резьбой, причем очень красивой – там были изображены фигуры вперемежку с буквами. Вот, что увидел Хамфриз, и, кинув беглый взгляд на фигуры, он пришел к заключению, что перед ним один из так называемых таинственных предметов, кои называют небесными сферами и по которым пока еще никто не получил информацию о том, что же творится там, на небесах. Однако было уже темно – во всяком случае, в лабиринте, – поэтому тщательно изучить сию редкость он был не в состоянии, к тому же он услышал голос Купера и топот, будто сквозь джунгли продирался слон. Хамфриз крикнул ему, чтобы он шел по его следам, и вскоре в центральном круге возник запыхавшийся Купер. Извинения за долгое отсутствие потекли рекой – он никак не мог найти нужный ключ.
– Но подумать только! – воскликнул он. – Вы проникли в самую сердцевину тайны, без помощи извне и не имея опыта, как говорится. Вот что! Сюда, наверное, вот уже тридцать или сорок лет не ступала нога человека. Я-то точно здесь не бывал. Так, так! Что там говорится в старой пословице о глупости и самонадеянности пускаться в рискованные предприятия? Так оно и есть, что данный случай только подтверждает.
Несмотря на столь краткое знакомство с Купером, Хамфриз не сомневался, что данный намек ничего язвительного в себе не содержит, поэтому воздержался от колкого замечания и только предложил вернуться домой к чаю и отпустить Купера. Таким образом, они покинули лабиринт, причем почти с той же легкостью, с какой туда и проникли.
– Вы не знаете, – спросил Хамфриз по дороге к дому, – почему дядя держал это место закрытым?
Купер замер, и Хамфриз почувствовал, что он находится на краю важного открытия.
– Я лишь обману вас, мистер Хамфриз, в чрезвычайно важном вопросе, если заявлю, что обладаю какой-либо информацией по этому поводу. Когда я впервые приступил к своим обязанностям, примерно восемнадцать лет тому назад, этот лабиринт был точно таким же, каким вы его и видите, и лишь единственный раз о нем заходила речь, насколько мне известно, это тогда, о чем упоминала моя девочка. Леди Уордроп – ничего не могу сказать о ней плохого – написала письмо с просьбой допустить ее в лабиринт. Ваш дядя показал мне ее письмо… очень вежливое письмо… да и чего можно и ожидать от аристократов.
«Купер, – сказал он, – ответь, пожалуйста, от моего имени».
«Разумеется, мистер Уилсон, – ответил я, так как иногда исполнял обязанности его секретаря, – а какой ответ я должен отправить обратно?»
«Поблагодарите леди Уордроп за письмо, – сказал он, – и сообщите, что, как только это место будет приведено в порядок, я при первой же возможности буду счастлив показать ей его, но, так как он много лет был закрыт, я буду крайне ей благодарен, если она не станет настаивать».
Это были последние слова, мистер Хамфриз, вашего доброго дяди по этому вопросу. И думаю, мне нечего больше добавить. Только, – прибавил Купер, минуту помолчав, – вот что: насколько я могу судить, он не любил вспоминать (люди часто так поступают по той или иной причине) своего дедушку, того, что заложил этот лабиринт. Человек странных принципов, мистер Хамфриз, и большой путешественник. В следующую субботу у вас будет возможность поглядеть на его мемориальную доску в нашей приходской церквушке; ее установили через много лет после его смерти.
– Как так! Я-то предполагал, что человек с такой склонностью к архитектуре воздвигнет для себя мавзолей.
– Ну, ничего такого я не заметил; и вообще-то, если поразмыслить, я не уверен, что место его упокоения находится в пределах наших местных границ; чтобы он покоился на кладбище – это не тот случай. Как странно, что я прежде не информировал вас об этом! И все же мы ведь не можем сказать, не правда ли, мистер Хамфриз, что это вопрос ключевой важности: где ютится бедный бренный мир?
И тут они вошли в дом, и рассуждения Купера были прерваны.
Чай подали в библиотеку, и Купер пустился в соответствующие объяснения:
– Прекрасная коллекция книг! Одна из лучших в этой части страны, как я узнал от знатоков, и гравюры восхитительные, особенно некоторые из них. Я помню, как ваш дядя показывал мне одну с видом зарубежных городов, поглощающее это занятие – рассматривать первоклассные гравюры. А еще одна картина выполнена ручным способом – чернила прямо как свежие, – а он сказал, что ее сделал какой-то старый монах сотни лет назад. И к литературе я тоже отношусь с большим интересом. Что может сравниться с проведением часа за чтением прекрасной книги после тяжелого трудового дня – не то что расходовать целый вечер в гостях у друга… кстати. Меня ждут неприятности с женой, если я не отправлюсь немедленно домой и не приготовлюсь потратить впустую очередной вечер! Мне пора, мистер Хамфриз.
– Кстати, есть и у меня, – заметил Хамфриз, – если я собираюсь завтра показывать мисс Купер лабиринт, его надо бы почистить. Вы не могли бы передать мое распоряжение кому следует?
– Ну, конечно. Парочка рабочих с косами вполне могут проложить тропу завтра утром. Я передам ваше распоряжение, и тогда, мистер Хамфриз, вам, вероятно, не придется вставать утром самому и руководить этими рабочими. Попрошу их пометить дорогу палочками или бечевкой.
– Отличная мысль! Да, так и сделайте. И передайте миссис и мисс Купер, что я жду их в полдень, а вы приходите где-нибудь в половине одиннадцатого.
– С удовольствием. И они, и я, мистер Хамфриз. Спокойной ночи!
Обед был подан Хамфризу в восемь. И так как это был его первый вечер в поместье и Калтон явно тяготел побеседовать с ним, Хамфриз до обеда постарался дочитать роман, который взял с собой в поезд.
Таким образом, ему пришлось выслушивать и комментировать размышления Калтона о соседях и сезоне. Последний, как выяснилось, вполне соответствовал его воспоминаниям, а первые со времени калтоновского детства (которое он провел здесь) сильно изменились – правда, не все в худшую сторону. Деревенский магазинчик, например, с 1870 года стал гораздо лучше. Теперь появилась возможность приобрести там много нужных вещей, и это – большое удобство. Ведь как сейчас: предположим, кому-то что-то внезапно понадобилось (а бывает и такое), и он (Калтон) может спокойно туда пойти (если магазин еще открыт) и взять, и у священника не надо одалживать. А прежде так делать было совершенно бесполезно касательно всего, за исключением свечей, мыла, патоки да дешевой детской книжки с картинками, к тому же в девяти случаях из десяти из всего, что нам нужно, выдавали лишь бутылку виски; по крайней мере, тут Хамфриз подумал, что в будущем придется запасаться на вечер книгой.
Библиотека вполне годилась для проведения послеобеденного времени. Со свечой в руке и трубкой во рту, он некоторое время бродил по комнате, изучая названия книг. Его всегда интересовали старые библиотеки, и в данный момент у него появилась возможность тщательно изучить одну такую, так как еще раньше он узнал от Купера, что каталог на нее был составлен очень поверхностно, специально для утверждения завещания. Как приятно будет зимой заниматься составлением catalogue raisonne[4]. Если верить Куперу, в этой библиотеке могут оказаться настоящие сокровища, даже манускрипты.
По мере того, как он продолжал осмотр, ему вдруг пришла в голову мысль (как часто и бывает с любым из нас в подобных местах), что большая часть книг совершенно не годится для чтения.
Классика, произведения Отцов Церкви, «Религиозные ритуалы» и «Харлеанский сборник» Пикара вполне удобоваримы, но кто и когда станет читать Тостатуса Абуленсиса, Пинеду или Иова? И он снял с полки небольшой томик ин-кварто, без переплета и без названия. Обнаружив, что его ожидает чашка кофе, он устроился с книгой на стуле и, наконец, раскрыл ее, так как решил, что внешние данные книги еще не свидетельствуют о том, что она неинтересная.
Пусть она выглядит невыразительно и непривлекательно, но ведь внутри могут оказаться какие-нибудь уникальные пьесы. На самом деле книга представляла собой сборник проповедей, или размышлений, или еще чего-то в этом роде – первый лист отсутствовал. Датировать ее можно было, по-видимому, концом семнадцатого века. Он стал перелистывать страницы, пока взгляд его не упал на надпись на полях «Притча о несчастном положении». Интересно, о чем может писать автор в подобном произведении?
«Я где-то слышал или читал, – так начинался абзац, – в форме притчи или истинной истории, об этом пусть читатель судит сам, о человеке, который, подобно Тезею в античном мифе, возымел отвагу, дабы ступить в лабиринт либо в путаницу, но в таковой, что не выложен по образу фигурной стрижки кустов, а по принципу широкой спирали, в коей помимо прочего прятались капканы и западни, нет, обитатели, что были подвержены злому проклятию и обыкновенно считающиеся скрываемыми, и посему узреть их ложно единственно по случаю. Должен уверить вас, что в делах, подобных оному, отговорки друзей ни к чему не приводят.
„Припомни того, – говорит брат, – как пошел он той дорогой, каковой желаешь идти ты, и никогда его более никто не видывал“.
„А тот, другой, – сказывает мать, – охваченный трусостью, он далеко не пошел и с той поры так повредился в уме, что не припоминает, чего узрел там, и спать не может каждую ночь“.
„А не слыхивал ли ты, – возопляет сосед, – каковы рожи глядят поверх палисада и между решеткой в воротах?“
Но все зря: человек движется вперед к своей цели по причине тамошних сплетен, что в самом сердце и середине лабиринта имеется сокровище, обладающее такой ценой и редкостью, что искателя его сделает богатым на всю жизнь; и добивающийся упорно сего возымеет на него право. И что затем? Quid multa[5]. Искатель приключений проходит сквозь врата, а после друзья его пребывают в нем в неизвестности, только слышат посреди ночи невнятные крики и ворочаются в постелях своих, лишаемые сна, и, пребывая в страхе, обливаемые потом, и мучимые верой, что сын и брат прибавил свое имя к длинному списку тех несчастных, что уже претерпели кораблекрушение в подобном путешествии. И в последующий день с громогласными рыданиями они направляют стопы свои к священно служителю прихода, дабы приказал он звонить в колокол. Но дорога их проходит мимо врат лабиринта; они спешат пройти мимо, будучи охваченные ужасом, но тут видят они вдруг человеческое тело, кое лежит на дороге, и, подошедши к оному (с предчувствиями, кои с легкостью можно угадать), узрят они того, кого считали утерянным: и не мертвого, но с потерей сознания, смерти подобной. Тогда они, продвигавшиеся вперед подобно плакальщикам, обрадованные и возрождаемые милостью Божьей к жизни, поворачивают стопы свои обратно же. Тот, кого все считали погибшим, рассказывает им о событиях прошлой ночи.
„Ах, – сказывает он, – вы можете докончить то, что начали, по причине того, что я возвратился с сокровищем (кое он им показал, и было оно воистину редкой вещью), и возвратил я то, что лишит меня покоя ночи и радости дня“.
Тут они просят его ответить о значении сих слов его и кого встретил он, отчего у него так болит живот.
„О, – ответствует он, – того, кто в груди моей; и избегнуть этого я никак не могу“.
И никакого ведуна не надобно, дабы помочь узнать им, что отныне мучает его поминание о том, что видел он. И длительное время они не могут вырвать никаких слов из уст его, только малые урывки.
Однако настал момент, когда они, собрав все в целое, узнали вот что: поначалу, когда солнце светило, шел он весело и без трудности достиг сердца лабиринта, и добыл сокровище, и, охваченный радостью, направил стопы свои в обратный путь, но тут пала ночь, когда бродят все звери лесные, и ощутил он, что некое существо следует за ним и, как думал он, зрит на него внимательно от тропинки, что рядом проходила, и что ежели встанет он на одном месте, то и сопроводитель его встанет тоже, отчего дух его расстроился воистину; как тьма увеличилась, стало чудиться ему, что больше их, чем один, и что таких сопроводителей великое множество, так судил он по шорохам и треску, кои учиняли они в чаще, да и порой слышимым был шепот, что подразумевало между ними совещание. Но касательно того, кто были они либо каковой образ, не могли его убедить сказать слушателям своим, вопрошавшим, какие крики слыхали они в ночи (как то упомянуто выше), он такой дал ответ: близ полуночи (как он сам рассудил) услыхал он свое, выкликаемое издали, и он мог произнести клятву, что то был брат его. И тогда остановился он и возопил, и полагает он, что то было эхо шли шум от крика его, что скрыло на минуту оставшиеся звуки по причине того, что, как пала опять тишина, различил он топот (не громкий) ног, бегущих к нему, отчего объял его страх, и повергнут он был в бегство и так бежал до рассвета. Порой, когда дыхание покидало его, он бросался ничком на землю, пребываемый в надежде, что преследователи его пробегут в темноте мимо него, но в такие минуты они останавливались, и слышно ему было их пыхтение и сопение, будто то были гончие, кои потеряли след, и сие повергло его разум в такой ужас, что он вынуждал себя опять и опять бежать, будто он как-то мог сбить их со следа. И как будто одного такого испытания было мало, вынужден он был постоянно остерегаться, как бы попасть в яму или капкан, о коих он слышал, и в самом деле видел он их несколько своими глазами по сторонам и еще другие по середине дороги. И под конец (сказывал он) никогда смертный не познал столь ужасной ночи, каковую пережил он в том лабиринте, и никакое сокровище, что лежало у него, никакое богатство, попавшее оттуда, не может стать возмещением за те мучения, от коих он там пострадал.
Не стану далее записывать изложение тех злоключений, кои выпали на долю сего человека, поскольку я верю, что умствование моего читателя сумеет провести параллель, кою я желал показать. Ведь не сокровище, а только знак удовлетворения может забрать с собой человек из сего мира удовольствий. И не служит разве лабиринт образом самого мира, где и хранится сие сокровище (ежели доверять голосу разума)?»
На этой фразе Хамфриз подумал, что иметь чуточку терпения для разнообразия временами не повредит и что дальнейшее «улучшение нравов» писателем посредством своей притчи можно вполне отложить. Поэтому он поставил книгу на место, гадая при этом, натыкался ли его дядя когда-либо на этот труд и не он ли и послужил причиной того, что тот возненавидел саму мысль о лабиринте и принял решение не пускать туда никою. Вскоре он отправился спать.
Следующий день начался трудовым утром в компании с мистером Купером, который, если выражаться присушим ему вычурным языком, все дела поместья держал в своих руках. Сегодня он был веселым, мистер Купер, не забыл дать указания о расчистке лабиринта, которая в ту минуту как раз и происходила, а его девочка находилась в первых рядах ожидающих. Он также выразил надежду, что Хамфриз спал сном мгновения и что все они будут осчастливлены продолжительностью благоприятной погоды.
За завтраком он пустился в подробные объяснения картин в столовой и указал на портрет создателя храма и лабиринта. Хамфриза он очень заинтересовал.
Портрет принадлежал руке итальянского художника и был нарисован, когда старый мистер Уилсон посещал Рим, будучи молодым человеком. (И действительно, на втором плане виднелся Колизей.) Изображенный на портрете юноша с бледным худым лицом и огромными глазами в руке держал развернутый бумажный свиток, на котором можно было разглядеть план круглого здания, по всей вероятности, храма, а также части лабиринта. Хамфриз даже залез на стул, чтобы получше его разглядеть, но план был не четко выписан и для копирования не годился. Однако это навело его на мысль, что неплохо было бы самому сделать план лабиринта и повесить его в холле для будущих посетителей.
Днем он утвердился в своем решении, так как, когда прибыли миссис и мисс Купер с желанием осмотреть лабиринт, он обнаружил, что совершенно не в состоянии довести их до центра. Садовники убрали путеводные нити, которыми пользовались сами, и даже Клаттерхам, призванный на помощь, не смог им помочь.
– Суть в том, мистер Уилсон… о, простите, Хамфриз… эти лабиринты все специально построены так, чтобы заблудиться. Все же, если вы последуете за мной, я приведу вас на место. Просто оставлю тут шляпу для отправной точки.
И он заковылял вперед. Через пять минут вся компания вновь оказалась у шляпы.
– Однако странно. – И он застенчиво захихикал. – Я уверен, что оставлял ее около ежевики, а, как вы видите, никакой ежевики тут нет. Если позволите, мистер Хамфриз, ведь вас так зовут, сэр?.. Я позову кого-нибудь заметить место.
На крики явился Уилльям Крэк. К компании он пробрался с некоторым трудом. Сначала его видели или слышали на внутренней дорожке, потом почти в ту же минуту на внешней. Тем не менее ему удалось к ним присоединиться. Попытки с ним посоветоваться ни к чему не привели, посему его оставили рядом со шляпой, которую по настоянию Клаттерхама положили на землю.
Несмотря на подобную стратегию, три четверти часа были проведены в бесплодных метаниях, и Хамфриз, увидев, как устала миссис Купер, был вынужден предложить отступление, сопровождаемое бесконечными извинениями.
– Во всяком случае, ваше пари с мисс Фостер вы выиграли, – заявил он, – в лабиринте вы побывали, и обещаю вам, что первое, что я сделаю, это составлю подробный план лабиринта с указанием всех дорог.
– Именно это и требуется, сэр, – заметил Клаттерхам, – чтобы кто-то начертил план, которого бы все и придерживались. А то неловко получится, если кто-нибудь забредет сюда, а тут пойдет дождь, и дорогу невозможно будет найти – могут пройти часы прежде, чем они отсюда выберутся. А не разрешите ли вы мне проложить из центра короткий путь? Я просто срублю парочку деревьев на каждом повороте, и получится прямая линия, так что будет отлично видно, как вылезать отсюда. Как вам мое предложение?
– Нет, пока не надо. Сначала я составлю план и дам вам копию. А позднее, если появится возможность, я подумаю о вашем предложении.
Потерпев фиаско, Хамфриз был сильно раздражен и пристыжен, поэтому вечером он решил вновь попытаться достичь центра лабиринта. И как же усилилось его раздражение, когда намерение свое он осуществил с необыкновенной легкостью! Он хотел немедля начать рисовать план, но темнело, и он пришел к выводу, что, когда доставит сюда нужные принадлежности, работать будет совсем невозможно.
На следующее утро, прихватив с собой чертежную доску, карандаши, компасы, картон и тому подобное (что-то он позаимствовал у Купера, а что-то нашел в библиотечных шкафах), он отправился к центру лабиринта (причем опять ни разу не сбился с пути) и приготовился работать. Однако все никак не мог начать.
Ежевика и вьюнок, обвивавшие колонну и сферу, исчезли, и у него впервые появилась возможность внимательно осмотреть столб.
Колонна была довольно невыразительной – точно такая, на которых обыкновенно устраивают солнечные часы. А вот шар… Я уже рассказывал, что он был покрыт гравировкой из фигур и надписей, и сначала Хамфриз принял его за небесную сферу, но теперь обнаружил, что тот вовсе не соответствует описанию небесных сфер, которое он помнил.
Их объединяло лишь одно изображение – крылатый змей, дракон, обвивавшийся вокруг шара по линии, которая на обычном глобусе обозначает экватор. А вот большую часть верхнего полушария занимали распростертые крылья некоего огромного существа, чья голова пряталась за шапкой полюса или верхушкой сферы. Вокруг скрытой от зрителя головы были начертаны слова prenceps tenebraum[6]. Нижнее полушарие было все заполнено надписями umbra mortis[7] и изображением горной гряды с лож биной, из которой вырывались языки пламени. На горах было написано (вы удивлены?) vallis fliorum Hinnom[8]. Над и под драконом простирались различные фигуры, напоминавшие и не напоминавшие обычные созвездия. Так, например, обнаженный мужчина с дубиной в руке оказался не Геркулесом, а Каином. Другой, провалившийся в землю по пояс и вздымавший в отчаянии руки, на самом деле был Корей[9], а не Змееносец; а третий, подвешенный за волосы к извилистому дереву, Авессалом. Близ последнего, под фигурой в длинном одеянии и высоком головном уборе, которая стояла в круге и общалась с двумя косматыми демонами, парящими извне, было написано Hostanes magus[10] (сей персонаж был неизвестен Хамфризу). По всей вероятности, замысел художника, на который явно оказал влияние Данте, состоял в том, чтобы воспроизвести скопление патриархов зла.
Подобное проявление пристрастий прадедушки Хамфризу показалось странноватым, но по размышлении он пришел к выводу, что тот приобрел сферу в Италии, не сильно обращая внимание на изображения на ней. Ну, разумеется. Если бы он придавал ей большое значение, он не стал бы выставлять ее ветру и непогоде. Хамфриз постучал по металлу – сфера оказалась полой внутри и сделанной не из очень толстых пластин. Затем Хамфриз занялся составлением плана. Поработав полчаса, он обнаружил, что путеводная нить ему бы не помешала, тогда он взял у Клаттерхама моток бечевки и протянул ее вдоль всех тропинок, ведущих от входа до центра. Конец бечевки он привязал к кольцу на верхушке сферы. Такая уловка помогла ему еще до ланча составить первоначальный план, а днем ему удалось начертить его более аккуратно. Незадолго до чая к нему присоединился мистер Купер, который сильно заинтересовался его занятием.
– А это… – начал мистер Купер, прикасаясь к сфере, и тут же отдернул руку: – Ой! Какой горячий, прямо-таки до удивительной степени, мистер Хамфриз. Полагаю, что этот металл – кажется, медь? – изолятор или проводник… или как там еще он называется.
– Солнце сегодня очень сильно греет, – сказал Хамфриз, уклонившись от обсуждения научной терминологии, – но сфера мне горячей не показалась. Нет… для меня она не горячая, – добавил он.
– Странно! – удивился мистер Купер. – Я даже дотронуться до нее не могу. У нас с вами разница температур, по-видимому. Осмелюсь доложить, вы – холодный субъект, мистер Хамфриз, а я нет, и в этом наше различие. Все лето я, поверьте, сплю практически in staus quo[11], а по утрам принимаю очень холодную ванну. Каждый день я моюсь ловко… вот вам и веревка.
– Спасибо, но я буду очень вам благодарен, если вы соберете эти карандаши и все остальное. Кажется, мы все взяли, можно идти домой.
По дороге из лабиринта Хамфриз сматывал веревку.
Ночью шел дождь.
К несчастью, выяснилось, что по вине ли Купера или еще кого сам план остался лежать в лабиринте. Ну и, разумеется, он весь промок. Пришлось начать все сначала (на сей раз работа не должна была за нять так много времени). Поэтому веревка была протянута вновь. Как только Хамфриз принялся за составление плана, перед ним возник Калтон с телеграммой.
Прежний начальник Хамфриза в Лондоне жаждал получить его совет. Разговор предстоял короткий, но ехать надо было срочно. Лишнее беспокойство, правда, не очень страшное, через полчаса можно сесть на поезд, и, если все сложится удачно, он вернется часам к пяти, в крайнем случае к восьми. Он попросил Калтона отнести план в дом, но веревку не убирать.
Все его надежды оправдались. И вечер он провел в библиотеке – наткнулся на шкаф, где хранились редкие книги.
Когда он отправился спать, то с радостью обнаружил, что прислуга не забыла оставить окно открытым, а занавески незадернутыми. Потушив свет, он подошел к окну, которое выходило в сад. Стояла яркая лунная ночь. Через несколько недель звучный осенний ветер нарушит эту тишину. Но пока отдаленные леса стояли в глубоком молчании; лужайки сверкали росой; можно было даже различить краски некоторых цветов. На карниз и свинцовый купол храма падал лунный свет… и все это принадлежало Хамфризу. Да, в этих вычурных строениях прошлого века есть своя красота. И лунный свет, и запах леса, и полная тишина вызывали необыкновенное чувство покоя, и долго стоял Хамфриз перед окном, погруженный в мысли. Ему казалось, что ничего совершеннее он никогда в своей жизни не видел. И лишь одно нарушало этот вид своей неуместностью – перед зарослями, сквозь которые шла тропа к лабиринту, будто на посту, торчал тощий и черный крошечный тис. Правда, его можно и срубить; интересно, понравится ли это дерево кому-нибудь другому.
Однако следующее утро было посвящено ответам на письма и просмотру книг с мистером Купером, и тис был позабыт.
Об одном письме, полученном в тот день, стоит упомянуть. Его написала леди Уордроп, та самая, о которой говорила мисс Купер. Леди Уордроп вновь обращалась с просьбой, с которой ранее адресовалась к мистеру Уилсону. Ссылаясь на то, что она пишет книгу о лабиринтах и мечтает опубликовать в ней план Уилсторпского лабиринта, она надеялась на любезное согласие мистера Хамфриза позволить ей осмотреть лабиринт как можно скорее (если вообще позволит), так как зимние месяцы она проводит за границей.
Жила она неподалеку, в Бентли, поэтому Хамфриз в письменном виде ответил, что ожидает ее в ближайшие два дня. Надо сказать, что он тут же получил от нее благодарственную записку, в которой она сообщала, что придет завтра.
Событием же этого дня явилось успешное завершение составления плана лабиринта.
И опять наступила светлая, яркая и тихая ночь, и Хамфриз снова долгое время стоял у окна. Задергивая занавески, он вспомнил о тисе, но то ли прошлой ночью его ввела в заблуждение какая-то тень или же дерево не так уж и бросалось в глаза, как ему виделось прежде, только на сей раз он решил оставить тис в покое. А вот что следует убрать, так это темные заросли, посягающие на стену дома и грозящие затенить первый этаж. Не место им там – одна сырость да мрак.
На следующий день – то была пятница, а он приехал в Уилсторп в понедельник – сразу после завтрака на своей машине приехала леди Уордроп. Она была полной пожилой дамой, крайне разговорчивой и изо всех сил пытавшейся произвести хорошее впечатление на Хамфриза, который обрадовал ее своей готовностью выполнить просьбу леди.
Они вместе тщательно осмотрели парк, и мнение леди Уордроп о хозяине существенно улучшилось, когда она обнаружила, что он действительно знает толк в садоводстве. Она с энтузиазмом выслушала его проекты о будущих изменениях и согласилась с его мнением, что нарушать планировку, присущую поместью, абсолютное варварство. Особенно ей понравился храм, и она сказала:
– А знаете, мистер Хамфриз, мне кажется, ваш дворецкий не ошибается относительно этих каменных плит с буквами. В одном из моих лабиринтов… его, к сожалению, разрушили… в Гэмпшире… таким образом был помечен проход. Только там были кирпичи, но тоже с буквами, и из этих букв, если идти правильно, складывалась фраза – правда, не помню какая: что-то о Тезее и Ариадне. Я ее записала, и план того лабиринта тоже у меня есть. И как только люди могут такое делать?! Если вы уничтожите лабиринт, я вам этого никогда не прощу. Вам известно, что их становится все меньше и меньше? Каждый год до меня доносится весть, что очередной из них прекратил свое существование. А теперь пойдемте прямо к нему. Если вы заняты, я сама могу его осмотреть. Заблудиться я не боюсь – столько лет изучала лабиринты. Лишь однажды опоздала на ланч – это случилось не так давно, – потеряв дорогу в лабиринте в Басбери. Ну, а если вы можете сопровождать меня, я буду вам крайне признательна.
После столь доверительного вступления, естественно, возникало предположение, что леди Уордроп заблудится и в Уилсторпском лабиринте. Но ничего подобного не произошло, хотя было непонятно, поразил ли ее новый образчик так, как она того ожидала. Он, конечно, вызвал в ней интерес, большой интерес.
Она даже показала Хамфризу выемки в земле, где, по ее предположению, и стояли плиты с буквами. Она также сообщила, что лабиринт сильно напоминает и остальные, известные ей, а также объяснила, как по плану можно датировать лабиринт в пределах двадцати лет. Этот, как она поняла, относится к 1780 году и был вполне традиционным. Наибольшее внимание она уделила шару. Такого она еще не встречала, поэтому очень долго рассматривала его.
– Мне бы хотелось получить его рисунок, – проговорила она, – если это, конечно, возможно. Да, я не сомневаюсь, мистер Хамфриз, что вы сделаете его для меня, но умоляю вас, не делайте этого специально, я и так слишком вольно себя тут веду. Боюсь, вам это не нравится. Но, послушайте, – и она посмотрела Хамфризу прямо в глаза, – вам не кажется… у вас не возникает впечатления, что как только мы сюда пришли… за нами кто-то следит… и если мы переступим черту дозволенного… на нас нападут? Нет? А мне кажется, и мне бы хотелось поскорее очутиться за воротами…
– Вообще-то, – продолжила она по дороге к дому, – на меня могли подействовать жара и отсутствие воздуха. Но теперь я хочу забрать назад кое-какие мои слова. Я не уверена, что обижусь на вас, если следующей весной узнаю, что и этот лабиринт сровнен с землей.
– Останется ли он на месте или нет, план у вас будет, леди Уордроп. Я уже его сделал и вечером нарисую вам копию.
– Замечательно, для меня сойдет обычный чертеж карандашом с указанием масштаба. Тогда я легко смогу привести его в соответствие с остальными. Большое, большое спасибо.
– Отлично, завтра вы его получите. Надеюсь, вы поможете мне разгадать тайну моих плит.
– Вы про камни в летнем домике? Да, это загадка. А они приведены в порядок? Ну конечно же, нет. Но ведь те, кто их ставил, должны были получить какие-нибудь распоряжения… может быть, среди бумаг дяди вы что-либо и найдете. В противном случае вам следует пригласить кого-нибудь, кто разбирается в шифрах.
– Мне необходим еще один ваш совет, – произнес Хамфриз. – Этот тис под окном библиотеки… вы бы его срубили?
– Который? Этот? Нет, не думаю, – сказала леди Уордроп. – Отсюда мне не очень хорошо видно, но он вовсе не некрасивый.
– Вероятно, вы правы. Просто когда я смотрел вчера ночью из окна, мне показалось, что он мешает. Но отсюда мне этого тоже не кажется. Ладно, оставим его пока на месте.
Затем они пили чай, после чего леди Уордроп отбыла. Отъехав на несколько метров от дома, она остановилась и позвала Хамфриза, который все еще стоял на ступеньках. Он подбежал, дабы услышать ее прощальные слова. Они звучали следующим образом:
– Мне сейчас пришла в голову мысль, а не заглянуть ли вам под плиты. На них должны быть цифры. Еще раз до свидания.
Во всяком случае этот вечер было чем занять. Перерисовка плана для леди Уордроп, а затем внимательная сверка с оригиналом потребуют по крайней мере два часа. Таким образом, вскоре после девяти Хамфриз разложил в библиотеке письменные принадлежности и принялся за работу. Вечер стоял тихий и душный, окна были распахнуты, из-за чего последовало несколько стычек с летучей мышью. Вследствие этого Хамфризу пришлось постоянно бросать на окно нервный взгляд. К тому же дважды кто-то еще пытался проникнуть внутрь – не летучая мышь, а нечто большее, – и вопрос, кто же это мог быть, никак не выходил из его головы. Можно представить, что будет, если кто-нибудь тихонечко переползет через подоконник и спрячется в углу!
Вот копия и готова, осталось сравнить ее с оригиналом и проверить, нет ли ошибок. Двигая пальцем по листу, он выверял каждую тропинку, ведущую от входа. Пару раз он ошибся, но эти неточности большого значения не имели. А вот около центра произошло явное недоразумение – по-видимому, из-за вмешательства второй или третьей летучей мыши. Прежде чем перейти к исправлению промахов, он внимательно сверил последний поворот. Хоть здесь все в порядке: тропа беспрепятственно вела к центру.
Правда, оригинал отличался некоторой особенностью, которую не следовало повторять на копии, – омерзительным черным пятном, размером с шиллинг.
Клякса? Нет.
Похоже на дырку, но откуда тут дырка?
Он тупо уставился на нее: копирование требует кропотливого внимания, а он очень устал и хотел спать… Но какая странная эта дырка. Она оказалась не только в листе, но и в столе, на котором лежал этот лист. Да, и в полу тоже… мало того, она уходила в необъятные глубины. Он склонился над этой дырой, абсолютно сбитый с толку. Бывало, смотришь в детстве на стеганое одеяло, и тебе чудятся леса, горы, а порой церкви и дома – в такой момент полностью теряешь чувство времени и целиком уходишь в себя. Так и эта дыра на мгновение показалась Хамфризу единственным, что существует в мире. Она ему сразу почему-то не понравилась, но он все смотрел и смотрел на нее, пока им не стало овладевать чувство тревоги. Оно становилось все сильнее и сильнее и превращалось в ужас… как бы из этой дыры что-нибудь не вылезло. Его охватил мучительный страх, что его ожидает нечто кошмарное, от чего нет спасения. И действительно, где-то далеко, далеко внизу что-то шевельнулось и начало подниматься… прямо к поверхности. Вот оно ближе и ближе, и из темноты стало возникать нечто серо-черное. Вот оно стало превращаться в лицо… человеческое лицо… обожженное человеческое лицо… и, корчась, словно оса, выбирающаяся из гнилого яблока, оно вылезло наружу, и тут появились руки, готовясь схватить того, кто склонился над ними. В полном отчаянии Хамфриз резко отпрянул, стукнулся головой о лампу и упал.
Далее последовали сотрясение мозга, нервный шок и длительный постельный режим. Доктора крайне изумили не симптомы болезни, а просьба, с которой обратился к нему Хамфриз, как только стал в состоянии говорить:
– Загляните в сферу лабиринта.
– В лабиринтах я не разбираюсь. Я сведущ лишь в сфере медицины, – был единственный ответ, который смог придумать доктор.
Хамфриз же что-то пробормотал и снова заснул, а доктор по секрету сообщил медсестрам, что его пациент все еще пребывает в безумии. Когда Хамфризу стало лучше, он более четко выразил свою просьбу, на что получил обещание выполнить немедленно его указание. Он так волновался в ожидании результата, что доктор, который на следующее утро пребывал в сильной задумчивости, пришел к выводу, что лучше не скрывать от больного всю правду.
– Что ж, – начал он. – Боюсь, что со сферой покончено. Металл так проржавел, что шар рассыпался при первом же ударе долота.
– Да? Продолжайте же! – нетерпеливо воскликнул Хамфриз.
– А вы, разумеется, хотите знать, что нашли внутри. Какую-то грязь, похожую на пепел.
– Пепел? И что вы с ним сделали?
– Я еще толком его не изучил: времени не было, – но Купер решил… вероятно, благодаря моим словам… что это случай кремации… Только не волнуйтесь, сэр. Да, должен допустить, что он, возможно, прав.
Лабиринта больше нет, и леди Уордроп простила Хамфриза. Надо сказать, он, по-моему, женился на ее племяннице.
Она тоже оказалась права, когда предположила, что плиты в храме пронумерованы. На дне каждой из них были написаны краской цифры. Некоторые из них не сохранились, но по оставшимся в целости Хамфриз все-таки сумел восстановить надпись. Она гласила:
Penetrans ad Interiora Mortis[12]
Как ни был благодарен Хамфриз своему дяде, он не мог простить его за то, что тот сжег все дневники и письма Джеймса Уилсона, одарившего Уилсторп храмом и лабиринтом. Об обстоятельствах смерти и захоронения этого лица сведений не сохранилось. Весь его архив состоял лишь из завещания, по которому необыкновенно щедрое вознаграждение получил его слуга с итальянским именем.
По мнению мистера Купера – если выражаться нормальным языком, – в любом печальном событии можно найти свой смысл, если наши ограниченные умственные способности в состоянии разобраться в нем. А мистер Калтон вспомнил историю о какой-то тете, уже покинувшей нас, которая, кажется, в 1866 году потерялась в лабиринте в Ковент-Гардене, а может, и в Хэмптон Корте.
Но самое странное во всей этой истории оказалось то, что книга с притчей исчезла безвозвратно. И Хамфризу так и не удалось переписать для леди Уордроп тот кусок, что он читал.
Резиденция в Уитминстере
Доктор богословия Томас Эштон сидел у себя в кабинете. Он был облачен в халат, а на выбритой его голове красовался шелковый ночной колпак. Снятый парик занимал свое место на болванке на столике. Пятидесятипятилетний доктор обладал крепким телосложением, сангвиническим характером, суровым взглядом и вытянутой верхней губой. В тот момент, когда я знакомлю с ним вас, лицо его освещали прямые лучи полуденного солнца, падающие сквозь высокое подъемное окно, выходящее на запад.
Солнце проникало в комнату, которая отличалась высоким потолком. Стены ее были заставлены книжными шкафами, меж которыми проглядывали деревянные панели стен. Письменный стол был обит зеленым сукном, на котором стояли: то, что доктор называл серебряным чернильным прибором (поднос с чернильницами); гусиные перья; парочка книг в переплетах из телячьей кожи; бумага; длинная курительная трубка и медная табакерка; оплетенная соломой бутылка и ликерная рюмка. И происходило все это в 1730 году, в декабре, после трех часов дня.
Если бы в кабинет заглянул посторонний наблюдатель, он бы согласился, что читателю я предоставил весьма подробное описание комнаты. Ну а если бы сидящий в кожаном кресле доктор Эштон бросил взгляд из окна, что бы увидел он? Сад, верхушки кустов и плодовых деревьев и огораживающую его стену из красного кирпича по западной стороне. Посередине стены находились двойные замысловатой конструкции железные ворота с орнаментом в виде завитков. Сквозь ажурные ворота можно было разглядеть малых размеров участок – небольшой склон, вдоль которого, по-видимому, струился ручей, и крутой подъем к полю, более похожему на парк и окруженному дубами, в это время года, естественно, сбросившими свою листву. Меж их стволами виднелись небо и горизонт. Небо было золотистое, а горизонт… на горизонте отливали пурпуром далекие леса.
Но доктор Эштон, посвятив длительное время созерцанию этого вида, отозвался о нем следующими словами: «Какая гадость!»
В то же мгновение раздались шаги, торопливо приближавшиеся к кабинету – судя по гулкому звуку, кто-то шел через большую комнату. Доктор Эштон с выражением ожидания на лице повернулся к двери. Она отворилась, и в комнату вошла леди – полная дама в платье моды тех времен. Несмотря на то что одежде доктора несколько строк я уделил, описывать платье его жены – а то вошла миссис Эштон – я не рискую. Она была сильно взволнована и даже встревожена. Нагнувшись к доктору Эштону, она прошептала очень расстроенным голосом:
– Ему очень плохо, дорогой. Боюсь, стало хуже.
– Д-действительно? – И, отклонившись назад, он заглянул ей в лицо.
Где-то неподалеку в вышине два тоскливых колокола пробили полчаса. Миссис Эштон вздрогнула:
– Ты не мог бы приказать, чтобы церковные часы сегодня ночью не били? Они как раз над его спальней, и он не сможет заснуть, а сон – единственное лекарство, которое еще в состоянии ему помочь.
– Ну, если в этом и в самом деле есть потребность, то, вероятно, это устроить можно, но только если это и впрямь необходимо. Ты уверена, что выздоровление Фрэнка зависит именно от этого? – Голос доктора Эштона прозвучал громко и твердо.
– Да, уверена, – ответила его жена.
– В таком случае прикажи Молли сбегать к Симпсонам и передать от моего имени, чтобы часы на закате остановили и… да… потом пусть она передаст лорду Саулу, что я прошу его пожаловать ко мне.
Миссис Эштон быстро вышла из комнаты.
Прежде чем в кабинете не возникли новые персонажи, спешу объяснить ситуацию.
Помимо высокого положения доктор Эштон обладал правом на пребенду в богатой соборной церкви Уитминстера, которая в отличие от собора пережила и роспуск парламента, и Реформацию и сто лет спустя после тех событий, о которых я рассказываю, ухитрилась сохранить в целости и свое строение, и свои пожертвования. Огромная церковь, резиденции декана и двух пребендариев, хоры и их аксессуары остались невредимыми и продолжают служить пастве. Настоятель, который жил и работал после 1300 года, большую часть своего времени уделял строительству и воздвиг просторное четырехугольное здание из красного кирпича для проживания служащих – пристройку к церкви. К тому времени, о котором идет речь, в некоторых должностях более не нуждались: их профессиональные обязанности свелись лишь к названиям; и их вполне можно было заменить священнослужителями или юристами, проживающими в городе и в округе. Таким образом, помещения, предназначенные для семидесяти человек, теперь разделяли трое – настоятель и два пребендария. И в апартаменты доктора Эштона входили комнаты, которые прежде служили приемной и трапезной. Резиденция простирались вдоль всего двора и с одной стороны имела вход в церковь. Другой стороной, как нам это уже известно, она выходила на природу.
Вот все, что касается дома.
Теперь о его обитателях. Доктор Эштон был состоятельным человеком, но бездетным, поэтому он усыновил, вернее, принял на себя обязанности воспитать осиротевшего сына сестры жены, Мальчика звали Фрэнк Сидалл, и в доме он проживал уже не один месяц.
Однажды доктор получил письмо от ирландского лорда, герцога Килдонанского (когда-то они учились в одном колледже), с просьбой принять на время в семью герцогского наследника виконта Саула и чтобы доктор стал для его сына не только домашним учителем, но и истинным наставником. Лорду Килдонану в скором времени предстояло занять пост в посольстве в Лиссабоне, и мальчика он не мог взять с собой, «но не по причине его болезненного состояния, – писал герцог, – хотя он может показаться капризным, я и сам еще совсем недавно считал его таковым, но как раз сегодня его старая нянька специально пришла ко мне, чтобы сообщить, что он научился владеть собой, но полно об этом. Я ручаюсь, что вы сумеете найти к нему подход и воспитать из него нормального мужчину. Помнится, в былые времена вы славились своей крепкой рукой, и я даю вам все права применять ее в случае необходимости. Беда в том, что ему не с кем общаться, я имею в виду мальчиков его возраста и положения, поэтому он болтается по нашим фортам и кладбищам и пребывает в хандре, из-за чего приносит домой романы, которыми до полоумия пугает наших слуг. Итак, и вас, и вашу жену я предупредил».
Хочу заметить, что на решение доктора Эштона дать согласие принять лорда Саула на попечение повлиял не только намек на возможное ирландское епископство (о чем говорилось в следующем предложении герцога), но и приложенный к письму гонорар в 200 гиней.
И вот сентябрьской ночью лорд Саул подъехал к дому. Сойдя с почтовой кареты, первым делом он обратился к форейтору, дал ему денег и похлопал по шее лошадь. То ли он сделал что-то не так, но лошадь испугалась, и произошел крайне неприятный инцидент. Животное сильно дернулось, форейтора отбросило в сторону – отчего, как выяснилось позже, он потерял свои чаевые, – карета поцарапала краску на воротных столбах, а по ноге вынимавшего из кареты багаж слуги проехало колесо. Когда лорд Саул поднялся по ступеням крыльца навстречу доктору Эштону, последний увидел перед собой юнца лет шестнадцати, с прямыми черными волосами и бледной кожей, то есть с внешностью, ничем не примечательной. Неприятное происшествие и всеобщее смятение лорд Саул воспринял довольно спокойно и проявил искреннее беспокойство за людей, которые потерпели или могли потерпеть физический ущерб. Голос его звучал ровно и приятно, и, что любопытно, говорил он даже без намека на ирландский акцент.
Фрэнк Сидалл был младше его. Ему исполнилось то ли одиннадцать то ли двенадцать лет, но лорду Саулу это не помешало с ним подружиться. Фрэнк мог научить его разным играм, в Ирландии неизвестным, и лорд Саул учился им с готовностью. Уделял он внимание и книгам, несмотря на то что дома чтение не являлось его любимым занятием. Совсем немного времени прошло, а он уже разбирал надписи на могильных плитах в церкви. Доктора же он часто расспрашивал о старых книгах в библиотеке. Причем вопросы его, дабы ответить на них, требовали некоторого размышления. По-видимому, он и к слугам относился крайне любезно, так как через десять дней после его прибытия они, желая ему угодить, чуть ли не отталкивали друг друга. В то же время миссис Эштон была вынуждена приложить максимум усилий, чтобы найти новых горничных – в доме произошли некоторые изменения, а в семьях, в которых она привыкла добывать себе служанок, подходящих не имелось. Ей пришлось даже искать в отдаленных деревушках.
Эти подробности я нашел в дневниках доктора и в его письмах. И эти подробности, к нашей радости в свете описываемых событий, становились все более детальными. Мы подходим к записям, датируемым более поздним временем того же года и, как я полагаю, занесенным в дневник после кульминационного происшествия, и, так как все случившееся заняло всего несколько дней, в том, что пишущий все помнит точно, сомневаться не приходится.
В пятницу утром то ли лиса, то ли кошка покончила с премированным черным петушком миссис Эштон – птицей без единого белого пера. Муж ее частенько говаривал, что сия птица может явиться достойной жертвой Эскулапу. Эти слова его всегда приводили ее в расстройство, теперь же она была совершенно безутешна. Мальчики повсюду искали его, и лорд Саул принес несколько обгоревших перьев, которые он нашел в мусорной куче в саду.
Именно в тот самый день доктор Эштон, выглянув из окна верхнего этажа, увидел, как мальчики играют в углу сада в какую-то непонятную игру.
Фрэнк что-то внимательно разглядывал на своей ладони, а Саул стоял рядом и, казалось, слушал. Через несколько минут он бережно положил на голову Фрэнка свою руку, и Фрэнк почти в ту же секунду вдруг уронил то, что было у него в руке, прижал руки к глазам и опустился на траву. Саул с выражением злобы на лице быстро поднял упавший предмет – было лишь видно, как он блестит, – сунул его в карман и, оставив Фрэнка лежащим на траве, пошел прочь.
Дабы привлечь их внимание, доктор Эштон чуть стукнул окном, Саул испуганно поглядел вверх, подскочил к Фрэнку, поднял его и увел из сада.
За обедом Саул объяснил, что они разыгрывали трагедию Радамистуса, где героиня предвидит будущее королевства ее отца по хрустальному шару, который держит в руке; и ужасные грядущие события, о которых она уже знала, уничтожают и ее. Во время его объяснений Фрэнк молчал и только смущенно поглядывал на Саула. Миссис же Эштон пришла к выводу, что Фрэнк, наверное, простудился после лежания на мокрой траве – он выглядел нездоровым и расстроенным. И расстройство поразило не только его тело, но и голову – он все хотел что-то сказать миссис Эштон, но она была так занята домашними делами, что не обращала на него внимание, а когда вечером пошла посмотреть, потушили ли мальчики перед сном свет, и пожелать им спокойной ночи, он уже спал, но лицо его, как ей показалось, было чересчур красным. Лорд же Саул, тем не менее, был бледным и спокойным и во сне улыбался.
На следующее утро так случилось, что доктор Эштон был занят по делам церкви да и другими делами и потому был не в состоянии давать мальчикам уроки. Однако он оставил им письменное задание, которое они потом должны были принести ему. Трижды, если не больше, Фрэнк стучал в дверь его кабинета, и каждый раз у доктора был посетитель, поэтому он в очень резкой форме отослал мальчика, о чем впоследствии сильно сожалел.
Два церковных лица, присутствовавшие в тот день за обедом, обратили внимание (а они были отцами семейств) на то, что мальчик выглядит нездоровым – что походило на правду, – и заметили, что его стоит немедленно уложить в постель.
Через два часа он вбежал в дом и, подбежав к миссис Эштон, вцепился в нее с мольбами защитить его и с беспрерывными криками: «Уберите их! Уберите их!»
Тогда всякие сомнения в его болезни отпали, и его уложили в кровать, но не в его спальне. Вызвали врача. Тот заявил, что у мальчика серьезное помрачение в уме, и предписал ему полный покой и необходимые лекарства.
Теперь мы вернемся к началу нашей истории. Церковные часы стоят, а лорд Саул входит в кабинет.
– Что вы можете сообщить мне о причине болезни бедного мальчика? – так прозвучал первый вопрос доктора Эштона.
– Боюсь, что ничего, помимо того, что вам уже известно, сэр. И все же я виню себя: когда мы вчера разыгрывали эту дурацкую пьесу, которую вы и видели, я сильно напугал его. Но я и предположить не мог, что он так близко примет к сердцу мои слова.
– Что вы имеете в виду?
– Ну, я рассказывал ему глупые истории о том, что мы в Ирландии называем вторым видением.
– Вторым видением! И что же это за видение?
– Понимаете, наш невежественный народ считает, что существуют люди, умеющие предвидеть будущее… кто по хрусталю, кто по воздуху, и в Килдонане у нас была старуха, которая полагала, что тоже обладает подобной силой. Должен признаться, что я несколько приукрасил свои россказни, но мне и в голову не приходило, что на Фрэнка они так сильно подействуют.
– Вы поступили дурно, мой лорд, очень дурно. Забить себе голову всяческими суевериями! Вы должны были соображать, в чьем вы находитесь доме и что подобное такому человеку, как я или вы, а что явно не подобает. И все же я не понимаю, каким образом разыгрывание, как вы утверждаете, пьесы могло довести Фрэнка до такого состояния?
– На этот вопрос я затрудняюсь ответить, сэр. Наше пустословие о битвах, влюбленных, Клеодоре и Антигене так быстро сменилось какой-то другой темой, что я совершенно не помню, о чем шла речь в тот момент. А он вдруг взял и упал, да вы и сами это видели.
– Да, видел. Это ведь произошло именно тогда, когда вы положили свою руку ему на голову?
Лорд Саул бросил на спрашивающего быстрый взгляд – быстрый и злобный – и впервые не нашелся что ответить.
– Да, кажется, – сказал он. – Я пытаюсь вспомнить, но не уверен. Но действия свои я совершал без всякого умысла.
– Вот как! – воскликнул доктор Эштон. – Что ж, мой лорд, мне придется сообщить вам, что эта ваша игра может привести к очень неприятным последствиям. Врач сильно опасается за жизнь моего племянника.
Стиснув руки, лорд Саул устремил на доктора Эштона честный взгляд:
– Мне очень хочется верить, что ни злого намерения, ни причины доводить до сумасшествия бедного мальчика у вас не было, но считать вас невиновным я тоже не могу.
Тут снова раздались торопливые шаги, и в комнату со свечой в руке, так как уже наступал вечер, быстро вошла миссис Эштон. Она была сильно взволнована.
– Скорее! – закричала она. – Скорее! Он умирает.
– Умирает? Фрэнк? Это невозможно! Уже?
И, бормоча какие-то бессвязные слова, доктор схватил со стола молитвенник и ринулся вслед за женой.
Лорд Саул некоторое время оставался на месте. Горничная Молли видела, как он склонился и закрыл лицо руками. Позже она утверждала, что он пытался сдержать смех. Затем он спокойно последовал за остальными.
В своем предположении миссис Эштон, увы, оказалась права. Детально описывать последнюю сцену мне не хочется. Для интересующих нас событий имеют значение или могут иметь значение записи доктора Эштона.
Фрэнка спросили, не хочет ли он напоследок повидаться со своим другом, лордом Саулом. Мальчик собрался с мыслями – в подобные моменты такое происходит.
– Нет, – ответил он, – видеть его я не хочу, но передайте ему: я боюсь, что ему будет очень холодно.
– Что ты хочешь этим сказать, мой дорогой? – изумилась миссис Эштон.
– Только то, что сказал, – произнес Фрэнк, – еще передайте ему, что я уже освободился от них, но он пусть побережется. И простите меня за черного петушка, тетушка, но он сказал, что, если хотим увидеть то, что увидеть можно, мы должны им воспользоваться.
Через несколько минут он скончался. Эштоны сильно горевали, особенно, разумеется, жена доктора. А доктор, несмотря на то что чувствительностью не отличался, пришел к заключению, что в ранней смерти есть некая несправедливость, к тому же он сильно подозревал, что Саул рассказал ему не все и что за всеми этими событиями скрывается нечто необычное.
Покинув обитель смерти, он был вынужден отправиться к могильщику. Предстояло звонить в погребальный колокол – последний из церковных колоколов – и копать могилу в церковном дворе. Да и церковные часы снова могут начать отбивать свой ход. Выйдя в темноту, он подумал, что ему необходимо вновь побеседовать с лордом Саулом: оставалось невыясненным – пусть даже на первый взгляд пустячное – дело с черным петушком. Если не считать воображение покойного мальчика болезненным, то на память приходят процессы над ведьмами, о которых он читал. Кажется, там большое значение играли жертвоприношения? Да, с Саулом обязательно надо поговорить.
Об этих его размышлениях я могу лишь догадываться, сам он об этом ничего не пишет. Но вторая беседа действительно состоялась, и Саул оказался бессилен (во всяком случае, он так сказал) пролить свет на предсмертные слова Фрэнка, хотя сообщение, которое было ему передано, или какая-то часть его сильно потрясли Саула. Но подробная запись этой беседы в дневнике отсутствует. Упоминается лишь о том, что Саул весь вечер пробыл в кабинете у доктора и, пожелав последнему спокойной ночи – весьма неохотно, – попросил его молиться за него.
Когда январь подходил к концу, лорд Килдонан получил письмо, которое сильно потрясло этого тщеславного человека и невнимательного отца. Лорд Саул был мертв.
Похороны Фрэнка оказали на присутствующих жуткое впечатление. День стоял хмурый и ветреный, и носильщикам, которые, пошатываясь, несли гроб, черная ткань которого развевалась по вет ру, пришлось приложить максимум усилий, чтобы сойти с крыльца церкви и добраться до могилы. Миссис Эштон находилась у себя в комнате – в те времена женщинам не полагалось присутствовать на похоронах своих родственников, – но Саул там был, в траурном костюме своей эпохи. Бледное лицо его было устремлено на лицо усопшего, но, как было замечено, он трижды или четырежды внезапно поворачивал голову влево и оглядывался через плечо В эти минуты в глазах его появлялось выражение ужаса, и создавалось впечатление, что он к чему-то прислушивается. Никто даже не заметил, когда он исчез, но в тот вечер найти его было невозможно.
Всю ночь в высокие окна церкви стучал сильный ветер, он выл в горах и ревел в лесах. Поиски Саула ни к чему не привели. Да и если бы кто-нибудь закричал или позвал на помощь, его бы сразу услышали. Все, что доктор Эштон был в состоянии предпринять, это предупредить всех в округе, поставить на ноги городских констеблей и сидеть в ожидании новостей, что он и сделал.
Новости появились лишь на следующее утро, их сообщил церковный сторож, в чьи обязанности входило открывать церковь в семь часов утра для ранних молитв. Он послал горничную за ее хозяином, и она вбежала к нему, растрепанная и вытаращив глаза. Двое мужчин немедленно ринулись к южному входу в церковь, где и нашли лорда Саула. Он отчаянно цеплялся за кольцо в двери, одежда на нем была разодрана в клочья, обувь отсутствовала, а израненные ноги кровоточили.
Именно об этом сообщало письмо, которое получил лорд Килдонан. На этом первая часть нашей истории кончается. Фрэнк Сидал и виконт Саул, единственное дитя и наследник герцога Уилльяма Килдонанского, покоятся в одной могиле в церковном дворе Уитминстера. На могиле установлена каменная плита.
В своей резиденции доктор Эштон прожил тридцать лет. Не знаю, спокойно ли ему жилось там, но во всяком случае обошлось без явных потрясений.
Преемник его предпочел остаться в прежнем своем доме, поэтому здание, предназначавшееся старшему пребендарию, стояло свободным. Прошел восемнадцатый век, а затем наступил и девятнадцатый: мистер Хиндес, преемник Эштона, стал пребендарием в двадцать девять лет, а умер в восемьдесят девять.
И вот то ли в 1823-м, то ли в 1824 году эту должность получил наконец тот, кто решил поселиться в этом доме. Звали его доктор Генри Олдис; возможно, некоторым моим читателям знакомо это имя – он является автором ряда произведений под общим названием «Труды Олдиса». На полках большого количества известных библиотек – где они занимают достойное место – к ним так редко кто прикасается.
Доктору Олдису, его племяннице и их прислуге потребовалось несколько месяцев, чтобы мебель и книги из Дорсетширского прихода перевезти в четырехугольное здание в Уитминстере и расставить по местам. Но в конце концов все было сделано, и дом (который, несмотря на то что столько времени пустовал, производил хорошее впечатление и оставался неподвластным непогоде) ожил и, подобно поместью графа Монте-Кристо в Отейле, запел и расцвел вновь.
В то июньское утро доктору Олдису, вышедшему в сад погулять перед завтраком, он показался особенно красивым. За красной крышей виднелась церковная башня с четырьмя золотыми флюгерами, а за ними голубело яркое небо и белели крошечные облачка.
– Мэри, – произнес он, усевшись завтракать и положив на скатерть что-то тяжелое и блестящее, – посмотри, что только что нашел мальчик. Может быть, ты догадаешься, что это такое?
На столе лежала круглой формы, не толще дюйма, абсолютно гладкая пластинка из обыкновенного, как могло показаться на первый взгляд, стекла.
– Во всяком случае, она очень красивая, – ответила Мэри, прелестная блондинка с большими глазами и ярая любительница литературы.
– Верно, – согласился ее дядя. – Я подумал, что тебе она понравится. Мне кажется, что раньше она находилась в доме – ее нашли в мусорной куче за углом.
– Сейчас я не очень уверена, что она мне нравится, – заявила Мэри несколько минут спустя.
– Это еще почему, моя дорогая?
– Не знаю. Возможно, это всего лишь причуда.
– Вот уж точно, причуды и, разумеется, романы. Кстати, что за книга на сей раз… то есть как она называется… занимала твои мозги весь вчерашний день?
– «Талисман» Вальтера Скотта, дядя. Ах, вот было бы здорово, если бы это тоже оказался талисман!
– Понятно, «Талисман», что ж, ты имеешь полное право на него, чем бы он ни оказался на самом деле. Ну, мне пора по делам. Как тебе дом? Он тебя устраивает? Слуги не жалуются?
– Нет, вообще-то здесь так хорошо. Единственный soupcon[13] на жалобу на замок в бельевом шкафу, и, как я тебе уже докладывала, миссис Мейпл никак не может избавиться от пилильщиков в той комнате, которую ты проходишь мимо, когда идешь из другого конца дома. Кстати, тебе действительно нравится твоя спальня? Она так далеко.
– Нравится? Очень – чем дальше от тебя, дорогая моя, тем лучше. Но что это еще за пилильщики? Одеждой они питаются? Если нет, то пусть имеют эту комнату в полном своем распоряжении. Нам-то она вряд ли понадобится.
– Да, конечно. То, что она зовет пилильщиками, такие красные, как долгоножки, только размером поменьше[14], и в комнате этой они расположились действительно в огромном количестве. Мне они не нравятся, но полагаю, вреда они не приносят.
– Сегодня утром тебе, по-моему, многое не нравится, – заметил ее дядя, закрывая за собой дверь.
А мисс Олдис осталась сидеть за столом, разглядывая пластинку, которую она положила на ладонь. С ее лица медленно сошла улыбка, взамен которой появилось выражение интереса и почти напряженного внимания. Но ее раздумья нарушило появление миссис Мейпл и неизменный вопрос: «Ах, мисс, вы не могли бы уделить мне минутку?»
Еще одним источником информации для рассказа послужило письмо мисс Олдис, которое она за два дня до этого начала писать своей подруге в Личфилд. Оно не лишено следов влияния лидера феминистского движения того времени, мисс Анны Сьюард, известной как Личфилдский Лебедь.
Моя дражайшая Эмили, спешу с радостью сообщить тебе, что наконец-то мы – мой любимый дядя и я – по селились в доме, который теперь называет хозяином нас, нет, хозяином и мистресс – так в прежние времена он называл многих других. И теперь мы вкушаем современную изысканность вкупе с древней архаикой, коими прежде наша жизнь не была украшена. Каким бы ни был маленьким наш городок, он в состоянии предоставить нам отражение – пусть бледного, но истинного – наслаждения вежливого обхождения как соседствующих семейств, так и обитателей поместий, разбросанных по округе. Лоск вышеозначенных ежегодно обновляется посредством общения с блеском столичным.
Но есть и другие, чей здравый смысл и сердечность временами и по контрасту не менее приятны и приемлемы. Утомленные гостиными и общими комнатами наших друзей, мы готовы принять утешение от столкновения умов или небольшой дневной беседы в окружении печальных красот нашего освященного веками собора, чьи серебряные куранты ежедневно «призывают к молитве»; а близ темных стен мирного кладбища мы со смягчившимся сердцем предаемся соответствующим раздумьям, и вскоре глаза наши покрываются влагой при воспоминании о молодых и красивых, старых, мудрых и добрых.
На этом месте стиль письма неожиданно меняется.
Но, дорогая моя Эмили, в манере, которой ты столь достойна и которая доставляет нам обеим огромное удовольствие, я больше не в состоянии писать. Хочу рассказать тебе о совершенно необычном происшествии.
Сегодня утром за завтраком показал мне предмет, который был найден в саду, – то ли стекло, то ли хрусталь следующего размера (тут приведен рисунок). Он отдал его мне, а я положила его на стол. Когда ушел, я, непонятно почему, несколько минут разглядывала его, потом мне пришлось заняться домашними делами. Так вот, наверное, ты скептически улыбнешься, но я увидела в нем события и предметы, которых в комнате не было.
Ты меня, разумеется, поймешь, когда узнаешь, что при первой же возможности я решила повторить свой эксперимент и уединилась у себя в комнате с этим стеклом, которое, как мне кажется, является талисманом огромной силы. И разочарование не постигло меня.
Эмили, клянусь памятью того, кто так дорог нам обеим, что то, что я сегодня испытала, выходит за рамки всякого правдоподобия. Короче говоря, глядя при ярком свете летнего дня сквозь кристальные глубины этой крошечной круглой пластинки, я увидела следующее.
Сначала передо мной возникло некое огороженное бугристое пространство, покрытое травой. Посредине располагались руины из серого камня, вокруг них тянулась каменная стена. И омерзительного вида старуха стояла там в красном плаще и тряпичной юбке. Она разговаривала с мальчиком, одетым по моде примерно столетней давности. Она положила ему в руку что-то блестящее, и он тоже кое-что дал ей: деньги – я увидела, как из ее дрожащей руки выпала монета. На этом первая сцена закончилась. Между прочим, я успела заметить, что на стене лежат разбросанные кости и даже череп.
Затем моим глазам предстали два мальчика: один из них – герой моего прежнего видения, другой – чуть помладше. Они находились в саду, окруженном стеной, и, несмотря на некоторые изменения и малый рост деревьев, я узнала в нем тот самый сад, который в данный момент вижу из своего окна. Создавалось впечатление, что мальчики играют в какую-то странную игру. Ха-ха. Старший простер над этим руки, а потом поднял их, словно молясь, и, к моему сильному изумлению, я увидела, что руки у него в крови. Небо было целиком затянуто тучами. Затем тот же мальчик повернул лицо к садовой стене и помахал руками, кого-то призывая. В ту же минуту над стеной что-то показалось: то ли головы, то ли другие части тел каких-то животных, а может, это были и люди, толком я не поняла. Старший в одно мгновение резко отвернулся, схватил младшего за руку (тот все время глядел на то, что лежало на земле), и они оба убежали. А на траве я увидела кровь, кучку веток и, как мне показалось, черные перья. Так закончилась вторая сцена, а следующая была такой темной, что я не очень разглядела, что там происходило.
Привиделся мне кто-то… он крался между деревьями и кустами, которые хлестал яростный ветер. Потом он быстро-быстро побежал, но все время оборачивался (лицо у него было бледное). Казалось, его кто-то преследует. Затем появились и преследователи. Разглядеть их было очень трудно, по моему, их там было трое или четверо – не могу сказать. Напоминали они собак, но это были явно не собаки. Меня охватило такое чувство ужаса, что я была не в состоянии закрыть глаза, хотя только и мечтала об этом. Потом жертва пронеслась под аркой, во что-то вцепилась, а те, кто гнались за ним, настигли его, и я услышала отчаянный крик. Вероятно, я потеряла сознание, потому что позже я словно пробудилась к свету дня, покинув мрак.
Эмили, я рассказываю тебе сущую правду, такое видение, иначе это и не назовешь, явилось мне посреди белого дня. Как ты думаешь, не оказалась ли я случайным свидетелем трагедии, происшедшей в этом доме?
Продолжение письма последовало на следующий день.
Несмотря на то что я поставила точку, вчерашняя история продолжалась. Дяде я рассказывать ничего не стала. Ты же знаешь, каким образом его здравый смысл откликается на мое сообщение – на все случаи жизни у него одно лекарство: бокал темного пива или рюмка портвейна.
Проведя тихий вечер… заметь, но не скучный… я отправилась спать. И представь себе мой ужас, когда вдруг я услышала безумный крик, и хотя доносился он издалека, я сразу узнала дядин голос. Господи, как он кричал. Спальня его находится в дальнем конце этого огромного дома, чтобы добежать до нее, необходимо миновать древний холл в восемьдесят футов длиной, высокую комнату с панелями и две пустые спальни. Нашла я его во второй – там вообще нет мебели, – он сидел в темноте, а свеча его валялась на полу сломанная. Я, разумеется, пришла со свечой, и он схватился за меня дрожащими руками – прежде с ним такого не случалось – и быстро повел из комнаты прочь. Отчего он так кричал, он объяснять не захотел. «Завтра, завтра», – было единственным, что мне удалось выудить из него. Мы наскоро постелили ему постель в комнате, соседней с моей, я очень сомневаюсь, что в эту ночь он спал лучше, чем я.
Заснула я лишь на рассвете, и сны мне снились очень неприятные.
Один из них никак не выходит у меня из головы, и хочу рассказать его тебе: может быть, таким образом сумею его забыть. Мне снилось, что я вошла к себе в комнату с ощущением, что на меня давит какое-то зло, и почему-то я пошла к комоду, причем с колебанием и неохотой. Сначала я открыла верхний ящик, там были только ленты и платки, потом второй, там тоже лежала какая-то ерунда, и затем, о господи, третий и последний. В нем лежало аккуратно сложенное постельное белье. И я стала разглядывать его с любопытством, постепенно сменяющимся ужасом. Но пребывала я в этом состоянии недолго – из складок белья выскочила розовая рука и стала легонечко шевелить пальцами. Этого зрелища была уже не в состоянии выдержать, и я выскочила из комнаты, захлопнула за собой дверь и, изо всех сил надавив на нее, стала закрывать ее на ключ. Но ключ никак не поворачивался в замке, а в комнате что-то зашуршало и затопало и стало приближаться к двери. Почему я не побежала вниз по лестнице, понятия не имею. Только я все продолжала давить на ручку, но дверь удержать не сумела, она открылась, и тут я, к счастью, проснулась. Возможно, мой сон тебе страшным не покажется, но мне было очень страшно, уже поверь.
За завтраком дядя не проронил ни слова: по-моему, ему было стыдно, что он нас так напугал. А потом спросил, не знаю ли я, в городе ли еще мистер Спиарман, и добавил, что считает, что у этого молодого человека имеется некоторая толика мозгов в голове. Тут, как ты понимаешь, моя дорогая Эмили, я с ним согласна; и разумеется, на его вопрос я была в состоянии ответить.
Итак, он отправился к мистеру Спиарману и пока не вернулся. А я собираюсь немедля, отослать тебе этот ворох странных новостей, иначе это письмо ты не скоро получишь.
Читатель уже наверняка догадался, что мисс Мэри и мистер Спиарман примерно месяц назад, то есть до июня, обручились. Молодой щеголь, мистер Спиарман, обладал прекрасным поместьем неподалеку от Уитминстера и частенько, якобы по делу, приезжал на несколько дней в город, где останавливался в гостинице «Королевская голова». Можно предположить, что свободного времени у него было более чем достаточно, так как в своем дневнике он очень подробно описывает происходящие с ним события, в особенности те, которые имеют отношение к моему повествованию. Хотя у меня возникло подозрение, что нижеприведенный эпизод он занес в дневник по настоянию Мэри.
Сегодня утром ко мне зашел дядя Олдис (как я надеюсь, что в скором времени я получу полное право так его называть!). Обсудив со мной кое-какие пустячные вопросы, он сказал:
– Знаете, Спиарман, я хочу вам рассказать довольно-таки странную историю, только прошу вас на время прикусить язык. Сначала мне надо кое-что выяснить.
– Разумеется, – ответил я. – Вы всегда можете на меня положиться.
– Я действительно понятия не имею, что мне теперь делать, – заявил он. – Вы ведь знаете, где моя спальня. В самом дальнем конце. И чтобы до нее добраться, приходится проходить через большой холл и еще через две-три комнаты.
– Это в том конце, что рядом с церковью? – спросил я.
– Да, так вот, вчера утром Мэри мне сказала, что соседняя комната заражена какими-то жуками и экономка никак не может их вывести. Может быть, этим все и обясняется? Как вы думаете?
– Но, – заметил я, – вы мне еще так ничего и не рассказали.
– Ну да, не рассказал; кстати, а как выглядят эти пилильщики? Какого они размера?
Тут мне пришла голову мысль, что он слегка повредился головой.
– То, что я называю пилильщиком, – терпеливо начал я, – красное насекомое с длинными ногами, размером примерно дюйм, может, чуть побольше. Тело у них твердое, и, по-моему, они…
Я собирался сказать «совершенно безвредные», но он меня прервал:
– Хватит, хватит, примерно в дюйм, может, чуть побольше. Этого достаточно.
– Я говорю вам лишь то, – продолжал я, – что знаю сам. Послушайте, вы лучше расскажите, что вас так удивило – морда, возможно, – я вам что-нибудь и отвечу.
Он задумчиво посмотрел на меня.
– Возможно, – заключил он. – А знаете, я как раз сегодня говорил Мэри, что у вас имеется некоторая толика мозгов. (Согласен.) Все дело в том, что мне почему-то стыдно об этом рассказывать. Раньше со мной такого никогда не происходило. Так вот, вчера вечером, часов в одиннадцать, я взял свечу и отправился к себе. Еще я взял с собой книгу – люблю читать перед сном. Дурацкая привычка, вам я не советую этим заниматься, но я умею справляться со свечой и с постелью.
Дальше: когда я вышел из кабинета в ход и закрыл за собой дверь, свеча погасла. Потом я уронил книгу, вернее, она сама выскочила у меня из руки, так бы я сказал. Она упала на пол. Я поднял ее и пошел дальше; правда, мне стало страшновато. Но в холле некоторые окна без занавесок, а летом ночью светло, и видна не только мебель, но и есть ли там кто-нибудь еще, но никого не было, никого. Миновав холл, я вошел в смежную комнату, тоже с большими окнами, а потом двинулся через спальни, окна были зашторены, и из-за ступенек мне пришлось замедлить шаг. И во второй из них я чуть и не потерял свой quierus[15]. Только открыл дверь, как тут же понял, что там что-то сладкое. Должен признаться, я даже подумывал вернуться обратно и добраться к себе в спальню другим путем, только бы не входить в эту комнату. Но мне стало стыдно, и я решил, как говорится, наилучшим способом, хотя теперь я понимаю, что «наилучший способ» в данном случае был бы другой. Чтобы вам было понятнее, я опишу все подробно.
В комнате раздавался сухой, слабый шорох, и тут (а там было совершенно темно) что-то прыгнуло на меня, и я почувствовал на своих лице, шее, теле – не знаю, как лучше выразиться, – длинные тонкие то ли руки, то ли ноги, то ли усики. Они были не сильными, Спиарман, большего ужаса и отвращения я не испытывал за всю свою жизнь, и это весело меня из равновесия. Я заорал во всю мочь. Так как я знал, что рядом окно, я дернул за занавеску, стало чуть-чуть светлее, и я увидел болтающуюся в воздухе ногу насекомого – я это понял по ее форме. Но, боже мой, какого она была размера! Эта зверюга была ростом почти с меня, вы мне теперь говорите, что парильщики размером в дюйм, а может быть, побольше. Ну что теперь вы скажете, Спиарман?
– Ради Бога, сперва расскажите все до конца, – ответил я. – В жизни ничего подобного не слыхал.
– Да я уже все рассказал, – доложил он. – Вбежала Мэри со свечой, и там ничего не было, не стал ей ничего объяснять. Спать перешел в другую комнату, и надеюсь, там мне будет лучше.
– А вы осмотрели эту вашу странную комнату? – спросил я. – Что вы там держите?
– Мы ей не пользуемся, – сообщил он. – Там старый стенной шкаф и какая-то другая мебель в шкафу? – поинтересовался я.
– Понятия не имею, я его никогда не открывал, к тому же он заперт.
– Надо посмотреть, что в нем, и, если вы не возражаете, я хотел бы сам взглянуть на это место.
– Честно говоря, мне не хотелось обращаться к вам с этой просьбой, но я надеялся, что вы сами это предложите. Когда вы можете?
– Такие дела не стоит откладывать, – возвестил я, так как понял, что он не успокоится, пока все не прояснится.
Он с готовностью встал и, как мне показалось, посмотрел на меня с большим одобрением. Тем не менее произнес он только: «Тогда пошли», а по дороге к дому все время молчал.
Позвали мою Мэри (так он называет ее при всех, а я наедите), и мы отправились в комнату. Доктор даже сообщил ей, что вчера он сильно испугался, но почему, не стал разъяснять. Когда мы подошли к знаменитой комнате, он остановился и пропустил меня вперед.
– Вот эта комната, – сказал он. – Вы, Спиарман, вой дите и крикните нам, что там.
Ночью я, быть может, и испугался, но посреди бела дня ничего зловещего я найти там не ожидал, поэтому я спокойно распахнул дверь и вошел внутрь. Комнату заливал свет из огромного окна справа, только было душновато. Главным предметом мебели был пустой старый стенной шкаф из темного дерева. Кроме того, там стояли кровать без матраса – собственно говоря, только остов кровати, под которым спрятаться было невозможно, – и комод. На подоконнике и на полу валялось огромное количество трупиков пилильщиков и один снулый, и я его раздавил, причем с огромным наслаждением. Я подергал дверь шкафа, но он был заперт, комод тоже оказался закрытым. Где-то что-то тихо шуршало, только я не смог определить где, но стоящим снаружи я этого не сообщил, лишь предложил первым делом проверить, что в ящиках.
Дядя Олдис повернулся к Мэри. «Миссис Мейпл», – произнес он, и Мэри умчалась – никто, по моему мнению, не ступает, как она, – и вскоре вернулась более спокойной походкой в сопровождении пожилой леди со сдержанным выражением лица.
– У вас есть ключи от этих штук, миссис Мейпл? – спросил дядя Олдис.
Этот ничем не примечательный вопрос вызвал поток (не бурный, но полноводный) слов. Если бы миссис Мейпл стояла двумя ступеньками выше на социальной лестнице, она смогла бы послужить образцом для мисс Бейтс.
– Ах, доктор, и вы, мисс, и вы также, сэр, – воскликнула она, дав понять поклоном в мою сторону, что ей известно моем присутствии. – Эти ключи! Кто явился сюда, когда мы впервые доставили мебель в этот дом, джентльмен по делу, и я угостила его завтраком в маленькой комнатке, потому что большая еще не выглядела так, как бы нам хотелось ее видеть, – цыпленок, яблочный пирог и стакан мадеры… Боже, боже, вы сейчас скажете, мисс Мэри, что я болтаю, но я упоминаю об этом только для того, чтобы лучше вспомнить, и он пришел… Гарднер, снова, как и на прошлой неделе, с артишоками и лососиной. И этот мистер Гарднер дал мне все ключи с этикетками, и каждый из этих ключей был от какой-нибудь двери в доме, от некоторых было даже по два; и когда я произношу «дверь», я имею в виду дверь от комнаты, а не от какого-то там шкафа. Да, мисс Мэри, я все хорошо знаю, просто я хочу, чтобы все было понятно вам, сэр, еще был ящичек, который тот же самый джентльмен выдал мне под мою ответственность, и, когда он ушел, я позволила себе – ничего дурного я в этом не видела – потрясти его; если я не обманываюсь, то там лежат ключи, но что за ключи, доктор, кто знает, так как ящичек я открывать не стала.