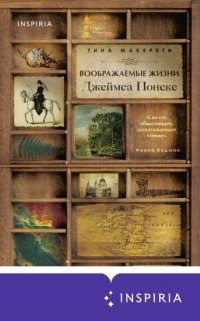
Читать онлайн Воображаемые жизни Джеймса Понеке бесплатно
- Все книги автора: Тина Макерети
Copyright © Tina Makereti 2018
© Нуянзина М., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022
* * *
Посвящается Лорри
«Он так хорошо говорит по-английски, что поначалу мы приняли его за английского мальчика, наряженного в костюм дикаря, самозванца с маскарада. Однако мы ошибались. Он читает и пишет по-английски так же хорошо, как любой его сверстник, и ему особенно нравится шутить. По правде говоря, нам встречалось много мальчиков-англичан, которые были намного глупее и невежественнее этого представителя жителей Новой Зеландии».
– «Дейли ньюс», Лондон, 6 апреля 1846 года
«Однако, возможно, быть зрелищем вовсе не плохо. Возможно, это то, чем тебе нужно довольствоваться, когда единственная твоя защита – это занятный рассказ. Возможно, зрелище – это рассказ о выживании».
– «Правда о рассказах», Томас Кинг
Слушай, чудо грядущего. Ты, мой потомок, далекая перспектива. Знаю, ты погружен в собственные заботы, но выслушай меня. За свою короткую жизнь я видел столько чудес, вещей, которых и вообразить не мог, и вынес столько же боли. Здесь, в этом месте и в это время, я представляю собой только то, что могу создать, что могу представить. Почему бы мне не оставить тебе послание, а тебе не получить его? Знаю, ты пользуешься механизмами, недоступными моему воображению, потому что даже в мое время существуют механизмы, которых я когда-то и представить не мог. Поэтому подумай сейчас обо мне, как я о тебе думаю. Возможно, в тебе смешались все те народы, которые я повидал. Возможно, ты – нечто совершенно новое. Ты великолепен, я это чувствую. Мне ничто не запрещает думать, что на тебе одеяние, сотканное из крылышек насекомых, и что ты питаешься энергией солнца. Ты – величайший плод моего воображения. Так слушай.
У меня есть для тебя рассказ. Когда ты будешь его читать, тебе покажется, что это рассказ обо мне, но чем дальше я пишу, тем больше думаю, что он вовсе не о моей жизни и даже не о моем времени. Мистер Антробус так часто рассказывал мне о прогрессе и эмансипации, и об эволюции человечества, но тоненький голосок у меня внутри сомневался, что вдруг прогресс – это иллюзия, подобная прочим великолепным иллюзиям Империи, которые я в равной степени полюбил и возненавидел? Что, если, в конце концов, единственное, что существует на самом деле, – это представление и цена за билет? Нет. Позволь проводить тебя за кулисы.
Прошу у тебя прощения. Меня одолевает усталость, я отвлекаюсь и пишу непонятности. Час поздний. Свеча догорает. Завтра я узнаю, что меня ждет – встреча с друзьями или корабль домой. Но сначала я должен рассказать тебе свою историю. Мое будущее, мой потомок, мой mokopuna[1]. Слушай.
Глава 1
Мне еще не исполнилось семнадцать лет, но мне уже приходит в голову, что я, похоже, умираю. Конечно же, они мне этого не говорят, но я могу прочесть это в многочисленных проявлениях их доброты и в том, как они переглядываются, стоит мне заговорить о будущем. Возможно, подтверждение тут излишне, потому что я уж точно не мог бы видеть по ночам все то, что вижу, если бы надо мной не висела тень смерти. Поэтому, когда они приходят ко мне и расспрашивают о моей жизни, я рассказываю все. Что мне еще осталось? Тогда я не ощущаю увечности собственного тела. Я ощущаю только увечность мира.
Отсюда, из тени, мне виден кусок лондонского неба и бесчисленные крыши домов. Занавеска тонкая, и я попросил мисс Херринг отдернуть ее, потому что моя комната находится чересчур высоко, и в эти долгие часы небо – моя единственная компания. По ночам я вижу жука, медленно и упорно ползущего между трещинами. А потом я чувствую запах города: черный дым, вездесущая вонь мочи и пота, сладость вялящегося на крюках мяса и фруктов, горами наваленных на складах в ожидании утра, его медленное гниение. И мое собственное. Улица ждет, жук ползет, ножка за ножкой, вниз по кирпичной кладке стены. Со своего места мне видно все: каждая трещинка в известковом растворе, угольная пыль на стене, город Лондон как на ладони – огни, мерцающие вдоль Темзы и переходящие в широкую панораму, прекраснее даже, чем виды Колизея[2]. Мне бы хотелось сказать, что воздух здесь свеж, но увы, это смесь смрада, дыма и тумана, в которой тают нарядные огоньки. Но я люблю его, люблю этот мрачный и мерзкий город, пусть даже мое благоговение соседствует с ужасом. Это место, где живут мечты.
Иногда я слежу глазами за мотыльком, одолевающим воздушные волны подобно кораблю, ловящему течения, возникшие в незапамятные времена, – как его сбивает в сторону воздушный поток от проезжающего мимо кэба и горячее дыхание из ноздрей мерина. Луна здесь другая – не чистый и прозрачный ручей, а широкая заиленная река. И все же она дарит свет, чтобы я смог разглядеть проходящие мимо лица. И да, это причиняет мне боль, потому что каждое из этих лиц мне знакомо, и я не знаю, жив его обладатель или мертв. Я вижу всех дам и господ с улиц Лондона и тех, кто обретается в Порт-Николсоне[3]. Хуже всего, когда я вижу татуированное лицо или слышу музыку играющего в саду оркестра, вижу крикливо одетые пары, танцующие по кругу, призрак зрелищ, наполняющих воздух иллюзиями: игры света, механические чудеса, восковые фигуры с чертами тех, кого я знавал лишь в первые несколько лет своей жизни. До того как я оказался прикован к постели, я не мог вспомнить даже лицо своей матери, а теперь вижу ее каждую ночь, словно танцовщицу, оживленную музыкальной шкатулкой. А еще акробатов и своих друзей по карточному столу. Мужчин-воинов и женщин из мрачных воспоминаний своего детства, прежде чем я узнал о мире книг и кораблей. Своих товарищей-матросов, тех, кого я любил и кого страшился. Они не говорят ни слова, мои друзья, враги и возлюбленные, но я знаю, что они ждут, знаю, что улицы внизу заполнены ими, даже когда час становится совсем поздним и всем порядочным людям пора укладываться в постель.
Каждую ночь я словно прохожу сквозь все старые битвы, пока не доберусь до него, и хотя мне неведомо, ходит ли он еще по твердой земле, я всегда его нахожу. Билли Нептун даже теперь широко улыбается и готов на шалости. Он единственный меня видит.
– Хеми, дружище, – кличет он, – возвращайся в постель! Зачем шляться среди уличных отбросов? И я не грязь под ногами имею в виду, заметь, а людей нашего сорта! – Он тут же заходится своим коротким, раскатистым хохотом, звук которого разбивается у меня в груди, словно яйцо, истекающее теплым желтком.
«Каково тебе там?» – каждую ночь спрашиваю я его, или: «Как ты поживаешь?» Но он не отвечает.
– Ах, Хеми, – говорит он. – Хорошо мы с тобой позабавились, а, мой добрый друг? Хорошо позабавились. – И продолжает свой путь, а я продолжаю свой, кружа в мирской суете.
* * *
Мне кажется, что в последние несколько ночей я забредал дальше обычного, и сегодня утром мисс Херринг отметила, что я выгляжу более утомленным, чем накануне, когда я казался ей более утомленным, чем позавчера.
– Вам все никак не лучше, мистер Понеке? Попросить мисс Ангус снова послать за доктором?
Доктор осматривал меня уже трижды, но хоть он и врачует мое тело, боюсь, у него нет лекарства от того, что меня снедает.
– Нет, все в порядке, спасибо, мисс Херринг. Разве что я, кажется, не сплю вовсе, а вместо этого ночь напролет странствую по миру своего воображения. Он кажется таким же настоящим, как то, что вы сейчас стоите передо мной.
Горничная покачала головой и улыбнулась, как всегда улыбается, когда я называю ее по имени, потому что я единственный, кто обращается к ней столь церемонно, и никто так и не смог найти способа исправить эту мою привычку.
– Мистер Понеке, полагаю, в своих странствиях вы добрались до самого края света. И у вас должно быть много воспоминаний о таких приключениях, о каких в обычной жизни и помыслить нельзя. – Напевая себе под нос, горничная направилась к камину, чтобы выгрести золу и заново разжечь огонь. Полагаю, мы с мисс Херринг пользуемся в общении друг с другом необычной открытостью, каковой она точно не стала бы проявлять с обладателями статуса хозяев дома. Но я не хозяин, и мое положение в доме всегда было особым, и я чрезвычайно нуждаюсь в дружеском общении, проводя столько времени в одиночестве, лежа в постели.
– Я выхожу в ночную тьму, и меня окружают призраки.
При этом заявлении мисс Херринг резко вздохнула и принялась громко возмущаться, и вышла вон, едва завидев мисс Ангус с супом, который та приносит мне каждый день. Мисс Ангус справилась о моем здоровье, и я повторил то, что уже сказал горничной, опустив упоминание о призраках.
– Иной раз мне кажется, что, если бы я нашел способ рассказать свою историю, она перестала бы меня так преследовать. Как думаете, мисс Ангус?
– Ну такой способ скоротать время ничуть не хуже остальных. – Мисс Ангус с шитьем в руках села в кресло, которое поставила у окна как раз для этой цели. Она бесконечно терпелива со мной, бесконечно внимательна. Лежа в удобной комнате, легко говорить. Что я и сделал, рассказав, как три ночи назад начал покидать Лондон своей мечты. «Городские тени слишком меня утомили», – сказал я, думая о своих собственных призраках. Вместо того чтобы бродить, как обычно, я поспешил на пристань, поднялся на корабль и расхаживал среди матросов, пока те работали. Я не сказал ей, что на том корабле меня нашли все мои призраки, что я просто-напросто привел их с собой. Эти команды из моей прошлой жизни понесли меня через океаны, быстрее, чем до сих пор, пока мы снова не оказались на Барбадосе.
С тех пор каждый раз, когда мисс Ангус приходила меня навестить, я рассказывал ей о путешествии, в котором побывал прошлой ночью. Иногда мы оставались на борту или снова кружились среди обломков «Перпетуи»; иногда мы возвращались в те дни, когда я блуждал по Новой Зеландии. Несмотря на то что, пока я говорил, мисс Ангус ни на секунду не оторвалась от шитья, она испытывала видимое умиротворение и даже удовольствие от моих глупых историй.
После недели подобных приключений я стал бояться, что своими россказнями о странствиях по свету совсем сбил мисс Ангус с толку. Излагая их, я не придерживался какого-либо порядка – в сказках его обычно не бывает, к тому же в моем обездвиженном существовании мне трудно совладать с памятью. Пока моя жизнь тянется так медленно и причиняет такую боль, а весь мир сжался до этой постели, четырех стен и окна, время ведет свою игру. Я не могу встать, даже чтобы справить нужду, поэтому вся благопристойность летит за окно вместе с разумом, хотя я нахожу, что проговаривание воспоминаний в какой-то мере смягчает мои видения. Иногда мисс Ангус хмурится и спрашивает, где находится тот или иной остров, что я подразумеваю под словом на незнакомом ей языке или морским выражением. Хотя, боюсь, мои уточнения для нее бесполезны. Она никогда не бывала на другом берегу Темзы, у нее нет собственных впечатлений о мире за пределами центра Лондона. Возможно, самым чудным местом для нее оказалась бы моя родина, где – в то время, когда я ее покинул – не было ни высоких зданий, ни поездов, ни выставочных залов или галерей, ни дворцов, разве что редкая газета или экипаж. Я был всего лишь мальчишкой, полудиким и совершенно потерянным, и мир вокруг был лесом, не размеченным на карте. Я знал, что существует торговля и корабли – конечно же, такие вещи были мне известны, – но я не мог представить себе мир, который практически целиком состоит из таких вещей.
Мое самое раннее воспоминание – это сплошная зелень вокруг, сваленные в огромную кучу листья, рядом работает мать, и еще больше зелени, стоит мне поднять взгляд. Я вижу широкий зонт дерева ponga, и нас окружают его многочисленные братья и сестры. Все в брызгах света, пробивающегося сквозь разрывы в навесе из древесных крон. Мать разминает формиум[4] до тех пор, пока тот не станет мягким, а затем переплетает листья друг с другом. Не могу сказать, что она плетет в тот день. Мать часто плела wariki – циновки, которыми мы выстилали полы в домах и на которых спали. Или kete[5] – плести их было быстро и просто, и они были прочные, – чтобы складывать в них еду или переносить домашний скарб. Долгими зимами плели накидки – мне это запомнилось, потому что волокна muka[6] были такими мягкими, а мать не разрешала мне их трогать, хотя сколько угодно позволяла играть с широкими зелеными листьями до того, как из них вычесывали мягкие пряди.
Нет, в тот день это точно была kete, что-то простое и легкое. Было тепло, потому что я не помню, чтобы наши движения сковывала какая-нибудь одежда или накидки. И все же от подлеска шел запах влажной земли и преющих листьев, запах, говорящий не о разложении, а о новой поросли. Я играл, подражая матери, поднимал листья и складывал их друг с другом, хотя у меня они тут же распадались обратно вместо того, чтобы остаться единым целым, как у нее. Даже Ну, моя сестра, пыталась мне помочь, но у меня на уме была просто игра, а не конкретная цель, поэтому мои неудачи доставляли мне такое же удовольствие. Когда я забредал далеко, Ну бежала за мной, резко окликая, и отчитывала, если я не слишком торопился обратно. Когда я устраивался на одном месте, она пыталась работать над собственным плетением. Иногда вниз слетались попугаи kaka, чтобы схватить что-нибудь из обрывков наших забав. Иногда птички tui поливали нас трелями, как певцы в опере. Мы разговаривали с ними, словно знали их язык. Может, так оно и было. Это был наш мир. Мы слушали и пытались отвечать, и сестра развлекала меня своим подражательством, пока мать работала.
Не знаю, сколько лет мне тогда было, вряд ли больше четырех или пяти. Для меня все вокруг было зрелищем, звуком и запахом, и земляные черви под ногами вызывали такой же интерес, как роскошная листва над головой. Лесной сор, гниль, жизнь во всех ее проявлениях. Восхитительная гибкость и прыгучесть моего детского тела. Наши простые развлечения. Иногда мы забредали подальше, чтобы поиграть с другими детьми, пока наши матери работали вместе. Ну была моей постоянной спутницей; сейчас я уже не смогу сказать вам ее полное имя. Если я был голоден, она находила мне что-нибудь поесть – оставшейся с вечера сушеной рыбы или мяса, или черенок папоротника, чтобы пожевать. Она никогда не выпускала меня из виду.
Все это запомнилось мне, потому что случившееся потом было совершенно внезапным и предварялось странным оцепенением. Сначала замолкли птицы. Ну раскачивалась на ветке дерева, нависавшего над ручьем, рядом с которым нам нравилось играть. Мы, детвора, гурьбой переходили через него, и как-то сестре вздумалось сделать это, не касаясь воды. Я попытался повторить ее трюк, но шлепнулся на берег и притворился, что рад просто смотреть, как она раскачивается у меня над головой, будто задевая за самые макушки деревьев. Я всегда смотрел на сестру снизу вверх.
Сначала мы не поняли, что вдруг изменилось. Мы вели себя достаточно шумно, чтобы наши матери могли нас слышать, и звук тишины накрывал нас медленно, проглатывая наши голоса один за другим, пока мы тоже не замолкли, навострив уши, прислушавшись.
Не знаю, сколько длилось то мгновение тишины, но, вспоминая о прошлом, я всегда в нем застреваю. Все очень медленно, тихо и не так, как должно было быть. Потом раздался громкий шум, резкий вскрик, расколовший безмолвие. Потом звук рванулся к нам, это кричали нам матери: «Tamariki ma! Rere atu! Бегите сейчас же!» Все случилось в один миг – я уже в охапке у матери, но где же Ну? Где была Ну, моя старшая сестра? А мать все бежала и бежала и опустила меня на землю под ветви деревьев, а потом раздались звуки врубающихся в плоть палиц и еще чего-то, резкие и такие громкие, словно это мир разрывался пополам. Меня не заметили, потому что был мал, и мой рот был наглухо забит тишиной. И никто меня не увидел, хотя мать лежала рядом и смотрела на меня в упор. Правда, она не могла меня видеть. Я понял это по тому, как она смотрела и смотрела, пока ее глаза не заволокло пеленой.
* * *
Я проснулся, когда мисс Херринг подкидывала угля в камин и суетилась по комнате так, словно огонь пылал у нее прямо под нижними юбками.
– В чем дело, мисс Херринг? – поинтересовался я, и она издала фыркающий звук, вероятно, означавший, что я что-то натворил.
– Может, мне не подобает этого говорить, – наконец произнесла она, глядя в сторону. – Но вам нужно следить за тем, что вы рассказываете мисс Ангус. Сегодня она вышла из вашей комнаты в немалом потрясении.
– В самом деле? Наверное, я увлекся. Наверное, мне не стоит слишком откровенничать.
– Конечно же, стоит, мистер Понеке, я хочу сказать, вам стоит быть откровенным. Но такие вещи не всегда подходят для нежных ушей, понимаете?
– Конечно же. Безусловно. Я больше не буду о таком говорить.
Горничная шагнула к двери, а потом обратно, развернувшись, как большой зверь в зоопарковой клетке, и ее лицо залилось краской, словно она внутренне боролась сама с собой из-за какой-то мысли.
– Прошу вас, мисс Херринг…
– Мистер Понеке. – Мисс Херринг на год или два старше меня, но разговаривает со мной, как со старшим. – Думаю, для вас будет лучше… выговориться, так сказать.
– Но вы же только что дали мне понять, что мои слова болезненны для ушей мисс Ангус.
– Возможно, она просто была не готова, или вам следовало выговариваться осторожнее. – Выражение лица мисс Херринг немного смягчилось. – Я могла бы кое-что посоветовать, если с моей стороны это не слишком дерзко.
Мисс Херринг вышла из комнаты, не дав мне ответить.
Когда мисс Ангус пришла в следующий раз, у нее с собой были бумага, чернила и свежие перья. Конечно, все это и так было у меня, пусть и в небольшом количестве, но она, видимо, специально купила новый запас. Мне предстояло выговариваться на бумаге. Так предложила мисс Херринг, и мисс Ангус согласилась. Это послужит мне упражнением, и мне будет чем занять время. С тех пор как меня привезли обратно в этот дом, я разве что руку иногда поднимал, и надо признать, что с бездельем пора было уже заканчивать.
Мисс Ангус попросила меня, когда подойдет время, иногда читать ей свои записки вслух, пока она шьет или штопает. Я предупредил ее, что это может ее шокировать. В некоторые вещи мне самому с трудом верилось и хотелось о них забыть. На это она ответила, что, когда ей было одиннадцать лет, она увидела в Египетском павильоне заспиртованную двухголовую обезьяну, а когда ей было четырнадцать – женщину, которая глотала шпаги и огонь. Хуже того, в детстве она слышала от кухарки рассказы о двух повешениях и знает, что мир полон подобных ужасов, вот почему нам следует положиться на Господа нашего, чтобы он хранил наше тело и рассудок. Кроме того, о худшем я всегда смогу умолчать, раз теперь у меня была для этого бумага.
Я не нашел подобающей отговорки, чтобы с этим поспорить.
* * *
Я буду писать для тебя, мое будущее, и иногда я буду писать для тех, кто сейчас обо мне заботится, и иногда для тех, кого с нами уже нет. Если я всегда буду писать только для мисс Ангус, то придется изображать все пристойным и благостным, как она сама, но моя жизнь никогда не была такой. Когда я буду рассказывать тебе о земле, где я родился, она наверняка покажется тебе пейзажем с картины, потому что сейчас она и мне самому такой кажется, и я не знаю, виноваты в этом картины Художника, бросающие тень на мои воспоминания, или там действительно было так красиво. Мои самые ранние воспоминания и вправду кажутся зелеными и невинными. Если в твоей жизни есть что-то подобное, это нужно хранить. Звук мушкетных выстрелов положил всему этому конец[7].
Мой отец был вождем. Когда я был малым ребенком и прятался под кустом, я этого не знал. Прошло время, и все стихло, меня уже стал донимать голод, но молчание еще хранило меня в укрытии, и тогда я услышал мужчин; они громко кричали грубыми голосами, которые тут же смягчились, когда они нашли нас.
– Михикитеао! Нуку? Хеми? Aue, hoki mai koutou![8]
Меня звали Хеми, я это знал и поэтому выглянул наружу. Как только я шевельнулся, ко мне протянулись огромные руки, обхватили за живот и подняли, от чего меня, охваченного ужасом, вырвало. Но руки передали меня мужчине, которого я знал как Папу, и он вытер меня и обнял. «Taku tama, – сказал он. – Taku potiki»[9]. И я понял, что это были мои ласковые имена. Мужчина, который принес меня, показал отцу, где лежала мать, и отец прижал меня к себе и вздрогнул, не знаю, от горя или от ярости. Я так испугался, что меня снова стало рвать, но из желудка больше ничего не вышло.
Потом мы нашли Ну, и она больше не могла меня позвать, не могла больше за мной присматривать. Мужчины похоронили женщин и детей. Я стоял рядом с могилой, и по моему лицу текли сопли и слезы, затекая в рот.
Отец взял меня с собой, но я был слишком мал, чтобы поспевать за взрослыми, и наверняка слишком тяготил воинов, которым приходилось меня нести, пока они прочесывали окрестные земли в поисках убийц моих матери и сестры. Я провел с ними всего несколько дней, а потом отец нашел, с кем меня оставить. Мы вышли к белому дому, стоявшему на землях нашего племени, и отец сказал, что это миссионерский приход, и там обо мне позаботятся, и я помню, как серьезно и очень многозначительно кивнул, словно знал, что это значило. И только когда из дома вышли люди, я захлебнулся воздухом, задрожал и метнулся за ноги отца, чтобы спрятаться, потому что это были первые белые люди, которых я видел в жизни.
– Это мои друзья, Хеми, – сказал мне отец. – Они всегда были добрыми друзьями твоему отцу и тебе станут добрыми друзьями.
Я слышал отцовские слова, но не мог пошевелиться. Эти люди казались больными, казалось, что с их лиц сошла краска. Такими глазами можно было что-то видеть? Какая странная одежда – какой же формы у них тела? А где у женщин ноги? Я прижался лбом к покрытому татуировками отцовскому бедру и с опаской выглядывал из-за него. Помню, как обхватил руками ногу отца, и мне казалось, что я спрятался, хотя где-то в глубине души все равно знал, что меня видно. Я подумал, что это не имело значения, он будет меня защищать всегда-всегда, но ноги отца продолжали двигаться, и я больше не мог оставаться под их прикрытием. Отец вытолкнул меня вперед.
– Здесь ты будешь в безопасности, taku tama. Если я оставлю тебя с нашим народом, кто знает, что с тобой может случиться. Люди из Миссии не участвуют в нашей войне. Они несут нам мир, Иисуса Христа и всякие чудеса. Посмотри, какая корова! Посмотри, какая маслобойка! Здесь ты будешь учиться, а когда все закончится, я за тобой вернусь.
Тогда я не знал, что такое «корова» или «маслобойка». Представляешь? Но отец указал на большое животное на четырех ногах, как у kuri[10], и хотя оно было ужасающего размера и с острыми на вид наростами на голове, у него были самые ласковые и большие глаза, какие я когда-нибудь видел. Я не узнал, что такое маслобойка, но на один день мне вполне хватило новых впечатлений в виде белых людей и коров. У меня не было никакого намерения знакомиться с кем-то из них поближе.
Я был маленьким полуголым ребенком, и леди из Миссии было нетрудно взять меня за руку, а отцу со своими воинами – тут же уйти прочь, и мир показался мне пустым, как никогда раньше. Куда делись деревья? Куда делись птицы? Пространство вокруг дома было расчищено, хотя за его пределами стеной высился лес. Итак, это был мой новый дом, и я слишком устал, чтобы сопротивляться этому после ухода Папы. Меня увели, вымыли и нарядили в одежду белых людей. Мне никогда в жизни не было так неудобно – все жало, давило и чесало. Неделю за неделей я уходил от дома так далеко, как только мог, и, когда меня находили, моя одежда была наполовину содрана и болталась вокруг бедер. Но одежда белых людей была слишком замысловато устроена, чтобы я смог полностью от нее избавиться, а потом я к ней просто привык.
* * *
В дальнейшем отец навещал меня при любой удобной возможности, а такая выпадала нечасто. Он был моим солнцем. Его прибытие означало для меня восхитительный перерыв в скучной монотонности миссионерского уклада. Но каждый раз, как я видел его, я думал о матери, как она смотрела на меня невидящим взглядом, и о милой сестре, которой больше не было рядом, чтобы за мной присматривать, и передо мной словно разверзалась черная пропасть, и я едва удерживался на краю. Наверное, я страшился отца и тех чувств, которые он пробуждал своим появлением, хотя и жаждал блестящего очарования его общества. Потому что мой отец был из тех, кто будоражил воображение. Он умел произвести впечатление – и величавостью фигуры, и чем-то еще. Погружаться в теплую глубину его голоса, когда он называл меня ласковыми словами, было все равно что слушать, как ночь беседует с днем. Знаю, остальных тоже тянуло к нему, хотя миссионеры изо всех сил старались держаться на благочестивом расстоянии. Перед его прибытием всю Миссию будоражило – каждый из нас жаждал увидеть его первым или услышать рассказы о его самых последних сражениях с врагами. И конечно, мне во всем этом отводилась почетная роль, потому что я был единственным, кто мог приближаться к этому великому человеку и прикасаться к нему.
Иногда отец приходил разделить трапезу с пастором и послушать проповедь, но он никогда не заходил в белый дом. Теперь мне понятно, каким он был важным человеком, потому что пастор выходил встретить его и садился рядом, даже на голую землю. Я усаживался к отцу на колени и водил пальцем по линиям татуировок на его ногах, пока не стал слишком взрослым для таких интимностей. Отец нежничал со мной и не шлепал даже тогда, когда я дергал за волоски и заставлял его морщиться. Но лицо его трогать было нельзя. Даже я это знал. Борозды moko[11] притягивали мое любопытство, и отец рассказал мне, что в этих рисунках жили мои предки, что каждая линия и изгиб рассказывали историю нашей whakapapa[12] и что это было наше самое священное знание, которое записано на его лице, записано в его плоти и крови чернилами нашей земли. Как ты баловал меня, Папа, и как я тебя подвел, потому что я больше не могу пересказать ту родословную и не заслужил права носить ее на себе. Я оказался так далеко от нашей whakapapa, хотя знаю, ты сказал бы, что она течет у меня в жилах, подобно тому, как море течет по Земле, и, где бы я ни странствовал, никакое расстояние не могло заставить меня перестать быть тем, что я есть. Знаю, ты бы сказал именно так, хотя не знаю, как мне заставить себя в это поверить.
Может быть, ты простишь глупого мальчишку, которым я был из-за своих страхов и неуверенности в себе. Я расплачиваюсь за них всякий раз, когда думаю о тебе. Когда я насыщался сидением у тебя на коленях, я убегал играть с другими миссионерскими детьми в счастливой уверенности, что ты вернешься, снова и снова. Тогда я не был настоящим сиротой, как остальные. Тебе нужно было обсуждать всякие серьезные вещи с другими взрослыми, и это навевало на меня скуку, но с твоим появлением в доме начиналась суматоха, и мы, дети, этим пользовались. Отсидев службу, мы ухитрялись увильнуть от ежедневной работы, пока готовился обед. Будет чем заняться потом. А пока же мы бегали в догонялки, сражались на палках и разыгрывали сценки. В большинстве случаев мне доставалась роль вождя, потому что я был единственным, у кого был жив хотя бы один из родителей, к тому же такой внушительный. Но иногда Маата Кохине решала, что главной будет она: у нее было больше естественной харизмы, чем у меня, к тому же она была сильнее.
Я изучал и другое писание, и оно было единственным, что увлекало меня так же, как твои moko, Папа. Ты тоже проявлял к нему немалый интерес, но мне оно давалось очень легко, и у меня не было груза других обязанностей, лежавших на тебе. Из-за них ты приходил не так часто, как мне хотелось бы, и межплеменные битвы заставляли тебя постоянно переходить с места на место. Я ничего не понимал в твоем мире, кроме того, что ты хотел держать меня от него подальше, в безопасности. И тебе было радостно видеть мою любовь к Библии, к Миру и к умению управляться с пером. Ты называл все это орудиями, которые помогут нашему народу сохранить силу в этом непознанном новом мире. Теперь мне кажется, что иногда ты говорил это со смесью восхищения и ужаса. Мне хорошо знакомо это чувство, особенно здесь, в Лондоне. Возможно, оно было знакомо мне уже тогда, потому что хотя восхищение и сильно перевешивало, мои чувства к тебе балансировали на тех же весах. Ты был великим человеком. Ты был страшным человеком. Твой голос говорил мне, что ты был нежным человеком. Ты был моим солнцем. А потом ты больше не пришел. Если бы я знал, я бы никогда не слез с твоих колен, никогда не оторвал бы пальцев от твоих moko.
Глава 2
Когда пришла весть о смерти отца, мне было лет восемь или девять. Мне не рассказали ничего, кроме того, что он был убит в битве и съеден своими врагами-каннибалами. И тогда пропасть снова разверзлась, только теперь она никуда не исчезла, и я был на дне, а не танцевал на краю. Я не видел и не чувствовал выхода из этой дыры. Оглядываясь назад, я вижу, что был тогда слишком неопытен, чтобы понять, что со мной происходит. Я знал лишь, что хотя Миссия по-прежнему давала мне еду и питье и Библию, для меня все это стало безвкусным. Даже когда время траура по всем меркам уже истекло, мир оставался для меня безжизненным, но я не задумывался почему.
Вероятно, в результате случившегося мне следовало стать вождем, но вождем кого? Те члены нашего племени, кто остался в живых, разбрелись кто куда или заключили новые союзы. На наших землях никто уже давно не видал мира. Возвращаться мне было некуда, и я был невежей, больше знавшим про Библию, чем про свой собственный народ. Пастор щедро использовал этот пример в своих проповедях, увещевая нас отвернуться от образа жизни предков и следовать Слову Господа, Мира и Радости, и Христианской веры. Но он не мог отобрать у меня язык, который уже проник мне под кожу. Нет, на мне не было спиралевидных рисунков, украшавших отца, но я уверен, что в моих жилах текут те же чернила.
После смерти отца Пастор также молился, чтобы его взял к себе Господь Бог. Он заявил, что, хотя нам не дано полностью постичь пути Господни и хотя мы правильно делали, что скорбели, благодаря смерти наших родителей спасение стало для нас возможным. Потому что каждый раз, как погибает язычник, его дети принимаются в лоно Миссии и осеняются благодатью Спасителя. Я жил в Миссии уже несколько лет и знал английский язык лучше родного, и любил Иисуса Христа так же, как любой из нас. Я был лучшим учеником, не потому что был умнее остальных, а потому что любил Библию так же, как сказки, которые рассказывали мне сестра, мать или отец. Какие еще истории могли больше распалить мальчишеское воображение, чем поединок Давида с великаном Голиафом, или множество чудных тварей из Ноева ковчега, спасенных от потопа, или Даниил с его отважным укрощением львов? Хотя что такое львы и где находился Иерусалим, оставалось загадкой. На фоне волшебных историй про Иисуса Христа, который мог создать столько хлеба и рыбы, чтобы накормить всех собравшихся, эти детали не имели значения. Какие чудесные способности, и всеми обладал один-единственный человек! Пустил ли я Его в свое сердце? Если это означало признать его силу, то, конечно, впустил. Прости меня за мое святотатство, но ты поймешь, что для нас, детей, Христос был волшебником, властелином чудес и магии.
Но теперь мне пришло в голову, что в проповедях Пастора было нечто такое, что мне не нравилось. Благодаря ему я стал считать, что Господь был причиной моего горя. Если бы отец не привел меня в это место, был бы он еще жив? Неужели этот Бог был таким жадным, что ему нужно было погубить всю мою семью, чтобы меня присвоить?
Я был гордым мальчиком, гордым тем, что был сыном великого вождя, и тем уважением, которое ему оказывали даже взрослые миссионеры. Наверное, я думал, что однажды встану рядом с ним, и буду сражаться бок о бок с ним, и вернусь к образу жизни предков, вооруженный всеми знаниями, полученными от пришлых людей. Наверное, это был единственный путь, который я для себя видел. Я начал драться с другими мальчиками, исправно поставляя фингалы и разбитые носы по малосущественным поводам или совсем без оных. Жена Пастора и ее племянница, которые вели большинство уроков и присматривали за нами, больше не могли со мной справиться. Они нагружали меня работой по дому и заставляли часами просиживать в углу, отвернувшись от других детей. В конце концов они принялись меня бить, хотя мое непослушание от этого только возросло, пока однажды я не схватил ту самую палку, которой меня охаживали, и не попробовал попасть по руке жены Пастора. Конечно же, я промахнулся и вместо этого попал по ее пышным юбкам, но это не помешало ей истерично завопить от ужаса. Она спросила, почему я так себя вел, ведь все, чего от меня хотели, – это наставить на путь истинный, дабы я стал образцовым юношей. Но я не был юношей, я был всего лишь безутешным мальчиком, и никакие наставления уже не могли побороть мое безразличие к чему бы то ни было, и меньше всего к глупым правилам. Пастор – человек мягкий, несмотря на резкие проповеди, – был вынужден принять меры.
А меры эти сводились к порке тростью и новым проповедям, в которых он увещевал меня взяться за ум ради спасения моей души. Какое-то время я ему противился – несколько недель или даже месяцев. Я перестал читать, писать и заниматься арифметикой, и это отняло у меня остатки того, что приносило мне радость. Я больше не понимал, какой мне был прок от Миссии. Я не знал, чего искать во внешнем мире, но знал, чего мне не хватало там, где я находился. Если я хоть немного стоил отца и матери, если я хоть на что-нибудь годился, я мог выжить в лесу, ведь я был уже не маленький. Мне следует вернуться туда и найти людей из своего племени или, по крайней мере, таких, как они. Мне казалось, что я кое-что знаю о мире, но на самом деле я ничего не знал.
Сомневаюсь, что мое ночное исчезновение стало для кого-то сюрпризом. Так или иначе, что-то должно было случиться. Я должен был либо вернуться к своей прежней мирной и прилежной личине, либо стать дикарем, которого я с таким рвением в себе пробуждал. Не знаю, искали меня или нет. Я ускользнул, когда все должны были уже спать, поэтому до утра моего отсутствия никто не заметил. У меня была теплая постель, хорошая еда и ученье среди честных людей, и вряд ли в те времена многие из моих соплеменников могли похвастаться тем же. Но я считал, что лучше знаю, что делать, что смогу стать кем-то во имя своего отца. Мне не приходило в голову, что он привел меня туда не просто так, что я уже находился в том месте, которое могло дать возможность кем-то стать.
О том времени я помню только то, что был глубоко несчастен и что горе лишило меня способности к здравомыслию. А потом наступило долгое время голода и скитаний. Я прихватил с собой котомку еды, которая должна была пригодиться, пока я не найду людей и какую-нибудь работу. Полагаю, я воображал, что вернусь к своему разрозненному племени и вновь соберу его под своим именем. Мальчишеская фантазия. Я решил идти в одном направлении, делая отметки на стволах деревьев, поближе к земле, пока не найду какое-нибудь поселение или дорогу. Я еще помнил, какие лесные растения и коренья были пригодны в пищу, но не знал, как ловить птиц в силки, и не имел оружия для охоты.
Голод – это острозубая мурена в животе. Стоит ей там поселиться, как ты больше не можешь ни думать о чем-то другом, ни чувствовать что-то другое. Над моими воспоминаниями о том времени довлеет голод. Наверняка одиночество, страх, печаль были со мной изо дня в день, но мне помнится только тот ужасный голод, пересиливавший все остальное, как лихорадка.
* * *
Я насчитал пять дней и шесть ночей, прежде чем нашел что-то похожее на деревню и больше, чем побег папоротника, сочный молодой лист в центре раскидистого куста. Столь скудное пропитание для мальчишки на столь долгое время. Мне казалось, что вот-вот начну сходить с ума от потребности снова увидеть доброжелательные лица и завести настоящий разговор вместо бессвязного и жалостного бормотания себе под нос. Я все время был слишком замерзшим, слишком уставшим или слишком грязным. Мне хотелось играть. Мне хотелось есть. Мне хотелось лечь в постель. Мне было почти все равно, как все это получить.
Почти. Тогда Новая Зеландия была дикой страной. Осмелюсь предположить, что она по-прежнему дикая, хотя до меня доходят слухи, что день за днем наши земли и народ все больше подчиняются влиянию Британии, что леса вырубаются и цивилизация строится из бревен за неимением кирпича.
Даже если мальчик еще не достиг десятилетнего возраста, он уже понимает, как опасно бродить по миру свободным и беззащитным, даже если не может перечислить эти опасности поименно. Конечно же, многие из них связаны с людьми. Можно пропасть там, где рассчитывал обрести спасение. К тому времени я уже осознал, что побег из Миссии был ошибкой. Поэтому пока я направлялся к поселку, состоявшему из дюжины времянок, в беспорядке настроенных вокруг торговой лавки, наполовину представлявшей собой просто навес, и трактира, который был полной развалюхой, голод толкал меня вперед, а страх тянул назад. Я шагал ровно и уверенно, и с каждым шагом во мне крепла решимость вести себя под стать этим уверенным шагам, чтобы показаться перед жителями поселка не убогим попрошайкой, а во всеоружии напускной храбрости и остроумия. Я думал о тебе, Папа, о твоей храбрости и великой силе. У меня не было ни того ни другого, но я молился о том, чтобы меня наполнило твое мужество. Тогда я уже знал, что быстрее всех однокашников управлялся с пером, что мне не составляло труда их рассмешить и что в остатках моей прежней личины было что-то от развлекателя. Я заставлю этих людей смеяться и петь, и позабыть свои горести (потому что я уже знал, что они есть у всех нас), и взамен они, может быть, накормят меня и предложат мне теплый угол.
Как я скучаю по тому самонадеянному юнцу! Дойдя до деревни, я принялся вышагивать с таким апломбом, выкатив вперед распираемую от самоуверенности грудь, что люди прыскали со смеху от одного моего вида. Своей первой целью я выбрал трактир, где было несколько мужчин и две женщины. Когда я вошел, все они с любопытством посмотрели на меня.
– Добрый день! – воскликнул я и глубоко поклонился. – Хеми к вашим услугам. Песни пою, письма пишу, сказки рассказываю! Могу рассказать такие, от которых у вас польются слезы. Волосы у вас на затылках не просто встанут дыбом – они выпадут! А еще я рассмешу вас до колик.
Трактирщица воззрилась на меня из-за деревянных ящиков, служивших барной стойкой.
– Глядите-ка, кто здесь – черный пацаненок с гнездом на голове, который выражается, как напыщенный нахал.
– Черный? Нет, всего лишь светло-коричневый, как огромная totara[13], что растет в лесу. Предложите мне ванну, и тут же увидите мой истинный цвет, а мое гнездо, если его распутать, превратится в кудри, которым позавидуют многие прекрасные девы.
– Вот нахаленок. Напрашиваешься на ванну у Эмили Дженкинс, а? Если она особенно постарается, с тебя шиллинг, – это сказал грузный усатый мужчина, которому приходилось пригибаться, чтобы не упереться головой в потолок.
– Эй, Джон Лоу, помолчи-ка. Если он и вправду настолько талантлив, как заявляет, черный пацаненок может сам заработать себе и на ванну, и на еду.
Мне уже удалось их зацепить своей смекалкой и напускной храбростью, но я понятия не имел, что делать дальше, поэтому залез на стул и принялся горланить песню, которую выучил у Мааты Кохины, чей отец был китобоем. Мы тайно распевали ее на игровой площадке, иногда просто бубня себе под нос. По сравнению с протяжными гимнами, которые нам полагалось петь по воскресеньям, ее разухабистый веселый мотив казался нечестивым. Он вкусно драл нам языки.
- Mr Willsher sold to ‘Bloody Jack’
- Two hundred of flour tied in a sack
- And a Maori carried it all on his back
- On the beautiful coast of New Zealand[14].
Под конец я увидел, что завладел всеобщим вниманием, но одной короткой песенки для полного впечатления было мало, поэтому я затянул другую. В тот день я благословлял Маату и ее острый язык.
- Come all you tonguers and land-loving lubbers
- Here’s a job cutting-in, and boiling down blubbers
- A job for the youngster or old and ailing
- The agent will grab any man for shore whaling
- I am paid in soap and sugar and rum
- For cutting in whale and boiling down tongue
- The agent’s fee makes my blood so to boil!
- I’ll push him in a hot pot of oil![15]
Сейчас мне не верится в собственное бесстрашие, но под пение я притопывал ногами и размахивал руками, а потом спрыгнул со стула и принялся танцевать по кругу, согнув руку в локте, словно раскручивая в танце невидимую партнершу. Тогда миссис Дженкинс продела руку мне под локоть, и мы кружились вместе, пока я не выдохся, и кружить нас не пришлось ей. У меня перед глазами все плыло, и кружилась голова, но широкие улыбки зрителей и рука, протянутая, чтобы помочь мне встать, убедили меня в успехе.
– Хозяйка, дай мальчишке супа с хлебом. Если он и вправду умеет писать, то пригодится нам больше, чем на потеху.
Это сказал мистер Дженкинс, который ростом был намного ниже мистера Лоу и, насколько я мог судить, совершенно не имел на голове ни волос, ни даже бровей. Мистер Дженкинс был ниже даже собственной жены, хотя по его морщинам я заключил, что он несколько старше. Его глаза были цвета холодной речной глубины, и я изо всех сил старался не позволить этому холоду проникнуть в меня, пока он сверлил меня взглядом.
Пока я ел, мистер Лоу раскурил трубку и навис надо мной, попыхивая и рассматривая меня сквозь дым. Осмелюсь сказать, что ел я так быстро, что это говорило само за себя – к тому времени я больше не мог сдерживаться. У меня почти кружилась голова от восторга – предо мной была еда, горячая еда. После того как первая тарелка супа была опустошена, миссис Дженкинс налила мне еще одну, но уже без хлеба, с которым, по ее словам, на всякий случай следовало подождать до утра, а то вдруг меня станет тошнить.
– Ну, давай, Черномазый, – заявил мистер Дженкинс, когда я поел. – Расскажи нам, почему ты бродишь в одиночку, без матери, отца или брата, чтобы о тебе позаботиться.
Тут я и рассказал о смерти матери, сестры и отца – во всех подробностях, которые смог придумать, чтобы сделать рассказ красочным, впечатляющим и увлекательным. Думаю, под конец мне даже удалось выполнить обещание изменить положение волосков на шеях своих слушателей. Вряд ли моя семья стала бы возражать против того, что рассказом о них я обеспечил себе доброе отношение незнакомцев, крышу над головой и еду. Про Миссию я говорить не стал, разве что вскользь. Да, я получил там некоторое образование, но межплеменные войны чинили бедствия даже нейтральным мирным поселениям, и однажды ночью Миссия сгорела дотла, а все ее обитатели разбежались кто куда в страхе перед возможными виновниками поджога. Я же безнадежно заблудился и не смог найти дорогу обратно. На самом деле теперь, когда мой живот наполнился, я вновь обрел былое упрямство и не хотел, чтобы меня вернули к моей прежней жизни.
Под конец мое повествование снискало мне больше внимания, чем мои песни. И вероятно, больше сочувствия. Мужчины хлопали меня по спине и давали допить свое пиво, пока это не превратилось в соревнование, кто заставит меня больше выпить. Я был мальчишкой, еще не достигшим отрочества, и еще никогда не пробовал спиртного, поэтому после четвертой полпинты был вполне готов свалиться со стула. И тогда вмешалась миссис Дженкинс.
– Довольно! – скомандовала она. – Черномазый парнишка, пора спать.
Миссис Дженкинс помогла мне встать и отвела в другую лачугу позади приспособленной под трактир времянки.
– Мы спим там, а посетители здесь, – сказала она мне. – Утром устроим тебе ванну, хотя даже не знаю, стоит ли, ведь грязь здесь прет отовсюду. Она здесь просто живет, если на то пошло. – На этом она ушла, предоставив меня самому себе.
* * *
Ванна, обещанная миссис Дженкинс, оказалась жестяной лоханью холодной воды, в которую плеснули кувшин горячей, чтобы сделать ее чуть теплее ледяной. Мне не хотелось в нее лезть, но миссис Дженкинс пригрозила, что возьмется за дело сама, и я повиновался. Намылившись грубым мылом, которое она мне оставила, я вымылся так быстро, как только мог, вытерся куском тряпки и натянул ту же старую грязную одежду. Ни на новую, ни на услуги прачки я еще не заработал. Когда я вернулся в трактир, миссис Дженкинс захлопала в ладоши и принялась меня дразнить.
– Значит, ты у нас все же не черномазый? Всего лишь чуток коричневый, как шоколадная печенюшка.
После этого никто меня иначе, чем Печенюшкой, уже не называл.
Я стал как бы мальчиком на побегушках для всей деревни. Выполнял мелкие поручения, передавал сообщения, помогал полоть огороды, избавляться от мусора и паразитов. В первый же день мистер Дженкинс усадил меня за свой письменный стол и надиктовал несколько писем своим поставщикам и должникам, просто чтобы проверить, на что я способен. Подозреваю, что он начал одалживать меня в качестве подручного или писаря, хотя я никогда не видел, как ему вручали за это деньги. Мне самому доставались только горячая еда и крыша над головой, и, по моим ощущениям, это было все, что мне нужно. Я не скучал по ласке, которой и в Миссии было не густо, а миссис Дженкинс была по-своему добра. Она всегда заботилась, чтобы я отправился спать до того, как мужчины (а иногда и женщины) слишком расшумятся, и всегда заботилась о том, чтобы я был сыт.
Я скучал по детям своего возраста и по коричневым лицам, подобным моему собственному. Прозвище «Печенюшка» прилипло ко мне не просто так. Среди моих соседей маори не было, и они явно считали моих сородичей угрозой, обитавшей за южными горами. Я был первым, к кому они отнеслись с настоящей симпатией, но они приписывали мои умения обучению, полученному в Миссии, а цвет моей кожи был им просто в диковинку. В своих дальнейших путешествиях я узнал, что большинство поселений моей страны были устроены по-другому. Коричневые лица и белые запросто селились вперемешку и торговали между собой. В конце концов, маори по-прежнему оставались вождями и основными землевладельцами, и тому, кто хочет преуспеть в торговле, не пристало беспокоиться о цвете их кожи.
Разумеется, непонимание и случайные столкновения между представителями народов, говоривших на столь разных языках (и я имею в виду не только слова, вылетавшие у них изо рта), приводили к возникновению изолированных общин. Население деревни Холликросс[16], а именно так она называлась, никому не доверяло и было скорым на расправу с любым, кто, по их мнению, оказывался чужаком. Думаю, даже тогда я понимал иронию своего положения. Единственным, что меня спасло, была моя наивность, напускная храбрость и выразительный стиль письма, поскольку старина Дженкинс взял за правило обращаться к моей руке всякий раз, как у него возникала нужда продемонстрировать собеседникам по переписке свою убедительность и смекалку. Не уверен, что мою писанину можно было сравнить с тем, что написал бы секретарь постарше, но она была совершенно точно аккуратнее и доходчивее, чем корявые каракули самого Дженкинса. В общем, мне было приятно, что меня использовали в таком качестве. Я был любимцем деревни – в этом я был уверен – и находился в безопасности, лишь покуда у меня была работа.
Время, проведенное в блужданиях по лесу, закалило меня, и я понимал, что мне нужно взрослеть быстро, раз я теперь сам за себя отвечал. Старание заработать себе на пропитание, не давая воли своим детским порывам, означало, что почти все мое время было занято сиюминутными поручениями. Но я по-прежнему оставался ребенком. Одним из моих каждодневных дел было спозаранку помогать миссис Дженкинс готовить трактир к открытию: выметать накопившийся с вечера сор, мыть столы, собирать кружки, миски и приборы, заботиться о немногочисленной домашней скотине. Моей любимой работой было собирать яйца. На удивление разумные куры вскидывали головы, чтобы меня разглядеть, и тревожно извещали друг друга об очередном появлении незваного гостя, крадущего яйца. Мне нравилось их дразнить, это правда, и еще гладить, если они давались. В конце концов они привыкли ко мне и стали уделять больше внимания зерну, которое я им приносил, чем защите плодов своего труда. Но эта работа нравилась мне и сама по себе: собирать одно яйцо за другим, иногда еще теплое на ощупь, и каждое – как маленькая награда за поиски.
Там-то Эмили Дженкинс однажды меня и обнаружила: я водил пальцами по теплой скорлупе, пряча яйцо в ладонях, поднося к щеке, задавая тот же самый вопрос, что и каждый день: был ли там уже цыпленок, в самом-самом зародыше?
– А я все гадала, куда ты запропал, – сказала миссис Дженкинс, посмотрев на мои руки.
Я поднял взгляд на миссис Дженкинс, и ее глаза расширились. Она даже на шаг попятилась. Я не понял, что такого сделал.
– Я все время забываю, что ты всего лишь ребенок.
Миссис Дженкинс раскрыла широкий карман своего фартука, и я положил в него яйца.
– Когда-то я была такой же, как ты. – Она кивнула на мои руки, уже пустые. – Ласковой малышкой.
Я расправил плечи и нахмурился. Я был уже не маленьким.
– Нет. Понимаю. Ты не маленький. Но ласковый. В тебе есть нежность. У тебя очень хорошо получается ее скрывать. Такая нежность бывает в самых хороших людях. – Миссис Дженкинс опустила взгляд на собственные руки, грубые и красные, а когда подняла, в ее глазах стояли слезы.
– Миссис Дженкинс? Простите, я не хотел…
Миссис Дженкинс переменилась в лице. Кем бы ни была та женщина, что стояла передо мной минуту назад, ее больше не было.
– Не проявляй свою нежность слишком часто, Печенюшка. Другие используют это тебе во вред. Запрячь ее подальше, даже если тебе будет ее не хватать. Время на такие вещи вышло, раз и навсегда. – И миссис Дженкинс повернулась и ушла так быстро, что я не успел спросить ее, кого она имела в виду под «другими».
* * *
Так прошла добрая часть года. Миссис Дженкинс больше не показывала мне ту свою потаенную личину, но продолжала приглядывать за мной, ровно столько, чтобы со мной не случилось ничего плохого. Когда я пришел в деревню, стояла осень, и в том мрачном месте я выдержал длинную серую зиму, ледяную весну и наконец приход летнего солнца, raumati[17]. Вскоре после этого у меня появилась причина снова пуститься в путь.
Даже в самом начале лета после ужина еще долго не начинало темнеть, поэтому я проводил вечера под небом, наслаждаясь остатками дневного тепла, прежде чем отправиться в постель с узлом пожитков вместо подушки. Я понимал, что в трактире детям не место, и, хотя посетители вполне мирились с моим присутствием, было ясно, что с заходом солнца, когда распитие спиртного принимало более серьезный и ревностный оборот, мне лучше оттуда убраться. Но однажды вечером у меня оказалась компания. Это были двое пьяниц, Пити и Магуайр, которых выбросили на улицу, – наверняка за то, что они громко ругались и сквернословили и махали друг на друга кулаками, не особенно заботясь о точности попадания. С ними это бывало нередко, и я уже успел понять, что их припадков драчливости лучше избегать.
– Черт тебя дери, Магуайр, хоть раз за свою поганую, пропитую жизнь прекрати трепать языком.
– Уж я-то хоть могу себе виски позволить, ты, гора вшивого тряпья, постоянно лазаешь в мой карман, а возвращать не возвращаешь.
– Ты, Магуайр, ты меня вором назвал, что ли, ублюдок?
– Я приму это как личное оскорбление моей дорогой матушки, которая венчалась с моим отцом в церкви. Ну-ка извинись.
– Извиниться? А задницу мне не подотрешь?
Они махали кулаками и пинались, но все никак не сходились по-настоящему, чтобы друг друга угомонить. Мне это казалось довольно забавным, потому что я стоял в стороне, и они никак не могли меня задеть. Из трактира вышла еще пара зевак.
Тот человек оказался почти рядом с нами прежде, чем его успели заметить, и, думаю, именно поэтому все так перепугались. К тому времени мы уже смеялись в открытую над тем, как Пити с Магуайром пытались перещеголять друг друга самыми грязными и отвратительными ругательствами.
– Собачник!
– С собаками не бараюсь, предпочитаю твою сестру!
– Сначала от собачьего говна отплюйся.
– Ты прав, на кой мне сдалась твоя сестра, она же с тобой кувыркается.
Ты должен простить меня. Именно так такие люди и выражаются. В дальнейшем у меня самого появилась причина освоить такой язык. Подобные колкости сослужили мне хорошую службу, когда пришла моя очередь напиваться вдрызг и выставлять себя жалким посмешищем на кораблях.
И тут мы все осознали его присутствие, шагах в двадцати, не больше – с мушкетом в руках и палицей за поясным ремнем. Маори открыто нам улыбался, но от этого завитки татуировок на его лице казались еще выразительнее, а для моих друзей, вероятно, и более зловещими. Потом он обратился ко мне на нашем языке, сообщив, что он родом из места под названием Вайтара и был вынужден прийти в город белого человека, чтобы купить провизии. Он мог заплатить.
Пити с Магуайром и их зрители повернулись ко мне. Мой язык словно прилип к небу. Они сверлили меня взглядами, словно только сейчас осознали мое чужеродное происхождение.
Маори шагнул вперед.
– E tama! Kia tere – w’akautu mai![18]
Это было все, что от меня требовалось.
Не знаю, кто первым обнажил оружие, но к тому времени, как я понял, что именно должно произойти, на мужчину были направлены два ружья. Магуайр перескакивал с ноги на ногу, а Пити раскачивался из стороны в сторону, но один из зрителей, человек, имени которого я уже не помню, крепко держался на ногах и был уверен в своей меткости. У нашего гостя было два выхода, ни один из которых не гарантировал ему безопасности. Будь я на его месте, я бы поднял руки вверх и ушел прочь, но, судя по всему, ему это даже не пришло в голову.
Воин был быстр, намного быстрее, чем кто-либо ожидал, и почти настиг Пити, когда прозвучал первый выстрел. Тот первый выстрел не лишил его жизни, но подбил, вынудив опуститься на землю и попытаться сдержать кровь, хлынувшую из раны в бедре.
Воин снова взглянул на меня. Он всего лишь хотел купить еды. Он подумал, что может подойти, потому что увидел меня. Он заговорил снова, размеренно и четко, обращаясь только ко мне. Он был воином и делал то, что положено воину.
Потом маори поднялся и взмахнул палицей, выведя растерянных Магуайра и Пити из строя несколькими точными ударами. Снова прозвучали выстрелы. Тогда я почувствовал, что земля подо мной накренилась, и весь мир покачнулся. Я не сразу понял, что произошло и как, но горячая кровь на груди toa[19] и острый запах порохового дыма все прояснили. Во второй раз я видел, как умирает человек.
Возможно, это случилось тогда. Возможно, это случилось с первой увиденной мною смертью или со смертью моего отца. Теперь трудно сказать, ведь я смотрю на мир сквозь завесу из множества последующих событий. Но я все думаю, не тогда ли я впервые по-настоящему увидел тьму, живущую в людских сердцах, которая никак не подчиняется нашей воле. Мне следовало встать между ними. Мне следовало заговорить – я был единственным, кто мог это сделать. Я мог бы говорить с обеими сторонами, но не стал. Мне не хотелось давать жителям деревни повод насытить свою враждебность моей кровью. Меня переполняло отвращение к собственной слабости. Я был слишком напуган, чтобы заговорить, и теперь из-за этого погиб человек.
Я был уже достаточно взрослым, чтобы понимать, что такое смерть, и чувствовать ее, и испытывать потрясение, но я не мог ничего выказать, потому что страх по-прежнему лежал у меня в животе холодным камнем. Я подавил чувство, ползшее вверх по горлу и грозившее увлечь за собой мой недавно съеденный ужин. Мои руки и ноги вздрагивали от усилия подавить дрожь. Мне хотелось упасть на землю, чтобы меня успокоили, как маленького. Но я помнил предупреждение миссис Дженкинс. Пусть жители Холликросс проявили ко мне доброту или, по крайней мере, терпимость и пусть я уже начал осваиваться в их мире, я был всего лишь мальчишкой в деревне, полной чужаков, у которых вдруг появилась причина сомневаться в моей лояльности. Почему человек с татуировками заговорил со мной? Что я о нем знал? Они не сводили с меня глаз, пока я отмахивался от их вопросов, понимая, что попал в беду. Все изменилось так же внезапно, как остановилось сердце toa под гладким, неумолимым весом стали. Поэтому я скрыл свою печаль по павшему незнакомцу, проглотил потрясение от осознания, что теперь должен был уйти из этого места, где не было места людям, похожим на меня. Я не знал, что они сделают с телом этого бедняги, но, увидев его лежавшую на земле палицу, я быстро схватил ее и спрятал среди собственных вещей. Я знал, что такой драгоценный предмет не должен был достаться этим людям, и задумался, смогу ли использовать его для самозащиты. Теперь мне кажется странным, что я это сделал, особенно принимая во внимание то, куда меня привели мои дальнейшие шаги.
На следующее утро я собрал свои скудные пожитки и натянуто попрощался с миссис Дженкинс. Нас не оставили наедине, поэтому нежности, против которой она меня предостерегала, не нашлось места. Но стоило мужу миссис Дженкинс повысить на меня голос, как она осадила его и так свирепо зыркнула по сторонам, что притихли даже пьяницы. Она собрала в узелок немного еды и сунула мне в руки. «Как маори ни корми, все равно в лес смотрит», – вот и все, что трактирщик смог сказать жене. Она покачала головой и вернулась к барной стойке, больше не взглянув на меня. Единственным, кто заметно расстроился моему уходу, был мистер Лоу, который стоял и смотрел мне вслед, пока я почти не вышел из поселка.
Дорога вперед была пуста. Я еще не вышел из детства, а отчаяние уже бросило свою тень на мой мир.
Глава 3
Я был один, снова шел куда глаза глядят, избегая как колониальных, так и туземных поселений. И пусть даже в своем последнем пристанище я не нашел особой любви, мои страхи росли с каждым шагом, отдалявшим меня от него. Нет ничего хуже одиночества и голода, составлявших несчастье ребенка, у которого в друзьях не было ни единой живой души. Я понимал, что мне предстоит снова их вкусить, вместе с опасностями большой дороги, и раздумывал, не лучше ли было мне остаться, несмотря на свои опасения. Даже подстилка в лачуге трактирщика была лучше, чем неизвестность – кто знает, когда мне снова предстоит поесть или отдохнуть. Даже нетерпимость белых поселенцев была лучше, чем полное отсутствие людей или поселков.
Оглядываясь назад, я понимаю, что все было не настолько просто. В то время я чувствовал лишь боль свежего расставания. Из своего же нынешнего положения мне видится, что в каждом месте, которое покидал, я словно оставлял частичку себя, а такой маленький мальчик слишком плохо приспособлен для того, чтобы бродить по свету, растрачивая себя. Всякий раз, как я терял дом, мне казалось, что я расстаюсь с частью собственной плоти. Я накрепко запомнил слова миссис Дженкинс: суровый мир не преминет нанести мне удар в самое слабое место. И поэтому, думалось мне, я тоже стану суровым, а если не получится, то, по крайней мере, буду хорошо играть свою роль и скрывать все остальное.
Я знал, что мне нужно найти людей, по возможности больше похожих на меня. Пусть мне и удалось прибиться к той тесной общине, но это нельзя было назвать жизнью: мои узы с ними так легко разорвались. Но войти в новую деревню было совсем не просто, особенно став свидетелем тому, как человека убили просто за то, что он оказался не по ту сторону горы.
На этот раз я шел на запад. За время, проведенное в Холликросс, я проявил достаточно смекалки, чтобы определить на карте свое местонахождение и понять, в какую сторону можно было бы при необходимости пойти. Полагаю, в глубине души я всегда готовился двинуться дальше, если обстоятельства того потребуют. Я направился к побережью, на юг местности под названием Таранаки. Я знал, что на побережье мне будет проще найти еду, чем в буше[20]. Еще я знал, что в той стороне будет больше людей, возможно, больше моих соплеменников, и считал, что они по крайней мере не станут стрелять в меня, едва завидев, во всяком случае, до тех пор, пока не выяснят, кто я такой. Но никаких гарантий все равно не было. Я мог оказаться неправильным новозеландцем, принадлежность к определенному племени могла не обеспечить мне безопасности, и это меня тревожило.
В конце концов мне повезло, потому что не прошло и трех дней, как я покинул Холликросс, как целая деревня сама меня нашла. Да, это буквально была целая деревня на ходу. Из-под тени буша я долго наблюдал, как люди шли мимо, скудный свет заката помогал мне прятаться. Состав ее был самым разнообразным: спереди и по флангам – молодые и сильные мужчины и женщины с оружием, в центре группы – дети и старики. Некоторые прислушивались к каждому движению и шороху, и мне стало страшно, что меня поймают за шпионством; некоторые же шли, словно побитые, понурив головы, и каждый шаг явно причинял им страдания. Они были скитальцами и держались настороже, как и я сам. Мне подумалось, что они не станут возражать, если к ним прибьется мальчик-сирота.
Я ждал, пока мимо не прошла последняя группа стариков с кучкой детей впереди. Единственной возможностью было подойти в открытую, поэтому я выпрямился во весь рост и направился к ним, не с напускной храбростью, с которой подходил к деревне белых людей, а с тем, что, я надеялся, выглядело, как смирение, потому что это было именно оно. Я сдавался на их милость – мне было необходимо, чтобы обо мне составили благоприятное мнение. Старик впереди увидел меня первым и поднял клюку, указывая в моем направлении. Однако прежде, чем заговорить, он некоторое время двигал челюстью, стоя как вкопанный, и все вокруг него остановились и тоже стали на меня смотреть.
– No ‘ea… – начал старик, открывая и закрывая рот, словно для того, чтобы привести язык в действие. – No ‘ea te tama nei?[21]
Каждый ждал, пока со мной заговорит кто-то другой. Старик ничего не спросил у меня самого, вместо этого запустив вопрос в воздух, словно у меня еще не было полномочий говорить за себя. После долгих лет лишь случайного использования мой собственный язык стал у меня во рту чужим, но я понял. «Откуда я взялся»?
Я видел, что если группа продолжит стоять на месте, то еще немного, и один из зорких дозорных подойдет к нам, чтобы выяснить, кто является возмутителем спокойствия. Я открыл рот, приготовившись заговорить.
– E koro, no te nga’ere tenei tama. E’tama ngawari ia[22].
Какая-то беременная женщина заговорила прежде, чем я успел выдавить из себя хоть слово. Она сказала, что я вышел из леса и не представляю опасности, а потом спросила, можно ли мне пойти с ними. Она за мной приглядит, и остальные тоже будут следить, чтобы я не учинил неприятностей, а ей не помешает еще одна пара рук. Старик ничего не сказал, однако закатил глаза и поднял подбородок в знак согласия, поворачивая обратно на тропу, чтобы вернуться в длинную медленную процессию. Угрозы я не представлял, но моя история его совершенно не интересовала.
Итак, женщина вручила мне узел, и я пошел. Поначалу я шел рядом с группой, но на расстоянии нескольких шагов, опустив голову, чтобы показать, что понимаю: я не один из них, у меня нет никаких прав. Однако с течением ночи я стал подходить ближе, особенно когда этого требовал рельеф местности. Я видел, что, кем бы эти люди ни были, я не особенно от них отличался. Мы все были беженцами. По дороге у них не было сил ни расспрашивать меня, ни рассказывать о себе, хотя дети помладше выглядели счастливыми, как это присуще детям в любых обстоятельствах, подбегая ко мне во время игр, корча мне рожи с выпученными глазами, кидаясь камнями или тыкая в меня палками. Дети постарше наблюдали за мной исподлобья.
Мы находились достаточно близко от берега, чтобы слышать море, и достаточно близко к лесу, чтобы при необходимости быстро в нем спрятаться. Пока мы шли, несколько человек отправились вперед и зажгли костры вдоль берега на некотором расстоянии друг от друга. Издалека могло показаться, что нас очень много, и у нас много костров, и что мы достаточно сильны, чтобы не бояться обнаружить свое присутствие. На самом деле воинов-toa среди нас было вовсе не много. Старик затянул молитву, звучавшую как песня, такую древнюю, что я усомнился, слышал ли когда-нибудь раньше нечто подобное. Время от времени его слова затихали, словно сами собой, но, когда он останавливался, напев не прекращался, потому что его подхватывали другие голоса, одни больше как песню, другие – как молитву. Так продолжалось всю ночь напролет, пока мы шли, но в самую глухую и темную пору перед тем, как рассвету озарить небо, единственный голос, который я слышал, принадлежал старику.
К тому времени, как мы остановились, чтобы поесть и отдохнуть, я так устал и сбил ноги, как еще никогда в своей жизни. Я снова показал, что понимаю свое положение, сев немного поодаль и ничего не прося. После того как были накормлены старики и маленькие дети, женщина, замолвившая за меня слово, принесла мне немного хлеба и сушеного угря с приправой из лесных ягод. Она ничего не сказала, но тронула меня за плечо и ушла кормить остальных. Рассвет набирал силу, и люди устраивались на собственной поклаже или на том, что попадалось под руку, и укладывались спать в укромных местах, а молодые и сильные по очереди несли дозор. Я часто просыпался, как обычно бывает в незнакомой обстановке, но, по крайней мере, спать днем было тепло.
Не успело полностью стемнеть, как мы снова двинулись в путь, жуя по дороге остатки завтрака. Я поднял несколько kete – корзин с инструментами и едой, – чтобы облегчить ношу тех, рядом с кем шел накануне ночью. Они кивнули в знак признательности, но за всю ночь со мной опять никто не заговорил, все были сосредоточены на ходьбе. К следующему рассвету мы оказались в скалистой бухточке, кишевшей paua[23] и kina[24], и многие юноши принялись нырять за ними, снова и снова. Я помогал, перетаскивая улов вверх по берегу, туда, где другие отбивали мясо черных устриц, чтобы размягчить его перед готовкой, или осторожно разрезали морских ежей, чтобы использовать панцирь в качестве миски. С трепещущей, еще живой ежовой плотью обходились как с великим деликатесом. Первыми были накормлены старики и дети, но и на нас, остальных, хватило с избытком. Будучи непривычен к терпкому вкусу, я смог проглотить лишь малую толику. Однако пиршество заставило всех расслабиться, и бухточка казалась вполне безопасной, чтобы отдохнуть и поесть. Те, что постарше, принялись рассказывать сказки, начиная, по обыкновению, с whakapapa.
Да, мой читатель, я вижу вопрос в твоих глазах. Что такое whakapapa? Это великолепная накидка, соединяющая каждого из сидящих вокруг костра друг с другом и с местами, откуда они родом. Это родство с горами, водами и землями. Для маори это то, кто он есть, с кем он связан, кто его предки. Но если whakapapa – это накидка, то почему, когда эти люди начали свои сказания, я почувствовал себя раздетым? Никто не мог отнять у меня мою whakapapa, даже если я не знал ее так хорошо, чтобы пересказывать наизусть. Она жила во мне, была частью меня, как и mana[25] моего отца. Но мои губы оставались сжаты, и, чем дальше в ночь уходили речитативы и сказания, тем больше меня одолевало желание провалиться сквозь землю. Это были чужие сказания о чужом родстве, не имевшие ко мне отношения. Тогда я впервые по-настоящему понял слово «сирота». Быть сиротой – означает носить простую накидку, все так же сотканную из множества нитей, но потерявшую внешний слой из кисточек и внутренний слой из тепла. Моя накидка утратила свои прекрасные отличительные черты. Только самые знающие смогли бы вчитаться в ее смысл, и то лишь тщательно осмотрев. Я же страшился любого осмотра и того, что он мог обнаружить.
Но эти люди тоже ушли далеко от насиженных мест. Они истово декламировали свою whakapapa – родина была дальше, чем когда-либо, а впереди лишь новые горы и воды, и незримые опасности.
– Мы все дети maunga[26], – сказал высокий, сильный на вид человек, который не мог быть старше меня больше, чем в два раза. – Но теперь мы покидаем своего предка. Мы покидаем свои могилы и свои дома. Мы поем tangi[27] по старой родине, но мы ищем будущего в новой, где заключим союзы, которые обеспечат нам безопасность, где сможем построить новые дома и начать хоронить усопших. Мы построим новые дома в долине Те Ава Кайранги[28] и в Те Вангануи-а-Тара[29], и скоро заживем в достатке, торгуя с pakeha[30], в чем нам поможет великая гавань Тары.
Говоривший признавал, что они были не первыми переселенцами, а одними из многих. Они пойдут туда, где уже начали осваиваться их соплеменники и дальние сородичи.
– Kia ka’a tatou. Kia maia. Будьте сильны духом и телом. Мы последние из многих, кому предстоит установить новые права в новом доме. Наши сородичи будут нас приветствовать. И если те, кто не в родстве с нами, потребуют от нас битвы, мы будем сражаться так, как не сражались никогда раньше. Мы сможем. Мы заставим тех, кто бросит нам вызов, отпрянуть в страхе, а тех, кто нас поприветствует, возрадоваться тому, что мы – их союзники.
Пока продолжалась эта речь, ко мне подошли другие дети из лагеря. Их больше не обременяла поклажа, и теперь они получили возможность выяснить, кем был затесавшийся среди них незнакомец. Должно быть, я выглядел именно так, как себя чувствовал – выставленным на всеобщее обозрение, беззащитным.
– No ‘ea koe? Откуда ты? – спросил самый высокий из них. Я пожал плечами, избегая смотреть ему прямо в глаза. Иногда именно во время отдыха начинаешь чувствовать все то, что отгонял прочь, чтобы выжить. Я устал, и ни притворства, ни бахвальства во мне не осталось.
– Маленький бездомный мальчик…
– No whenua…
– Ara, te tutua!
– He tutua koretake!
– Koretake, koretake, koretake[31], – хором скандировала детвора. Никчемуха. Я с ними не спорил. Я платил свою цену.
* * *
Оно казалось невероятно далеким, это поселение в Те-Упоко-о-те-Ика, «Рыбьей голове»[32], как мы ее называли, на самой южной оконечности Северного острова Новой Зеландии. Мне хотелось верить, что, когда мы дойдем до этого места, эти люди обретут новый дом, и я вместе с ними. Но, поскольку за свою короткую жизнь мне довелось так много скитаться в одиночестве, я знал и то, что в подобном путешествии будет непросто находить пристанища для отдыха. Везде уже жили другие люди, и они станут защищать свои земли. Вряд ли наше прибытие вызовет у них радость.
Все это обсуждалось довольно долго. А потом, когда настало время отдыхать, речи обратились в пение. Не могу описать то глубокое утешение, которое принесла мне тогда waiata[33]. Прошло долгое время с тех пор, как я слышал такие песни и видел вокруг себя лица, такие же, как мое собственное, принадлежавшие людям разных поколений.
Дети давно оставили меня в покое, поскольку я не реагировал на их дразнилки хоть сколько-нибудь воодушевляющим образом. Но я знал, что их родители и старейшины не смогут бесконечно игнорировать мое присутствие или, по крайней мере, не смогут создать видимость, что меня игнорируют, не спросив наконец, кто я такой. Время, когда мне следовало представиться подобающим образом, давно прошло. Могу списать такое странное положение вещей лишь на странные обстоятельства нашей встречи. Решив, что я достаточно безобиден, эти люди не имели ни сил, ни желания замечать мое существование бок о бок с ними. Но теперь, когда все немного отдохнули от многодневного пешего перехода, на меня обратили внимание.
«E tama, no ‘ea koe?»[34] На этот раз в вопросе не было угрозы. Его задала женщина, сопровождавшая старика. Это она всю ночь пела с ним защитные заклинания. Старик был рядом, но не поднял глаз – однако он наверняка напряженно прислушивался. Женщина, которая помогла мне в первый день, хлопотала, устраивая детей, но не скрывала интереса к моему ответу.
– Это хороший вопрос, – произнес я на нашем языке, – потому что я уже давно потерял свой дом. Мы жили в той стороне, далеко от побережья. – Я указал направление. – Моего отца звали Те Ракаунуи, а мою мать убили, когда я был немногим старше вон того мальчика. – Я снова указал в нужную сторону. – Отец умер через несколько лет после этого. Прежде чем умереть, он отдал меня в Миссию. Если другим детям хотелось показать мне свое превосходство, они говорили, что напавшие на моего отца его съели. Не знаю, правда ли это, но однажды я сбежал.
Некоторое время все молчали. Похоже, я сказал слишком много. Затем старик с усилием поднялся и посмотрел мне в лицо.
– Твой отец был вождем, чьи подвиги известны во всех уголках острова. Он не был нашим другом. Не знаю, кто убил его, но это могли быть наши сородичи. То, что случилось с ним потом, вполне могло быть так, как тебе говорили твои друзья. – Старик провел руками по трости, и я на долгое мгновение сосредоточил взгляд на его пальцах с распухшими костяшками, скрюченных в когтистой хватке. – Теперь я вижу в твоих глазах гнев. Но мы позволили тебе пойти с нами, потому что теперь все изменилось – мы все идем по тропе, конец которой нам неведом. Попытайся ты пристать к нам в другом месте, наши воины могли бы оставить на дороге твой труп, и мы прошли бы мимо. Вместо этого мы делим с тобой нашу поклажу. Таков мир, в котором мы теперь живем, старые правила уходят, обычаи пришли в хаос. Долг выплачен. Твой отец умер, но ты живешь. Продолжай помогать нам, и мы позволим тебе жить с нами. Или уходи. Выбор за тобой.
Слова старика разозлили меня так, как уже долгое время ничто не злило. Вновь пережитое всякий раз опаляло меня изнутри, и со временем эти подпалины все больше смешивались и стирались, пока я уже не мог отделить одно ужасное событие от другого. Теперь же эта обугленная чернота засвербела у меня под кожей: несправедливость жизни, которая не оставила мне ни человека, ни места, за которых я мог бы держаться. Разве она хоть раз отнеслась ко мне по-доброму? Я взял палицу, которую прятал на себе, patu[35] воина, убитого в Холликросс, и поднял над головой, передавая ей дрожь запястья, вызванную чем-то, что мы называем wiriwiri[36], позволив своему гневу на мгновение полыхнуть сквозь широко раскрытые глаза, и наконец опустил на землю.
– Я видел смерть чаще, чем мне бы хотелось. И больше не желаю ее видеть. Я взял это оружие с тела человека, который попросил еды и был убит за это. Я кладу его к вашим ногам. И свой гнев кладу вместе с ним.
Одна из женщин бросилась вперед и упала на палицу, обнимая ее и громко рыдая.
– Это Руа! Руа Канапу мертв! – Тут же началась великая tangi, великий плач, и меня охватило благоговение перед тем, что привело меня к этим людям.
– Не клади гнев на землю, мальчик, – ответил мне старик. – Он тебе еще пригодится.
Он повернулся к скорбящим, снова возвышая голос в karakia[37]. В тот день предстояло много молиться.
Глава 4
Прошла еще неделя, прежде чем мы прибыли в Порт-Николсон и временно обосновались в северной части поселения, на территориях, на которые племя уже заявило свои притязания посредством межплеменных браков или захватов членами родственных племен. Я слышал, что войны, подобные тем, которые убили мою семью, шли повсеместно. Старые правила и союзы были сметены мушкетом и властью, которую он принес с собой. Люди, жившие здесь до того, как пришла наша группа и установила над этой землей свою mana, были вытеснены после поражения в битве или различными способами встроены в новое племя в качестве низших его членов. Таково примерно было и мое положение. Это было вовсе не мое племя и не моя mana, но теперь это было единственное, к чему я принадлежал и что мог назвать «своим».
Память обо всем этом была свежа, это произошло при жизни одного и того же поколения, которое теперь занимало эти земли, поэтому наши притязания еще не были нерушимыми. Мы должны были оставаться настороже, крепко держаться за эту землю, чтобы поддерживать свою власть. Наша земля. Наша власть. Я никогда не был полноценной частью этого уравнения. Как и других неуклюже встроенных в новое сообщество, меня терпели и давали мне работу, и разрешали участвовать в жизни племени, коль скоро я был полезен. На большее я притязать не мог. Меня это не смущало. Я не принадлежал к этим людям. Если следовать обычаю, лучшее, что я мог сделать, – это жениться на дочери одного из них, чтобы обеспечить своим детям собственный дом.
Поначалу я работал в огородах и ухаживал за домашним скотом. Вскоре после нашего прибытия Ана Нгамате, та беременная женщина, которая первая заговорила со мной, родила шестого ребенка. Муж Аны часто бывал в отлучке, поэтому моя помощь была ей очень кстати. Хотя она работала вплоть до самого дня родов, после них она много недель жила со своим младенцем в отдельном доме, построенном специально для них. Другие женщины могли ее навещать, но остальные ее не тревожили. Ее работу взяли на себя остальные домочадцы, и посреди всего этого я обнаружил, что привязался к ее семье больше, чем к кому-то еще. На моих глазах ребенок Аны Нгамате подрос и начал бегать, а потом родился еще один. Эти двое детей были для меня особенными, и их часто оставляли на попечение старшей дочери Аны Нгамате, Кахуранги, и мое. Эти заботы доставляли мне достаточно радости, потому что занимали мое время, но в своей новой жизни я редко видел перо, бумагу или грифель, а книгу еще реже, и мне их не хватало.
В те времена многие из нашего народа испытывали страсть к чтению и письму. Возможно, к последнему даже больше, чем к первому, поскольку книги были редкостью, в то время как письмо позволяло нам разговаривать через большие расстояния друг с другом и с людьми из других стран и воображаемых времен точно так же, как я говорю сейчас с вами. Достать письменные принадлежности было нелегко, поэтому вести корреспонденцию в основном предоставлялось тем, у кого умение писать сочеталось с обязанностями вождя. Остальные же из нас чаще всего сталкивались с письменным словом, когда раз в несколько недель приходил священник, чтобы прочитать проповедь и поделиться библейскими историями. После проповедей он говорил с нашими rangatira[38] и при необходимости передавал их высокие мнения, а иногда и письма, на свою сторону. Всякий раз, когда священник приезжал или уезжал с пачками писем и книг, которые он иногда дарил высокопоставленным членам племени, я наблюдал за этим с великой тоской.
Ана Нгамате поняла мое желание. Она смотрела, как я писал алфавит для ее маленького сына, как только тот стал способен копировать знаки, которые я чертил палочкой на земле. Однажды она увидела, как я в отчаянии отбросил палку в сторону.
– Почему ты перестал?
– К чему все это? Эта писанина всего лишь временная. Буквы в грязи ничего не значат.
– Они много значат для Тамы и других детей.
– Но я хочу писать предложения подлиннее. Предложения, которые не сотрет ветром или ногой Кахуранги. – Кахуранги любила дразнить меня и отнимать все, что я считал своим.
– Тогда найди, на чем написать. Я видела, как другие используют листья korari. Или harakeke[39].
– На листьях. А чем?
– Палочки оставляют следы. Выцарапывай буквы. Они никуда не денутся.
– Ну, не знаю.
– Другие так делают. Не только у тебя страсть к письму. Покажи детям. Всем. Скоро они устроят соревнование, чтобы посмотреть, кто найдет лучшие материалы и будет писать красноречивее других.
На этом Ана Нгамате ушла, потому что она всегда знала, когда нужно уйти.
Конечно, Ана была права. Мы писали на всем, что могли найти: вырезали буквы на древесной коре, передавали секретные записки на листьях, царапали ракушками о камни, чтобы оставлять друг другу меловые послания. Женщины и девочки постарше принялись выплетать свои слова на корзинах и циновках. Постепенно мой статус повысился, ибо никто не мог сравниться со мной в скорости обращения с письменным словом, однако я взял за правило делиться своим даром, а не кичиться им. Я сделался своего рода учителем, потому что был терпелив с теми, кто помладше, а овладеть даром письма хотели все. Помимо прочего мы видели в нем великую возможность передать людям pakeha свои мысли и понять их. В конце концов священник заметил мою работу, и я заслужил свою собственную Библию. Свою первую книгу. И все же, даже выучив этот том наизусть или покрыв заметками целое дерево, я оставался несчастным. Все остальные казались вполне довольными: размеренным течением наших дней, созданием семей, политическими союзами, хорошей едой и торговлей. Этого хватало, чтобы наполнить повседневную жизнь. Но не для меня.
* * *
Такого жаркого дня, как тот, когда среди нас оказался Англичанин, в том году еще не было. Мы вступали в наше шестое лето на этой земле, и жара возвещала о том, что весенние бури, скорее всего, закончились. Мы все были вялыми, хотя то была пора напряженной работы в огородах. Ана Нгамате по несколько часов в день занималась ткачеством. Она трудилась над тонкой накидкой для мужа, который вернулся с юга раненым, но с победой после похода, предпринятого с целью укрепить свои притязания на тамошние земли. Я знал, что не нравлюсь ему, потому что он намеренно избегал смотреть на меня и не обращался ко мне напрямую, разве только чтобы отдать распоряжение. Когда позволяла погода, я всегда спал снаружи: теперь, когда он вернулся, а я повзрослел, в доме места мне уже не было.
Иностранец, крупным шагом вошедший в деревню в широкополой шляпе и темно-красном жилете, который своим блеском оттенял подобранный в тон шейный платок, представлял собой чудное зрелище. Его светлый сюртук был скроен прямыми линиями и углами, что придавало ему изысканности, хотя стоявшая жара мало подходила для такого количества слоев одежды. Я представлял, как ношу подобные вещи, но знал, что оденься я так в подобный день, то весь пропотел бы и испортил бы их. Однако данный джентльмен не проявлял никакого беспокойства на этот счет – он производил великолепное впечатление и держался прямо, словно внешние условия совершенно на него не влияли. Он входил в нашу жизнь фланирующей походкой, словно паря в эфире, в целом облаке эфира, осмелюсь сказать. Думаю, я тогда был немедленно очарован тем, как мало он обращал на нас внимания, даже зайдя прямиком в нашу деревню. Белые люди бывали у нас не каждый день, а если и бывали, то среди них редко попадались незнакомцы. Мы знали миссионеров и нескольких торговцев в округе – одному или двум было позволено жениться на наших женщинах, и они остались жить поблизости, – но этот джентльмен был кем-то новым. С ним были два проводника, Мофаи и Кина. Вокруг него собралась толпа.
Англичанин почти сразу же принялся рисовать. Можно было подумать, что он мог бы представиться более формальным образом, но он просто поприветствовал нас всех через Мофаи и Кину, которые провели его вокруг каждого из собравшихся для рукопожатий и hongi – нашего обычая прижиматься носами и обмениваться дыханием. Потом он достал свои принадлежности и материалы и принялся создавать маленькие яркие зарисовки: его рука металась по бумаге, оставляя на ней линии и тени, которые быстро превращались в изображения. Нам доводилось видеть написанный текст, а также миниатюры – в очень особых книгах, и, конечно же, у нас были свои виды изобразительного искусства, но мы никогда не видели, чтобы мир мог воссоздать себя в тонких линиях, вытекавших из-под пальцев этого английского художника. «Художник, Художник!» – воскликнула толпа, когда Мофаи сказал нам это слово. У нас были tohunga whakairo и raranga[40], и moko, наши собственные знатоки изящных и священных искусств, но у нас не было ни равнозначного понятия, ни равнозначного ремесла. После этого мы обращались к нему только этим почтенным титулом, а не именем, которым он назвался по прибытии. До него мы никого подобного не встречали и считали, что вряд ли встретим еще одного.
Созданные им подобия удивляли и восхищали нас. Он начал с наших домов и орудий, а потом, завладев нашим вниманием, попросил положить перед ним оружие и плетеные изделия, чтобы он мог скопировать и их. Мы принесли вещи, которые можно было показывать, но положили их на недосягаемом для него расстоянии. Самые важные и опасные из наших вещей остались спрятаны, подобно самым важным и опасным представителям нашего племени. Наконец он спросил, можно ли ему нарисовать кого-нибудь из нас, начиная с горящих азартом детей.
Теперь, насмотревшись на подобные вещи, я вижу, что те портреты вовсе не отличались таким разительным сходством, как нам тогда казалось. Художник принялся рисовать группу молодых женщин и девушек, и мне вряд ли когда-нибудь раньше доводилось видеть столько кокетливых взглядов и трепещущих ресниц. Мы сочли это великолепной возможностью подшутить, и, когда он закончил, поднялась небольшая суматоха: мы улюлюкали и дразнили девушек, смеясь над их портретами, а те краснели.
Каждому хотелось быть нарисованным, и мы все боролись за внимание Художника.
– Для меня будет большой честью, – сказал он нам с помощью юного Мофаи, – нарисовать столько ваших портретов, сколько получится. Но мне нужно немного отдохнуть и подкрепиться. Мы шли пешком весь день и уже давно ничего не ели.
И мы принялись носить Художнику лучшие лакомства, оказавшиеся в пределах досягаемости. У нас были свежие лепешки, и море было не так далеко, чтобы мы не могли поспешно набрать корзину мидий. Ана Нгамате даже приказала принести из кладовой заготовленную впрок птицу – думаю, она положила глаз на изображение своей дочери.
Я принес еду и стал тихо наблюдать издалека, по своему обыкновению. Художник и его слуги ели с жадностью и молча, пусть ненадолго. Мне было интересно, как эти мальчишки попали к нему на службу. Похоже, для того, кто не скучал по семье, место было отличное. Парни хорошо ели, а требования у их хозяина, судя по виду, были самые простые: нести поклажу, переводить, подсказывать, в каком направлении идти. В конце концов, насытив свои аппетиты, они рассказали нам, откуда пришли – с самой северной оконечности острова, до восточного побережья, где мы сейчас находились. Мальчики говорили с нами на родном языке, но, немного отдохнув, Художник снова присоединился к беседе.
– Спросите, кого мне нарисовать следующим. Я не хочу снова совершить ошибку, сделав портрет слуги раньше портрета его хозяина. Пожалуйста, выясните, кто здесь вождь.
Разумеется, мне не нужен был перевод.
– Сэр, вождей больше одного. Я уверен, они захотят с вами встретиться, иначе они бы уже заставили вас уйти.
Художник оценивающе посмотрел на меня. Его взгляд был проницательным, надменным. Возможно, ему не понравился намек на применение силы. В нашей культуре такой взгляд сочли бы грубостью. Но он не был одним из нас. Я же привык к прямоте белых людей.
– Парень, ты очень хорошо говоришь по-английски. Как тебя зовут?
– Хеми. Меня назвали в честь Иакова из Библии.
– А, верно: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены». Послание Иакова, глава 1, стих 17. А фамилия у тебя есть?
Я задумался над его вопросом. Выбирай я сейчас, я наверняка назвал бы имя отца, но в то время мысли о нем причиняли мне боль, которую я не был готов испытывать в окружении других людей. Мне не хотелось, чтобы его имя произносилось вслух по отношению к моей собственной персоне из страха перед чувствами, которые это могло всколыхнуть. Я был мальчишкой, заблудшим, как и весь наш народ в те времена, но мне нашлось место под солнцем. Учитывая судьбу всей моей кровной семьи, мне до тех пор выпадал скорее удачный жребий. Я был свободным человеком, пусть и оказывался иногда в подневольном положении. И Те-Фангануи-а-Тара, или Понекенеке – Порт-Николсон, куда мы переселились под покровом ночи, – был местом, где я обрел дом. Разговаривая с Художником, я чувствовал, как крутятся колеса моей судьбы; я чувствовал знаменательность в его изучающем взгляде. В то мгновение я был новым человеком, как окружающие земли, ставшие мне новым домом, – порождением старого и нового миров.
– Мое полное имя Джеймс Понеке, но в этих краях меня предпочитают звать Хеми.
– Что ж, буду звать тебя Джеймсом, потому что я не из этих краев, а Джеймс – прекрасное английское имя.
Соплеменники, находившиеся поблизости, кидали на меня недобрые взгляды, словно этой беседой я выставил себя слишком важным или слишком значительным. Но остановиться я не мог. Я видел свою возможность. Мой английский был явно не хуже, чем у Мофаи, и я еще не понял, какая польза была от угрюмого Кина. Рискуя собственным благополучием, я сказал Художнику, что отведу его к вождям, чтобы он мог предложить им нарисовать их портреты. Потом у него будет много времени, чтобы нарисовать изображения обычных предметов и людей.
Мне повезло. Наши предводители решили устроить Художнику добрый прием и облачились в свои накидки и самые красивые taonga[41], чтобы предстать в лучшем виде. Муж Аны Нгамате надел свой только что законченный плащ kakahu, и Ану Нгамате попросили встать между ним и его дядей: старый военный вождь, молодой военный вождь и его жена. Следующие несколько дней прошли по такому же распорядку. Семьи вождей нашей деревни по очереди позировали Художнику; тот делал свои зарисовки, а затем то, что он называл «факсимиле», чтобы оставить их семьям. Остальные работы он собирался увезти с собой в Англию, чтобы показать величие вождей Новой Зеландии и их богатства. Наш верховный вождь Те Пуке согласился, что это было бы хорошо, потому что иногда наши белые соседи не уважают наши обычаи. Договор был подписан всего несколько лет назад[42], но исконные права собственности на землю уже попираются, и землемеры передвигаются на новые территории, которые, по их утверждениям, нужны королеве для ее подданных. Возможно, если бы королева смогла увидеть нас, своих новых подданных, она приказала бы чиновникам уважать нас при заключении сделок с землей. Вожди были полны надежды и убеждены в действенности созерцания их великого ahua, великолепной наружности.
Ближе к вечеру, когда день начинал замедляться, Художник иногда доставал краски и с помощью цвета делал свои картины еще «сказочнее». Однажды, пока я наблюдал за его работой, бездельничая в тени у ручья, во мне вдруг что-то шевельнулось. Мне не виделось ничего лучше, чем поступить к нему в услужение, и я был готов почти на что угодно, чтобы это осуществить.
Во время работы с Художником всегда был один из двух мальчиков, но сегодня его сопровождали оба. Кина шагал в мою сторону с бутылью из тыквы со срезанным «горлышком».
– Набираю воду для его кистей, – сказал он, кивнув в сторону Художника.
– Обычно он не зовет вас обоих сразу. – Я старался говорить небрежно.
– Ae. Больше-то делать нечего.
И тут меня осенило. Я нашел подходящий способ.
– Тебе нужно пойти поговорить с Кахуранги.
– Зачем?
– Я слышал, как она о тебе говорила.
– Правда?
– Прости. Не нужно было этого говорить. Она бы ужасно разозлилась, если бы узнала, что я тебе сказал. Думаю… думаю, тебе стоит с ней поговорить, но не раскрывать того, что знаешь. Просто будь с ней мил. Мне кажется, это для тебя хороший знак.
Кина расплылся в улыбке. Широкой. Глупой. Он был всего на год или два старше меня и не имел опыта с девушками. Легкая добыча. Я еще не испытывал влечения, переполнявшего Кину, но знал, как обычно устраивались подобные вещи. С того дня Кина уже не был препятствием для моего плана.
Всякий раз, как Мофаи оказывался занят на стороне, я предлагал Художнику свою помощь; и мое присутствие было таким постоянным, что ему вряд ли был нужен Кина. Судя по всему, Художнику нравилось мое общество, или, по крайней мере, он извлекал из него пользу. Он расспрашивал о моем воспитании и образовании. Ему было любопытно услышать о моей семье, и, когда я сказал, что круглый сирота, если не считать приемного племени, он как будто бы даже растрогался. Иногда он спрашивал, что мне известно о Библии или греческих философах или – однажды – о математике.
Признаю – я позволил его заинтересованности повлиять на себя. Моя осанка стала чуть прямее, я стал смотреть в глаза сверстникам так долго, что заставлял сомневаться в своем стремлении к самосохранению. Я стал любимцем Художника несмотря на то, что в глубине души понимал опасность такого положения. Что будет, если Художник уйдет без меня? Мое положение оказалось бы еще хуже, чем раньше.
Когда по вечерам Художник разрешал мне заниматься его костром, мы говорили о многих вещах – обычно он расспрашивал меня, а я старался предоставить ему ответы. Ему хотелось узнать, как мы живем, как устроены наши семьи и поселения, какова природа наших самых великих ценностей. Отвечая на этот вопрос, я рассказал ему о резном доме нашего вождя, о taonga, сделанных из pounamu[43], об оружии из китового уса и твердого дерева. Но тут меня озарило, что не они были нашими величайшими сокровищами, поэтому я встал и принялся указывать рукой в ту или иную сторону, дополняя свои слова.
– На востоке вон та гора, Матайранги, на западе – Те-Аумайранги, на севере – Фитирейя. Здесь – гавань Те-Фангануи-a-Тара и Тиакиуай, где мы берем питьевую воду. Земля у нас под ногами, fenua, и там… – Я указал на хижину, откуда доносился детский плач, – наши mokopuna. Вот наши величайшие сокровища. Все, что нас окружает.
Возможно, такое объяснение показалось Художнику романтическим, хотя он и вправду наслаждался пейзажем и тратил много времени на его зарисовки. Но больше всего его интересовали наши дома и одежда, самые красивые женщины и мужчины самого высокого ранга.
– А как насчет тебя самого, юный Джеймс? Что ты ценишь превыше всего?
Мне оказалось нечего назвать.
– У меня здесь невысокое положение, мне почти ничего не принадлежит. Но я сыт и при деле, и в такой же безопасности, как и любой из нас в эти непонятные времена. Думаю, что больше всего дорожу своим образованием, которое позволяет мне разговаривать с вами на вашем языке и писать, когда у меня есть повод и принадлежности.
Я рассказал Художнику о своем желании увидеть мир, стать полностью образованным, современным человеком. И о своих сомнениях, что такому, как я, когда-нибудь представятся такие возможности. Он ответил философски:
– У тебя в распоряжении только одна жизнь, Джеймс. Почему бы тебе не сотворить ее настолько великолепной, насколько ты помышляешь? По-моему, никто не может возыметь того, чего прежде для себя не помыслил. Именно так мы воплощаем в жизнь наши самые содержательные и смелые изобретения: сначала мы замышляем нечто, затем высказываем и, наконец, совершаем те действия, которые необходимы для воплощения этой идеи в жизнь. Возможно, часто требуется обдумать идею и подробно обсудить ее, прежде чем перейти к третьему этапу, но таковы три элемента, необходимые для осуществления чего бы то ни было. К примеру, я нахожусь здесь, в Новой Зеландии, о которой до своего прибытия знал очень мало. Год назад я получил должность в бухгалтерской конторе в Лондоне, которая давала мне хороший заработок и открывала прекрасные перспективы. Но в моем сердце и в моих мыслях я представлял другое: мне хотелось попытать счастья в том, чтобы жить тем, что доставляет мне величайшую радость. Живописью. И мне хотелось путешествовать по свету. И я видел способ объединить два этих желания воедино. И пусть это стало результатом моих собственных действий, но то, что я нахожусь в таком экзотическом месте, так далеко от дома, рисуя картины и разговаривая с туземцами вроде тебя, кажется мне восхитительным сюрпризом. Так что дерзай, мальчик. Я вижу, что тебе это по силам.
Я почувствовал, как зарделся под его взглядом. Он смотрел на меня. И лишь почувствовав, что отвечаю на его пристальный взгляд, я понял: вот то ощущение, которого мне не хватало, ощущение, что тебя видят и понимают, даже если я еще сам себя не понимал. По правде говоря, мне неведомо, имел ли взгляд Художника все те качества, которыми я его наделил, потому что в его глазах я видел все свои невысказанные желания и даже больше. Он словно воплощал в себе все великолепие будущего в далеких, еще более прекрасных краях. Когда он засмеялся, взъерошил мне волосы и вернулся к своей работе, я остался рядом с ним, глубоко уйдя в свои мысли, которые словно внезапно разлетелись во все стороны, вздымаясь волной над горизонтом, голубой и бездонной.
С того дня я стал его усердным учеником. Наверное, Ана Нгамате поняла, что мое будущее не связано с ее семьей, потому что не звала меня вернуться к работе так часто, как могла бы. Она снисходительно потакала мне, и через это, даже мечтая об уходе, я понимал ее любовь ко мне. Но я не мог связать себя этой любовью. Цель моя была совсем близко – лишь руку протянуть, однако было ли это хорошее образование в Англии или то другое, почти невыразимое чувство, которое я испытал под взглядом Художника, я сказать не могу. Моей главной задачей стало оказаться для него незаменимым. Отсюда возникал вопрос: как стать необходимым для человека, у которого есть все на свете? При любой возможности я поощрял Кахуранги с Киной в их ухаживании, упоминая каждому то одно, то другое, что другой сказал или сделал. Кахуранги стала доброй и нежной – эти два качества она раньше никогда не проявляла в моем присутствии. Кина внезапно стал мужественнее и умнее, чем мне доводилось подмечать раньше.
Оставаясь наедине с Художником, я тоже изо всех сил старался заставить его считать меня умнее и остроумнее, чем на самом деле. Я изо всех сил пытался быстрее подбирать нужные слова, предлагать беседу, в которой смог бы показать себя приятным компаньоном. Каждый вечер я заводил речь о какой-нибудь истории или теории, о которых я читал в Миссии, или обсуждал что-нибудь из Библии. Иногда Художник аккуратно поправлял мое произношение или перевод. Теперь я вижу, какой до невозможности наивной была моя болтовня.
– Я слышал об Эпохе Разума, также называемой Просвещением. Это когда люди решили, что они все равны и свободны – что всем должен править разум. И все же, как я понимаю, в Англии все устроено, как у нас: некоторые rangatira – вожди, а некоторые mokai – слуги-рабы. Как же это соответствует идее Просвещения?
– У нас нет рабов! Уже нет. Это прогресс, Джеймс. Мы неуклонно движемся к просвещению, и разум – наш проводник на этом пути.
– Но чей разум правит? И как же Библия?
– Возможно, править должен разум Божий, и за этим мы обращаемся к Библии. Это хорошие вопросы, но более основательные ответы на них можно получить через учебу и размышления. Это не то, что можно объяснить в один присест.
Судя по всему, мои вопросы его утомили. He kaka waha nui! Я сказал слишком много. Но голос Художника был добрым.
– Ты умный мальчик, но в мире очень много такого, чего ты не знаешь. Конечно, это дело обычное, особенно когда ты находишься так далеко от сердца Империи. В путешествии я много повидал, и многие места и народы меня удивили. Все они кажутся мне по-своему интересными, даже каннибалы и невежественные кочевники. Но я не видел ничего хоть отчасти столь же грандиозного, как великая столица Англии, разве что грандиозные творения самого Создателя – великие океаны, и горы, и небеса. Если ты видел это, Джеймс, то у тебя есть представление о масштабе того, о чем мы говорим.
Мы посидели еще немного. Я не мог придумать, как сказать Художнику о своем невежестве и самых сокровенных желаниях своего сердца.
– Наши беседы доставили мне большое удовольствие, юный Джеймс. Было отрадно узнать, что священное писание и цивилизация дотянулись до самого сердца островов, настолько далеких от прекрасных берегов моей родины. Ты был мне хорошим проводником, и я благодарю тебя.
Со стороны Художника это было любезно, но в его голосе звучали прощальные нотки. Он давал мне понять, что наш разговор окончен. О, если бы только я мог попасть в сердцевину всего сущего, какой она ему виделась, – слово «Империя» казалось источником всего великолепия мира и знаний о нем.
– Сэр, вы были очень добры ко мне, несмотря на мое невежество. – Я решил показать Художнику серьезность своих намерений. – Я обманывал вас, когда оказывался в вашем распоряжении всякий раз, когда мои обязанности это позволяли. И обманывал, когда побуждал вас беседовать со мной и объяснять мне разные вещи. Признаюсь, когда вы пришли в нашу pah[44] со своими альбомами и красками, и волшебным карандашом, все, чего я хотел, – это оказаться поближе к вашим книгам и инструментам. Вы ученый, наблюдатель человеческой жизни. Вот чего я желаю больше всего на свете из того, что мне довелось испытать в жизни. Я скучаю по перу. Я скучаю по чтению и учебе. Мне стыдно за свое невежество. Я хочу учиться. Хочу однажды вернуться к своему народу и разделить с ним научные богатства Империи. Но сначала я должен сделаться английским джентльменом. Для человека такого низкого положения, как мое, это никогда не станет возможным.
Сейчас я признаю это, хотя не уверен, что тогда это осознавал: моя последняя фраза была драматической попыткой надавить на жалость.
Собираясь уходить, Художник внимательно посмотрел на меня.
– Мы планируем уйти через два дня, и Кина уже попросил меня оставить его здесь. Я собирался отказать ему, но зачем брать с собой путешественника поневоле, если есть тот, кто полон энтузиазма? Мы отправимся на север по восточному побережью острова, а затем к портам, откуда я поплыву домой. Пойдем с нами, если хочешь, Джеймс. Если твоя цель – образование, то худшее, что может случиться, – это то, что ты больше узнаешь о географии и найдешь больше возможностей для учебы. – У Художника была манера наклонять голову набок, когда он что-то задумывал. – Но в дальнейшем я смогу найти для тебя хорошую работу, с образованием в качестве награды.
Да неужто? Не может быть, чтобы я действительно получил приглашение, которого так жаждало мое сердце. Но так и было: возможность была очевидна. Теперь, получив предложение, я задумался над ним. Снова расставание. Снова рискованный шаг в мир, который, как мне было известно, ничуть не заботило то, насколько успешно я прокладывал по нему путь.
Глава 5
Мой mokopuna, слушай. Вот я вижу, как вы тянетесь вереницей впереди меня, мое еще не свершившееся будущее, и так же со своей постели в Лондоне я вижу повторяющийся мотив, растянутый в прошлое до того дня, когда была истреблена вся моя семья: череда уходов, череда возможностей родиться заново, череда событий, в каждом из которых ощущалась возможность – за исключением последнего раза, но к этому мы еще вернемся. Я мог создать того, кем хотел стать, из окружающих меня ингредиентов, и некоторые из этих ингредиентов происходили от моих корней, а некоторые пришли из нового мира, который принесли с собой pakeha. Поэтому прощание с Аной Нгамате и ее детьми было и сладостным, и горьким. Я никогда не принадлежал к их семье, но они приютили меня, полюбили даже, и я любил их в ответ, так сильно, как это было возможно для такого неприкаянного сироты, как я. Когда я объявил о своем уходе, мы с детворой кучей повалились на землю в слезах, гневе и объятиях, таких крепких, что я не знал, где заканчивался один из нас и начинался другой.
– Напишите мне письма, – сказал я, когда мне наконец удалось их оттолкнуть. – Я возьму их с собой в Окленд, а может, и дальше. Что бы вы захотели сказать людям на другом конце света? – И они помчались писать, как всегда, устроив соревнование – лучшие листья, наилучшим образом выведенные буквы. Те, что помладше, принесли мне тщательно выведенные отдельные слова или рожицы, нацарапанные на древесной коре. Старшие принесли свои имена и названия особенных для нас мест. Ана Нгамате принесла мне тщательно составленное письмо на бумаге. В письме говорилось на языке маори:
«Досточтимые вожди, приветствую вас. Мы доверяем вам нашего сына. Позаботьтесь о нем за нас. Он будет усердно работать. Он желает узнать все о новом мире и обычаях pakeha. Он хороший сын».
Письмо было подписано «с огромной любовью». В то мгновение мне потребовались все мои силы, чтобы не передумать и не остаться. Возможно, я глубоко ошибался. Возможно, мой настоящий дом был прямо передо мной. Но этот дом никогда не давал мне того, к чему я стремился, и я знал, что должен воспользоваться возможностью, предложенной Художником. Мы обнялись, один за другим, со всеми, кто меня знал, на что потребовалось время. Даже муж Аны Нгамате пожал мне руку и прижал свой нос к моему. Было много слез. Напоследок я подошел к своей приемной матери, и мы долго простояли, обнявшись. Когда мы расстались, она повесила мне на шею heitiki из pounamu, нефрита, – самый драгоценный подарок, кулон, который мне следовало всегда носить на себе.
– Он будет оберегать тебя, – сказала она. – Мы будем с тобой. – Но на этом ее слова иссякли.
* * *
Итак, я шагал на север, неся вещи и инструменты Художника вместе с Мофаи, знавшим окружающие земли намного лучше меня. Мы шли вдоль побережья от деревни к деревне, при любой возможности останавливаясь и делая зарисовки и набирая все больше поклажи – образцов искусства и ремесел разных племен. Где бы мы ни останавливались, Художник неизменно следовал заведенному распорядку, тут же доставая художественные принадлежности, чтобы обезоружить местных жителей волшебством своего карандаша. В тех немногих случаях, когда местные жители не прельщались рисунками белого человека, мы незамедлительно ретировались, не учиняя обиду. Пару раз мы заходили в город, достаточно большой для того, чтобы в нем был торговый порт, и нам с Мофаи даровалось избавление от наших постоянно растущих тюков, которые Художник отправлял домой в Лондон. Несмотря на это, ему доставляло такое удовольствие совершать новые приобретения, что частенько мы оказывались нагружены заново уже на следующий день.
Всякий раз, как мы останавливались, я пользовался возможностью пустить в дело черновики Художника, записывая то, что помнил из миссионерских уроков, или новые знания, открытые мне Художником. Иногда я пробовал силы в арифметических действиях или в написании писем, которые, казалось, никак не могли хоть сколько-нибудь точно передать то, что мне хотелось сказать. Моя рука явно очень пострадала от недостатка практики.
Таким образом мы шагали по острову на север и наконец оказались в столице. Здесь Художник объявил о намерении купить обратный билет до Лондона, а Мофаи – о намерении вернуться к своим сородичам в Бей-оф-Айлендз еще дальше к северу. Как и следовало ожидать, у Художника оказалось слишком много багажа, и в качестве дополнения к согласованному вознаграждению он предложил Мофаи один из своих наименее модных костюмов.
– Ты сослужил мне хорошую службу, потому что я возвращаюсь домой целым и невредимым, чего вовсе нельзя было ожидать с уверенностью в начале нашего пути.
– Ma pango ma whero ka oti[45]. – Мофаи притянул Художника к себе и прижался своим носом к его носу в прощальном hongi. – Я доволен своей новой одеждой.
Что до нас с Мофаи, у нас было мало общего, близкими друзьями мы не стали, хотя и делили одну ношу, но теперь Мофаи крепко взял меня за плечо и тоже прижал свой нос к моему:
– Всего тебе хорошего, сирота.
Он был явно доволен своим вознаграждением за пережитое приключение и быстро ушел.
– А что насчет тебя, Джеймс? – спросил Художник, отсчитывая мне в руку половину того, что он дал Мофаи. Мне раньше никогда не платили денег, и я крепко зажал их в кулаке.
Что насчет меня? Мне особо некуда было идти.
– Если я зарекомендовал себя достойным попутчиком, возможно, вы возьмете меня с собой в Лондон? Возможно, посредством оказанных мною услуг я заслужил право сопровождать вас? – Я раскрыл ладонь, показывая банкноты и монеты, которые он только что туда положил.
– Конечно, юный школяр. Я надеялся, что тебе будет по-прежнему интересно посмотреть мир. Полагаю, ты заработал на билет и кое на что еще. Мы немногое сможем тебе предложить, разве что английское образование и крышу над головой, пока ты не найдешь свой собственный путь в этом мире. Что думаешь, парень?
По-моему, это были самые замечательные слова, какие я когда-либо слышал, что я и сказал Художнику. Деньги остались у меня в руке, и Художник протянул свою руку и снова сжал мои пальцы в кулак вокруг них.
– Мы много чем можем друг другу помочь, Джеймс. В Лондоне я сделаю из своих рисунков офорты, чтобы показать их публике и переплести в книги. Многим из членов королевской семьи и аристократии, наших собственных rangatira, если тебе угодно, будет интересно увидеть изображения rangatira твоей земли. Но Лондон – бойкое место, там постоянно проходит множество выставок. Моей выставке понадобится дополнительная приманка – нечто такое, чего наши посетители больше нигде не смогут увидеть.
Речь художника привела меня в полное изумление. У меня было только смутное представление о том, что он имел в виду под «выставкой».
– Джеймс, как насчет того, чтобы в ней поучаствовать? Живой экспонат! Сын вождя – мой оживший рисунок! Я думал об этом все последние ночи нашего путешествия; я должен сделать все, чтобы выставка прошла успешно. Ты красивый и умный парень, Джеймс, и я уверен, что моим соотечественникам и соотечественницам будет крайне любопытно увидеть представителя коренных жителей Новой Зеландии. Лондонские выставки взяли моду показывать туземцев из многих стран. Я надеялся, что в моей коллекции артефактов будет достаточно, но это будет еще великолепнее. Какую толпу мы привлечем!
Мне приятно думать, что я не поддался на лесть Художника, но подозреваю, что в действительности все было как раз наоборот. Меня определенно заразило его волнение. Я одарил его своей самой широкой улыбкой и кивнул. Почему бы и нет? Предложение было странное, но интригующее. И взамен мне бы открылась возможность получить лондонское образование. Все знали, что иногда наши соплеменники нанимались в матросы и уплывали на кораблях, но школа в Лондоне? Я никогда даже поверить не смел, что мне станет доступно нечто подобное.