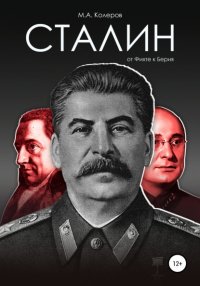
Читать онлайн Сталин: от Фихте к Берия бесплатно
- Все книги автора: Модест Алексеевич Колеров
Моему старшему сыну Филиппу
с благодарностью и надеждой
Предисловие
Легко повторить за практиком либерализма и теоретиком индустриализма, обычно глубоким Реймоном Ароном (1905–1983), что «современное индустриальное общество наделило советский режим средствами, которыми не располагала в прошлом ни одна деспотия»1. Но в этой инструментальности виден слишком простой цивилизационный расизм, который отводит сталинскому СССР место и роль принципиально другого. Легко сказать: Сталин – инобытие современного Запада, его Нового времени, Модерна, Просвещения и индустриализма.
Но это – не инобытие. Сталин – родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение. Нет ни одного инструмента сталинской власти, который не был выработан ещё до Сталина колониальным, империалистическим, технократическим и социалистическим Западом. Маркс дал революционерам метод, глубоко интегрированный в Модерн. Ленин превратил этот метод в язык немедленной революции. Правящий Сталин вернул этот язык в ландшафт большой истории России.
Настоящая книга очерков выросла из моего предисловия к книге об истории сталинского принудительного труда военнопленных, окончание которой впереди. На этом предисловии я хотел остановиться и обратиться к вопросам экономической истории сталинизма. Но не удалось. Я поставил перед собой ряд вопросов, ответы на которые зажили отдельной от истории военнопленных жизнью и пока далеки от окончания. Первые простые вопросы были связаны с институтами и географией принудительного труда: когда он появился в Советской России / СССР? чем он отличался от иных систем принудительного труда? почему местом его наиболее интенсивного применения стала Сибирь? была ли, когда и почему была особо высокой смертность военнопленных? уникально ли тяжёлыми были их «жилищные» условия? действительно ли был «бесплатным» труд заключённых и военнопленных? был ли он эффективным и почему? чем был принудительный труд в сталинской экономике, управление которой полезно увидеть в категориях административного рынка, где одним из главных ресурсов была рабочая сила? За ними последовали вопросы более общие: какова история стратегического тыла СССР в Сибири? какова историческая практика массовых репрессий? каковы традиции индустриального принудительного труда вообще? каковы истоки и традиции биополитики Нового времени? каков контекст и практический смысл экономической мобилизации СССР периода сталинизма? как присутствует европейский Модерн в практике русского и советского коммунизма? чему научились у него большевики? Ответы на первую часть вопросов я надеюсь дать в будущем – та книга будет основана на контекстуализации архивных материалов «Особой папки» Л. П. Берия в НКВД / МВД СССР из родного для меня Государствен- ного Архива Российской Федерации. Ответы на вторую часть вопросов я пытаюсь дать в этой книге. Для них архивы избыточны.
Картину исторического ландшафта я пытался описывать изнутри его времени. Это, в частности, продиктовало мне многолетний сыск аутентичных изданий 1900–1940-х годов, которые точнее всего выражают осознанное строительство умственной сцены и были отфильтрованы поколениями исторической цензуры. Для своего времени эти издания (в том числе – с положениями Ленина, бывшими в употреблении в несколько ином виде, нежели это отшлифовано позже) – свершившийся факт и фактор. Поэтому они в принципе не следуют указаниям будущих партийных «Кратких курсов» и ближе всего стоят к породившему их ландшафту.
Ещё важнее прямая связь военно-исторических и пропагандистских изданий, например Наркомата обороны СССР, официальной картографии и самой быстрой перемены событий. Она отражается даже в дне сдачи и подписания книг в печать: иной раз политическое высказывание долго ждёт своего часа, чтобы выстрелить. Поражает вряд ли детально прописанный консенсус и коллективная солидарность пропагандистов: если бы не они, уследить за тонкими нюансами их навигации не могла бы даже гениальная универсальная цензура. Потому и кажется, что уверенный в себе сталинский политический язык – при всех колебаниях «линии партии» – десятилетиями живёт по своей независимой логике, а не внутри исторического ландшафта, где решения во многом предопределены. Но он живёт только внутри ему понятного и для него возможного.
Почти тридцатилетняя моя научная работа неожиданно соединила мои занятия историей русской общественной мысли 1890–1920-х годов, бюрократической историей принудительного труда и практикой постсоветских этнократий и национализмов. В их проекции обнаружилась неотделимая связь традиционного, доктринального и возможного, острый скелет которой проступает через любую политическую риторику. О ландшафте и языке исторической борьбы сталинского коммунизма – мои очерки.
* * *
Приступая к тексту, окончание и публикация которого так затянулись, я боюсь обойти благодарностями тех, кому за эти годы я стал лично и научно обязан. Благодарю всех – «их имена, ты, Господи, веси». Но более всего благодарю того, кто учил меня изучать сталинизм, и ту, кто помогает мне делом и критическим словом: Владимир Александрович Козлов, Ольга Валериановна Эдельман, низкий поклон вам.
Посвящаю эту книгу памяти тех моих предков, кто в своей судьбе соединил историю старой России, сталинского СССР и современной России. Памяти моего прадеда, русского крестьянина и псалмопевца Ивана Павловича Слесарева (1876–1934), раскулаченного, умученного на строительстве Беломорканала и умершего в тюрьме в Белых Столбах. Памяти его младшей дочери, моей бабушки, русской крестьянки Анны Ивановны Утёнковой (Слесаревой, 1911–1993), пережившей раскулачивание, гитлеровскую оккупацию, военный тыл и голод, образцово верной Русской Православной Церкви, кавалера ордена Отечественной войны. Памяти её мужа, моего деда Фёдора Васильевича Утёнкова (1908–1970), солдата 50 стрелкового полка Красной Армии, 29 октября 1941 года попавшего в гитлеровский плен – и бежавшего из плена, чтобы воевать до Победы. Памяти моей самоотверженной матери, Галины Фёдоровны Колеровой (Утёнковой, 1932–2010), пережившей войну, оккупацию, голод и сорок пять лет непрерывного труда на угольной шахте.
5 мая 2017 года
Ландшафт истории и политического языка
Введение
В целом до сих пор господствует прежний, от прошлого унаследованный и воспринятый тип организационного мышления. И с особенной силой держится он как раз у идеологов класса, ещё в большей степени воспитанников старой культуры, чем те широкие массы, делу которых они служат.
А. А. Богданов2
В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий после того, как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и потому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла.
Джон М. Кейнс3
Научная совесть автора обязывает его признаться в ограничениях своего метода и в бремени своего идейного выбора, бросающего тень на метод. Вот это признание.
Настоящая книга очерков исследует унаследованный и созданный мир, который открывался в сознании создателей сталинского коммунизма. Особенно – тот мир, который руководил ими – независимо от внешней истории – внутри, часто в подкладке партийной и доктринальной риторики и лексики марксизма-коммунизма, заставляя на практике подвергать их радикальной ревизии и подмене, меняя смысл и даже сам язык своей идеократической власти. Этот метаязык, язык описания общества, сложившийся в России к началу ХХ века, методом проб и ошибок выстроил целостный ландшафт политического языка. Как метаязык, «внутренний язык» описывал, то есть формировал, непосредственно картину мира, доктрины и образы в сознании русских революционеров, пришедших к высшей власти в 1910–1930-е годы. Он был свободен от принуждения к конкретной публичной лексике и риторике. «Наедине с собой» она была свободна от агитации и пропаганды. В этом ландшафте унаследованного ими языка главными были терминология экономической науки, философски обоснованные категории социальной практики, историко-политические аналогии, шаблоны, мифы, образцы, абсолютное большинство которых имело западное происхождение. Центральным моментом в истории этого наследства в России была середина XIX века.
Классик русской славистики В. М. Живов (1945–2013), вслед за общими наблюдениями В. В. Виноградова о том, что в той середине века на первый план вышел газетно-публицистический и научно-популярный язык, определённо указывает, что жертвой этого приоритета стала художественная литературность языка, а рост грамотности и читающей публики создаёт именно книжный рынок и центральное место в чтении – для толстых журналов. Развивая наблюдения современника правящих революционеров над их языком, В. М. Живов отмечает, что они не только вводят в общественно-политическую жизнь книжную философскую, экономическую и социологическую терминологию, но и делают их «коммуникативно избыточными»: «Это означает, что заимствования выполняют не прагматическую, а символическую функцию». Если в царской России «нелюбовь к заимствованиям оказывалась элементом официальной идеологии», то «изобилие заимствований в революционном языке оказывается, следовательно, манифестацией антирусской политики большевиков в 1910–1920-е годы»4. Славист подводит итог тому, какая судьба ждала оппозицию Россию и Запада при коммунистической власти: «русская революция обладает языковым компонентом, а в этот компонент входит усиленное использование «западных» заимствований». Можно смело продолжить этот диагноз, отметив, что такое избыточное, революционное заимствование касалось не только лингвистических, но и уже «натурализованных» в русской науке понятий, исторических образов, метаязыка. Здесь В. М. Живов близко подходит к описанию того, что я называю ландшафтом: «В стандартной коммуникативной ситуации пишущий выбирает из весьма ограниченного репертуара вариантных форм, а степень своего владения языковым стандартом демонстрирует за счёт иных языковых средств – за счёт лексического выбора и стилистики синтаксических конструкций»5.
Ландшафт дан, разумеется. отнюдь не только революционерам. Люди и общества в целом борются за выживание, власть и ресурсы, вырабатывая или наследуя ритуальный, политический и культурный язык. Государство – непрерывная материализация этого языка, результат его бесконечных усилий описать, то есть подчинить себе, окружающий хаос. По ландшафту этих описаний и следующих им перспектив и движется история обществ. Современный британский историк, исследуя аграрные реформы самодержавия, также вводит в свой лексикон понятие «рационального ландшафта», который – как «предзаданный план» – в её описании противостоит ландшафту физической географии и аграрного землепользования в России. Понятие это богаче простого его применения как синонима утопии: внедряя в русское сельское хозяйство фермерский образец, правительственные реформаторы следовали его семантической полноте: «опираясь на убеждение, что земледелие в России призвано пройти тот же путь эволюции к индивидуальному фермерскому хозяйству, какой оно прошло в Западной Европе, были уверены, что “сделали ставку на историю”. Сила этого убеждения не только влияла на цели реформы и правила, по которым она осуществлялась, но и представляла собой рамку, в которой понимались результаты реформы»6.
Семантический и символический ландшафт истории – не только проективное усилие реформаторов, или консервативная лоция обществ в их движении внутри истории, но и тот исторический объём сознания, внутри которого тоже протекает деятельность обществ, ставятся их практические задачи. Независимо от действительного расположения звёзд на небосклоне. В прямой связи с тем, как они расположены в его историческом сознании. Великий французский исследователь Мишель Фуко (1926–1984) ещё радикальней увидел этот ландшафт как архитектоническое единство, заставляя анализировать уже не просто культурную непрерывность влияний и традиций (которая может прерваться), а более глубокую его основу: «внутренние связи, аксиомы, дедуктивные цепочки, совместимости», «единый горизонт для столь различных и последовательно сменяющих друг друга смыслов… проблема не в традиции и следе, а в вырезе и границе»7.
Конечно, ничто в границах этого ландшафта не может удержать народы и государства от гибели. Но фаланги и «большие батальоны» проходят именно по этой ментальной земле. Даже безопасность и выживание обществ прямо диктуются географией и ландшафтом исторических угроз вне их конкретных идеологических толкований. В структуре исторических угроз важнее оказываются факторы их интеллектуального пространства: семантический консенсус, исторические прецеденты, история и география конфликта.
Создатель советской экономической географии,8 марксист конца 1890-х и социал-демократ вплоть до 1917 года Н. Н. Баранский (1881–1963) из глубины сталинского коммунизма, решавшего критически важную для него проблему экономического районирования и экстренного развития «стратегического тыла» перед лицом исторической угрозы с Запада и новой угрозы с Востока, смело соединял физический ландшафт с его общественным переживанием и, главное, почти прямо названной правящей волей: «географически мыслит тот, кто в достаточной мере привык обращать внимание на различия от места к месту не только по природным условиям, но и по историческим судьбам, и по общественным условиям, и по положению, и по хозяйству, кто привык свои суждения “класть на карту” (…) Географическое мышление – это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного “элемента” или “отрасли”, иначе говоря, “играющее аккордами, а не одним пальчиком”…». Похоже, именно это мышление Сталин называл в 1930-е годы «высшей географией»9. Советский последователь Н. Н. Баранского пошёл ещё дальше и прямо соединил экономическую географию, историю и идеологический «отбор»: «Анализ экономико-географического положения приучает, во-первых, “мыслить территорией”, во-вторых, отбирать наиболее существенное, в-третьих, мыслить в историческом аспекте»10.
Это соединение хотелось бы назвать идейно-историческим ландшафтом, если бы перед моим исследованием стояла специальная понятийно-терминологическая задача. Это единое чувство физической земли и нефизической истории, острое понимание их мощной инерции и хрупкой уязвимости – ценная редкость. И оно вполне может быть одним из важных результатов исследования. Но для меня здесь важнее обнаружение исторического ландшафта политического действия, идеологии, творчества, «положенного на карту» суждения, символической власти или претензии на власть над территорией. Всё это вместе выражает себя через описание ландшафта, и такое описание является способом его контроля11.
Если, по точному слову Ханса Зедльмайра (1896–1984), задача истории искусства – получить «целостный рельеф эпохи»12 (а он имел в виду, прежде всего, историю «больших стилей» в искусстве, то есть историю культурных эпох), то главная задача идейно-политической истории – установление её «целостного рельефа» – идейного, институционального, культурного, политического, технологического, производственно-экономического ландшафта. Налицо и обратная зависимость: идейный ландшафт определяет направление потока риторики, образный строй искусства. Понятийный инструментарий политической мысли диктует набор инструментов политики. Исторический ландшафт всегда оказывается глубже и твёрже всех, кто хотел испытать его прочность. «Сломы, разрывы… никогда не разрубают всю толщину истории надвое», – пишет открыватель большого исторического времени13. Ландшафт этот создаёт «зависимость от пути» (path dependence): её описали экономисты С. Либовиц и С. Марголин (S. Liebowitz, S. Margolin), когда заключили важную мысль о том, что перспективы деятелей и их конкурентов в равной степени зависят не только от нынешнего их положения, но и от того, где они находились прежде (where we go next depends not only on where we are now, but also upon where we have been). В применении к истории России главное иностранное знание состоит в понимании того явного обстоятельства её природных и географических условий, что исторически низкая производительность её хозяйства является дефицитом прибыли для свободного экономического развития, требующего обеспечения безопасности: высокая себестоимость её производства есть высокая себестоимость её безопасности14. Другой западный систематик, экономист-институционалист, резюмирует уже общий характер даже этой специально российской зависимости, подводя итог вековому спору идеологов, учёных и практиков об исторической и полити- ческой роли географического фактора: «Спор о сравнительном значении географических и институциональных факторов – это спор не столько о том, влияют ли географические факторы на экономическое развитие, сколько о том, влияют ли географические факторы через формирование институтов или по другим каналам»15.
Но, кажется, внутри России это обстоятельство никогда не было выражено с достаточной экономической ясностью. Осознанная «зависимость от пути» чаще всего носила идеологический характер, который не описывал выживание в отдельных категориях развития и безопасности. Общества реализуют свою свободу, насколько она им дана, внутри языка описания, живя и развиваясь в его жёстких границах, в тех его «камнях, подводных мелях», что определил Велимир Хлебников (1885–1922) для навигации среди людей.
Общество ставит себе только поименованные им самим задачи, использует только понятные ему образы, определяет себе место только в описанной иерархии. Вся ближайшая к нам история говорит на самых революционных языках. Но даже революции, изобретая новый язык и новый порядок, изобретают их сначала в словах, выученных с детства, строя свой новый Вавилон из старого камня, как власти довоенного Ленинграда – тротуарный поребрик из могильных плит, хранящих дореволюционные надписи. И если Ленин говорил, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», то он вовсе не мечтал распустить свою коммунистическую партию для предварительной переподготовки. Он увенчивал своей Вавилонскою башней предыдущую цивилизацию и проверял унаследованный вокабуляр.
Массовые армии, массовый плен, массовое убийство, массовое колониальное рабство и массовый колониальный террор, который потом назовут геноцидом, – таков был привычный язык общества Просвещения и индустриального империализма, из которого черпала свой марксистский лексикон Советская власть. Современный немецкий философ Герман Люббе, открыто опасаясь реабилитации и самооправдания тоталитарного террора через обнаружение его корней в Просвещении, не может не признать того, что его корни лежат именно в Просвещении. Но тому, кто политически решил выработать «научное» противоядие против такой реабилитации, но не способен отбросить пропагандистское понятие «тоталитаризма», придётся пойти на историческую подделку – и перестать возводить его генезис к тотальности модерного индустриализма. Пока такое «научное» самоограничение разоблачителей тоталитаризма отдельно от разоблачения капитализма не стало фактом. Поэтому следует признать, что в нашем мире, что «возлележит», где государство – неизбежное зло, добровольный грех и единственный гарант доступной общественной свободы, Сталин – зло, равное злу капитализма, колониализма и империализма. Он не создал ни единого инструмента государственного террора, который не создали бы капитализм и Модерн. Осуждая Сталина, нельзя столь же решительно не осудить террор капитализма и колониализма. Как бы ни опасался реабилитации гитлеризма и сталинизма Г. Люббе, этика учёного заставляет его сказать, что «Просвещением порождены концепты как либеральной, так и тоталитарной демократии», что изобретённая просветительской Великой Французской революцией гильотина как инструмент «гуманизации», общественной «гигиены» и прав человека (что было внятно описано ещё Мишелем Фуко (1926–1984)16, но Г. Люббе не принято во внимание), «делает террористическое очищение общества технически возможным»17.
Перед лицом такого Просвещения, которое в ходе индустриальной демократизации в течение XIX века стало тотальным, после практически мгновенной гибели русской революции Октября 1917 года как части революции мировой – сталинский коммунизм в России имел только один исторический ландшафт, по которому ему предстояло идти. Этот ландшафт принуждал к социально истребительной индустриализации, угрожал расистским колониализмом, агрессивным национализмом, империалистическими этническими чистками и, наконец, прямым гитлеровским геноцидом. Здесь сталинский коммунизм пытался остаться в тесной экономической и технологической связи с Западом, ибо иного языка марксизма и индустриализма, кроме западного, не знал. Но Запад, защищая себя от угрозы «мировой революции», обратился к Советской России лицом этнократических диктатур и великодержавных демократий «санитарного кордона», изгнал коммунизм на колониальный Восток, чтобы тот разделил судьбу колониального Востока.
СССР пытался солировать в мировом хоре коммунистического пролетариата и антиколониальных движений Востока, а солировал в антикрестьянской гекатомбе «первоначального накопления» ради индустриализации и подготовки к войне, не выходя за пределы политического языка XIX века, не порывая с синтетическим, социально-экономическим шаблоном марксистского языка, в прописях которого России положено было умереть как государству вместе с царизмом и капитализмом. Но индустриального капитализма оказалось слишком мало крестьянской стране, погибшей великой державе, катастрофически превратившейся в объект колониального передела, – чтобы выжить. В век этнического национализма и национальных самоопределений советский коммунизм был им родной окраиной и провинциально пытался стать вполне «своим», а на деле – встал в один ряд с Китаем и Индией того времени, обречённый бороться за «Красный Восток», чтобы не стать колонией и вновь занять утраченное место среди великих держав. И, утверждая себя как оплот мировой революции, быстро превратил Коммунистический Интернационал из органа мировой революции (где Россия вначале была расходным материалом коммунистического глобализма) в инструмент своей суверенной внешней политики.
Сталинский коммунизм на пространстве Исторической России в главном всегда был языком европейского и модерного радикального индустриализма и традиционной массовой социальной нищеты. Он был обречён преодолевать свой исторический ландшафт, в котором страну, государственность и народ – без экстраординарных усилий – ждали смерть и растворение. И если политический язык Февраля и Октября 1917 года был подражанием французской истории от 1789 до 1871 гг., то язык сталинских 1920-х и 1930-х гг. был немецким – объединяющейся Германии и людоедского «первоначального накопления», протекционизма и колониализма в Англии и Голландии XVI–XIX вв., образцово описанных Карлом Марксом в первом томе «Капитала».
Противостоя колониальной экспансии машины германского милитаризма и индустриализма, Россия умерла в Первой мировой войне, но удивительным образом выжила в СССР и достигла апогея 9 мая 1945 года и в полёте Юрия Гагарина. И вновь умерла в СССР в 1991 году и теперь вновь ведёт историческую борьбу за своё место среди великих держав, чтобы не быть их колонией.
Но Модерн исчерпывает себя, уступая новому «новому средневековью». Ведёт радикальную борьбу против зависимости своего политического языка от того прошлого, что его формирует… Чтобы установить новую монополию на язык описания.
Исследователи слишком долго искали и находили в сталинском коммунизме частное, отдельное и локальное, революционное, присущее культурной и государственной традиции России, что пора найти в сталинском коммунизме и общее, генетически связанное с европейскими Просвещением и Модерном, их экспансией в мире. Общего в эпохе Сталина явно больше, чем частного. В современной политической риторике «западные ценности» – это «Сияющий Град на Холме» США, а до недавнего времени – Иисус Христос, Habeas corpus, Магдебургское право, «Об общественном договоре» Руссо. Однако на практике исторический Запад – это инквизиция, капиталистический геноцид, колониализм, расовая сегрегация и рабство, Гитлер и Хиросима. Нет зла, которое не вошло бы в эту практику. Сталин растёт из неё.
С этим не в силах согласиться те исследователи Сталина, стержневой пафос которых определяется не исследованием, а политической критикой сталинизма. Даже архивные источники встраиваются ими в горизонт исторических разоблачений, подчинённых партийной полемике, принуждающей читателя не к знанию, а к партийному выбору. Новый яркий пример превращения огромного количества переработанных важнейших архивных и иных данных по истории сталинизма в подкладку для пропагандистского примитива являет собой книга известного американского историка СССР Арча Гетти. На глазах читателя внутри одного текста и одного исследователя разворачивается впечатляющая борьба агитатора и историка, а источниковое богатство превращается в то, что академик Б. А. Рыбаков нам, студентам исторического факультета МГУ, на своей лекции квалифицировал как «рог изобилия наоборот». Книга А. Гетти – безусловный апогей западной советологии, ибо концентрирует в себе всё, что сказано в русской и западной публицистике против России за последние 200–300–400 лет, и видит своё достоинство в соединении всех мыслимых помрачений Исторической России в фигурах Сталина и Путина. Можно было бы отнести усилия А. Гетти к разряду лубка, но они на самом деле существенно резюмируют то, что в историографии противостоит той контекстуализации сталинизма, с которой намерен в этой книге выступить автор этих строк. Гетти пишет, что сталинизм выражает российские политические и культурные практики, глубинно, неотъемлемо, живо, фундаментально присутствующие в русской истории сотни лет – и поныне, «независимо от господствующей идеологии, религии или государственной программы»: персонализация политики, симбиоз личного и олигархическо-кланового правления, «пренебрежение к регламентированной бюрократии», простительное лишь в контексте (по сути – колониальной! – М. К.) отсталости России, располагающей её в одном ряду с модернизирующимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. И самое, как, видимо, полагает А. Гетти, уникальное в вечных структурах и контурах русской истории, апогеем которых стал сталинизм: «сильное милитаризованное государство, личная автократия, прикрепление крестьян к земле»18. Создаётся устойчивое впечатление, что, находя вечную персонализацию политики в отсталой России, американец А. Гетти в странном полном ослеплении не видит её в истории, культуре и современности США, что он начисто не знает даже азбучных сведений о европейской и особенно западно-европейской истории, что он вовсе лишён представлений об исторической памяти западных народов. Но это нисколько не мешает А. Гетти вступить в заочный спор даже с теми, кто на Западе помещает сталинизм в контекст хотя бы современной ему истории Запада, включая Германию и США, после Первой мировой войны: эти критикуемые им историки, по его словам, игнорируют «глубинные структуры» русской истории потому, что сосредоточились на «идеологии модерна»19… И это значит, что «идеологию модерна» А. Гетти смог обнаружить лишь после Первой мировой войны…
Собственное же исследование сталинизма, предпринятое А. Гетти, способно поразить своим антиисторическим темпераментом даже исследователей и коллекционеров нацистской антикоммунистической пропаганды. Вот образец, так сказать, исторического исследования А. Гетти, увенчивающего собой целую традицию в западной науке о сталинизме:
«Поднимая тост в честь 20-й годовщины большевистской революции, Сталин открыто высказался за коллективную ответственность абсолютно досовременного типа: “И мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы был он и старым большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его семью” (…) Можно сравнить этот тост со словами Чингисхана: “Всякий, кто не подчинится и попытается сопротивляться, должен умереть, вместе с женой, детьми, родными и близкими!” Татарские потомки Чингисхана, правившие Россией, наверняка разделяли его взгляды. (…) Сталинисты исповедовали концепцию “объективной вины”, которая расширяла рамки коллективной виновности за пределы конкретных действий и даже сговора. Эта идея, изложенная наиболее чётко в “Слепящей тьме” Артура Кёстлера, заключалась в том, что даже личные сомнения человека в официальной политике равносильны измене ввиду их объективного эффекта. Русская православная традиция тоже признавала “грех помышлением”. (…) Сталин и большевики не сами изобрели коллективную вину, и Сталин не просто подражал Ивану IV. Практика коллективной ответственности и кары (круговая порука) имеет давнюю традицию в российской истории задолго до Нового времени. Ещё до татаро-монгольского нашествия первый русский свод законов XI в., “Русская правда”, возлагал на общины коллективную ответственность за преступления. (…) Хотя аресты и казни целых политических кланов прекратились, падение одного лица попрежнему влекло за собой падение всей окружающей его группы; как мы увидим, так обстоит дело и при Путине»20.
Тем временем, чуть в стороне от советологического комикса и лубка, тоже политический критик Сталина и, плюс ко всему, адвокат внешней политики США и Британии накануне 1939 года вынужден реконструировать «сталинскую систему мировых координат» как сталинскую картину мира – независимо от бредового винегрета из Чингисхана, Кёстлера, Грозного и Путина – созданную, в том числе, реальностью мировой политики его времени. Критик партийно предлагает видеть её чисто «марксистской», «сугубо классовой, ограниченной, преимущественно представленной в чёрно-белых тонах», диктуемой концептом «враждебного капиталистического окружения». Но даже критику, контрфактически уверенному, что никакого не спровоцированного большевиками «враждебного окружения» СССР не было в природе и что категории государственных интересов для Сталина якобы не существовало, приходится признать, что Сталину и СССР «приходилось считаться» с фактом межгосударственной конкуренции21. Можно сколько угодно верить в самозаконную опасность ленинско-сталинского коммунизма, порождающую даже нацизм (по уверению Эрнста Нольте), но одно лишь указание на его (по вкусу) либо марксистские, либо русские империалистические идейные корни автоматически помещает этот коммунизм в контекст исторической традиции и исторической памяти с их традиционными источниками угроз, конкуренции, центрами силы, приоритетами. Ведь не коммунизм же ХХ века породил мировую борьбу XIX века и мировую войну 1914 года. И не советский же коммунизм породил тот политический язык, на пространстве которого действовали его лозунги, оперировавшие идейными айсбергами империалистического Запада и колониального Востока. Как резюмирует К. Поланьи, созданные в 1917–1920 гг. новые государства и их режимы, «когда дым контрреволюции рассеялся» в Венгрии, Австрии, Германии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Болгарии, Италии, решили задачи национального освобождения и аграрный вопрос в духе революций XVIII–XIX вв.: «не только Вильсон и Гинденбург, но также Ленин и Троцкий в этом, широком смысле принадлежали к западной традиции»22. Осталось сказать, что они вообще, во всех смыслах, принадлежали к этой традиции.
Борясь против своего прошлого в его полноте, современный политический язык, оснащённый многочисленными гносеологическими и коммуникативными инструментами, начинает уничтожать своё прошлое так, что в его настоящем, в его практике не остаётся уже ничего, кроме «Краткого курса» любой партии. Исторический ландшафт покрывается новыми интеллектуальными ориентирами, призванными пересоздать язык, но бессильными изменить саму суть правящего социал-дарвинизма, который всё активней манипулирует коллективной памятью. Д. А. Юрьев точно отметил, что теперь человеческое «настоящее в каждый новый момент – одно, а прошлых – бесчисленное множество, и они меняются в зависимости от того, какое в данный момент случается настоящее». Задаваясь проблемой «политики памяти», операционализируя «историческую политику», современный лоцман всё менее нуждается в знании навигации и ландшафта – он всё более противостоит природному разнообразию исторического языка, заменяя его комиксом или лубком. Но, в отличие от мифов прежнего времени, сегодня этот лубок, чаще всего, – результат не массового сознания, а рациональной селекции и рациональной манипуляции им. Автор классического труда об «исторической политике» подчёркивает в связи с этим само свойство человеческой памяти, буквально взывающей к той избирательности, что он называет «политической памятью»:
«В отличие от технических хранилищ знания или архива, память не стремится к максимальной полноте; она вбирает в себя далеко не всё подряд, а всегда производит более или менее жёсткий отбор. Поэтому забвение является конститутивным элементом как индивидуальной, так и коллективной памяти»23.
В современности, особенно в нынешней современности, когда разрушаются даже модерные связи людей и сообществ и речь идёт о претензиях правящих заменить естественную социальную связь, социальную память – её рациональными симулякрами. Механизм таких исторически организованных символов или заменителей (субститутов) социального опыта применим и к рациональному построению идентичности. Они равно реализуются в том, что Поль Рикёр (1913–2005) определяет как «нарративную идентичность»: в процессе, акте «рассказывания» своей символической и мифологической истории. При этом общество в новых событиях само ищет знакомые образы и слова, старые обстоятельства и аналогии. Как сказал бы Марк Блок (1886–1944), ту рассказанную идентичность уже рассказали, придумали, создали другие, даже при том, что рассказ их устарел, а имена ничего уже не именуют: «Всё увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими», «изменения вещей далеко не всегда влекут за собой соответствующие изменения в их названиях»24.
Управляемая, творящая, меняющая мир под себя, такая «историческая идентичность» неотделима от «исторической политики» любых властей и обществ, сколько бы ни твердили, что такая политика – дело только авторитарной идеократии. Она в любом случае тотальна и радикальна, принудительна и мифологична. Современный исследователь, излагая мысль польского специалиста по посткоммунистической Европе Гжегожа Экерта (Grzegorz Ekiert) о том, что «иного, кроме nation-building, способа включения сообществ в глобальные взаимодействия и даже просто сохранения за ними хотя бы минимальной субъектности не изобретено», сообщает:
«Nation-building как создание не простого энского общества, но хорошего энского общества, “завершённого политического блага”, требует решить, кто был богом, а кто дьяволом; что из бывшего, сущего и предстоящего должно рассматриваться как благо, а что – как зло»25.
Сегодня под «исторической политикой» в широком смысле в целом понимается политика единых ориентиров, единых формул описания26 прошлого с целью нормативного формирования (не только властью, но и любым институтом) партийного или общенационального единства, «политика памяти», историческая часть «национальной идеи». «Историческая политика» в нейтральном, в узком смысле – это критическое исследование, описание и распространение исторических знаний-интерпретаций. Это исследование первоначально производится как набор фундаментальных описаний и интерпретаций, подчинённых языку интернациональной науки, и лишь затем расширяется, переводится на язык политических задач, «демократизируется» в гамме учебников, имплементируется в широкой сфере культуры и создания идентичности, включая музеи, топонимику, туристические объекты, исторические символы, памятные даты, картографию, внутри и внешнеполитические исторические претензии, общегосударственные или партийные ритуалы, протокольные мероприятия27.
Оба вида «исторической политики» – широкое формирование и узкое исследование – одинаково, но с разной степенью интенсивности, находят или создают для общественного употребления образ общенациональной (партийной) миссии, жертвы, «исторического врага», чужого, другого. И это лишь подтверждает тот очевидный факт, что «историческая политика» – как всякое идеологическое творчество и культурное самосознание – существовала «всегда», во всём обозримом горизонте сообществ, владеющих чуть более сложными, чем простая космогония или мифология, диахроническими представлениями о человеческом мире. Можно сказать, что любые инструменты создания, сохранения и трансляции идентичности уже были инструментами «исторической политики» до того, как её назвали таковой. Так герой Мольера – Журден, на старости лет решив приобщиться к высокой культуре, – с удивлением обнаружил, что уже 40 лет говорит не как-нибудь, а именно «прозой».28
Творящий, избирательный смысл исторического знания, проективный и регулятивный, мифологический и утопический смысл массового исторического сознания давно выяснен как проблема. Чтобы претендовать на частичное отражение научной истины, исследователь должен избавиться от претензий на аутентичное историческое знание, потому что они делают даже прошлое объектом манипуляций, чтобы управлять будущим с большей диахронической глубиной и эмоциональностью. В манипулятивности состоит не только общее человеческих коммуникаций, но и изобретение правил исторического самопознания, осознанное в гуманитарных науках с конца ХХ века. В новом времени уже само именование ключевых фактов истории обнаруживает свою революционную силу, а язык описания так же начинает конструировать общество как «конструируются» нации, этносы, общества и государства. И это касается не только проектирования будущего: «История превратилась в процесс производства не только социальных и прочих интересов, но и коллективных смыслов…»29.
В центр исследовательского внимания с начала 1990-х годов входит «вневременная сила воздействия визуальных образов или символов, а также их историческая сконструированность»30.
В полях новых национальных историй посткоммунистического и постсоветского мира идёт бескомпромиссная политическая борьба, подкрепляемая карательными санкциями государства: например, «советская оккупация» стран Прибалтики в 1940 году служит в Прибалтике государственной истиной, а её отрицание – кодифицированным преступлением. Обычность этих манипуляций для новых национальных государств или новых в них политических режимов доказывает претензии их «исторической политикой» на первичное, лингвистическое проникновение в «самопроизвольную», «естественную», «автоматическую», «органическую» национально-общественную обыденность. Лингвистическое «переписывание истории» в интересах новой исторической перспективы, отмечает исследователь современных западных новаций, «…реконструирует не “историю прошлого”, но, скорее, “историю о прошлом”. Таким образом, история как наука… неизбежно есть акт речевой интерпретации. История как конструкт и “перевод” придала новый импульс исследованию культурного самосознания того и иного сообщества. В академической историографии всё чаще стало встречаться понятие “коллективная память”, напрямую связываемое с понятием “идентичность”. Такой подход, по сути, означает, что феномен социальной сплочённости скорее “изобретается”, а не “обнаруживается”, т. е. является сконструированным, а не объективно существующим и выводимым из реальной социально-экономической структуры общества»31.
Политические селективные манипуляции над исторической памятью не только созвучны естественному для общества самоочищению коллективной памяти от исторической вины (и встречное вытеснение её исторической доблестью)32, но и типологически близки, например, фальсифицированию «истории жертвы», «аутовиктимизации», что блестяще продемонстрировало разоблачение швейцарского писателя Биньямина Вилькомирского, в 1995 году придумавшего себе и художественно описавшего свою биографию как жертвы Холокоста. Исследователь скандала обоснованно привлекает к анализу этого литературно-морального повреждения книгу американского психолога Дэвида Шектера о «Семи грехах памяти», среди каковых выявляются «ложные воспоминания», внушаемость, блокирование «нежелательных» и фиксация на травматических воспоминаниях, избирательность и «выцветание» памяти33.
Лингвистический, понятийный, «ролевой» контроль над избирательностью коллективной памяти эффективен и тем, что может обойтись без сложных схем, обращаясь сразу к обществу в целом и, что особенно важно, делая это в момент порождения в нём навыков коллективного языка и коллективной мифологии. Он эффективен эксплуатацией того, что в теории риторики анализируется как «имплицитная семантика», исподволь встраивающая в систему понятий общества сразу весь необходимый контекст – подсознательные приоритеты именно коллективного исторического сознания34.
Так в главных характеристиках всякой «исторической политики», творящей новую национально-политическую идентичность, проступает заурядная идеократическая диктатура. Здесь вполне обоснованно звучит вывод Л. Г. Ионина, сделанный им в ходе исследования современной западной «политической корректности», контролирующей сознание большинства с помощью конструирования внешних для её интересов ценностей и стандартов: «любой “новояз” существует не сам по себе, а как орудие легитимации реальной политики»35. Учитывая большее творящее усилие не только языка самого по себе, но и руководящего им идеализма, противостоящего миру в процессе творчества, глубоко звучит формула Н. К. Гаврюшина: «Становясь реальностью, идеализм превращается в реализм тирании».
Всё это имеет довольно отдалённое отношение к критической полноте исторического знания, зато ярко описывает творящий пафос политика или историка. Сталинский академик С. И. Вавилов (1891–1951) писал в 1941 году по этому поводу так: «Историки, видимо, даже не имеют понятия о флуктуациях и статистике. Каждый выбирает флуктуации, подходящие под его схему. Представить себе, что так бы делали, например, изучая броуновское движение!»36 Французский историк, чьи суждения о методе следуют за исследуемым предметом, Жак Ле Гофф (1924–2014), как ему кажется, опровергает грубый произвол коллективного или индивидуального самоописания как самоопределения. Он пишет, цитируя:
«История, согласно Хайдеггеру, это не просто осуществлённая человеком проекция настоящего в прошлое, но и проекция в прошлое в наибольшей степени вымышленной части его настоящего; это проекция в прошлое будущего, которое он выбрал для себя, это история-вымысел, история-желание, обращённая вспять… Поль Вен прав в своём осуждении этой точки зрения, говоря, что Хайдеггер “всего лишь встраивает в антиинтеллектуальную философию националистическую историографию прошлого [XIX] века”…»37.
Придётся признать, что, выраженные как политические, претензии Ле Гоффа и Вена к Хайдеггеру не только слишком просты и поверхностны, но прямо противостоят растущей полноте современного знания о том, как сами же политизирующие историки (и Ле Гофф из их числа) подвергают свой предмет эквилибристическому препарированию, чтобы сделать из него острый (на деле – мифологически отупляющий) общественный инструмент.
Они разоблачительно вменили Хайдеггеру «девятнадцатый век»! Но что иное, кроме как XIX век национальных возрождений, национализма, протекционизма и милитаризма, служит сегодня и до сих пор, и всё более контекстом для абсолютного большинства властвующих «исторических политик» в Центральной и Восточной Европе, Прибалтике, Закавказье и Средней Азии? Разве что-то иное служит внешним актуальным образцом для властей современной России в поиске той «исторической политики», что могла бы построить (с учётом российских многонациональности и федерализма) исторический шаблон для общенационального единства? Потому и «академическое» презрение французского историка к утопической и интерпретативной силе истории выглядит неискренней претензией на обладание истиной, свободное от актуальности и контекста. Впрочем, и это академическое высокомерие Ле Гоффа, и моя гипотеза о возвращении контекста национализма находятся внутри единой исторической реальности, давно описанной великим левым мыслителем и – что очень важно, в 1940–1952 гг. – высокопоставленным сотрудником спецслужб и Государственного департамента США, стоявшим у истоков принципиальных решений США о послевоенном мироустройстве в борьбе против СССР и коммунизма. Это он, Герберт Маркузе (1898–1979), писал об этой реальности задолго до того, как она нашла себе частное применение в «исторической политике» США:
«В обществе тотальной мобилизации, формирование которого происходит в наиболее развитых странах индустриальной цивилизации, можно видеть формирование предустановленной гармонии между образованием и национальной целью; вторжение общественного мнения в частное домашнее хозяйство; открытие дверей спальни перед средствами массовой коммуникации»38.
На языке практики этот почти-эвфемизм о «предустановленной гармонии между образованием и национальной целью» означает тоталитарное по своим претензиям, принудительное соответствие полноты национального просвещения задачам национального (а также националистического и этнократического) властвования. Речь идёт о присущем современности – там, где она устойчива и функционирует как консенсус, – государственном, корпоративном и общественном идеологическом диктате в области массовой культуры и грамотности, острие которого и составляет «историческая политика». «Предустановленное», то есть руководящее, рациональное подчинение общенационального просвещения и воспитания – конструируемой национальной мифологии, – это та самая тотальность Модерна, которая демагогически разоблачает тоталитаризм вне себя. Практика же этого тотального Модерна сегодня – тоталитарные и агрессивные претензии новых националистических государств. Исследователь современного национализма в его западной практике, ещё недавно праздновавшей общегражданский «мультикультурализм», а ныне уничтоженной восстанием террористов и радикалов Магриба и Большого Ближнего Востока, свидетельствует:
«Методологический национализм провоцирует веру в изоморфизм пространства наций-государств и пространства культуры, тем самым он препятствует (как минимум, “препятствует”, на деле же рационально и последовательно исключает. – М. К.) видению действительной неоднородности культурного пространства, которое оказывается под контролем того или иного национального государства»39.
Потому лицемерна прикладная, в согласии с практикой «холодной войны» США, борьба, например, Ханны Арендт (1906–1975) в защиту личности против тоталитаризма, когда она сопровождается у неё апологией самозаконного языка, чьё отношение к обществу столь же тоталитарно. В зените своей борьбы против тоталитаризма она так излагала формулу Вернера Гейзенберга: «всегда, когда человек будет пытаться познать не самого себя и не что-то созданное им самим, он в конце концов столкнётся с самим собой, собственными конструкциями и схемами собственного действия»40. Елена Петровская, интегрирующая западную философскую традицию ХХ века в русский контекст начала XXI века, обоснованно отмечает: «всякий объект исследования необходимо построить или создать». Она говорит о том пределе создания и эксплуатации варварства, в коем избегают признаваться себе проектировщики «исторической политики»:
«…массовая культура – это не объект чистого манипулирования, но область активной переработки фундаментальных социальных и политических тревог, фантазий и переживаний. На уровне отдельного произведения эта переработка осуществляется таким образом, что “сырой материал” фантазий и желаний часто архаического толка выходит на поверхность только для того, чтобы подвергнуться вытеснению со стороны символических структур произведения, которые обеспечивают реализацию желаний лишь в той мере, в какой их можно тут же нейтрализовать»41.
Не только выявление, селекция, но и «приручение», эксплуатация и подмена исторического опыта (травмы, гордости, миссии) народа в интересах управления этим народом становятся сутью «исторической политики». Стержнем и текстом такой политики выступает не историческое исследование вообще, а то, что Ф. Р. Анкерсмит анализирует как «идеологический нарратив». Как научный метод – одновременно со становлением «исторической политики» как инструмента «холодной войны» против СССР – этот нарратив деградирует именно с точки зрения его научного качества. Он становится умозрением, «спекулятивной философией истории», не наукой, а предметом веры: «этот тип философии истории, начиная с 1950-х гг., несколько испортил свою репутацию. Спекулятивная философия истории была обвинена в получении псевдознания о прошлом. Говоря конкретнее, было показано, что спекулятивная философия истории есть часть метафизики, поэтому получаемое ею знание не столько ложно, сколько не верифицируемо»42. Но, несмотря на всю его архаичность и ангажированность, этот метод остаётся в центре «исторических политик»:
«Нарративные интерпретации обращаются к прошлому, а не корреспондируют и не соотносятся с ним. Современная философия исторического нарратива околдована идеей утверждений. Язык нарративов автономен в отношении прошлого… Нарративизм – это конструирование не того, чем прошлое могло бы быть, а нарративных интерпретаций прошлого… Нарративные интерпретации являются не знанием, но организацией знания… Современная историография основывается на политическом решении»43.
В этих точных и актуальных словах мало нового, но больше сложного и прикладного, чем по нынешним временам в слишком простых признаниях русского классика Б. М. Эйхенбаума (1886–1959), которые, кажется, прошли мимо сознания его многочисленных поклонников в России:
«…всякая теория – рабочая гипотеза, подсказанная интересом к самим фактам: она необходима для того, чтобы выделить и собрать в систему нужные факты, и только. Самая нужда в этих или других фактах, самая потребность в том или другом смысловом знаке диктуется современностью – проблемами, стоящими на очереди. История есть, в сущности, наука сложных аналогий, наука двойного зрения: факты прошлого различаются нами как факты значимые и входят в систему, неизменно и неизбежно, под знаком современных проблем… История в этом смысле есть особый метод изучения настоящего при помощи фактов прошлого. Смена проблем и смысловых знаков приводит к перегруппировке традиционного материала и к вводу новых фактов, выпадавших из прежней системы в силу её естественной ограниченности»44.
Даже научная, политически нейтральная история – осознанный отбор, речь и деяние. Она обнаруживается и как переживание, то есть изменение мира, и как язык описания практики, язык её изменений, и как создание исторического ландшафта, с которым имеет дело каждый исторический деятель. Этот культурный, языковой, политический, экономический, военный ландшафт и есть, собственно, весь наличный ландшафт истории, кроме её природных условий. Поэтому ландшафту или против него, по этому «дну возможностей», особенно значимому во времена катастроф, и предписывает следовать лоция институтов и пытается следовать навигация идей.
«Пересоздавать» эту и без того полуслепую навигацию по и без того полуслепой лоции с помощью разного рода моделей (абстракций, удобных для дидактики) – самое последнее, что может помочь исследованию. Новое исследование неизбежно устремляется прочь от моделей на ландшафт институтов и языка. Важно, что естественные науки и экономическая наука давно уже поняли, что эти модели и парадигмы – не более чем метафоры45, образы, карикатуры, воображаемое без связи с реальностью46, «эстетический образ парадигмы», предмет веры культурных и языковых сообществ47.
Вне исторической реконструкции языка описания можно увидеть лишь слепое движение примитивных, взаимно изолированных обществ – так, как диктуют им их природные условия, ритуальный опыт и органическое воспроизводство. На деле же доминируют не генеалогия, не диахрония, не рельсы, не русло, а их сеть, среда и ландшафт, исправляемые языком их описания. Поэтому в тех сложных обществах, где тотальный идейный диктат невозможен, «историческая политика» выступает не только как «политика памяти» или историография нации, но и как поле конкуренции разных «исторических политик». Равным образом, политическая сфера международных отношений является полем для инструментализации, навязывания стандартов, борьбы, сотрудничества, экспансии, «присвоения» государственных и общественных, национальных и блоковых «исторических политик», если таковые способны к самоорганизации и рационализации.
Но, учитывая всё выше сказанное, исследователь, по-видимому, должен отказаться от презумпции рационального поведения человеческих сообществ, рациональности их разнообразных интересов – даже с точки зрения простого эгоизма этих сообществ, от презумпции неизбежности или даже «нормальности» исторического выживания. Ничто не может гарантировать государствам и народам инерционного выживания. И рациональность их более чем условна, миметична, не очевидна. И органичность их исторических сознаний и тел столь же органически смертна. Их тела полны болезнями, не совместимыми с исторической жизнью. Но человек и сообщества одинаково ставят над собой эксперименты, где главным инструментом служит то, что Виктор Шкловский (1893–1986) назвал «энергией заблуждения». С чем сталкивается такая псевдорациональность сообществ? С хаосом других человеческих образов и воль, описать и предсказать которые эта рациональность может лишь постольку, поскольку она вообще способна формировать динамическую картину мира – его мыслительный ландшафт. Принудительная навигация по такому ландшафту, как минимум, не сразу приводит к национальному самоубийству и только поэтому создаёт иллюзию рациональности пути. В хаотической борьбе таких навигаций, страшно сказать, побеждает не школьная дидактическая рациональность, а физический потенциал, историческая мобилизация обществ, пафос и жертва, где главное – отнюдь не рациональность.
Русский гений Андрей Белый (1880–1934) в 1921 году в поэме «Первое свидание» так описал свою историческую эпоху, когда Сталин уже вышел на борьбу за высшую власть:
Я вижу – дующие зовы.
Я вижу – дующие тьмы:
Войны поток краснобагровый,
В котором захлебнулись мы…
…Что взрывы, полные игры,
Таят томсоновские вихри,
И что огромные миры
В атомных силах не утихли,
Что мысль, как динамит, летит
Смелей, прикидчивей и прытче,
Что опыт – новый…
– «Мир – взлетит!» —
Сказал, взрываясь, Фридрих Нитче…
Мир – рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гекатомбой.
Эта предсказанная Андреем Белым Хиросима – для России воплотилась ещё до Хиросимы. Индустриальная культура и биополитическая наука европейской современности, поставившие своей задачей пересоздание самой жизни, тотальная капиталистическая, революционная и военная социальность как тотальный социальный контроль Нового времени – стали вызовом Запада его исторической окраине – России. Перед Советской Россией легла определённая и внятно высказанная перспектива – стать ещё одной Индией и ещё одним Китаем для колониального мирового разделения труда в интересах индустриального империализма. И Советская Россия, став окраиной провалившейся мировой революции, решила стать локомотивом антиколониального восстания «Красного Востока», применив опыт индустриальной эксплуатации, чтобы ответить на вызов капиталистического модерна – утопией изолированного коммунизма. В этой «национализации» коммунизма СССР следовал западному образцу – национально-освободительному и патриотическому мифу Германии.
Отвечая на вызов индустриального Запада, подражая ему, подстраиваясь под него, защищаясь от его миссионерских и колониальных притязаний, технологически и культурно примеряя их к себе, борясь против них за государственное выживание – сначала против империалистической экспансии Швеции и Польши XVI–XVIII вв., затем против экспансии Франции и Германии XIX–XX вв., с опорой на свой тыл на Урале и в Сибири, – Россия, вслед за другими историческими жертвами Нового времени, была обречена на гекатомбу, которая столь естественна для этого времени и уклада, но совершенно не рациональна для любой сферы человеческой деятельности, кроме тотальной войны. И образ этой войны, наряду с образом тотальной мобилизации, оказался способом рационального выживания. Жертвы и логика сталинизма, продиктованные индустриализмом, тотальной войной, национализмом и милитаризмом Запада, получили своё высшее выражение в самоотверженной Великой Отечественной войне нашего народа, когда альтернативой победе был геноцид и смерть государственности Исторической России.
Эта жертва безальтернативна, но никак не может быть принята до конца. Эта жертва незабываема.
Большой стиль Сталина "GESAMTKUNSTWERK ALS INDUSTRIEPALAST"
На всей земле был один язык и одно наречие…
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли… И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон.
(Бытие. 11, 1–5)
Умолчания
Наиболее популярной и эвристичной формулой описания сталинской культуры (культуры СССР эпохи Сталина, 1920–1950-х гг.) в современной мировой науке является понятие-теория, которую почти 30 лет назад выдвинул известный исследователь современного искусства, выходец из СССР Борис Гройс48. Он подробно, хоть и провокационно, описал, почему культурную эпоху Сталина, равно как и правящий сталинизм в целом, можно назвать Gesamtkunstwerk Stalin – всеобщее / всеохватное – тотальное искусство Сталина49, – потому, что Сталин демонстрировал столь же сильную творческую волю к власти над обществом и природой, как демонстрировал её русский и советский авангард. Независимо от того, как теперь используется эта удачная формула, в восприятии которой, как представляется, преобладает её толкование как целостного, всепроникающего «большого стиля», изначально Б. Гройс поставил перед собой отчасти иную задачу. А именно – «описать сталинизм как эстетический феномен, как тотальное произведение искусства», в котором «тотальное подчинение всей экономической, социальной и просто обыденной жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже её мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единое целое, превратило эту инстанцию – партийное руководство – в своего рода художника, для которого весь мир служит материалом, при том что его цель – “преодолеть сопротивление материала”, сделать его податливым, пластичным, способным принять любую нужную форму»:
«совпадают авангард и социалистический реализм, под которым здесь понимается искусство сталинской эпохи, и в мотивации, и в целях экспансии искусства в жизнь – восстановить целостность Божьего мира, разрушенную вторжением техники, средствами самой техники, остановить технический и, вообще, исторический прогресс, поставив его под тотальный технический контроль, преодолеть время, выйти в вечное»50.
Здесь происходит, может быть незаметный с точки зрения теории, но с точки зрения истории и истории искусства – явный сбой: родня сталинскую власть, ставшую личной диктатурой Сталина только на рубеже 1920–1930-х гг., с художественным авангардом, в лице футуризма (особенно) пришедшего к культурно-политической власти в России уже на рубеже 1917–1918 гг., Б. Гройс, похоже, плохо понимает историческую эволюцию диктатуры в абсолютно крестьянской стране, каковой вплоть до начала 1930-х годов была Советская Россия и образцов которой в Европе 1920–1930-х было более чем достаточно. Они оставались авторитарными, пока надстраивались над демографически и социально преобладающими крестьянскими массами, они становились тотальными, когда начинали не только политически, но и экономически подчинять себе крестьянское большинство, например, путём принудительной коллективизации, как в СССР. В таких исторических условиях, перед лицом самодостаточного и социально-экономически всеподавляющего «крестьянского океана», говорить о всепроникающей тотальности власти в СССР не имеет никакого смысла, ибо это не имеет никаких фактических оснований51.
Если творцом-художником коммунистическую диктатуру сделал уже действующий тотальный контроль, то есть «тоталитаризм», а не авангардные тотальные претензии на этот контроль над всем живым и мёртвым как материалом, то речь может идти не о «тотальном подчинении всей… жизни страны», а лишь о желании этого – скорее умозрительном и безответственно художественном, чем о практическом и властном. Потому что «художником» коммунистическая диктатура стала уже в 1917 году – при Ленине, а используемый ею «тоталитаризм» построила лишь после этого – лет через пятнадцать, при Сталине. Но тогда логичнее говорить о «Ленин-стиле», который, при всей его политической революционности, отнюдь не характеризуется тотальностью и, главное, в области искусства совершенно чужд авангарду, оставаясь в художественном отношении, как минимум, консервативным, а на деле – просто творчески ни на что не способным. Но яркой теории прощаются эти натяжки.
Более всего странно то, что – ради превращения русского авангарда в соучастника сталинского коммунизма, выдвигая эту свою яркую теорию в Германии в 1987 году, Борис Гройс умолчал, что образ Gesamtkunstwerk, идущий от «синтетического искусства» Рихарда Вагнера52, за сорок лет до этого громогласно и эффективно (не только для немецкого мира) применил к сфере искусства, культуры и общества классик истории искусства, офицер двух мировых войн и бывший нацист Ханс Зедльмайр (1896–1984). Б. Гройс умолчал, но прибыв в Германию из СССР ещё за десять лет до смерти Х. Зедльмайра, он явно не только следовал его понятию-термину, но, и вступал в полемику с его историческим применением, не называя имени автора. При этом труды и личный политический опыт Х. Зедльмайра заставляют нас увидеть в сталинизме именно то, что в нём присутствует больше, шире, интернациональнее, чем простое умозрительное родство русского авангарда с коммунизмом, его исторический контекст – общеевропейский индустриализм, рационализм и позитивизм. Это умолчание на деле не является случайным и открывает большую историографическую перспективу, равно затрагивая адвокатов революционного авангарда и адептов Большого стиля, которым естественно видеть в сталинизме – исторически последнюю его попытку и отражение.
Например, исследователь теоретиков и практиков советского «коммунистического футуризма» («комфутов») и «производственников» И. М. Чубаров выступает на их защиту от вменяемого им сталинского родства. Он обращает внимание на то, что их апология производства, их индустриализм для масс имеет своим центром обычную проблему организации и человеческого развития труда. Он, видимо, предполагает (и верно предполагает), что для коммунистических практиков, особенно сталинского поколения, в центре системы принудительного труда стояла не философия его модернизации вообще, а проект мобилизации трудовых ресурсов для политико-экономических задач государства, инструментализация давних традиций индустриальной биополитики, а не подчинение её риторическому пафосу «освобождения труда». Конечно, их роднит само просвещенческое и модерное отношение к человечеству как воспитуемо-манипулируемой массе, где все её «воспитатели» – одинаково видят себя творцами истории53, но фокусирование политической воли большевиков в «творческой» фигуре их «теурга» Сталина не может скрыть их, практиков, принципиального отличия от теоретиков авангарда (считать ли важной эту разницу между кабинетным революционером и его военнополевым однопартийцем во главе «железного батальона пролетариата» – дело личного выбора кабинетного исследователя). И. М. Чубаров это отличие считает важным и изящно подменяет проблему проектного творческого произвола – проблемой подчинения творчества произволу:
«Производственники ратовали за новый социокультурный статус художника, предлагая ему… становление пролетарием и, наоборот, становления пролетария художником… Последнее оставалось, конечно, в условиях 1920-х годов не более чем благим пожеланием, слабым звеном в аргументации производственников, которое перехватывалось идеологической машиной государства, легко подменяющей утопии творчества идеологемами труда (…) Из противопоставления труду творчества, а одинокой личности художника – коммунального тела “пролетариата” мы и предлагаем интерпретировать “утилитаризм” производственников, критику ими автономии искусства, только на первый взгляд противоречащие ранним футуристическим манифестациям и теориям ранних русских формалистов. Это соображение опровергает модную идею, что комфуты и производственники были крестными отцами социалистического канона и “стиля Сталин” (Б. Гройс). Различия были здесь принципиальными. Ибо даже рьяно отстаивавшийся производственниками тезис о растворении искусства в общественном производстве не предполагал торжества миметической модели ”Государства” Платона, а отмечал переход искусства от станка, музея и салона в саму социальную действительность в формах художественно оформленных элементов быта, новых вещей и освобождённого от эстетства и иллюзионизма языка (…) Это форма производственного искусства, понимающего себя как вид коллективного художественного труда, т. е. социальной практики, направленной на революционное преображение общества и создание нового типа (ненасильственных) отношений между людьми (…) Имелось в виду возвращение искусства в социальную жизнь, а не наоборот, превращение жизни в род искусства, с сохранением экономических и политических институтов и имущественных отношений, как при фашизме и сталинизме»54.
Так получается, что революционный авангард, ещё вчера риторически побеждавший модерное «пересоздание жизни» футуристической «победой над солнцем», лукаво и смиренно стал дизайном на службе индустриального быта, – лишь бы не делить ответственность с политическим коммунизмом и свести своё участие в социальном перевороте к социальному вегетарианству ненасилия и конформизма, то есть к добровольному подчинению тому же самому коммунизму.
Мне представляется слабой такая линия адвокатирования. Другой современный исследователь русской культуры первой трети ХХ века уместно обращает внимание на то, что – больше библиографически – известная революционная книга Николая Пунина и Евгения Полетаева «Против цивилизации» (1918) создаёт «образ сверхчеловеческой реальности нового героического масштаба. Это новое общество… лишено собственно социального измерения и строится согласно моделям природного и технического автоматизма. Оно будет чисто эстетическим феноменом, сгустком энергии невиданной силы, которая станет источником необычайного расцвета бесцельного и иррационального творчества – чистого активизма по ту сторону искусства и политики. (…) Сила, власть становятся формами искусства. Конструкция государственной машины уподобляется композиции художественного произведения. Искусство, как и власть, имеет дело с чрезмерностью, редкими всплесками энергии, бесцельными и потому прекрасными»55.
Предъявив усилия оппонентов, откроем внутреннюю логику формулы Гройса, хорошо демонстрирующую, почему аргументы против нисколько эту формулу не задевают. В описании Гройса сталинизм и присоединяемый к нему в соучастники русский авангард – это противопоставленный одновременно и пафосу «естественного человека» Просвещения, идеалу Великой Французской революции, и расовой теории нацизма, «проект построения абсолютно нового общества». Проект, враждебный одновременно старому обществу и природе56:
«Там, где была природа, должно стать искусство… Эта воля к радикальной искусственности помещает советский коммунистический проект в художественный контекст… Само советское государство рассматривается здесь как произведение искусства и одновременно его автор… В контексте русской культуры ХХ века, да и в интернациональном культурном контексте, русский художественный авангард занял самую бескомпромиссную и одновременно влиятельную позицию, направленную против природы и естества… Основной целью русского авангарда было создание Нового Человека, нового общества, новой формы жизни… Русский авангард рассматривал себя не как искусство критики, а как искусство власти, способное управлять жизнью российских граждан и всего мира. Эта установка полностью совпадает с установкой социалистического реализма»57.
Изображённый таким образом, но поставленный вне Просвещения и прогресса, совместный проект сталинизма и русского авангарда появляется принципиально из «ниоткуда» и повисает в воздухе, вне контекста и предысторий, интернациональной исторической перспективы. Словно он не имеет никакого отношения к богато явленным на Западе социалдарвинизму, принудительному труду, социальному контролю, милитаризму, информационной войне, социальной гигиене и педагогике, колониализму, «войне на уничтожение», полицейской и индустриальной биополитике, наконец. Словно до русских авангардистов и коммунистов в мире не было сциентизма, индустриализма, национализма, концентрационных лагерей, этнических чисток, массовых пыток и казней колониализма и террора.
Но нет – Гройс о коммунистическом терроре всё же знает и не только делает русский авангард со-ответчиком по историческому делу сталинизма, но и привязывает его к этому самому зловещему и этически уязвимому месту в его репутации – террору:
«Художники русского авангарда тоже были, как минимум, безразличны к физическому уничтожению своих противников в период постреволюционного красного террора, предшествующего сталинскому террору. Разумно предположить, что и их противники вряд ли сильно протестовали бы против уничтожения своих оппонентов в случае возможной победы белого террора».
Б. Гройс верно отмечает, что, по сравнению с русским авангардом, собственно сталинский (послеленинский) культурный проект, «парадигма социалистического реализма менее репрессивна и более плюралистична, нежели, к примеру, парадигма супрематизма, поскольку соцреализм позволяет использовать гораздо более богатый лексикон художественных форм, включая формы, заимствованные из исторических традиций»58. Описывать эти отношения авангарда и коммунизма как отношения децентрализации и централизации – нет ни малейших оснований.
Так почему же Б. Гройс, неуязвимый для критики со стороны мифических «децентрализации» и «ненасилия», хорошо чувствующий тотальный пафос Gesamtkunstwerk, демонстративно отказывается от помещения его в естественное пространство Большого стиля?
Представляется – потому, что одного лишь указания на проективный пафос борьбы с природой явно недостаточно, а идеологические препятствия, создаваемые очередным разоблачением сталинизма как
«утопии у власти», – слишком велики, чтобы найти этому Gesamtkunstwerk адекватное место не только среди его корней, но и в его эпохе. Именно поэтому Х. Зедльмайр, указывающий на соприродность этого сталинского Gesamtkunstwerk его эпохе, и не был востребован в описании Stalinstil – и поэтому Б. Гройс «провокационно» маргинализовал сталинизм как тотальный творческий акт авангардно-коммунистической власти, настолько якобы самодостаточный, что от него даже тени не пало ни на Просвещение, ни на Модерн, ни на индустриализм с его капитализмом59. «Тотальная мобилизация во имя формы» – громко звучит в исследовании Б. Гройса60, но какой формы? Формы чего? Как именно мыслимой и как именно изображаемой формы?
Справедливости ради надо сказать, что красноречивое (громогласное!) умолчание в Германии – при обсуждении Большого стиля – не только о Х. Зедльмайре, но даже о Р. Вагнере, продемонстрировал и такой авторитетный, смелый, отлично интегрированный и административно успешный немецкий философ, как Герман Люббе. Будучи в этом случае либеральным критиком тоталитаризма и исследователем его Большого стиля, Г. Люббе стыдливо возводит проект тотального искусства к Ф. Ницше, к его словно ниоткуда появляющейся фразе «Культура – это, прежде всего, единство художественного стиля во всех жизненных проявлениях народа». При этом в предметном толковании Большого стиля на примере соединения «Авангардистского искусства и тоталитарного господства» Г. Люббе обнаруживает ценную наблюдательность. Например, в области «политики памяти» не произнесённый им Gesamtkunstwerk на самом деле являет собой творящую универсальную волю, подчиняющую себе не только проектируемое будущее, но и представленное в настоящем прошлое: «Тот, кто стремится сделать культурное господство нового действительно универсальным, не имеет права колебаться перед немедленным сносом в духе культурной революции реликтов старого, устаревшего»61. Для столь мощной тотальности Г. Люббе использует заведомо более слабое имя «единство стиля», но описывает его интернациональный и целостный предмет весьма узнаваемо:
«Для утверждения “единства стиля” – внесения как можно большего единства стиля во все жизненные проявления – в контексте общества модерна необходимы тоталитарные средства. Тоталитарную эстетику можно определить как эстетику политически господствующей воли к единству стиля. Архитектурной манифестацией тоталитарной воли к единству стиля нужно, естественно, считать тот богатый на вариации неоклассицизм, которым пользовались фашисты, национал-социалисты и большевики в Европе межвоенного периода с поразительным эстетиче- ским сходством поверх острых идеологических разногласий».
Эта формула точна, но мало применима к истории. Она, во-первых, заставляет искать зыбкую грань между, например, авангардной и конструктивистской эпохой советского коммунизма с её совершенно тотальными претензиями и его же неоклассическим «сталинским ампиром». А во-вторых – обрекает на безрезультатный поиск границ между архитектурой тоталитарных государств и архитектурой современных им столь же индустриальных и европейских (но демократических) государств. Ведь в качестве манифестаций «единства стиля» К. Люббе называет не только постройки тоталитарных государств, но и архитектурную среду Лондонского университета, женевские здания Лиги Наций, городской музей в Париже, парламент Финляндии, упоминает «большое количество» подобных построек того времени в США, Швеции, Норвегии и др. И не только не пытается обнаружить в них тоталитарность, но и фактически признаёт, что «архитектурная манифестация тоталитарной воли к единству стиля» либо присуща всей эпохе, либо присуща всей географии модерна, либо не является специфически тоталитарной:
«Архитектурный монументализм межвоенного периода был общеевропейским явлением, причём таким явлением, которое совершенно индифферентно ведёт себя по отношению к господствующим в разные времена идеологическим и политическим опциям. Либералы, национал-социалисты, интернационал-социалисты – все они в различных модификациях использовали указанный стиль. Поэтому не эстетика этого стиля является фашистской или какой-то ещё тоталитарной, а политическая воля к единому стилю…» 62
Этот пример тщетных попыток Г. Люббе избежать признания архитектурного единства нацизма и сталинизма с демократией ясно показывает, что без понимания тотальности единого ландшафта индустриального модерна (равно для демократий и диктатур) вычленение «тоталитарной воли к единству стиля» специально для диктатур просто не имеет смысла. И сама эстетика гигантизма и мегамасштаб архитектурно выраженной политической воли этой эпохи должны быть признаны равно характерными для либеральных демократий и диктатур63. Это неизбежно заставит искать для них нечто ещё более общее, нежели эстетика и индустриальный уклад, что подвергнет стройную дидактику теории «тоталитаризма» неприемлемому для Г. Люббе сильному риску ревизионизма. И научно разрушит её, как слишком простой комикс.
Фабрика
Обратимся, наконец, к труду Ханса Зедльмайра «Утрата середины» (1948), проигнорированному Б. Гройсом и Г. Люббе в их борьбе против советского коммунизма и тоталитаризма вообще. В нём дано ёмкое определение Gesamtkunstwerk как «истинного стиля» для разных эпох:
«все искусства в своих областях должны нести отпечаток одного и того же основного характера, как бы регулироваться из одного тайного жизненного центра… В полном смысле слова “единый” стиль существует только там, где искусство становится на службу одной совокупной задаче, а обширные области гештальтов остаются за пределами искусства. Отсюда – величественное стилистическое единство всех ранних периодов развитых культур, в которых мощный, сакрально единый гезамткунстверк64 в качестве властной упорядочивающей силы всех искусств – а не только изобразительных – ведёт их своим путём. На Западе это непоколебимая стилистическая надёжность романского искусства, в основе своей знающего только одну задачу: Дом Божий (Dom) [Храм. – М. К.]»65.
Этот Храм, модель мира, реализует себя в разные эпохи как церковь, или замок, или (в барокко) как их синтез в монастыре. Видно, что схеме всепроникающего, тотального стиля историк кладёт живые реалистические пределы, для Gesamtkunstwerk считая достаточной только уже «одну задачу», волю к власти, моноидею, фокус, служащий центром бесконечной экспансии стиля внутри его реальной истории. Далее первое, что бросается в глаза русскому читателю этого труда, – это то, что Х. Зедльмайр в своём впечатляющем исследовании Gesamtkunstwerk – по свежим следам Третьего Рейха и с понятной сдержанностью в отношении советского «Третьего Интернационала» – прямо фиксирует свою интеллектуальную связь с кризисным религиозным, нереволюционным опытом русской социально-христианской и традиционалистской мысли: активно использует формулы Бердяева, Вячеслава Иванова, Владимира Соловьёва. Даже русский авангард и его генетика от Гегеля и В. С. Соловьёва важны для автора потому, что их «основной пафос состоит в требовании перехода от изображения мира к его преображению»66.
В масштабной исторической перспективе Х. Зедльмайр формулирует мощный исследовательский миф, выбирая его кульминационной точкой Французскую революцию. Он пишет, как перед Французской революцией 1789 года, примерно в 1760 году, «разразилась внутренняя революция невообразимого масштаба», «чудовищная внутренняя катастрофа»: «сложившееся тогда положение дел не удалось преодолеть ещё и сегодня, – ни в области духа, ни в практической области». Катастрофа состояла в том, что на второй план в создании искусства и архитектуры ушли главные задачи искусства: строительство синтетически церкви и дворца-замка прежних эпох были заменены на тот момент более дробными и прикладными задачами: строительства ландшафтного парка, архитектонического памятника, музея, театра, выставки, фабрики. «В отличие от прежних общих задач, в отличие от замка и церкви, новые задачи уже не представляют собой гезамткунстверков, которые указывают изобразительным искусствам их прочное место и чёткую тему. (…) Ничто так не иллюстрирует характер [этой] эпохи, как эта триада: памятник – тюрьма – музей. Во времена Французской революции во дни государственных праздников монументализация охватывает и человеческие массы. Вокруг алтарного куба собираются в могучие геометрические блоки безжизненно застывшие войска и народ: впервые именно в режиссуре этих государственных действ подчинение человека толпе становится непосредственно доступным взору»67, пишет историк. Но наступил XIX век – и на волне мощной индустриализации в Англии, Франции, германских землях новый Gesamtkunstwerk стала являть собой индустриальная архитектура:
«В [18]30-е годы утилитарная постройка [фабрика] и жилище становятся на короткое время задачами, таящими в себе лучшие и самые свежие достижения, в 1830–1850-е появляются предмодерные масштабные постройки выставок и рынков – из железа и стекла, авторами проектов которых становятся архитекторы, родившиеся в первые годы XIX века и впитавшие с младенчества образ мира французской революции и Бонапарта. – и так до столетия революции – Всемирной выставки в Париже в 1889 году и строительства Эйфелевой башни. Проект культурно-промышленной выставки появляется как единый Gesamtkunstwerk. Вавилонское соревнование науки и техники с Богом становится в повестке дня: “В течение XIX века всевозрастающее вторжение техники в жизнь Европы и вызванное ею разложение привычной целостной картины мира постепенно привели к переживанию смерти Бога или, точнее, убийства Бога, совершенного новым технизированным человечеством”»68.
Здесь следует добавить, что Эйфелева башня, построенная к Всемирной выставке в Париже 1889 года, отмечавшей столетие Великой Французской революции и внятно конкурировавшей с выставкой 1851 года в Лондоне, могла толковаться не только как ответ на её «Хрустальный дворец» (о его присутствии в идейно-архитектурном контексте см. ниже), но и выглядела как завершённая до небес Вавилонская башня, основанная на мощном фундаменте.
В описании очередной модерной выставки, немецкой художественно-промышленной выставки в Дрездене 1906 года, русский экономист А. М. Рыкачёв (1876–1914) прямо вспоминал опыт лондонской выставки 1851 года, где, по его мнению, «коммерческие успехи молодой капиталистической промышленности стояли в печальном противоречии с качеством продуктов, с их эстетической ценностью». Теперь же, цитирует обозреватель участника выставки в Дрездене, производителя типовой массовой мебели, «мы должны вывести новый стиль мебели из духа самой машины». Несомненно, видя, но не произнося внятную аллюзию на «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше (1872), русский автор договаривает немецкого производителя и ставит культурную задачу: «Вывести новый стиль из духа машины»69.
Новый дворец
Важно, что одновременно с индустриализацией меняется представление о призвании архитектора и, значит, синтетического творца Gesamtkunstwerk: «Архитектор, который превратился в конструктора, хочет быть чем-то большим, чем просто конструктором зданий. Он становится реформатором жизни, реформатором-утопистом»70.
«Смерть Бога» делает необходимой замену религиозной санкции в деле утверждения целостности мира – на технократическую71. При этом зыбкость границ для творческого произвола – даже производимого на позитивной основе инженерной и технической мысли – ясно осознавалась и таким самостоятельно (в рамках коммунистического марксизма) мыслящим философом, как М. А. Лифшиц (1905–1983):
«Представьте себе, что перед нами не художник, а изобретатель. Он руководствуется принципом целесообразности. Это понятно. Но что если бы он однажды начал создавать не целесообразные конструкции, а те, которые соответствуют его эпохе… остаётся только неопределённость с одним критерием – не так было в другие эпохи». Здесь просматривается вопрос о стержне, критерии Большого стиля эпохи, лишённый ясности для М. А. Лифшица как антисталиниста:
«Возможно ли наше участие в эпохе? Почему так фатально? Чем руководствовались те, кто создал эту эпоху, которая подчиняет нас себе? Почему именно такой должна быть наша эпоха? (…) “культ” [Сталин. – М. К.] вынужден был бороться против своей исходной среды, которая сплошь пропиталась мелкобуржуазным “преображением жизни” (Город против крестьянского нигилизма, хотя и деспотически)… Государственный социализм Сталина как протекторат Кромвеля был более широким и прогрессивным (…) Нужно смотреть в корень явления, в истоки его, тем более, что так сейчас во всём мире. Отсюда это распространение модернизма, отсюда этот экзистенциализм, эта жажда свободы от “Man”. И оборачивается это потом тоталитарным Heimatkunst. Это, так сказать, возвращение блудного сына домой»72…
Создал ли евроатлантический индустриализм в целом свой особый Gesamtkunstwerk, которому наследовал Сталин? Или индустриальный Gesamtkunstwerk создал только Сталин? Был ли вагнерианский коммунистический проект «тотального искусства» – ядром сталинского проекта73? Как минимум, видно, что это индустриальное «тотальное искусство» было неотъемлемой частью индустриально-полицейской биополитики Просвещения и Нового времени, в недрах которых вырос, созрел и предельно инструментализировался язык коммунизма и сталинизма.
Уже в XIX веке индустриализм торжествует, распространяя свои претензии на ландшафт, а главными характеристиками новых утилитарных архитектурных мегаобъектов становятся, по словам Зедльмайра, «объединение пространства, единое пространство, подавляющее, чуть ли не космических размеров», «плоский свод, утверждение ширины». Но при этом, по мнению Х. Зедльмайра, в XIX веке отсутствует единый стиль, процветает «стилистический хаос»74… Gesamtkunstwerk Вагнера сам по себе не находит себе центрального образа в фабрике, а она не демонстрирует свои тотальные претензии на организацию не только искусства, но и жизни. Но уже первые аккорды советского коммунизма определённо вменяют вагнерианскому тотальному сверхтеатру, к которому автоматически апеллирует революционная интеллигенция, выросшая в культуре XIX века, именно сверхфабрику как главный экономический и технологический итог XIX века. Когда известный левый, но традиционалистски настроенный историк литературы П. С. Коган – президент РАХН (ГАХН), то есть настоящий генерал советской культурной и научной политики, – выступил с недостаточно революционной доктриной театра, он тут же – и что важно: изнутри глухой интеллигентской оппозиции Советской власти – был подвергнут критике за недостаточную радикальность программы. Вот что писал рецензент в известном органе литературной фронды:
«Заявляя, что “искусство должно стать ликующим трудом, а не развлечением” (стр. 42), П. С. Коган готов превратить театр в некую тоскливую артельную мастерскую в то время, как коммунистические идеалы говорят о фабриках-дворцах, стремятся облагородить повседневный труд искусством, стремятся ввести элементы искусства и красоты в весь будничный обиход человечества»75.
На смену феодальной Вавилонской башне дворца-замка, спасительно замыкающего в себе изолированное биологическое убежище Ноева корабля-ковчега и религиозное единство-убежище храмового ковчега (нефа), приходит агрессивно-индустриальное соединение ландшафта и ковчега – Вавилонская башня большого индустриального объекта, будь он выставкой или фабрикой (и «Титаника» – как индустриального ковчега). Х. Зедльмайр пишет: «Около 1900 года ведущей задачей становится “дом машины”. Впервые ведущие художники начинают оформлять гаражи, фабрики, вокзалы, позже аэровокзалы… На примере фабрики отчётливее всего прочитываются новые идеалы»: «единое пространство, только задним числом расчленяемом на составные части», «отказ от монументального», экономичность. И далее:
«Поколение [архитекторов], родившись около 1885 года, искореняет последние остатки монументального. Это поколение, уравнительски игнорируя сам предмет, переносит сформированный в утилитарном строительстве идеал на все без исключения строительные задачи: на жилой дом, театр, дворец, церковь. Внешне многие постройки теперь уже не отличить от фабрики». Эти «пространства, которые согласно своему существу предназначены для целостного человека, создать в качестве “целого” не удаётся… Они со всей определённостью требуют, чтобы человек преобразился настолько, чтобы мог соответствовать данной сфере машин. (…) Когда накануне 1900 года новые материалы, бетон и железобетон, соединились с “голыми” формами, всплывшими вначале во времена Французской революции, – именно тогда возникает тоталитаризм “нового строительства”. И этот тоталитаризм находит своё самое последовательное выражение в фабриках, гаражах, зданиях под офисы. (…) Кажется, что революция инженеров, направленная против архитекторов, целевого строительства против трансцендентных притязаний “искусства”, закончилась тотальной победой новых сил. Но это объединение было куплено ценой диктатуры одной сферы – сферы фабрики – и продолжением невыносимого насилия со стороны естественных требований отдельных задач, чьи материальные претензии исполнялись, в то время как потребности душевные и духовные оставались неудовлетворёнными»76.
Умеренный французский социалистический политик Поль Луи (1872–1955) так излагал синтетический проект «научного социализма» XIX века в образах индустриализма и резюмировал его «картину будущего»: «Машина освободит рабочего, которого она вот уже больше века порабощает… Машинное производство является для человека неограниченным источником богатств… Грохочущая машина, разрезающий морские волны пароход, испускающая огненные языки доменная печь, мерные шаги пролетариев, идущих на дымящие фабрики или спускающиеся в рудники, – всё это целиком поглощает внимание современного человека. Ему уж не приходится искать за облаками проявлений неземной воли»77.
Консенсуальный образ идеальной Машины как фабрики, завода, комбината может быть применён к исследуемой практике и как логическое фигуративное продолжение общемарксистских догм конца XIX и начала XX века о преимуществах крупного, коллективного, централизованного, сконцентрированного, часто – универсального производства, догм об абсолютном приоритете промышленности, именно тяжёлой промышленности, производства средств производства, технологически сложного производства вообще. «Государство-фабрика» – так резюмирует современный историк социализма78 экономический идеал будущего, созданный главным теоретиком германской социал-демократии Карлом Каутским (1854–1938), которому он следовал и после 1917–1918 гг. И этот идеал был для него – и для массового читателя его пропагандистских трудов, которым большевики остались верны даже после того, как Каутский отлучил их от марксистской ортодоксии79, – не только этатистским и производственным, но и едва ли не экзистенциальным:
«Мы знаем, что на поле труда, удобренном трупами миллионов пролетариев, взойдёт семя новой, более совершенной общественной формы. Машинное производство составляет почву, на которой вырастет новое поколение… Оно не будет рабом природы, каковым был человек в эпоху первобытного коммунизма… Нет, это будет поколение гармонически развитое, жизнерадостное, самодеятельное! Оно будет властвовать над землёй и всеми силами природы и будет объединять всех членов общества узами братской солидарности»80.
Тогда же Карл Каутский так описывал научный образ коммунизма, который на деле оказывается общим образом мира Просвещения:
«Лишь поскольку наблюдение природы становится завоеванием природы… И лишь по мере того, как растёт власть человека над природой, лишь по мере технического прогресса, расширяется также область научного исследования природы (…) Когда средства производства будут вырваны из праздных и бессильных рук капиталистов и станут общим достоянием всей нации, тогда на земле снова наступит счастье и мир для всех. Ибо общество подчинит себе производительные силы, как оно подчинило себе силы природы»81.
Если искать непосредственный образец для этой социалистической картины в исторических образах индустриализма как принципа организации природы, общества и труда, вырастающего из капитализма и преодолевающего его, то он выглядит гораздо привлекательнее и, главное, уже является готовым актом Большого стиля. Здесь следует воспользоваться путеводителем, который составил германский катедер-марксист Вернер Зомбарт (1863–1941). В истории социального движения в ряду крупнейших событий он назвал первую Всемирную торгово-промышленную выставку в Лондоне в мае – октябре 1851 года82, для размещения которой был – практически одновременно с манифестом Gesamtkunstwerk Р. Вагнера – построен из стекла и стали «Хрустальный дворец» (Crystal Palace. Лондон, Sydenham Hill, 1851: Илл. 1.), ставший началом и классикой индустриальной архитектуры и модерна, живым образцом промышленного Большого стиля, который очевидным образом архитектурно и, так сказать, утопически вдохновлялся знаменитым коммунистическим фаланстером Шарля Фурье (1772–1837)83, в котором уже было заложен принцип локального соединения труда и быта. Образцом Запада эта выставка стала и для первого манифеста русских славянофилов – в «Московском сборнике»84. А «Хрустальный дворец» – не только образцом индустриального модерного здания дворца, железнодорожного вокзала, универсального магазина, но и – в зависимости от политических предпочтений – символом прогресса85 —
Илл. 1. Дж. Пакстон. Хрустальный дворец (1851). Илл.: sil.si.edu
промышленного мира, капитализма или коммунизма. Американский эпический поэт Уолт Уитмен (1819–1892), откликаясь в своём сборнике «Листья травы» (1855), несомненно, на лондонский выставочный дворец «Песнью о выставке», развил его промышленный миф до мифа управления природными материалами в целом и соединении всех процессов этого управления в одном месте – нового Вавилона:
…О, мы построим здание
Пышнее всех египетских гробниц, Прекраснее храмов Эллады и Рима.
Твой мы построим храм, о пресвятая индустрия…
Я вижу его, как во сне, наяву (…)
Громоздится этаж на этаж, и фасады
из стекла и железа (…)
В стенах её собрано все, что движет людей
к совершеннейшей жизни, Всё это испытуется здесь, изучается,
совершенствуется и выставляется всем напоказ.
Не только создания трудов и ремесел,
Но и все рабочие мира будут представлены здесь.
Здесь вы увидите в процессе,
в движении каждую стадию каждой работы, Здесь у вас на глазах материалы будут,
как по волшебству, менять свою форму (…)
И это, всё это, Америка, будут твои пирамиды и
твои обелиски, Твой Александрийский маяк, твои сады Вавилона, Твой Олимпийский храм 86 .
Даже либеральные критики консервативных тенденций как архаических внутри капиталистической, всемирной и интернациональной современности мыслили в привычном сопоставлении символов индустриализма с Вавилонской башней. Критик русской консервативной реакции в лице авторов сборника «Вехи» (1909) П. Н. Милюков (1859–1943) пытался дискредитировать этим сравнением новых консерваторов: «они возвели свой небоскрёб. Небоскрёб оказался, при ближайшем рассмотрении, Вавилонской башней. (…) Проверка всей этой ультрамодерной постройки обнаружила под ней весьма устарелую и заплесневевшую модель»87. Но такой Милюков в культуре своего времени был одинок.
Известный революционно-консервативный критик одновременно либерализма и интернационализма – в воспроизводстве «вавилонского» мифа был более точен и в своей проповеди континентального национализма отталкивался от более общепризнанного понимания Вавилона. Идеолог-основатель евразийства Н. С. Трубецкой (1890–1938) формулировал такую радикальную дихотомию под стать отвергаемому им большому стилю и вселенскости христианства в пользу неофитского этнофилетизма: «интернациональная культура eo ipso безбожна и ведёт только к сооружению Вавилонской башни; множественность языков (и культур) установлена Богом для предотвращения новой Вавилонской башни; всякое стремление к нарушению этого Богом установленного закона истории – безбожно; истинные духовные ценности может творить только культура национально-ограниченная; христианство выше культур и может освящать любую национальную культуру, преобразуя её, но не уменьшая её своеобразия; как только в христианстве начинает веять дух интернационализма, оно перестаёт быть истинным»88.
Дворец-казарма
Один из первых систематических трудов по истории советского коммунизма как политико-экономического режима и идеологической практики, оставшийся, однако, вне должного внимания мировой историографии, поскольку вышел в свет уже после пика послевоенной антисталинской литературы и одновременно с началом продвижения на Западе «теории тоталитаризма» К. Фридриха и З. Бжезинского (1956), в своей детализированной критике «тоталитаризма» как самозарождённого зла невольно и анонимно затронул и его общие модерные основания, когда апеллировал к авторитету Ф. М. Достоевского. Авторы из круга профессиональных антикоммунистов периода «холодной войны» США против СССР – русского эмигрантского Национально-Трудового Союза (НТС) – писали: «Великий защитник свободы человека, провидец большевистской революции – Достоевский с ненавистью именовал эту утопическую картину [коммунизма] “муравейником”, “хрустальным дворцом”, “многоэтажным домом с квартирами для бедных жильцов”…»89. Критики советского коммунизма явно – к позору своему – упустили, что писатель образом тогдашнего общеевропейского проекта коммунизма избрал «вавилонский» по масштабу и духу именно британский апологетический по отношению к «свободе торговли» и капитализму «Хрустальный дворец». Достоевский вспоминал о своём посещении Лондона и вавилонских коннотациях этого «Хрустального дворца» именно как о торжестве капитализма90:
«буржуазный порядок в высочайшей степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страшные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка… Да, выставка поразительна. Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира, в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут что-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно. Уж не это ли, в самом деле, достигнутый идеал? – думаете вы; – не конец ли тут? не это ли уж и в самом деле, “едино стадо”. Не придется ли принять это, и в самом деле, за полную правду и занеметь окончательно? Все это так торжественно, победно и гордо, что вам начинает дух теснить. Вы смотрите на эти сотни тысяч, на эти миллионы людей, покорно текущих сюда со всего земного шара, – людей, пришедших с одною мыслью, тихо, упорно и молча толпящихся в этом колоссальном дворце, и вы чувствуете, что тут что-то окончательное совершилось, совершилось и закончилось. Это какая-то библейская картина, что-то о Вавилоне, какое-то пророчество из Апокалипсиса, в очию совершающееся»91.
А вот гуру русской «революционной демократии» Н. Г. Чернышевский (1828–1889) одновременно, в 1863 году, в своей картине антикапиталистического будущего изобразил именно символическую «копию» этого Хрустального дворца:
«…ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница, будет царствовать над всеми? Смотри. Здание, громадное, громадное здание (…) что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намёк на нее, – дворец, который стоит на Сайденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло – только. Нет, не только: это лишь оболочка здания, это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами, – а окна огромные, широкие, во всю вышину этажей! Его каменные стены – будто ряд пилястров, составляющих раму для окон, которые выходят на галерею. Но какие это полы и потолки? Из чего эти двери и рамы окон? Что это такое? серебро? платина? Да и мебель почти вся такая же (…) Везде алюминий и алюминий, и все промежутки окон одеты огромными зеркалами. (…) И повсюду южные деревья и цветы; весь дом – громадный зимний сад. Но кто же живёт в этом доме, который великолепнее дворцов? (…) По этим нивам рассеяны группы людей; везде мужчины и женщины, старики, молодые и дети вместе. (…) Почти всё делают за них машины…» 92
И именно на этот коммунистический проект, равно эксплуатирующий и присваивающий образы коммунистического фаланстера и капиталистического «Хрустального дворца», затем отреагировал Достоевский, когда в следующем, в 1864 году писал:
Тогда-то, – это всё вы говорите, – настанут новые экономические отношения, совсем уж готовые и тоже вычисленные с математическою точностью, так что в один миг исчезнут всевозможные вопросы, собственно потому, что на них получатся всевозможные ответы. Тогда выстроится хрустальный дворец… (…) Страдание, например, в водевилях не допускается, я это знаю. В хрустальном дворце оно и немыслимо: страдание есть сомнение, есть отрицание, а что за хрустальный дворец, в котором можно усумниться? (…) Вы верите в хрустальное здание, навеки нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. Ну, а я, может быть, потому-то и боюсь этого здания, что оно хрустальное и навеки нерушимое и что нельзя будет даже и украдкой языка ему выставить» 93
Так Достоевский придал – специально для России – коммунистическому мифу образ высшего достижения современного индустриализма, осудив таким образом коммунизм как естественный плод капитализма – вместе с его истоком. Антикоммунисты из НТС, видимо, не входили так глубоко в детали истории образа, а опирались не на источник, а на хрестоматийно известный труд неонародника Р. А. Иванова-Разумника (1878–1946), в котором тот, выступая в защиту своего индивидуалистического учителя Н. К. Михайловского от коллективистского марксизма писал, что для первого важнее личность сейчас, а для второго – класс и человечество завтра:
«Конечная цель марксизма – это грядущий рай на земле, этот тот Zukunftstaat, который Достоевский называл “Хрустальным дворцом”…» 94
В романе-утопии врача-исследователя, философа, большевикапрактика и основателя системы пролетарского классового искусства «Пролеткульт» А. А. Богданова (1873–1928) «Красная звезда» (1907) дано описание гигантского коммунистического города-завода, которое близко следует образу лондонского «Хрустального дворца» и его отражению в романе Чернышевского «Что делать?» – это многофункциональное, многоуровневое (многоэтажное) строение из стекла и металла95. А в столь же фантастическом рассказе «Праздник бессмертия» (1914) Богданов вскрывает «вавилонский» масштаб подобной постройки: «На месте городов сохранились коммунистические центры, где в громадных многоэтажных зданиях были сосредоточены магазины, школы, музеи и другие общественные учреждения». А один из руководящих героев этого рассказа продолжал множить эти циклопические образцы и был «занят сооружением грандиозной башни, величиною с Эльбрус»96. Именно в «городов вавилонские башни» помещает себя герой поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах» (1915).
Современный российский теоретик географии обнаруживает в организации и централизации любого «культурного ландшафта» доминанты, которые символически рифмуются с образом Вавилонской башни: узловыми районами такого ландшафта – крупные города (агломерации) и горы. Он пишет: «Города создают вокруг себя зоны и предпосылки сгущения жизни. Горы создают у своих подножий особые условия для биоценозов». И вместе они создают то, что географ называет «большим стилем ландшафта»97. Библейский образ Вавилонской башни в массовом сознании, несомненно, был, прежде всего, образом (почти построенной) гигантской Башни как целого изолированного мира, отдельного города98, а не символом Божьего гнева и разноязычия, уничтожившего строительство. Именно такова известная Вавилонская башня у Брейгеля. И в советском массовом сознании она рифмовалась с родственным образом из русского народного сознания, в котором сказочно фигурирует посреди моря Рыба-Кит («чудо-юдо рыба-кит»), по описанию П. П. Ершова (в «Коньке-Горбунке», 1834), на спине кото- рого выросло целое село, окружённое пахотными землями99.
Осваивая, похоже, информацию о строительстве ДнепроГЭСа в ряду первых гигантских сталинских строек в 1927–1932 годах, советское массовое сознание описало её в категориях Вавилона. Пропагандист автоматически записал как нелепый слух, распространявшийся в рабочей казарме текстильной фабрики недалеко от Мурома: «Большевики строят огромную башню на Днепре, которая провалилась»100.
Схему, сходную с концепцией Х. Зедльмайра в применении к практике революционного искусства, задолго до этого историка искусства, отталкиваясь от опыта архитектуры, изложил классик авангарда Казимир Малевич (1879–1935). «Тотально» обращаясь прямо к материальной основе бытия и к смерти как изменению его формы, Малевич систематизирует формы бытия и человеческого общества в уже знакомых категориях: «Бытие направляет моё сознание. Куда? В одном случае понимания бытия к храму, в другом – к фабрике, в третьем – к художеству, т. е. в ту сторону, которой нет в самом бытии. В бытии нет ни храма, ни академии, ни фабрики»101. Следовательно, именно творческая воля, «художество», творение целого и создаёт формы бытия. Такое творение целого, как сказано, и есть Gesamtkunstwerk. И это целое – не только некоторая историческая модельная абстракция, в разной степени внятности подчиняющая (но имеющая своей целью одинаково подчинить) все формы творчества Большому стилю102. Это – единое здание технологий, производства, науки и знаний, которое даже в применении естественных наук мыслит себя как Gesamtkunstwerk. Ревниво утверждая образ своего тотального искусства, Малевич не случайно избрал объектом своих критических атак здание Казанского вокзала в Москве, построенного по проекту архитектора А. В. Щусева (1917–1919). Малевич упорно стремился доказать, что Щусев не понял, не почувствовал и не реализовал синтетическую природу вокзала как постройки, фокусирующей в себе главные интуиции и задачи Большого стиля и его городской утопии. Он писал: «Задавал ли себе строитель вопрос, что такое вокзал? Очевидно, нет. Подумал ли он, что вокзал есть дверь, тоннель, нервный пульс трепета, дыхание города, живая вена, трепещущее сердце? Туда, как метеоры, вбегают железные 12-колёсные экспрессы; задыхаясь, одни вбегают в гортань железнодорожного горла, другие выбегают из пасти города, унося с собою множества людей, которые, как вибрионы, мечутся в организме вокзала и вагонов. (…) Вокзал – кипучий вулкан жизни, там нет места покою»103. И вновь:
«Вот вам наглядный образец у нас в Москве. Постройка Казанского вокзала, где, как ни здесь, можно создать памятник нашего века? Но разве понятна была задача, разве архитектор уяснил себе вокзал? Вокзал – дверь, тоннель, первый пульс, дыхание города, отверстие живой вены, трепещущее сердце. (…) Комок, узел, связанный временем жизни. (…) Мир мяса и кости ушёл в предание старого ареопага. Ему на смену пришёл мир бетона, железа. Железо-машинно-бетонные мышцы уже двигают наш обновляющийся мир. Мы – молодость ХХ века – среди бетона, железа, машин в паутине электрических проводов, будем печатью новой в проходящем времени»104.
Литературный образ вокзала как символа прогресса, в архитектурной и инженерной традиции более всего связанного с внешним обликом лондонского «Хрустального дворца», для русских радикалов дополнительно восходил к культу В. Г. Белинского. Толкуя рассказ Достоевского о Белинском105, Н. В. Устрялов (1890–1937) писал: «Наши отцы и деды, воспитанные на бессмертных принципах <17>89 года и горевшие пафосом служения общественного, трогательно верили в незыблемость начал исторического преуспеяния. (…) Нельзя забыть благородный образ Белинского: больной, умирающий, он приходил ежедневно взглянуть на первый строившийся тогда в России вокзал. Этот вокзал был для него великим символом, своего рода моральной иконой, – верным документом торжествующего прогресса»106.
Машина
О присущем эпохе индустриальном превращении науки, позитивного знания в проективное искусство как область произвола великий французский историк Люсьен Февр (1878–1956) сказал так: «Бертло говорил в 1860 году об органической химии, основанной на синтезе.
Опьянённый первыми её успехами, он восклицал: “Химия сама творит свои объекты!”… современные учёные всё чаще и чаще определяют Науку именно как творчество, являют её нам в момент “создания своих объектов» и подчёркивают постоянное вмешательство в неё самого исследователя – его воли, его творческой активности”107. Посетив СССР, лично связанный с русскими Джон Кейнс (1883–1946) с готовностью отказался от леса экономических формул в своём критическом описании практического коммунизма и поддержал в его образе проективно-символический синтез органицизма и сциентизма, который ничем не отличается от позитивистского пафоса XIX века, который хорошо видит массовое социальное и легко игнорирует его, прикрывшись энтузиазмом «социальной гигиены». «Временами ощущается, что именно здесь, – несмотря на бедность, глупость и притеснения, – Лаборатория Жизни», – писал об СССР Кейнс108.
Предчувствие русского писателя, высказанное из глубины французского фронта Первой мировой войны, прямо оперировало Машиной:
«Как-то рождается вопрос, какой будет война через сто лет, и встают видения не то апокалипсиса, не то утопического романа (…) я скорее чув- ствую, чем познаю этого страшного бога – Машину»109. Современный исследователь Валерий Подорога детализирует индустриальный Gesamtkunstwerk с высоты опыта XX века и науки ХХ века о новом времени:
«В центре европейского и русского авангарда – Великая Машина в своих самых различных ипостасях. В отличие от модернистской эпохи, где ещё не сформировался настоящий интерес к науке, её техническим возможностям и машинам. Западноевропейский авангард принял машину как род новой, высшей Реальности, заместившей собой старую, – реальность Природы. Машина, вытесняющая природное, и есть ожидаемая, “обесчеловеченная” новая Природа. Что такое Революция, как не процесс творения новой Мегамашины? Разве она могла стать возможной, если бы не обладала такой машиной, способной разрушить прежний политический строй (…) Общее представление о Машине можно разбить на классы, каждый из которых предполагает соответствующую машину. Классы эти следующие: первый, технические машины…; второй, социальные (сюда можно отнести педагогическо-ортопедические, медицинские, паноптические или следящие-надзирающие, бюрократические, милитарные, террористические, имперские (территориальные) и пр.); третий, биомашины или машины органические, репродуктивные (самовоспроизводящиеся); четвёртый класс машин, которые не относятся прямо ни к одному, ни к другому классу, они – “между”, это машины сновидные, воображаемые или фантастические (литературные, театральные, архитектурные и пр.)…» 110
Трудно избавиться от впечатления, что этот подробно описанный Валерием Подорогой образ Машины, в котором сливается пафос индустриального Запада и советского коммунизма, в авангардном и творческом его, коммунизма, прочтении – стоит на пути к его художественной реабилитации. А «обесчеловечение» более остаётся на совести западного капитализма, уличённого в обесчеловечении ещё в категориях Карла Маркса. Новая, коммунистическая тотальность Машины здесь выглядит, скорее, как охлаждённая временем цветистая утопия Каутского, нежели чем суровая индивидуалистическая антиутопия Евгения Замятина (1884–1937) в романе «Мы» (1920) – просто хотя бы по историческим и биографическим причинам вдохновлена она была вовсе не коммунизмом, а уже состоявшимся модерным опытом Англии, хотя в романе непрерывно проступает след «Что делать?» Чернышевского111. Бывший революционный социал-демократ Е. И. Замятин до предела минимизирует даже сексуальную индивидуальность «нумера» (бывшего человека) внутри «вечного, великого хода» интегральной «Машины», пронизанной «Часовой Скрижалью» и подчиняющей Вселенную «благодетельному игу разума»112.
Этой тотально примитивной, унифицирующей формуле замятинской индустриальной антиутопии противостоит тотально всепроникающая сложность утопии Революции. Авангардная и творческая Машина Революции порождает жизнестроительный пафос даже в индустриализме, а античеловеческая Машина капитализма его уничтожает на уровне биологического воспроизводства. И если начальником тотальной Машины (её мозгом – даже в статусе замятинского «нумера») и поэтому – начальником побеждённой Природы становится новый Человек, то это – не более чем взгляд нового Бога-творца на подвластные стихии, объединённые в новом Большом стиле, среди которых одной из стихий должно стать и подвластное (независимо от политической окраски) Машине творца человечество. Протестующий против этого в защиту частной жизни лица и непобеждённой природы М. М. Пришвин (1873–1954) записал в своём дневнике 17 февраля 1944 года, что сам принцип производственного объединения человечества содержит в себе акт и перспективу не только принуждения, но и дегуманизации:
«Возражения коммунистам: можно объединить людей духовн (как в церкви), без принуждения, а всякая организация людей в отношении производства материальных ценностей должна сделаться принудительной, как всякая механизация, и тот идеальный человек, “пролетарий” есть человек выдуманный, механический Робот»113.
В своей доктрине коммунисты много полагались на мечту о том, как роботизированное коммунистическое производство освободит работника от места в конвейере и принуждения к коммерчески управляемому потреблению, то есть зависимости от материальной тотальности, и достижения свободы от экономического измерения политики вообще. Радикальный марксист-эстет Дьёрдь Лукач (1885–1971), апеллируя к освободительному пафосу Маркса против «овеществления» человека, в 1920-е гг. так описывал эту утопию:
«Освобождение от капитализма равносильно освобождению от господства экономики. Цивилизацией создаётся господство человека над природой, но из-за этого сам человек попадает под власть тех средств, которые позволили ему господствовать над природой. (…) что означает коммунистическое преобразование общества в точки зрения культуры. Оно означает прежде всего прекращение господства экономики над всей жизнью… Господство над экономикой, социалистическая организация экономики означает упразднение автономии экономии»114.
Н. А. Бердяев в своей «энциклопедии русской жизни» для Запада горячо поддержал такое перетолковывание марксизма и самого Лукача, видя в его тотальной революционности – отвержение тоталитарной материальности и поиск новой целостной свободы:
«материализм Маркса оборачивается крайним идеализмом, Маркс открывает в капитализме процесс дегуманизации, овеществления (Verdinglichung) человека. С этим связано гениальное учение Маркса о фетишизме товаров. (…) Лукач… самый умный из коммунистических писателей, обнаруживший большую тонкость мысли, делает своеобразное и по-моему верное определение революционности. Революционность определяется совсем не радикализмом целей и даже не характером средств, применяемых в борьбе. Революционность есть тотальность, целостность в отношении ко всякому акту жизни… Революционер имеет интегральное миросозерцание, в котором теория и практика органически слиты. Тоталитарность во всём – основной признак революционного отношения к жизни» 115 .
Присутствует ли ядро понимания проблемы человека внутри церкви и внутри машины – в теории Х. Зедльмайра? Безусловно, да. Есть ли простор для хотя бы противоречивого соединения этого опыта творящего Gesamtkunstwerk’а с антикоммунистически ангажированной формулой Б. Гройса о предварительном «тотальном подчинении всей жизни страны единой плановой инстанции, призванной регулировать даже её мельчайшие детали, гармонизировать их и создавать из них единое целое»? Нет. Между ними, между этими тотальностями Сталина и Вагнера, конечно, нет той связи, из коей следует, что сталинская власть породила вагнеровскую утопию. Для такой связи нет даже хронологической одновременности: историческая пропасть лежит между серединой XIX века и 30-ми и 40-ми годами ХХ века. И связь носит обратную последовательность: между утопией Вагнера и диктатурой Сталина.
Не место здесь говорить и о том, что и формула Гройса о «тотальном подчинении» – публицистическая абстракция, для современной интернациональной науки о реальных Сталине и сталинизме с их практикой непрерывного «административного торга» вокруг плановой мифологии и управленческого репрессивного хаоса – абсурдная, пустота этой формулы стала ясна для западной советологии ещё за 30 лет до книги Гройса. Может быть, публицистичность этого определения Гройса была бы простительна для 1987 года, времени антикоммунистических переворотов и эволюций. Но она пуста и внутри антикоммунистического контекста, и именно потому, что уже в 1948 году, почти изнутри Большого стиля, Х. Зедльмайр – повторю: хорошо видя традиционный русский интеллектуальный контекст116, – дал Gesamtkunstwerk не публицистическое, а историческое содержание, в котором коммунизм стилистически неотделим от индустриализма.
И самое главное: что же именно в сталинском Большом стиле было, согласно Гройсу, его историческим «храмом», образным центром этого Gesamtkunstwerk – если не Фабрика и Машина117? Если вспомнить наиболее распространённое критическое клише о государственном проекте и искусстве сталинского СССР – «утопия у власти»118, то логично уточнить: «утопия чего именно»? И, продолжая экскурсы в генезис утопий, задаться вопросом: «утопия, отражающая какую историческую эпоху»? Каков, наконец, новый образ этого «города солнца» и «фаланстера»? Гройс не даёт, по существу, ничего, кроме указания на тотализаторскую волю творца властителя в её самоцельной и самодостаточной борьбе с материей и природой.
Увы, этот ответ не может быть признан удовлетворительным. Тем более что – очевидно, вне критических опытов Гройса – эвристическая формула «эстетической» власти в современной политической философии либерализма эксплуатируется не как самоцель, а как разветвлённая система политической репрезентации, способной стать спасительной для демократии и, предполагается, эффективной и результативной. Её автор, классик современной либеральной философии Франклин Анкерсмит в трактате «Эстетическая политика» впервые подробно анализирует связь современного государства с платоновским образом управляемого вождём корабля-государства и актуализирует её для политической теории119. Анкерсмит, живущий после «тоталитаризма», уже не только находит в его свободе от общества новый ресурс обновления демократии, ставит ей на службу спасительную диктатуру120, но и легко обнаруживает корни «тоталитаризма» в западной демократии, в современной демократической практике – произвол, свободу её политики от демократии, самозаконную творящую тотальность в модерне, в которой узнаётся сталинский Gesamtkunstwerk:
«Ключевая идея состоит в том, что художественная репрезентация не даёт миметического подобия того, что представляется, а замещает его… на самом деле изобразительные искусства предлагают заместителя реальности – правда, такого, который вызывает к жизни иллюзию реальности, но всё же остаётся отличимым от самой реальности… Это имеет значение для политической репрезентации… Между представляемым лицом и представителем проходит та же разделительная линия, что и между реальным миром и миром искусства. Кроме того, мы не должны искать фиксированных правил, регламентирующих отношения между представителем и представляемым лицом (…) Реальность как таковая не существует до того момента, пока не появляется её репрезентация… только путём создания заместителя реальности (то есть репрезентации) мы оказываемся на расстоянии от реальности и тем самым делаем её существующей… политическая реальность не существует до политической репрезентации (…) Следовательно, политическая реальность, созданная эстетической репрезентацией, есть по существу политическая власть. Эстетическое различие или зазор между представляемым лицом и его представителем оказывается источником (легитимной) политической власти, которой в связи с этим у нас есть основание приписать скорее эстетическую, нежели этическую природу (…) В результате… и общество, и государство стали двойной эманацией одной субстанции. И это привело к тому, к чему стремился и тоталитаризм: к подчинению государства и общества одному началу. Отсюда понятно, что насилие и варварство, которые мы обычно связываем с тоталитаризмом… – скорее просто средства достижения единства государства и общества, обещанного миметической теорией репрезентации. А это означает, что мы должны рассматривать тоталитаризм не как иной и абсолютно чуждый общему направлению развития западной демократии, а как её чудовищную и ужаснейшую фазу… Соответственно, огромные различия между современными либеральными демократиями и тоталитаризмом связаны не столько с внутренней природой политических систем этих двух типов, сколько с тем, как произошло в них взаимное отождествление государства и гражданина – путём постепенным и контролируемым или путём политического принуждения… Их разделяет только практика политической репрезентации (…) Бюрократия и миметическая репрезентация – ветви одного дерева, и нас не должно удивлять, что это дерево находит самую питательную почву в тоталитарном государстве»121.
Исторически тотальность индустриализма и современности (Модерна, нового и новейшего времени) состоит из «кристаллической решётки» власти, инфраструктуры одновременно действующих всеобщих институций и практик:
(1)всеобщего (как минимум, массового) избирательного (как минимум процедурно) права (как минимум, на локальном уровне), превращающего каждого избирателя в объект централизованного (сетевого) политического воздействия;
(2)всеобщей (массовой) грамотности и единой языковой нормы;
(3)всеобщего санитарно-гигиенического контроля и медицинского обслуживания, превращающего каждого в объект биополитики (в её узком, не фукианском, смысле);
(4)всеобщей воинской повинности;
(5)единого общенационального рынка (народного хозяйства);
(6)централизованных общенациональной администрации и права;
(7)общенациональных средств коммуникации и информации;
(8)единой системы технических стандартов;
(9)единого рынка труда, капитала, услуг и др.;
(10)индустриальной урбанизации, подчинённой интересам промышленности и (в мегаполисах) максимальной экономии внутригородской территории.
Изучающая эту реальность с точки зрения истории экономики и технологического уклада современная наука устами, например, историка «первоначального накопления» в Великобритании и индустриализации в России / СССР Роберта С. Аллена даёт внятную формулу этого развития в России: Farm to Factory122. Именно этому образу и нормативу индустриализма подчинено развитие абсолютного большинства сфер обыденности нового времени вообще через выше перечисленные факторы исторической тотальности индустриализма и современности.
Изоляция и ландшафт
В прямое развитие Просвещения и Французской революции 1789 года следует не только политическая либерализация старой Европы и её периферии, вовлекающая в активное историческое действо растущие человеческие массы, но и масштабная индустриализация, которая учится заново подчинять массы интересам производства, и научно-технический прогресс, который, вслед за просветительским «воспитанием», учится не только воспитывать, но и дробить, селекционировать, изменять массы, управлять их эволюцией. Русский историк Р. Ю. Виппер (1859–1954), традиционно энциклопедичный для своего времени, нашёл удачную синтетическую формулу для этого нового мировоззрения, которое она сам называл «теорией бесконечного прогресса», а иные его русские современники – «религией прогресса». Р. Виппер описывает, как из просветительской утопии Н. де Кондорсе (1743–1794) и в либеральных теориях вплоть до отца позитивизма О. Конта (1798–1857) зримо вырастают на месте Театра, Ковчега и Храма универсалистские претензии нового Большого стиля – новой «церкви на земле», вавилонской Фабрики, формируются её новые инструменты, приближающиеся к неорганическом синтезу и конвейеру:
«Вместо хитрой правительственной машины должна стать во главе общества большая организация для научных опытов и открытий, для сосредоточения лучших умов и передовых идей… Соответственно этому должно произойти распространение по всему миру одного языка, научно-алгебраического, космополитического отвлечённого языка мысли, который рядом со старыми языками, живыми и народными. Будет могучим средством ускоренного обмена. Народы образуют единое целое… возникает идея, постоянно повторяемая в конце XVIII в., что земной шар – великая мастерская, в которой разнообразные организации, постепенно совершенствуясь, работают по известному плану, в известной гармонии для общей великой цели. Мечта идёт ещё дальше: иным кажется, что национальные различия падут так же, как сословные предрассудки, что все люди объединятся в один народ, что установится один общий язык просвещения … (выделено мной. – М. К.)
Главная черта – внимание к индустриальному перевороту и к научному прогрессу. Их представители берут у реакционеров мысль об органическом характере общества, но вкладывают в неё новое современное содержание. Они видят, что общество стало иным, что в нём господствуют интересы новой промышленности, что оно зависит от новой всесветной организации индустрии, что наука в нём стала мощной направляющей силой, и они пытаются найти регулирующие начала именно для этого общества, движимого новыми мотивами, разбитого по новым группам; из интересов самой индустрии, из общих принципов самой науки пытаются они извлечь новое связующее культурное и даже религиозное начало…
Множество новых видов растительных и животных, и между ними новые виды животного, именуемого человеком, открыли возможность широкого сравнительного изучения. Чем больше сравнивали, тем больше изучали промежуточные виды, больше вытеснялось старое представление о неподвижности форм; больше разгоралось желание, увлекала задача открыть в существующих видах непрерывную цепь развития, схватить в них биение одних и тех же законов жизни. Сильно действовали на общие представления также успехи физики и химии. Открытие магнетизма и электричества, разложение на составные части воздуха и воды, то есть того, что считалось раньше тоже неподвижными элементами, заставляло и в неорганическом мире искать движущих сил, искать возникновения сложных форм и образований из комбинаций простых начал. Между одушевлённой и неодушевлённой природой падали преграды, казавшиеся неодолимыми. Человек был поражён тем, что он находил там и здесь одинаковые составные части… Деятельность общественного организма, вся совокупность жизненных отношений человеческого мира управляется мнениями, идеями. Эта уверенность опирается у Конта на положение ещё более общее, на некоторую основную черту “органических теорий”, как бы возникших из жажды порядка… Если мировой порядок есть порядок логической системы, то пути к постижению этого порядка, то есть науки, должны образовать полное единство: они все работают к открытию единого закона, они должны составить иерархию, скреплённую строгим взаимным подчинением… Особенно это касается высших ступеней жизни, отношений общественных… Начало XVIII в. сознавало живо только одну “всемирную” организацию, именно западноевропейскую литературную республику. Позднее, во второй половине века, стали говорить о всемирной мастерской и всемирном рынке. Перевороты конца XVIII и начала XIX в. создали в европейском сообществе подъём религиозного настроения, и образ человеческого мира сложился уже в виде великой церкви на земле»123.
Уже после Гитлера и на закате Сталина, поставленного в фокус «холодной войны», – почти одновременно с названным трудом Х. Зедльмайра классики левой критики капитализма не только не отшатнулись от установления прямой тотальной (и тоталитарной) связи Просвещения как апогея проективного знания, Модерна и «всеохватывающей индустриальной техники», но и подтвердили её со всей решительностью, исключающей компромисс: «Техника есть сущность этого знания. Оно имеет своей целью не понятия и образы, не радость познания, но метод, использование труда других, капитал», «Просвещение – тоталитарно», «Просвещение тоталитарно как ни одна из систем»124…
Предвосхищая известные мысли Ханны Арендт об исторических корнях тоталитаризма в разрушении общества традиционных связей и перегородок, внимательный наблюдатель, русский православный социалист и антикоммунистический эмигрант Г. П. Федотов (1886–1951) одним из первых описывал современные ему диктатуры в понятиях тоталитаризма. Важно, что он описывал это явление как следствие утраты западной культурой ХХ века некоего Большого стиля: в мире демократии, растущем из достижений XIX века, по его мнению, «культура не имеет своего центра (…) Сейчас кажутся немыслимы ни общая религия, ни общая философия, ни даже общие основы научного знания. Стиль в искусстве утерян ещё ранее, чем в науке. При таких условиях культура всё более разбивается на отдельные секты (…) Более, чем когда-либо, западная культура напоминает вавилонское смешение языков. Находятся люди, которые готовы принципиально утверждать это смешение как духовную основу демократии»125. Г. П. Федотов и ранее жёстко анализировал принудительный и террористический характер коммунизации СССР, особенно крестьянства, целью которой видел создание «технического рая», здание которое на деле вырастало не как «новый град», а как «новая тюрьма»126, которая одновременно была «гигантами-заводами»127. И здесь в радикальном отвержении сталинизма начинала звучать общая с сталинизмом нота социалистической победы над природой и внепартийная, требуемая Просвещением, жажда новой целостности: «современная техника приводит человека к ещё большему рабству… но задача, поставленная историей, верна – освободить человека от рабствования природе»128. Более того – «марксизм в России развил особый пафос техники, свойственный крупнокапиталистическому миру»129, то есть – можно договорить эту мысль до конца – именно он достроил крестьянскую страну до индустриального интернационального Большого стиля.
Индустриализм как церковь и реализованная утопия делает сферой Gesamtkunstwerk даже ландшафт и в целом природу, доступную эксплуатации. Первым образом подчинения ландшафта стала его индустриализация и урбанизация, в исторических условиях XIX и начала XX века выраженная в практике прямо связанной с производственными цехами казармы как доминирующего стандарта промышленной городской застройки. В этом стандарте казармы легко узнавались (разумеется, минимальные) параметры фаланстера, который, в свою очередь, служил образующим элементом современного города как замкнутой Вавилонской башни, противостоящей ландшафту и природе. Как свидетельствует урбанист, «согласно строительному регламенту Берлина, принятому в конце XIX в. (и действовавшему до 1925 г.), здесь сооружались дома-казармы с плотностью застройки до 85–90 %; в Париже в <19>20-х и начале <19>30-х годов действовали нормы, допускавшие минимальную величину внутренних дворов в 30 м2, а если во двор выходили комнаты для прислуги и другие подсобные помещения – даже 8 м2; в Нью-Йорке в кварталах, застроенных пятиэтажными домами, допускался размер дворов в 26 м2»130. И перспективное преодоление этого урбанизма и освобождение народного большинства от реальности этой общегородской казармы виделось революционерам архитектуры и городского планирования не в расселении, а в создании на месте городов сети широко расположенных на озеленённом («природном») ландшафте изолированных – всё тех же в основе своей – гипер-казарм / башен, как то предлагал, например, Ле Корбюзье (1887–1965) для «Плана Вуазен» по перестройке Парижа (1925) – в сети небоскрёбов по 20 000–40 000 жителей в каждом.
В этом контексте примечательна аргументация одного из идеологов (но лишь идеологов, а не практиков) сталинской урбанистики, бельгийского инженера-механика по образованию, основателя советской политической цензуры Н. Л. Мещерякова (1865–1942). Опираясь на набор формул Энгельса, Ленина и Сталина и выхолащивая «вавилонское» усилие революционных образов Gesamtkunstwerk в исполнении Шухова и Татлина, Н. Л. Мещеряков описывает марксистскую главную цель коммунизма в пространственном развитии как преодоление «противоположности между городом и деревней» путём всеобщей механизации универсального, взаимозаменяемого труда, равномерного, сетецентричного расселения по ландшафту131. Узлами такой сети, по его замыслу, должны стать комплексы взаимосвязанных крупных промышленных производств, так сказать, фабрики-ландшафты. Идеолог вслед за Энгельсом рассматривает крупные города как временное явление, а предложенные советской власти архитектором Ле-Корбюзье проекты небоскрёбов как избыточные и нерентабельные132. Ведь не крупные города, дискредитированные социальной критикой капитализма вообще и марксистской критикой, в частности, как язвы нищеты, грязи, порока, тесноты и эксплуатации, служат образом будущего Н. Мещерякову, а комплексы научно организованных производств, заполненные работниками-универсалами. Каков же культурный образец этих комплексов? Обнаруживается, что Энгельс внёс в сознание марксистов-большевиков, практиковавших коммунальный быт (например, полностью лишённый индивидуальных ванных и кухонь жилой дом для ответственных чиновников – Дом Наркомфина М. Гинзбурга и И. Милиниса, 1930)133, архетип фаланстера, и без того существовавший в русской революционной традиции ещё со времени Чернышевского и его коммунальной утопии134. До и без большевиков изданный крупнейшим русским издателем И. Д. Сытиным массовый словарь заключал: «Фаланстер – общественные здания, служащие нуждам каждой отдельной социалистической общины», после распространения которых и упразднения частной собственности «должен был наступить золотой век»135.
Для выяснения легко считывавшейся просвещёнными марксистами в среде правящих большевиков (а таковых среди них в 1920–1930-е гг. было, как минимум, значительное число) коммунистической природы вдохновения урбаниста Мещерякова надо обратиться к контексту рассуждений Энгельса о преодолении присущей капитализму «противоположности между городом и деревней». Из него явственным образом выступают утопические и экспериментальные образцы названных комплексов, выдвинутые Р. Оуэном и Ш. Фурье и поддержанные Энгельсом, причём в течение всего времени его идейного развития. Молодой Энгельс явно зачарован «реалистичностью» детальных расчётов, характерных для этих проектов, и очевидно вовлекает в них всех своих идейных и партийных сторонников. Он специально разбирает вопрос о практическом преодолении противоположности города и деревни на пути коммунистической унификации их хозяйственных укладов и образа жизни, излагая английский образец такого преодоления, который он находит в утопии Р. Оуэна, и французский образец единой коммуны, за которым по умолчанию стоит проект Ш. Фурье: «Англичане, вероятно, начнут с основания отдельных колоний… французы, наоборот, вероятно, будут подготовлять и проводить коммунизм в национальном масштабе». В прикладном виде этот коммунизм выглядит так:
«… те преимущества, которые даёт коммунистическое устройство в результате использования ныне расхищаемых рабочих сил, являются еще не самыми важными. Самая большая экономия рабочей силы заключается в соединении отдельных сил в коллективную силу общества и в таком устройстве, которое основано на этой концентрации до сих пор противостоявших друг другу сил. Здесь я хочу присоединиться к предложениям английского социалиста Роберта Оуэна, так как они наиболее практичны и наиболее разработаны. Оуэн предлагает вместо теперешних городов и сёл с их обособленными, мешающими друг другу домами, сооружать большие дворцы, каждый на площади, имеющей приблизительно 1 650 футов в длину и столько же в ширину и включающей большой сад; в таком дворце смогут с удобством разместиться от двух до трёх тысяч человек. Что подобное здание, дающее его обитателям удобства самых лучших современных жилищ, может быть построено дешевле и легче, чем то количество отдельных, по большей части не столь удобных, жилищ, которые при теперешней системе требуются для того же числа людей, – это очевидно. Большое число комнат, которые в настоящее время почти в каждом порядочном доме стоят пустыми или используются один – два раза в год, может быть упразднено без всякого неудобства; экономия места, используемого под кладовые, погреба и т. д., точно так же может быть очень велика. – Но если вникнуть в детали домоводства, то тут особенно становятся видны преимущества общественного хозяйства. Какая масса труда и материалов растрачивается при современном раздробленном хозяйстве – например, при отоплении! (…) Затем возьмём приготовление пищи, – сколько затрачивается зря места, продуктов и рабочей силы при современном раздробленном хозяйстве, когда каждая семья отдельно готовит нужное ей небольшое количество пищи, имеет свою отдельную посуду, нанимает отдельную кухарку, отдельно закупает продукты на рынке, в зеленной, у мясника и у булочника! Можно смело предположить, что при общественном приготовлении пищи и при общественном обслуживании легко было бы освободить две трети занятых этим делом рабочих…»136
Уже зрелый Энгельс по-прежнему демонстрирует свою верность этой жилищной утопии и пишет:
«Жилищный вопрос может быть разрешён лишь тогда, когда общество будет преобразовано уже настолько, чтобы можно было приступить к уничтожению противоположности между городом и деревней, противоположности, доведённой до крайности в современном капиталистическом обществе. (…) уже первые социалисты-утописты современности – Оуэн и Фурье – правильно поняли это. В их образцовых строениях не существует больше противоположности между городом и деревней. (…) Стремиться решить жилищный вопрос, сохраняя современные крупные города, – бессмыслица. Но современные крупные города будут устранены только с уничтожением капиталистического способа производства, а как только начнётся это уничтожение, – вопрос встанет уже не о том, чтобы предоставить каждому рабочему домик в неотъемлемую собственность, а о делах совсем иного рода»137.
«Дело совсем иного рода» Энгельса, то есть глобальное развитие начальных коммун, – будь это сеть фаланстеров для Англии или общенациональный коммунистический фаланстер для Франции – вновь вызывает к жизни образ рационализированной Вавилонской башни. Рационализация Вавилона, как это было хорошо понятно социалистам той эпохи, толкующим наследие Фурье, подразумевала новый и ясный образ мира и его новый Большой стиль, в основе которого явственно вырастала Машина как Фабрика новой человеческой природы. В специальном очерке чаемого будущего русский постмарксист и социалист, ещё в конце XIX завоевавший стабильную европейскую известность как экономист, М. И. Туган-Барановский (1865–1919) вычленял в «социальном эксперименте» Фурье, претендующем решить «социальный вопрос» на путях «создания социалистической общины», именно тотальный инженерный пафос, выраженный в труде последователя Фурье Виктора Консидерана (1803–1893) «Манифест социетарной школы» (1841):
«Мы – социальные инженеры, мы представляем нашим современникам план нового социального механизма, способного, по нашему мнению, использовать всю энергию движущей силы человеческой природы без того, чтобы какая бы то ни было часть этой энергии растратилась, при предлагаемой нами системе, на бесполезные, вредные или опасные для общества действия»138.
В СССР хрестоматийный для европейского коммунизма дебют Оуэна и Фурье стал точкой роста самых смелых фантазий или пропагандистских домыслов. В советской апологетической брошюре об Оуэне, проводящей прямые аналогии между его наследием и достижениями Сталина, так же прямо формулировалось: «Двойственная роль машины – как проклятия и благодеяния для трудовых классов – ни одним из социальных мыслителей и экономистов начала XIX в. до Маркса не была понята и истолкована с такой ясностью, как это сделано Оуэном. (…) развитие научных сил (т. е. техники) и распространение знаний… создают условия для водворения всеобщего счастья». В центре этой уверенности стояла мысль Оуэна: «Да! механика и химия и другие науки и искусства разрушили и уничтожили возможность дальнейшего существования индивидуалистического и отталкивающего современного строя» – «Оуэн свой социализм и коммунизм целиком основывает на сделанных и могущих быть сделанными изобретениях механики и химии». А прямое решение проблемы противоположности города и деревни автору апологии виделось в полной механизации сельского хозяйства и занятости каждого одновременно в земледелии и промышленности. И при этом – таким образом, чтобы коммунистические общины как отдельные поселения посреди природного ландшафта были «максимально независимыми от внешнего мира – от рынка»139.
Кроме теоретической рационализации коммунистического производства и быта, была очевидна необходимость и особого изобразительно-художественного стандарта, культурно укоренённого в исторической глубине коммунистических прецедентов, столь дотошно собиравшихся советской пропагандой вокруг имён Томаса Мора, Кампанеллы и других. Этот стандарт по масштабу своего замысла также требовал нового Большого стиля, который должен был утвердить образец и практику дома-коммуны. И в СССР эта задача не осталась без прикладной бюрократической детализации: в 1928 году «Центржилсоюз» (Общесоюзный центр жилищно-строительной и жилищно-арендной кооперации) выпустил «Типовое положение о доме-коммуне», согласно которому его жители «должны были отказаться от мебели и предметов быта, накопленных предыдущими поколениями. В коллективе предполагалось осуществлять воспитание детей, стирку и уборку, готовить еду, удовлетворять культурные потребности и т. д.»140. Система обоснования этой, на первый взгляд, самопроизвольной инструкции по организации быта, лишь навеянной трудами Оуэна, Фурье и поддержанной авторитетом Энгельса, была на деле глубоко эшелонированной не только в коммунистической догматике, но и в риторике и выкладках социально-экономического планирования СССР, призванных изобразить «научное управление» обществом и страной. И в официальном быту. Однако исследователь официального советского коммунистического быта заключает: «Попытки реализовать план “коллективной жизни” на практике провалились: строительство домов-коммун оказалось делом дорогим, общественные столовые пустовали, в прачечных была очередь на месяц вперёд. Тем не менее официальный идеал коммунальной квартиры и обобществлённого быта просуществовал фактически до 1930 г. – до момента выхода постановления ЦК ВКП (б) «О работе по перестройке быта». Постановление ориентировало на строительство жилищ «переходного периода», где «формы обобществления быта могут проводиться только на основе добровольности». (…) Если совсем недавно идеалом социалистического общежития считались дома-коммуны, то Планом социалистической реконструкции и развития Москвы, утверждённым в 1934 г., намечалось строительство жилого комплекса на юго-западе столицы, где для каждой семьи предусматривалась отдельная квартира»141.
Пожалуй, наиболее известным в историографии проектировщиком социальной реальности коммунизма в СССР стал автор феерической по замыслу и исполнению книги «СССР через 15 лет» (1929) сотрудник ВСНХ, урбанист Л. М. Сабсович142, чей порыв был осуждён в упомянутом постановлении ЦК ВКП (б) «О работе по перестройке быта», но лишь как крайность, а не по сути. Думается, что партийный надзор осудил этого одного из главных «проводников вакханалии планирования»143 Сабсовича не за сам замысел, а за детальную подмену своими расчётами руководящей роли партии в деле «генерального планирования» вплоть до 1542 года, проявившуюся в том, что до и без решений вождей СССР автор оснастил перспективы его развития сотнями лично придуманных им руководящих цифр. В главном же он шёл в русле коммунистической доктрины о новом обществе и новом человеке, обнаруживая в ней пугающие даже коммунистов пределы. Он писал в главе «Культурная революция и обобществление быта», строго следуя Оуэну, Фурье и Энгельсу:
«Наличие материальных и социальных предпосылок ещё недостаточно для построения социалистического общества. Нужна ещё культурная революция, – нужно совершенно переделать человека, а для этого совершенно изменить бытовые условия и формы существования человечества. Условия быта должны быть изменены прежде всего в том направлении, что должно быть уничтожено индивидуальное домашнее хозяйство, тот “домашний очаг”, который всегда являлся и является источником рабства женщины… полное освобождение женщины от домашнего рабства и уничтожение индивидуального домашнего хозяйства является не только задачей, которую желательно осуществить к концу генерального плана, но задачей, положительное разрешение которой является неизбежной необходимостью»144.
Не ограничиваясь установлением общего быта и обобществлением воспитания детей, рискованно ссылаясь на упомянутый выше проект уже подвергнутого тогда официальной идеологической критике А. А. Богданова, Сабсович ставил задачу едва ли не биологической селекции нового человека как части универсальной революции:
«Новый строй жизни, даже постройка новой жизни требуют и нового человека. Мы должны переделать человека. (…) В настоящее время мы вступаем в полосу невиданной в мире великой стройки. Период генерального плана является частью той “эпохи великих работ”, которую описывал А. Богданов в своей утопии “Красная звезда” и которая должна быть эпохой коренной переделки земли, коренной переделки всех материальных и духовных условий существования человечества»145.
Очевидным традиционным стандартом сталинской тотальности и образцом коммунистического жизнестроительного восстания против природы, одновременно значимого для советского коммунизма и для советского авангарда, укоренённых в индустриальной культуре, служило классическое изображение Вавилонской башни, основанное на образе античного Амфитеатра (Колизея) – самое известное из которых принадлежит Питеру Брейгелю Старшему («Вавилонская башня», 1563: Роттердам: илл. 2). Именно образ Вавилонской башни – как проекта победы над природой и Богом и одновременно изолированного ковчега для единого коллективного человечества – был развит в известных проектах ровесников имперской индустриализации России, инженера Владимира Шухова (1853–1939) (Радиобашня на Ша- боловке (1919–1920): илл. 3)146, инженера Ивана Рерберга (1869–1932) (Центральный телеграф в Москве (1925–1927): илл. 4)147, революционного художника Владимира Татлина (1885–1953) (Памятник III Интернационалу (1920): илл. 5.) и предвоенном проекте Дворца Советов архитектора Бориса Иофана (1891–1976). Сопоставление этих образов открывает внутреннюю динамику «индустриальной Вавилонской башни». В её ранних советских реализациях особенно обнажается инженерный скелет, голая логика спирали, иерархия, задача которых состоит в концентрации, мобилизации Машины.
Иная, альтернативная, антииндустриальная, литературоцентричная, кабинетная, консервативная перспектива образа Вавилонской башни в России незадолго до коммунистической революции стала предметом анекдота и высмеивания. И. Е. Репин после смерти Льва Толстого горячо одобрил и 4 ноября 1911 г. дополнительно рекомендовал публике проект памятника писателю в виде огромного земного шара, увенчанного фигурой сфинкса. В связи с этим крупнейший русский сатирический журнал того времени «Сатирикон» опубликовал карикатуру А. Иванова с подписью:
«На вечере в Дворянском собрании на эстраду вышел художник И. Е. Репин и предложил способ увековечения памяти Льва Толстого: именно – устроить колоссальный земной шар, на котором сидит лев с головой Толстого; внутри шара публичная библиотека имени Толстого»148. (Илл. 6.)
Илл. 2. П. Брейгель Старший. Вавилонская башня (1563, Роттердам
Илл. 3. В. Шухов. Радиобашня на Шаболовке (1919–1920). Илл.: lifeglobe.net
Илл. 4. И. Рерберг. Центральный телеграф в Москве (1925–1927)
Илл. 5. В. Татлин. Памятник III Интернационалу (1920). Илл.: lebbeuswoods
Только совпадением, но совпадением, предопределённым общими универсалистскими претензиями на строительство нового Вавилона, можно объяснить то, что в основе проектов «сатириконовского» памятника Толстому и коммунистического проекта Дворца Советов равно лежит сфера-универсум. Но нет ничего случайного в том, что в основе проекта Дворца Советов архитектора Б. М. Иофана (1932: Илл. 7), победившего на первом закрытом конкурсе проектов и затем официально взятого за основу для подготовки окончательного проекта, лежит даже не спиралевидная, а лапидарная копия хрестоматийной, круглой четырёхуровневой Вавилонской башни. Лишь после этого архитектору была поставлена задача увенчать башню фигурой Ленина149. Это навершие внешне удаляло прямую аналогию с Вавилонской башней. Но программа развития проекта в ходе второго закрытого конкурса настаивала на возведении внутри башни особого универсума – Большого зала для аудитории итоговым числом 23 900 человек150. В окончательно в марте 1937 года утверждённом в качестве единственного официального – в проекте Б. Иофана (Илл. 8.) вовнутрь башни был вписан Большой зал в виде полусферы («полуциркульного амфитеатра»151).
Лингвист-универсал Роман Якобсон (1896–1982), равно близкий к советской власти, футуристам, просоветским евразийцам, свидетельствовал уже в 1921 году, что для немецкого авангарда проект Татлина стал не только признанной классикой, но и тем образцом нового жизненного стиля, превосходящего искусство в целом, который они ёмко назвали «Maschinenkunst Татлина»152, определив таким образом главное содержание этого Gesamtkunstwerk как глобальной Машины / Фабрики. В отличие от сугубо художественного синтеза прежних эпох – в этом актуальном Большом стиле ставилась задача синтеза общественного, художественного и научного. В 1912–1914 гг. – свидетельствовал Р. Якобсон – «представлялось совершенно несомненным, что мы переживаем и в
Илл. 6. «Сатирикон». Проект памятника Л. Н. Толстому (1911)
изобразительном искусстве, и в поэзии, и в науке – вернее, в науках – эпоху катаклизмов… И ясно рисовался единый фронт науки, искусства, литературы, жизни, богатый новыми, ещё неизведанными ценностями будущего. Казалось, творится новозаконная наука, наука как таковая, открывающая бездонные перспективы…». Причём перспективы этого тотального переворота, конечно, создавали и адекватную ему новую тотальность Большого стиля. Вспоминая о гении этого переворотного футуризма, о Владимире Маяковском, Р. Якобсон отмечал, что тот «себе совершенно не мог представить, что будет культ машин, культ промышленности. Всё это его глубоко не интересовало: ведь он был страшный романтик. А Хлебников понимал – “Но когда дойдёт черёд, / моё мясо станет пылью”…»153.
Илл. 7. Б. Иофан. Дворец Советов (Проект 1932). Илл.: krasfun.ru
Илл. 8. Б. Иофан. Дворец Советов (Проект 1937). Илл.: greedyspeedy.livejournal.com
Эта же интуиция авангарда лежит в основе более массового, уже не экспериментального, а вполне нормативного образа нового Gesamtkunstwerk как Фабрики, соединяющей в себе картины и традиционного органицистского функционализма общества как человеческого тела, и индустриализма технологичного производства как единого, замкнутого комплекса, более того – целого мира как единого машинного целого154 – и нового, преображённого человека, технологически противостоящего природе. Речь идёт об известном немецком плакате той же эпохи, созданном Фрицем Каном (Fritz Kahn, 1888–1968) и ныне пережившем своё второе рождение в массовой культурной памяти – Der Mensch als Industriepalast (1927). Преодоление схем либерального социал-дарвинизма155 «свободной конкуренции» уже в течение XIX века и одновременно преодоление почти современного ему социалистического механицизма в виде Der Mensch als Industriepalast, конечно, более всего было остроумным артефактом, нежели альтернативным проектом Большого стиля, однако оно актуализировало нечто большее, нежели органицистскую архаику, в которой общественным классам соответствовали члены и органы человека. Русский радикальный социалист и атеист, но принципиальный противник антропоморфизма и органицизма, П. Н. Ткачёв (1844–1886) ясно представлял себе консенсуальное единство современных ему европейских образцов индустриального социального прогресса в символике целостного организма: «Известно, что объективный историко-общественный антропоморфизм прошёл на Западе две ступени развития. Сперва, когда естественные науки были ещё в младенчестве, на общество переносились лишь некоторые процессы органической жизни; впоследствии же понятие об обществе было подведено всецело под понятие об организме, взятом во всём его объёме»156. Эта архаика к началу ХХ столетия оставалась жива как основа современной интеллектуальной картины. Об этом неизменно твердили британские, немецкие и французские интеллектуалы157.
Илл. 9. У. Траутман. Единый Большой Союз (1919)
Известный советский теоретик организации труда, идеолог «Пролеткульта» А. К. Гастев (1882–1939) так завершал свой манифест прикладной систематизации всего советского хозяйства: «В машине-орудии всё рассчитано и подогнано. Будем также рассчитывать и живую машину – человека»158. Признанный только недавно великим, советский писатель и идейный коммунист Андрей Платонов (1899–1951) в своей творческой юности, воспроизводя общий дух эпохи и советского коммунизма, рисовал общественный идеал как соединение машины и труда, исподволь, лексически проговаривая их органический (телесный) синтез:
«Производство – вот истинное тело коммунистического общества, и организация производства есть организация коммунистического общества. Производство же основано на труде всех. Значит, труд – главный, решающий, универсальный момент жизни коммунистического общества и производство – основная цель этого общества»159.
Органицизм советского марксизма отнюдь не был только лишь художественным произволом партийных или беспартийных коммунистов. Он был именно доктриной для массового распространения. Вот так, например, предписывал понимать жизнь известный и успешный советский официальный марксист В. Н. Сарабьянов (1886–1952):
«Общественное бытие и общественное сознание (тело и душа общества) (…) материя и дух общества или, выражаясь проще, тело и душа общества. (…) Базис и надстройки общественного тела. (…) Анатомией тела определяется и “анатомия” общественного сознания»160.
Словно в развитие этой схемы в 1927 году в советском журнале «Летописи марксизма» были опубликованы тезисы первого русского политического марксиста Г. В. Плеханова (1856–1918) о материалистической основе марксизма, в которых он, в частности, сообщил (нехорошо бравируя швейцарскими реалиями, словно общие справочные данные были доступны лишь посвящённым):
«Пойдите в Женевскую публичную библиотеку, возьмите там XXVIII том “Biographie universelle ancienne et moderne” и отыщите в нём статью “Ламеттри”. Автор этой статьи говорит, что Ламеттри среди других книг написал книгу “Человек-машина” – “гнусное произведение, в котором пагубное учение материализма изложено без всяких смягчений”. В чём же оно состоит, это пагубное учение. Слушайте внимательно”161. И далее Плеханов возвращается к уже однажды рассказанной им истории о материализме. А именно этой: “Декарт утверждал, что животные суть не более как машины, т. е. что у них совсем нет того, что называется психической жизнью; Ламеттри ловит Декарта на слове. Он говорит, что если Декарт прав, то и человек тоже не более, как машина, потому что нет никакой существенной разницы между человеком и животным. Отсюда – название его знаменитого сочинения “L’Homme machine” (Человек-машина). Однако, так как человек не лишён психической жизни, то Ламеттри заключает далее, что и животные тоже одарены психической жизнью. Отсюда название другого сочинения: “Les animaux plus que machines” (Животные – более, чем машины)»162.
В этом контексте в изолированном «человеке-дворце индустрии» Ф. Кана, наполняющем человеческий организм иерархией деперсонализированных функций, выявляется «вавилонский» замысел, общий для индустриализма и коммунизма. Вавилонская башня в реальности первой половины ХХ века становится Фабрикой, где человек-творец сам на поверку оказывается машинным созданием. Которым, в свою очередь, управляет некто, жизненно требующийся этой одновременно рациональной и органической машине-городу-государству-человечеству, знающий и властвующий герой, столь долго и упорно призывавшийся к жизни самим Просвещением на место монарха-по-крови163. Его пафос и компетенция не сводятся к обслуживанию машины, но подчиняют её целям радикального переустройства, ставя ей цели, делясь с ней личным знанием Законов Истории, будь то «мировая строительная наука» или «всеобщая организационная наука»164 и т. п. Именно об этом «встроенном» в машину её внешнем управлении говорит клонящийся к диктатуре Карл Шмитт (1888–1985) в 1920-е годы:
«Если бы в этом заключалась научность социализма, то прыжок в царство свободы был бы только прыжком в царство абсолютного техницизма. Это было бы старым рационализмом Просвещения и одной из излюбленных, начиная с XVIII в., попыток добиться политики, обладающей математической и физической точностью. (…) “Прыжок в царство свободы” необходимо понимать только диалектически. Его невозможно осуществить при помощи одной лишь техники. В противном случае от марксистского социализма нужно было бы требовать, чтобы он вместо политических акций изобрёл новую машину, и сомнительно, что и в коммунистическом обществе будущего были бы сделаны новые технические и химические изобретения, которые затем снова смогли бы изменить основу этого коммунистического общества…». 165
Именно Фабрику в сталинской Вавилонской башне, в Gesamtkunstwerk Бориса Гройса помогает увидеть Ханс Зедльмайр и художественная практика Модерна. А Фабрика помогает понять: откуда, с чем появились и частью чего были сталинизм и его Большой стиль, в котором Сталин, конечно, был не творцом, а лишь правящим исполнителем модерного консенсуса и строителем его утопии, – до тех пор, пока крупнейшая война в истории человечества не похоронила этот Gesamtkunstwerk. Можно было бы отнести радикализм «вавилонского» индустриализма на счёт не очень сложной философии борющегося и правящего советского коммунизма и его отражений, но глубина его исторически недолговечного Большого стиля в любом случае оказывается не глубиной самого коммунизма и не его собственной гекатомбой. О крепком и укоренённом в целостной мировой истории Нового времени узле неразрешаемых противоречий содержательно говорил другой современник сталинского Gesamtkunstwerk Карл Ясперс (1883–1969), одновременно откликаясь на попытки терминологически «усмирить» сталинизм, сделав его «чужим», отделив его от Модерна и индустриализма. К. Ясперс вернул источники вдохновения и язык этого сталинского Большого стиля к тотальности и биополитике. Анализируя общий контекст сталинской эпохи, он писал:
«Государство, общество, фабрика, фирма – всё это является предприятием во главе с бюрократией (…) Утопически эксплуатацию нашей планеты можно изобразить как местоположение и материал гигантской фабрики, которая приводится в движение массой людей… мир существует только как искусственный ландшафт, аппаратура человека в пространстве и свете…
С помощью евгеники и гигиены создаётся наилучший тип человека. Болезни уничтожены (…) Целое в планирующем мышлении есть, впервых, идея общего состояния, к которому стремятся программы; во-вторых, конкретное всемирно-историческое положение в настоящем,… утопия правильного устройства мира,… метафизика бытия государства самого по себе,… этос самоограничения со стороны государства и общественного аппарата в пользу неприкосновенных прав человека,… историческая жизнь народа как нации,… каждый [из этих образов] становится неистинным в качестве тотальной программы, поскольку она претендует на абстрактную всеобщность (…) Государство посредством своей власти выступает как гарант любой формы массового порядка. Сама по себе масса не знает, чего она, собственно говоря, хочет (…) Бога нет – таков всё растущий возглас масс; тем самым и человек теряет свою ценность, людей уничтожают в любом количестве, поскольку человек – ничто». 166
В заключение настоящего очерка следует сказать и о логике перерождения сталинской довоенной тотальной Фабрики в послевоенном сталинском «ампире», ярче всего явленном в практике высотных зданий («сталинских высоток») в Москве, Варшаве и Риге, сверхзданий, подчинявших себе окружающий городской ландшафт, задуманных и реализованных как градостроительные самодостаточные «острова». Признано, что генетически проекты «сталинских высоток» не только внешне откликались на образцы и конкурировали с образцами небоскрёбов в США и Великобритании, но более всего технологически и даже политико-идеологически продолжали нереализованный проект Дворца Советов в Москве, то есть реализовывали его в новой, послевоенной реальности уже как серию разнообразных примеров «синтеза искусств», но с менее глобальной, вернее, более реалистической программой дворцов-памятников, нежели она была у Дворца Советов. Труднее уловить, как и почему именно программа Фабрики-Вавилона была заменена секвестированной практикой дворцов-муравейников, в которых отчасти сохранялась бытовая сторона изолированного коммунистического общежития (в максимуме приданных жилой «высотке» сфер услуг от прачечных до кинотеатров – и в минимизированных квартирных кухнях). Наряду с роскошью общественных холлов и экстерьеров, уже не ставилась задача зримого объединения масс в общем действе и демонстрации идеальной рациональной общественной иерархии производства и знания. Особый свет на это проливает дискуссия, начавшаяся в официальной (и потому особо ответственной) советской архитектурной профессиональной среде в 1947 году, после того, как высшее руководство СССР приняло решение о строительстве серии «высоток». Исследователь архитектурной и инженерной истории «высоток» приводит дискуссионное мнение теоретика архитектуры, бывшего конструктивиста Н. Н. Соколова, который – с аутентичным знанием дела и пафоса – политически и идеологически мотивированно описал произошедшее. Налицо отказ от символики (Фабрики) индустриализма и замена её риторической антикапиталистической критикой индустриально-архитектурного опыта США, словно он был изолирован от такого же опыта СССР. Подыскивая новому смыслу советских небоскрёбов новый образ мира, советский теоретик писал, компетентно подвергая посрамлению самую сердцевину довоенного Большого стиля:
«Основной художественный порок небоскрёбов в США – механистичность формы. Их композиция строится либо на беспринципной эклектике, либо на принципах машинной эстетики (…) они рассматривают как добродетель коренной недостаток дешёвой машинной продукции – бедность форм, прямолинейность и однообразие. Машину фетишизируют, в ней видят основу для нового стиля. Американский архитектор Бессет Джонс говорит: “Чем больше здание принимает характер машины, тем более его чертёж, конструкция и оборудование подчиняются тем же законам, которые существуют для локомотива”. Здесь подразумевается господство самодовлеющей техники, ибо это было сказано в то время, когда Бессет Джонс не подозревал, что сначала автомобильные, а за ними и паровозостроительные и даже самолётные фирмы призовут не инженера, а художника исправить с точки зрения искусства чертежи и спасти их продукцию от того безобразия, которое породили пресловутые “законы локомотива”…»167
Собственно, сколь бы непрерывна ни была связь послевоенного сталинского коммунизма с коммунизмом довоенным и с его восходящим к XIX веку образно-интеллектуальным ландшафтом, после 1947 года смена центрального его мифа проявлялась всё предметней. Решительный слом прежней тяжеловесной, монументальной традиции произошёл столь же быстро, сколь быстро стал казаться избыточным индустриализм. Даже в такой прикладной, но оттого более чуткой к художественной эволюции сфере, как фалеристика. Последними советскими наградами, сохранившими в себе монументальность Большого стиля, ещё при Сталине стали, пожалуй, уже медали «В память 800-летия Москвы» (1947) и «За отличие в охране государственной границы СССР» (1950). Вслед за ними в фалеристике, как и в изобразительной советской пропаганде, стали быстро нарастать и доминировать уже другие168 – принципиально не монументальные, декоративно-орнаментальные, барельефные, всё более маньеристские образы, за которыми уже не было ни Большого стиля, ни коммунизма.
Большой стиль Фабрики исчерпал себя уже к концу 1940-х годов.
И Сталин пережил его.
Фихте, Лист, Витте, Сталин: изолированное государство, протекционизм, первоначальное социалистическое накопление и "Социализм в одной стране"
Промышленное производство в наше время означает крупную промышленность… Вы должны быть в состоянии ремонтировать ваши собственные паровозы, вагоны, железные дороги, а это можно сделать дёшево только в том случае, если вы в состоянии строить у себя всё то, что намереваетесь ремонтировать… если Россия действительно нуждалась в своей собственной крупной промышленности и решила иметь её, то она не могла создать её иначе, как посредством хотя бы известной степени протекционизма.
Ф. Энгельс – Н. Ф. Даниельсону, 1892
В своих неизмеримых пределах Англии не тесно; сама она с ее колониями представляет еще не сложившийся, но замкнутый мир, который мог бы прекрасно существовать без участия остального человечества… вот вам идеальное «замкнутое» государство, о котором мечтали философы… России, может быть, волей-неволей придется – или вступить в экономическую федерацию с еще не замкнутыми державами, или и самой попробовать уединиться в своих огромных границах, поискать дома всего, что ей нужно…
М. О. Меньшиков. Замкнутое государство. 1902
Всю нашу надежду мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, – мы будем раздавлены, это несомненно.
Л. Д. Троцкий, 26 октября 1917
Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут.
И. В. Сталин, 4 февраля 1931
Конец мировой революции
10 февраля 1921 года народный комиссар РСФСР по делам национальностей, член Политбюро РКП (б) И. В. Сталин выступил в печати с утверждёнными Политбюро тезисами к докладу X съезду РКП (б)
«Об очередных задачах партии в национальном вопросе». Формально касался он лишь территории Советской России и бывших народов Российской империи, где действовала вертикаль РКП (б). Но на деле – задолго до решительного определения задач «строительства социализма в одной стране», ставших программной инициативой в 1925 году на XIV съезде ВКП (б), когда доктрина приоритетной мировой революции была вместе с её идейным лидером Л. Д. Троцким отодвинута от политической власти, а сама мировая революция в итоге была подчинена интересам СССР не как Мировой ССР, а как одной из великих держав169, – Сталин изображал тот ландшафт, на котором мировой коммунизм не только не был приоритетом, но буквально тонул в хаосе империалистической и национальной борьбы. Из этого хаоса можно было бы умозаключать нечто важное о мировой борьбе, но руководствоваться этими умозаключениями в интересах элементарного государственного выживания РСФСР, то есть на практике, было нельзя. Не было «руководящей нити». Ещё 26 ноября 1920 года политический и идейный вождь РСФСР В. И. Ленин заявил: «Мы всегда говорили, что мы только одно звено в цепи мировой революции и никогда не ставили себе задачи победить одними своими силами». И вот, три месяца спустя, стало выясняться, что мир лежит в межгосударственной борьбе и руководящей помощи оказавшейся в одиночестве РСФСР ждать неоткуда. Радикальный враг большевистской власти, не останавливавшийся перед проповедью военной интервенции ради сокрушения Советской России, П. Б. Струве сразу после Октябрьского переворота 1917 года писал: «России нужна для окончания войны, как внешней, так и гражданской, большая вооружённая сила в руках твёрдой государственной власти, а армия в силу целого ряда причин, заложенных в ходе революции, превратилась в огромное погромное бесчинство вооружённых людей, руководимых преступниками и безумцами»170. А уже в ноябре 1919 года, далеко до окончания белой борьбы против красных, Струве признавал, что, начав с «антипатриотичной» и «противогосударственной» революции, большевики создали военно-государственную организацию и, «начав с провозглашения мира, с отрицания и разрушения армии, эта социалистически-интернационалистская организация с неслыханным упорством начала войну, всем ей жертвуя и ради самосохранения всё подчиняя социалистическому милитаризму… Уничтожение армии привело к превращению всего государства в красную армию»171. То есть Россия уже через два года получила в свои руки армию и твёрдую государственную власть, о которой мечтал самый радикальный враг большевиков и за неимение которых отказывал большевикам в праве вообще в России существовать. Но призрак мировой революции удалился.
Армия-государство за спиной и мировой ландшафт перед глазами, описанный в начале 1921 года Сталиным, открывали Советской России только одну реалистичную перспективу – стать, в случае успеха, одним из игроков в этом хаосе, выбирая себе место либо среди империалистических великих держав и эфемерно независимых новых национальных государств – либо среди колоний, борющихся за освобождение:
«Послевоенный период открывает неутешительную картину национальной вражды, неравенства, угнетения, конфликтов, войн, империалистических зверств со стороны наций цивилизованных стран как в отношении друг к другу, так и к неполноправным народам. С одной стороны, несколько “великих” держав, угнетающих и эксплуатирующих всю массу зависимых и “независимых” (фактически совершенно зависимых) национальных государств, и борьба этих держав между собой за монополию на эксплуатацию национальных государств. С другой стороны, борьба национальных государств, зависимых и “независимых”, против невыносимого гнёта “великих” держав; борьба национальных государств между собой за расширение своей национальной территории; борьба национальных государств, каждого в отдельности, против своих угнетённых национальных меньшинств. Наконец, усиление освободительного движения колоний против “великих” держав и обострение национальных конфликтов как внутри этих держав, так и внутри национальных государств, имеющих в своём составе, как правило, ряд национальных меньшинств. Такова “картина мира”, оставленная в наследство империалистической войной».172
В этом ландшафте и сформировалась для большевиков проблема «социализма в одной стране», то есть установления в России и СССР суверенного политического режима, основанного на коммунистической (социалистической) экономике, – главной задачей Советской власти. Несмотря на то, что доминирующая марксистская традиция говорила о коммунизме как о масштабе мировой революции, задача суверенного социализма не была новым или монопольным изобретением, или вынужденным открытием руководства большевиков.
В осознании этой задачи они нашли опору в широком социалистическом консенсусе внутри России, суверенизаторский пафос которого ещё вполне не описан, но интеллектуально совершенно ясно проявил себя в том же 1921 году. Именно тогда он выразил себя, можно сказать, в самой сердцевине социалистического сознания, а именно в попытке научного конструирования экономического проекта новой, отдельной России (о его предпосылках и направлениях подробнее ниже): именно его выдвинул экономист-аграрник, активист кооперативного движения, бывший товарищ земледелия Временного правительства, действующий член коллегии Наркомата земледелия РСФСР, в историографии пользующийся – наряду с Н. Д. Кондратьевым – репутацией противника сталинизма, А. В. Чаянов (1888–1937). Формально он претендовал на проявление общих методологических подходов к исследованию народного хозяйства в традиции «изолированного государства» (Тюнена), но на деле исходил из новой реальности России. Он, разумеется, теоретически анализировал перспективы массового крестьянского мелкотоварного аграрного производства в советской России, ставшего реальностью в результате революционного «чёрного передела» (уничтожения помещичьего землевладения и перераспределения земли) 1917–1918 гг., но делал это в жёстких пределах национальной территории. Этому были посвящены специальные главы его работы «Опыты изучения изолированного государства»:
«Проблема населения в изолированном государстве-острове» и «Трудовое и капиталистическое хозяйство в изолированном государстве-острове»173. Специальные разъяснения потребовались Чаянову и для того, чтобы сместить фокус теории с мировой на национальную экономическую систему:
«Употребляя термин “страна”, мы теоретически понимаем под этим изолированную страну, практически его следует понимать как более или менее замкнутую рыночную систему. При развитом мировом хозяйстве “страной” в данном случае является весь мир. Однако с некоторой долей приближения под этим термином можно понимать и некоторые более или менее замкнутые народно-хозяйственные национальные системы»174.
И позже, в другом месте – и что важно: в немецкой статье, в естественном научном контексте для наследия Тюнена – Чаянов легко защищал презумпцию «изолированного государства» от (звучавшей в СССР из среды проповедников мировой революции) примитивной критики. Её главным пунктом была сугубо лексическая, недобросовестная эксплуатация понятия «изолированный» (= отдельный) как синонима якобы полной самоизоляции от внешнего мира. Чаянов разъяснял, говоря о «сосуществовании форм… первоначального капитализма с феодальным и крепостническим» и явно подразумевая актуальное тогда сосуществование западного капитализма и советского социализма: «…каждая система, оставаясь замкнутой в себе, будет соприкасаться с другими объективно общими народнохозяйственными элементами»175.
Проблема признания «социализма в одной стране» задачей Советской власти – и вне упомянутого контекста – имела существенную основу внутри марксистской доктрины и была производной от доктринально хорошо выясненной марксистами неравномерности капиталистического развития. Эта неравномерность с самого начала стояла в центре теории мировой революции, поскольку она всегда в 1840–1870-х гг. исходила из идеи лидерства в ней западных стран, Англии или Франции, а в 1890-х – Германии. Соответственно вне стран-лидеров осознавалось существование европейских держав меньшего веса и Северной Америки, которое, взятое вместе с лидерами, предопределяло для остального мира статус зависимых стран или колоний, чьей главной характеристикой была их сравнительная отсталость. Единственным исключением из их числа понималась Россия – единственная великая держава среди «не передовых» стран, чей военно-политический вес дополнялся её аграрно-монархической и «синодальной» отсталостью от тех, с кем политически конкурировала Россия. Великими державами Запада ей было бы определено место колонии, если бы не её военно-дипломатический вес. «Вплоть до конца XIX в. история была для нас, по существу, историей Запада. Весь остальной мир оставался в сознании европейцев того времени колониальной территорией второстепенного значения, предназначенной для того, чтобы быть добычей европейцев», – свидетельствовал Карл Ясперс (1883–1969)176.
Таким образом, неравномерность капиталистического развития оставляла России перспективы преодоления отсталости в ходе (западной, европейской) мировой революции и для этого предопределяла ей судьбу либо ассистента революционного процесса, либо нового объекта экспорта революции, для старой французской и фихтевской революционной войны ради свободы и просвещения, революционной войны, в плане которой силы революционного Запада теперь уничтожали царизм при помощи русских революционеров и устанавливали в России «коммунизм сверху». Гипотетическое отсутствие географической связи между революционным лидером мира (Францией или Германией) и революционной Россией обрекало Россию на «временное» самостоятельное поддержание статуса революционной, – в не революционном окружении и перед лицом своих не революционных (отсталых) производительных сил и технологического уклада, далёких от тотальной западной индустриализации. Её «временное» одиночество подразумевало и «временно» самостоятельное преодоление отсталости и самозащиту, пока западная революционная война не достигнет её пределов.
Отлично помня, что догма марксизма отнюдь не включала Россию (как «оплот реакции» и как «отсталую» страну) в круг стран, где произойдёт мировая революция (реакционная Германия, однако, технологически могла стать «ареной первой великой победы европейского пролетариата»177), и включала Россию в число тех, куда будет направлен экспорт революции178, старые русские народники и социал-демократы конца XIX века не могли видеть для России иного сценария, кроме соучастия в мировом революционном процессе. Но русские большевики начала ХХ века были рождены новым мессианским пафосом В. И. Ленина, который был экспрессивно выражен в его ставшей очень популярной брошюре «Что делать?» (1902):
«История поставила теперь перед нами [русскими революционерами. – М. К.] ближайшую задачу, которая является наиболее революционной из всех ближайших задач пролетариата какой бы то ни было другой страны. Осуществление этой задачи, разрушение самого могучего оплота не только европейской, но также (можем мы сказать теперь) и азиатской реакции [царской России. – М. К.], сделало бы русский пролетариат авангардом международного революционного пролетариата…»179
Поэтому падение самодержавия, царской России и Российской империи (как – в изображении западных критиков, в том числе Маркса и Энгельса – реакционной державы, ради ликвидации которой им и нужна была революция в России, которая стала бы частью революционной войны социал-демократов Германии180) в феврале— марте 1917 года открыло самую главную перспективу в доктринальном сознании русских большевиков – перспективу участия в мировой революции. В отличие от русских марксистов вообще, которые, следуя западнической традиции русской мысли и экономической догме марксизма, более всего желали для России западного пути (последовательно) либерализма, социализма и мировой революции как нового качественного скачка, основанного на высшем уровне промышленного и технологического развития, русские большевики, видимо, следовали именно политическому наследию Маркса и Энгельса. В политическом наследии Маркса и Энгельса – в том, что в нём прямо касалось России, – в течение полувека, с 1840-х по 1890-е годы, было многократно, резко, настойчиво сформулировано, что главный враг революции в Европе – царская Россия, главное препятствие на пути победоносной социалистической революции – русский царизм. Выступив в 1914 году за поражение русского царизма и России в целом в войне против Германии, русские большевики строго следовали именно этим заветам. В феврале – марте 1917 года они с полным доктринальным основанием могли полагать, что чем дальше и больше дойдёт разрушение России как «оплота реакции», тем ближе будет завещанная мировая (европейская) революция. Этой особой роли России Маркс, Энгельс, оставаясь немецкими патриотами, и большевики, будучи крайними интернационалистами, отвели исторически краткую, отдельную инструментальную роль. Но эта роль ещё до революций 1917 года была для России историческим фактором, даже если была просто фактом догматического сознания.
Чуткий политический публицист и крупный газетный организатор А. С. Суворин (1834–1912) эту инструментальность русского освободительного (от самодержавия) движения, его осознанно вторичную роль, которая всё же сохраняла за ней хоть какие-то собственные исторические амбиции в мировом (европейском) прогрессе, точно описал на примере зависимости русской либеральной сцены от британского образца, где английский либерализм звучал как покровитель, подобно тому как покровителем русской социал-демократии ожидалась Германия. Он писал в сентябре 1906 года об англоманских надеждах, пародируя известный русский текст «Рабочей Марсельезы», написанный революционным народником П. Л. Лавровым. На мотив этой «Рабочей Марсельезы» Суворин и, метя в либералов-англоманов, изобразил исторические надежды русских революционеров, что их отчаянная революция против царизма будет учтена и поддержана мировым прогрессом:
Вставай, поднимайся, рабочий народ,
Идёт англичанин к тебе на подмогу…181
Так могли бы пропеть и о германцах русские марксисты. Но когда мировая революция не наступила ни в 1917-м, ни в 1918-м, ни в 1919-м, ни в 1920-м году, большевикам настал момент определиться. Большевики – исходя из практического здравого смысла – не могли стать в один ряд с империалистами или лимитрофами, но явно ощущали совпадение своих антиимпериалистических интересов с колониями, в которых шла или должна была идти освободительная борьба. И в таком контексте мировая революция уже не могла быть мировой революцией Запада (как по умолчанию считалось во времена Маркса и Энгельса), но – по плану большевиков – должна была стать мировой национально-освободительной борьбой колониального Востока против империалистического Запада, в которой Советской России принадлежала бы не только роль авангарда, но и донора, вождя и технологического лидера Востока – пока на Западе не началась пролетарская революция. Вторичность СССР в этом замысле, вновь подчиняющем его перспективам революционного Запада, была велика, сколь бы идеолог большевиков Н. И. Бухарин в 1923 г. ни пытался скомпоновать теоретический союз и сказать, что «западноевропейский пролетариат и русский пролетариат имеют в восточных колониях гигантскую резервную революционную пехоту, которую надо втягивать в бой»182. Промежуточные сценарии мировой революции, в которых СССР отводилась роль не только авангарда Красного Востока, но и медиатора между реальной национально-освободительной борьбой колониального Востока и гипотетическими социалистическими революциями Запада183, в советской риторике не прижились и скоро оставили СССР наедине с Востоком, отводя коммунистическим представителям Запада подчинённую роль.
Роль революционной державы против великих империалистических держав была Советской России не по ресурсам, и потому первой задачей в мировой борьбе становилась задача создания государственности, равно независимой, изолированной и от колониальной экономической перспективы, и от гибели в военно-политической конкуренции держав. В центре внешнеполитической идеологии большевиков, таким образом, стояла не борьба за всемирный коммунизм, а борьба против империализма.
Уже после того, как Ленин на VII съезде партии большевиков 7 марта 1918 года, обсуждавшем Брестский мир с наступающей Германией, настойчиво заявил, что сама революция в России – лишь «толчок» к мировой революции, без её достаточной «подготовки», с расчётом на внешнюю коммунистическую интервенцию, «революционную войну»184, многим (кто не считал революцию чистой авантюрой) была ясна не только подчинённость, но и изолированность России от европейского процесса. Иначе бы и речи не было о преодолевающей эту изолированность «революционной войне».
Это понимание периферийности революционной России отнюдь не было предметом «тайного знания» лидеров большевизма. Ещё до идейного осознания большевистскими вождями, что «мы – одни» (Ленин, 1922), и до доктрины «социализма в одной стране» (Сталин, 1921) юный коммунист и будущий писатель Андрей Платонов (1899–1951), оживляя старые славянофильские эмоции о «гнилом Западе», рассказывал, как переживалось революционное одиночество Советской России перед лицом поражения (мировой) революции в Западной Европе и как трансформировалась советская идеология революционизирования колониального Востока:
«Русский пролетариат начинает терять веру в близкую помощь европейских рабочих. Если эта помощь и придёт, то она не будет могущественной. Нам поможет не Запад, а Восток. Восток окончит революцию, начатую Россией. Запад – меньшевик. Но бьёт господ с трясущимися руками, он одряхлел и изнасилован веками богатства и власти. (…) В бывшем черепе мира – Европе – завелись черви, мозг человечества гниёт. Революция даст земле новую голову – Восток»185.
В вопросе о колониальном Востоке и отношении к нему революционной России вновь вставал старый, народнический по сути, выбор: можно ли и как именно можно избежать капитализма. Ответом на этот вопрос были старые же надежды на внесение коммунизма извне – то с Запада в Россию, то из России на Восток, то есть шаблон революционной войны. Бессильная на Западе, в борьбе с Западом, Советская Россия – рисковавшая стать, в случае поражения, колонией Запада – поднимала на борьбу колониальный Восток, рассчитывая нанести Западу сначала экономическое и демографическое поражение. В тезисах для Второго конгресса Коммунистического интернационала в августе 1920 г. (принятых им как руководство к действию) Ленин откровенно показывал, как народническое стремление избежать капитализма, то есть убийственной конкуренции, превращается в экспорт революции на Восток, туда, где пролетариата ещё нет, а революционна только национальная буржуазия. А экспорт революции в союзе с ней превращается в (противоречащее классовой догме) признание ценности национальной государственности:
«Можем ли мы признать правильным утверждение, что капиталистическая стадия развития народного хозяйства неизбежна для тех отсталых народов, которые теперь освобождаются и в среде которых теперь, после войны, замечается движение по пути прогресса. Мы ответили на этот вопрос отрицательно. Если революционный победоносный пролетариат поведёт среди них систематическую пропаганду, а советские правительства придут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении средствами, тогда неправильно полагать, что капиталистическая стадия развития неизбежна для отсталых народностей. (…) с помощью пролетариата передовых стран отсталые страны могут перейти к советскому строю и через определённые ступени развития – к коммунизму, минуя капиталистическую стадию развития»186.
Сталин и его единомышленники в деле «строительства социализма в одной стране», выбирая догматическую санкцию своей доктрине именно в трудах Ленина и понимая актуальные в начале 1920-х гг. политические ограничения этой санкции, запрещавшие вновь утверждать вторичность, отсталость, зависимость социалистических перспектив России от мировой революции на Западе, в итоге нашли у Ленина только одно положение, удовлетворяющее столь рафинированным требованиям. В 1915 году Ленин такую санкцию дал (правда, гораздо менее настойчиво, чем он же в 1917–1918 гг. говорил об обязательности мировой революции для выживания революции в России), повторил за марксистскими классиками самоочевидную истину о том, что страны в мире развиваются неравномерно, и далее нарисовал картину не столько коммунистического строительства, сколько нового общемирового милитаризма, в котором национальный масштаб социалистических государств, несмотря на мировую революцию, – длительная норма, что их мировое объединение на пути к коммунизму невозможно без революционных войн, принуждающих к этому объединению:
«Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны… встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетённые классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплуататорских классов и их государств. Политической формой общества, в котором побеждает пролетариат, свергая буржуазию, будет демократическая республика, всё более централизующая силы пролетариата данной нации или данных наций в борьбе против государств, ещё не перешедших к социализму… Невозможно свободное объединение наций в социализме без более или менее долгой, упорной борьбы социалистических республик с отсталыми государствами»187.
Выросший в Праге (и немного, как я лично видел, понимавший русский язык) известный либеральный исследователь и разоблачитель национализма Эрнест Геллнер (1925–1995) верно писал о пафосе преодоления отсталости, имманентном марксизму: «Марксизм вначале и был обращением к отсталым народам (в своих первых формулировках – к немцам), и смысл его сводился к тому, что не надо никого догонять, – лучше присоединиться к истории на следующей, более высокой ступени, – но в конце концов он превратился в универсальный инструмент навёрстывания упущенного»188. Экспорт революции в отсталые страны в этом контексте вполне может выглядеть как борьба за их ресурсы в ходе конкуренции с их империалистическими метрополиями, стержнем колониализма которых было именно выкачивание ресурсов из этих отсталых стран. Экспорт революции в отсталые страны в этом контексте означает, что её экспортёром будут выступать всё те же капиталистические метрополии, переставшие быть капиталистическими. Революция же в отсталых странах, инициативно призывающая на их территорию коммунистическую интервенцию, не была проговорена, но вполне могла уместиться в доктрину «поражения своего правительства» от более развитого врага, уже испробованную большевиками против царизма во время Первой мировой войны.
Российские и немецкие социал-демократические критики большевистской социалистической революции октября 1917 года – как слишком радикальной, неадекватной уровню развития России, в центре которого стоит вполне буржуазный по задачам аграрный вопрос, а не социализм, находили дополнительные основания рассматривать Россию отдельно от мировой революции. И эту отдельность русской революции горячая сторонница большевиков в германской социал-демократии Роза Люксембург (1871–1919) верно рассматривала (но отвергала) как перспективу её «национализации», ибо она ведёт «к оригинальному “марксистскому” открытию, что социалистический переворот является будто бы национальным, так сказать, домашним делом каждого современного государства в отдельности»189. Критик большевиков справа, изнутри знавший доктрину и практику русской социал-демократии, П. Б. Струве также почувствовал «государственническую» эволюцию большевизма, но не в хорошо известной их эволюции к диктатуре как формы государственности, противостоящей хаосу и Смуте190, а в самозаконной воле к власти191.
Споря с белыми противниками большевиков и указывая на их прямую зависимость от империалистов и интервентов, Сталин агитационно, риторически и вполне доктринально, нащупывал «национализацию» революции, национально-освободительную коалицию Советской России с колониальным Востоком, которая была бы невозможна без идеологии национальной независимости (далее выделено мной):
«Победа Деникина Колчака есть потеря самостоятельности России, превращение России в дойную корову англо-французских денежных мешков. В этом смысле правительство Деникина Колчака есть самое антинародное, самое антинациональное правительство. В этом смысле Советское правительство есть единственно народное и единственно национальное в лучшем смысле этого слова правительство, ибо оно несёт с собой не только освобождение трудящихся от капитала, но и освобождение всей России от ига мирового империализма, превращение России из колонии в самостоятельную свободную страну. (…) Ещё в начале Октябрьского переворота наметилось некоторое географическое размежевание между революцией и контрреволюцией. В ходе дальнейшего развития гражданской войны районы революции и контрреволюции определились окончательно. Внутренняя Россия с её промышленными и культурно-политическими центрами – Москва и Петроград, – с однородным в национальном отношении населением, по преимуществу русским, – превратилась в базу революции. Окраины же России, главным образом южная и восточная окраины, без важных промышленных и культурно-политических центров, с населением в высокой степени разнообразным в национальном отношении, состоящим из привилегированных казаков-колонизаторов, с одной стороны, и неполноправных татар, башкир, киргиз (на востоке), украинцев, чеченцев, ингушей и других мусульманских народов, с другой стороны, – превратились в базу контрреволюции. (…) Для успеха войск, действующих в эпоху ожесточённой гражданской войны, абсолютно необходимо единство, спаянность той живой людской среды, элементами которой питаются и соками которой поддерживают себя эти войска, причём единство это может быть национальным (особенно в начале гражданской войны) или классовым (особенно при развитой гражданской войне). Без такого единства немыслимы длительные военные успехи. Но в том-то и дело, что окраины России (восточная и южная) не представляют и не могут представлять для войск Деникина и Колчака ни в национальном, ни в классовом отношении даже того минимума единства живой среды, без которого (как я говорил выше) невозможна серьёзная победа»192.
Опираясь на классический марксистский образ Ирландии как жертвы британского колониализма, исторически имея перед глазами вооружённое национально-освободительное движение в Ирландии 1916 и 1919–1921 гг. и массовый расстрел британцами мирной демонстрации в индийском Амритсаре в 1919 году, весной 1921 года Сталин определённо описывал новое место России в мировой революции. Он говорил, что борьба Советской России «против империализма имела ряд успехов и, естественно, вдохновила угнетённые народы Востока, разбудила их, подняла их к борьбе и тем самым дала возможность создать общий фронт угнетённых национальностей от Ирландии до Индии»193. Это не было экспромтом. Ещё до Октябрьской революции, весной 1917, Сталин уже отмечал: «Имеется движение за независимость Ирландии. За кого мы, товарищи? Либо мы за Ирландию, либо мы за английскую империю (…) нам необходимо создать тыл для авангарда социалистической революции в лице народов, поднимающихся против национального угнетения, – и тогда мы прокладываем мост между Западом и Востоком, – и тогда мы действительно держим курс на мировую социалистическую революцию»194.
Позже, даже утверждая приоритет мировой революции, а именно – коммунистической революции в Германии, что не уставали делать и Троцкий, и Сталин со сталинцами195, с годами они одинаково сместили акцент с роли Советской России как подчинённого и начального звена мировой революции – на роль СССР как оплота и руководящего её центра. Постепенное сближение большевиков с реальностью «изолированного государства» шло по пути осознания ими России / СССР как независимого государства даже внутри мирового коммунистического проекта, – борющегося против империализма, против колониализма. К услугам осознания была и ещё дореволюционная формула Ленина о том фронте, где теперь хотели лидировать русские большевики, – там, где «неизбежны в эпоху империализма национальные войны со стороны колоний и полуколоний. В колониях и полуколониях (Китай, Турция, Персия) живёт до 1 000 миллионов человек, т. е. больше половины населения земли. Национально-освободительные движения здесь либо уже очень сильны, либо растут и назревают. Всякая война есть продолжение политики иными средствами. Продолжением национально-освободительной политики колоний неизбежно будут национальные войны с их стороны против империализма»196.
Это с самых первых революционных деклараций правящих большевиков 1917–1918 гг. неизбежно, в силу риторической логики, сближало бывшую империю / великую державу с колониальными странами, в которых начались национально-освободительные движения, особенно с Индией и Китаем, чьё прогрессивное развитие предполагало сначала достижение или защиту независимости от капиталистических колонизаторов, а уже затем – интеграцию в Коммунистический интернационал. Такое сближение изначально существенно уточняло и идентификацию СССР, развивая его образ в сторону от периферии капиталистического мира – к самостоятельному центру и лидеру некапиталистического большинства. Тому свидетельством – резолюции X съезда РКП (б) (1921), ещё свободные от риторики «социализма в одной стране», но уже эксплуатирующие крипто-изоляционистский понятийный ряд «капиталистического окружения» и потому уверенно формулирующие свою картину мира даже в нейтральных этатистских (а не классовых) категориях. Например, этот съезд в резолюции «Советская республика в капиталистическом окружении» заявил:
«Капиталистические державы… пытались… низвести Россию до роли колонии и, таким образом, превратить русское сырьё и русских рабочих и крестьян в источник прибыли для иностранного капитала. Геройскими усилиями трудящихся Советская республика отбила эти попытки и тем завоевала себе возможность вступить в общение с капиталистическими государствами как независимое государство, на основе взаимных обязательств политического и торгового характера»197.
Общее убеждение большевиков в особой роли Советской России в управлении противоречиями между капиталистическим, империалистическим Западом и колониальным, некапиталистическим Востоком ради коммунистической (и вовсе не только коммунистической198) перспективы, для марксистов начала ХХ века больше напоминало немецкие представления о роли Германии как лидера «Срединной Европы» между Западом и «жизненным пространством» Востока, нежели маргинальную, уничтоженную временем, архаичную доктрину православного «Третьего Рима». Это убеждение развивалось параллельно с «суверенизацией» той части мировой революции, что была очерчена границами СССР. Если в первые дни революции Сталин начинал свою антиколониальную агитацию с клише «С Востока свет!», то далее изобретательнее утверждал, что СССР «между Западом и Востоком… одним своим существованием революционизирует весь мир»199. В специальном коллективном труде под редакцией Е. Варги, пользовавшегося многолетним интеллектуальным доверием Сталина, даже представитель антисталинской оппозиции, бывший секретарь Ленина и руководитель восточной политики Коминтерна Г. И. Сафаров (1891–1942), косвенно, но уже в ином порядке, повторяя надежды большевиков 1918 и 1923 гг. на цивилизующую роль революционной Германии200, примеряя её былую роль в отношении России к роли СССР на Востоке201, прямо писал: «СССР стал базой развёртывания мировой революции и на Западе, и на Востоке»202. И отводил СССР роль центрального модератора в отношениях между этими полюсами, которая вряд ли выглядела реалистичной: «большевизм… революционным путём вмешался в противоположность между городом и деревней, порождённую капитализмом, – в противоположность между великодержавными и угнетёнными нациями, унаследованную вместе с остатками крепостничества и распространённую на весь мир и усиленную империализмом, – в противоположность между передовыми и отсталыми элементами экономического, политического и культурного развития вообще…»203. Самым реалистичным здесь было ожидание непременной и близкой индустриализации деревни, которая не могла не начаться с её пролетаризации. Самым оригинальным – включение в сферу мировой ответственности СССР управления национально-освободительными движениями не только в интересах борьбы против колониализма, но и в интересах преодоления отсталости вообще. Так не в первый раз осознание технологической и социальной отсталости СССР придавало оттенок национального освобождения пафосу большевиков.
Точно в дни прихода Гитлера к власти в Германии московское партийное издательство выпустило в свет популярную брошюру, которая прямо ставила себе вопросы о том, что случилось с проектом мировой революции в СССР. Можно строить убедительные предположения о том, что послужило непосредственным толчком к составлению этого текста тогда, когда идеология «строительства социализма в одной стране» давно уже стала единственной официальной, искать внешние поводы, но важно увидеть, что сама постановка вопроса в 1933 году никому ещё не казалась искусственной. Видимо, потому, что в этом пропагандистском продукте, повсюду пронизанном обширным цитатами из сочинений Сталина, их подбор и толкование уже были подчинены «национализации» мировой революции, её подчинения интересам СССР. Брошюра гласила, в частности, что ближе всего к мировой революции, начатой в России, стоят Испания и Китай, а за ними следуют Германия и Польша. И в такой конфигурации особо звучала логика, которая вырастала в доктрину: «Октябрьская революция является началом и составной частью мировой социалистической революции… мировую социалистическую революцию нужно рассматривать как целую историческую эпоху. Свержение господства капиталистов произойдёт в отдельных капиталистических странах или в группах стран разновременно». А особые внутренние предпосылки России к тому, чтобы стать первой в этому ряду, со ссылкой на книгу Сталина «Вопросы ленинизма» (1924) брошюра находила в том, что рисовало ресурсы и размер России, служащие гарантами её самодостаточности: Советская власть «имела в своём распоряжении огромные пространства молодого государства, где она могла свободно маневрировать, отступать, когда этого требовала обстановка, передохнуть, собраться с силами и пр… Октябрьская революция могла рассчитывать в своей борьбе с контрреволюцей на наличие достаточного количества продовольственных, топливных и сырьевых ресурсов внутри страны». Среди названных Сталиным (и процитированных в массовом издании) минусов России, с точки зрения Советской власти, громко звучало признание: «отсутствие пролетарского большинства в стране»204.
Было ясно, что даже доктринально крестьянское большинство в стране было обречено на пролетаризацию.
От "свободы торговли" к протекционизму
У каждого исторического выбора есть свой образ и даже идеологический символ. Перед сознанием правящих в оказавшейся отдельной стране большевиков – хотели они это видеть или нет – стоял ряд исторических семантических образов, которые весь XIX век и в первой половине ХХ века были значимы для русской политической мысли и формировали идейно-семантический ландшафт, на пространстве которого равно действовали власть и её противники. Исследователь противоречий Троцкого и Сталина удачно формулирует диктат семантики в их взаимной борьбе – даже там, где практика «социализма в одной стране» не оправдывала ожидания мировой революции: «семантика должна быть поставлена выше прагматики»205. То есть революционная мысль большевиков была обязана найти в своём наследстве то, что позволяло ей доктринально описать новую для неё реальность и выйти из-под обязательной мировой, внешней легитимации своего социализма. И в этом у неё просто не было альтернативы углублению в собственный идейно-исторический багаж. Пространство прямых идейно-политических заимствований в советской современности 1920-х годов было политически ограничено, идейная беспринципность запрещена. Но внутренняя, семантическая и образная глубина революционной истории и недавнего индустриального контекста, впитанного с азбукой, пожалуй, наиболее динамичной в том мире, марксистской школы, была огромна и вполне искупала демонстративный примитив правящей диктатуры. Весь европейский XIX век и его живые следы в ХХ веке были значимы для русской политической мысли и формировали её идейно-семантический ландшафт, поскольку публицистика Маркса, Энгельса, Ленина затронула огромный спектр политических событий. В них развивалась общая европейская история, предопределяя язык большевистской власти на каждом этапе её эволюции.
Как сказано, главный вопрос о выборе пути развития России к социализму был представлен славянофильски-народнической по происхождению дилеммой: сможет ли Россия избежать капитализма? А ответ на него звучал на языке Маркса и протекционистского учения Ф. Листа: хватит ли России собственного рынка для органического развития промышленного капитализма? Если хватит – не избежит, если не хватит, то социалистическая по сути сельская община останется неприкосновенной – и будет лишь ждать, когда грядущий европейский промышленный коммунизм протянет России братскую руку коммунистической помощи.
В обиход русской политической мысли наследие Фридриха Листа (1789–1846), и прежде хорошо известное русским экономистам, было введено в 1880-е гг. восходящей звездой русской индустриализации С. Ю. Витте (1849–1915) как доктрина протекционизма и стратегия развития национальной промышленности в опоре на собственные силы. Это должно было обеспечить стране новую экономическую основу для политической независимости перед лицом мирового промышленного и торгового лидерства Британской империи, долго остававшегося вне конкуренции и обоснованного доктриной «свободы торговли». Это совпало с интенсивным освоением в России учения Карла Маркса, в том числе тех страниц его «Капитала», где было описано, как в образцовой капиталистической Великобритании происходило «первоначальное накопление (капитала)» – с изображением крайней пролетаризации мелких собственников.
В этом наступлении капитализма и обнищании крестьянства в России ясно виделась её собственная перспектива на пути общеевропейского прогресса. За этим прогрессом теоретически следовал социализм более высокого, нежели в сельской общине, уровня культуры, коллективизма, технологии и производительности труда. И, поскольку руководящая роль в определении целей и темпов индустриализации явственно принадлежала государству, русские социалисты и консерваторы апеллировали к государству и общественному мнению с требованием отказаться от форсированной индустриализации, которая быстро уничтожала общину и сельский уклад, где пребывало крестьянское абсолютное большинство населения России.
Учение Ф. Листа о самодостаточности промышленного развития Германии в тени всемирной монополии Британской империи ставило проблему принципиальной достаточности внутреннего рынка Германии, который бы обеспечивал достаточно большой и растущий спрос на продукцию внутренней промышленности. Здесь внешне отрицаемым примером служила Англия – как народное хозяйство, давшее достаточный внутренний старт для промышленности, которая затем смогла завоевать весь мир. Именно этот внутренний рынок и внутренний стартовый капитал и исследовал Маркс в своём учении о «первоначальном накоплении». Английский образец требовал колоний для сбыта товаров промышленности, протекционизм Листа требовал таможенного объединения германских земель для обеспечения германской промышленности большого внутреннего рынка (за которым должны были последовать колонии или экономически зависимые территории, прежде всего, на Востоке).
Почему же для русской мысли было столь страшно зрелище наступающего капитализма и почему сторонники цивилизующей роли капитализма стремились отделить его национальный вариант от всемирной «свободы торговли»? Коротко говоря, не многие даже либеральные англоманы готовы были погрузить свою страну в реальность социоцида ради индустриализации, а саму страну сделать торгово- промышленной колонией Англии, следуя лицемерию её «свободы торговли». Великий венгерский экономист Карл Поланьи (1886–1964) ярко описал эту «катастрофическую» историю как «утопическую попытку экономического либерализма создать саморегулирующуюся рыночную систему».
Вот его резюме: созданное в 1820-е в Англии практическое движение за «свободную торговлю» в реальности стало результатом большого числа «интервенционистских мер, беспрестанно организуемых и контролируемых из центра», «экономика laissez-faire была продуктом сознательной государственной политики», «простое невмешательство в естественный ход вещей никогда бы не смогло породить свободные рынки», а свободный (для социальной вивисекции) рынок труда повлёк за собой «человеческую деградацию трудящихся классов… в результате социальной катастрофы, которая не поддаётся выражению в экономических терминах», особенно в колониях, – «постигшая туземные общества катастрофа есть прямое следствие стремительного и безжалостного разрушения их фундаментальных социальных институтов (…) страшный голод, три или четыре раза опустошавший Британскую Индию… не был следствием ни жестокости природных стихий, ни эксплуатации; единственной его причиной являлась новая рыночная система организации трудовых и земельных отношений… Индия… в социальном отношении была ввергнута в хаос и потому оказалась жертвой обнищания и деградации», в итоге – уже 1870– 1880-е гг. стали временем «крушения ортодоксального либерализма», его внутренние пороки «обнаружились с полной очевидностью», промышленные страны стали переходить к социальной политике и протекционизму» и даже радикальные приверженцы экономического либерализма не могли не осознать того факта, что laissez-faire несовместим с условиями развитого индустриального общества, ибо в принципиально важных вопросах «сами же ультра-либералы вынуждены были требовать широкого правительственного вмешательства», и только внутренний (социальный) и внешний (таможенный) протекционизм создали «твёрдый панцирь» для растущего и всё более сложного социального организма индустриальной эпохи206.
В эту мясорубку практического либерализма британский промышленно-торговый колониализм неизбежно вводил всех, кто следовал его правилам, абсолютно доминируя как цивилизованная норма – и потому экономический либерализм оставался монопольной экономической идеологией высших административных властей и их академических теоретиков. Преодолевая сопротивление живой экономики, либеральные ориентиры уверенно вошли в первоначальную индустриализацию России и её таможенную политику.
С другой стороны, даже проблема ограниченного масштаба народного хозяйства и узости внутреннего рынка отдельной страны для развития собственного, а не импортированного, не колониального, капитализма была прямым выводом из истории британского образца. За этим применением вставала очевидная конкуренция великих держав и угроза колониальной зависимости. Германия, уничтоженная Наполеоном (который первым испытал на прочность самодостаточность экономики Англии, введя против неё «континентальную блокаду»), устами великого немецкого мыслителя И. Г. Фихте (1762–1814) формулировала принципы национального возрождения и объединения, а трудами Листа – принципы экономической консолидации, возрождения и независимости, применённые в Германии Бисмарка и в Америке. Культурный национализм и прагматический протекционизм стали инструментами национальной государственности. Для России XIX века эти инструменты национального возрождения в целом остались недоступными: «национализация» (превращение в национальное государство) империи было нейтрализовано и реальной этнографической сложностью России, вступившей в период этнического строительства, и общенациональным (а не племенным) характером русского народа, и вселенской проповедью православия, и провалом панславистской политики, и антироссийским проектом восстановления независимости именно национальной и экономически самодостаточной Польши.
Русские практики и теоретики были поставлены перед (долгое время не осознаваемой) дилеммой: либо колониальные рынки и разорительные войны за эти рынки, либо превращение собственно России в огромный континентальный рынок – по аналогии с Германией и США (САСШ). Русские социалисты марксистского образца приложили экстраординарные усилия к догматическому доказательству того, что пролетаризация крестьянства и рост городов сами по себе создают внутренний рынок, достаточный для развития капитализма. Протекционизм Листа и континентальный образец Америки, безусловно, были важны как пример, но оставались на втором плане этих важных интеллектуальных усилий. Всё вместе это звучало как открытая поддержка марксистами государственной политики индустриализации, лицом которой был министр финансов Витте. В тени этой индустриализации был суровый монетаристский проект министра финансов И. А. Вышнеградского (1831–1895, министр в 1887–1892) и его заместителя Витте, запомнившийся под именем «не доедим, но вывезем». Это был проект переноса центра тяжести фискальных доходов государства, ради повышения которых оно было вынуждено «торговать» своим внутренним рынком для иноземного товара, облегчая таможенные пошлины и подавляя собственную промышленность, в сферу «золотого стандарта» для рубля, который уже не конфликтовал с промышленным протекционизмом. Но для этого государство вынуждено было сделать ставку на масштабный экспорт хлеба, укреплявший «золотой стандарт», изымая (рыночными методами) прибавочный продукт сельского хозяйства и подавляя его собственные ресурсы для развития. Это делало русскую деревню крайне уязвимой для неурожая и голода, которой отнюдь не могла противостоять «социалистическая» община.
На этом фоне страшная моральная и общественная угроза неизбежности «первоначального накопления» в России, жестоко проиллюстрированная массовым голодом 1891–1892 гг., становилась инструментальной, управляемой и теоретически легитимной. Это стало тем более легитимным сценарием индустриализации и строительства капитализма, что развивался он одновременно с подобным же сценарием для Италии, Швеции, Австро-Венгрии. А они не знали названных теоретических ограничений достаточности внутреннего рынка. Получалось, что для индустриализации России, то есть для первоначального накопления капитала, необходима предварительная пролетаризация крестьянства, по своему масштабу равная социальной революции. Массовое отделение крестьянства от земли делало его источником массового городского пролетариата (который – при всей своей нищете – и составлял тот огромный внутренний рынок для простейшей продукции местной промышленности) и освобождало для концентрации («мобилизации») свободную земельную собственность и связанный с ней капитал, который подлежал перераспределению. Цена этого перераспределения была уже хорошо известна науке. Описывая названный процесс, один из двух первых (наряду с Ю. Г. Жуковским) русских исследователей экономической доктрины Маркса Н. И. Зибер (1844–1888) привёл в пример британскую Ирландию, где в результате агрессивного развития британского капитализма с 1841 по 1866 гг. население сократилось на треть. Вот «наиболее блестящая иллюстрация капиталистического накопления», – тихо восклицал исследователь207.
Признание Британской империи лидером и образцом экономического и политического прогресса, вслед за которым выстраивался ряд
«догоняющих» этот прогресс государств, к концу XIX века сменилось признанием успеха тех, кто конкурировал с этим мировым образцом, опираясь на (идеологически) континентальное, самодостаточное, самозамкнутое и изолированное, отдельное народное хозяйство Германии и США (САСШ). Неравномерность индустриализации и развития капитализма создавала неизбежность индустриализации в одной стране, если она обладала достаточными для этого естественными ресурсами.
В своей одной из дебютных книг, популярных в нелегальном чтении революционеров, отец русского политического марксизма Г. В. Плеханов (1856–1918) впервые сформулировал ответ народнической критике на поставленную ею для России проблему достаточности внутреннего рынка для развития капитализма в России. Из самой постановки этой проблемы следовало два одновременных и конфликтующих (умозрительных) вывода: что Россия имеет шанс дождаться установления коммунизма в Западной Европе и приберечь для этого не затронутую капитализмом и промышленностью почти-коммунистическую сельскую общину – и что, несмотря на подавляющую экономическую конкуренцию Запада, Россия имеет шанс сохранить своё народное хозяйство изолированным от западного капиталистического влияния. Плеханов писал, полемизируя с Л. А. Тихомировым, вполне безапелляционно и ссылаясь на фактический и идейный прецедент Германии:
«Фридрих Лист устанавливает особый закон, по которому каждая страна может выступить на поприще борьбы на всемирном рынке, лишь давши окрепнуть своей промышленности, путём господства на внутреннем рынке. (…) Лист не смущался ни обвинением его взглядов в отсталости, ни указанием на невозможность для Германии приобрести сколько-нибудь счастливые шансы будущей борьбы на всемирном рынке. На первое возражение он отвечал, что он вовсе не безусловный противник свободной торговли, так как требует лишь временных для неё ограничений, и притом стоит за неё в пределах германского таможенного союза. На второе возражение он отвечал критикой самой теории рынков или, вернее, условий их завоевания. Он указывал на то обстоятельство, что отсталые страны могут и должны озаботиться заведением собственных колоний. (…) Теперь не только ни один скептик не спрашивает, возможна ли крупная обрабатывающая промышленность в отечестве Листа, но г. Тихомирову “указывают”, между прочим, “на Германию, где капитализм объединил рабочих” и где “частный предприниматель” имел будто бы перед собою “громадные рынки”. (…) Мы знаем теперь, что каждая отсталая страна может, на первое время, до переполнения внутреннего рынка, устранять “непосильную конкуренцию” своих более развитых соседей путём таможенной системы. Соображение г. Тихомирова о том, что у нас совсем почти нет рынков, теряет таким образом значительную часть своего удельного веса»208.
Уже к началу 1900-х гг. славянофильски-народнические надежды на то, что основой для социализма в России станет сельская община, были уничтожены научной критикой русских марксистов. Неонародники быстро перешли на язык марксистской экономической теории и ответили аграрной программе о коллективизации крестьянства хорошо продуманной теорией «трудового крестьянского хозяйства» (фермерства, что Лениным было названо «американским» путём аграрного развития). Эта теория в наибольшей степени отвечала надеждам крестьянского большинства на «чёрный передел» – раздел феодальной земельной собственности между крестьянами. В 1917–1918 гг., борясь за власть, большевики приняли в качестве программы народнический лозунг «земля – крестьянам» и вступили в правящую коалицию с неонародниками (левыми эсерами). В начале 1920-х большевики уничтожили легальные политические организации эсеров и меньшевиков, согласившись с насыщением их кадрами сельской кооперации, наркоматов земледелия и финансов, Госплана и Высшего совета народного хозяйства, которые определяли практические приоритеты экономического строительства. Но массовая принудительная коллективизация и мобилизационная индустриализация, в главном проведённые в СССР в конце 1920-х – начале 1930-х гг., стали новой социальной революцией, которая уничтожила результаты «чёрного передела» в интересах огосударствленных колхозов и выбросила на рынок индустриального труда миллионы обнищавших крестьян. Это породило уверенность власти в том, что новая социальная реальность неизбежно будет использована народнической оппозицией внизу и во власти. Бывшие народнические и меньшевистские кадры экономических ведомств были подвергнуты тотальной чистке.
Готовя унификацию идеологии ВКП (б) в едином курсе истории большевистской партии, ЦК ВКП (б) 13 июня 1935 г. приняло постановление «О пропагандистской работе в ближайшее время», в котором отныне предписало считать народническое наследие враждебным и альтернативным марксизму: «Необходимо добиться, чтобы члены партии усвоили, что марксизм-ленинизм вырос, окреп и победил прежде всего в борьбе со старыми народниками, а потом в борьбе с меньшевиками и эсерами»209.
Эта примитивная схема породила историографический миф о народнической альтернативе марксизму210 и умолчание о том, что именно поставленная народниками в категориях марксистской политической экономии проблема внутреннего рынка для развития индустрии стала центральной в строительстве «социализма в одной стране». Споря с народниками задолго до осознания проблемы одиночества революционной России в мировой коммунистической революции, до идейной эволюции от «слабого звена» в системе капитализма до строительства «социализма в одной стране» во враждебном окружении, в предисловии к своей монографии «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности» (1899) В. И. Ленин уже в проблеме самодостаточного внутреннего рынка для капитализма открыл прямой путь к проблеме изолированной экономики и государства. Он писал:
«мы берём здесь вопрос о развитии капитализма в России исключительно с точки зрения внутреннего рынка, оставляя в стороне вопрос о внешнем рынке и данные о внешней торговле». Семантика самодостаточности России всегда была востребована, когда перед её властью вставала задача управления страной и народным хозяйством – с их сложившейся географической, ресурсной и военной судьбой, с традиционными внешними угрозами её существованию211.
В интернациональном языке, на котором говорила русская мысль, семантически доминировали революционная Франция, либерально-индустриальная Англия, национально-освободительные Испания и Италия, государственно-интеллектуальная Германия. Следует вспомнить, в каком описании представлялась в России борьба немецкого общества за объединение Германии, обнаруживая прямую связь этого национального строительства с экономической доктриной протекционизма. Основой для соединения военной и экономической защиты национальных интересов стал опыт нашествия Наполеона Бонапарта, которое уничтожило Священную Римскую империю германской нации и подчинило немецкие государства Франции. Именно Пруссия, независимость которой была уничтожена Наполеоном, дала наиболее мощную формулу национального строительства в тени империй. И. Г. Фихте ещё в 1800 году выступил с принципиальным трактатом «Замкнутое торговое государство», а в 1808 году заключил свои известные программные революционно-патриотические «Речи к немецкой нации», с которыми он, смертельно рискуя, выступил в условиях наполеоновской оккупации, напоминанием:
«Почти десятилетие назад, когда ещё никто не мог предвидеть, что потом произойдёт, немцам был дан совет – сделать себя независимыми от мировой торговли и замкнуться в качестве торгового государства… все эти завиральные учения о мировой торговле и производстве для мира годятся для иностранцев и принадлежат как раз к их оружию, с помощью которого они с давних пор воюют с нами…»212.
Этот призыв Фихте, конечно, не так много значил для революционной традиции XIX века по сравнению с его же призывом к национальному освобождению и национальному объединению Германии, не так много давал и для подтверждения расхожей тогдашней схемы о том, что если Кант – либерал, то Фихте – социалист213, но этот призыв неизменно присутствовал в практическом программировании политической власти над контролируемым ею народным хозяйством, в понимании того, что неравенство и конкуренция государств неизбежно ставит проблему достижения государственной субъектности. Важной была именно тесная связь философского идеализма Фихте с практическими задачами политической борьбы. Современный центральным событиям настоящего очерка историк русской философии Э. Л. Радлов (1854–1928), даже сохраняя общественный нейтралитет, не мог не отметить 15 августа 1920 года, подсознательно строя свою речь на аллюзиях:
«Русская мысль не могла примириться с философией, замкнутой в самой себе, философией par excellence, русская мысль искала философии, приложимой к действительности, философии, объяснявшей задачи человека… Поэтому Фихте, Гегель и Шеллинг оказались для русской философской мысли дороже и ближе, чем Кант»214.
О социализме Фихте и о требующем социализма примере Германии в России стали говорить даже в академических кругах. Революционеры-интеллектуалы откликалась на известную формулу Энгельса о том, что «мы, немецкие социалисты, гордимся тем, что ведём свое происхождение не только от Сен-Симона, Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте и Гегеля»215, в 1890-е растиражированную Петром Струве в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, а позже внесённую в коммунистическую догму Лениным. В пробной лекции о Фихте, прочитанной в Московском университете в феврале 1908 года, Б. П. Вышеславцев (1877–1954), будущий глубокий исследователь индустриализма и коммунизма, сообщал своим слушателям: «Сочинения Фихте появляются в свет раньше, чем труды родоначальников французского и английского социализма: Фурье, Сен-Симона, Оуэна, Томсона. Мы имеем в лице Фихте, таким образом, не только первого немецкого теоретика социализма, но и первого значительного мыслителя вообще, выступившего с обоснованием социализма в новой философии». И далее, описывая общественные задачи, поставленные Фихте перед социализмом, тогда уже взятые у социализма на вооружение либеральным консенсусом о «достойном человеческом существовании» – прямо переходил к образу изолированного государства:
«Он признаёт оба основных социалистических принципа: право на полный продукт труда и право на существование, причём даёт их синтез – право существовать своим трудом и не простое право на существование, а право на достойное человека существование, право на свободный досуг, право на умственное развитие. Так широко понимает Фихте задачи социалистического государства. Теперь спрашивается, каковы те практические средства, которые ведут к осуществлению этих целей. На это Фихте отвечает в своём “Замкнутом торговом государстве”…»216.
Примечательно, что итоги картографирования и освоения Сибири как тыла и продолжения России уже к концу допетровского времени, по убеждению картографа рубежа XVII и XVIII веков, звучали вполне в духе этой просветительской замкнутости: «дары Сибири включают естественные границы, которые изолируют её и защищают от враждебных соседей»217. Тем не менее, государство в России – вплоть до царствования Александра III (1881–1894) – в целом исходило из принципов «свободы торговли», применяя меры таможенного протекционизма, прежде всего, ради повышения государственных доходов (особенно в годы финансовых кризисов, связанных с экстраординарными расходами казны в годы Крымской войны (1853–1856) и русско-турецкой войны (1877–1878), а не для защиты отечественной промышленности, идеология которой чаще всего проигрывала идеологии конкуренции, исходящей из «свободы торговли». Конкуренции, надо сказать, совершенно уничтожающей и суверенную транспортную инфраструктуру внешней торговли, и собственную перерабатывающую промышленность России вне простой добычи природных ресурсов. И власть, и наука, и политическая оппозиция в России так и не смогли полностью избавиться от монопольного британского экономического образца даже тогда, когда эта британская монополия «свободы торговли» была уже уничтожена протекционизмом Германии и США (САСШ).
В XIX веке Россия, совершенно независимо от политических приоритетов конкретных царствований, их внутренней политики и абсолютно независимо от внешнеполитических и военных поражений, особенно во время царствования Николая I, особенно в период реакционного так называемого «мрачного семилетия» 1848–1855 гг. продемонстрировала свою особую зависимость от британского стандарта «свободы торговли» и шаг за шагом наращивала соответствие своей внешнеэкономической политики её либеральным, космополитическим и колониальным образцам.
Ещё старые исследователи (разных политических убеждений, но солидарно) показали эту зависимость России доказательно и в полной мере. Например, сторонник «свободы торговли» М. Н. Соболев дал такую периодизацию государственной экономической политике: в 1841–1860-е – «Период фритредерских тенденций», затем период вынужденной и постепенной эволюции к протекционизму, и лишь с 1876 года – «Период усиленного фискализма и протекционизма». Одновременно с этим историк чётко указал, что эта либеральная внешнеэкономическая политика отнюдь не диктовалась государству изнутри страны ни одним из профильных сообществ, а была результатом исключительно бюрократического решения, следующего британскому образцу и своим приоритетом выбравшего фискальные интересы казны. Ещё даже великий министр финансов Российской империи Е. Ф. Канкрин (1874–1845, министр в 1823–1844) ради фиска начал в 1841 году снижать ставки протекционистского тарифа 1822 года. После смерти Канкрина, в 1846 году, последовало официальное поручение известному польскому фритредеру Л. В. Тенгоборскому (1793–1857), даже не знавшему русский язык, согласовать тариф имперского Царства Польского с российским для объединения их таможенных территорий, что и было сделано в 1850 году. При этом новый министр финансов так докладывал императору Николаю I в апреле 1848 об идеологии нового, либерального тарифа, словно речь шла о применении школьной азбуки, а в России уже существовала мощная отечественная промышленность: «поощрение внутренней промышленности путём развития иностранной конкуренции»218. У объединения таможенных территорий в 1848 году – году европейских революций – возник и новый импульс: раздел Польши в конце XVIII века между Австрией, Пруссией и Россией и затем присоединение в 1815 году Герцогства Варшавского к России дали им значительные польские этнографические территории. И революционные движения прямо использовали польский этнический фактор, внося революционную смуту на территорию русского Царства Польского сквозь фактически внутриэтнографические границы, пользуясь ангажированностью и слабостью собственной пограничной и таможенной охраны Царства Польского на его государственных границах с Пруссией и Австрией. На этих границах процветала военная и политическая контрабанда, готовя поляков к восстанию 1863 года. Поэтому включение с 1 января 1851 года – на чрезвычайно льготных для Русской Польши – её в общую таможенную и пограничную территорию Российской империи имело и чисто военно-политические задачи219. Примечательно, что экономическую контрабанду победить так и не удалось: польские предприятия успешно обходили ограничения, незаконно интегрируясь с прусскими поставщиками. Лишь потом стало ясно, что особо льготное развитие польской промышленности за счёт общероссийского рынка в перспективе послужило ускоренному и усиленному развитию польской национальной буржуазии и пролетариата, что стало новой фундаментальной основой для польских национализма и независимой государственности.
«Система протекционизма, применявшаяся в течение тридцати лет, вызвала в России довольно развитую мануфактурную деятельность, которая пустила прочные корни. Изданием тарифа 1850 г. было открыто свободное соперничество русских и польских фабрик и вместе с тем значительно уменьшен размер пошлин, охранявших русскую промышленность от конкуренции иностранной. (…) [тогда и позже] переход к умеренным пошлинам вызывался экономическими воззрениями лиц, которым была поручена выработка новых тарифов, также требованиями, высказывавшимися большинством представителей русской интеллигенции. (…) Числом приверженцы понижения пошлин были вообще гораздо многочисленнее, нежели сторонники протекционистских идей… Теорию свободной торговли разделяла тогда большая часть русской интеллигенции; её идеями были проникнуты те лица, через которых проводились преобразовательные меры царствования [Александра II]»220.
Позднейший исследователь (известный В. В., в отношении России долго утверждавший, что её рынок недостаточен для промышленного капитализма) ярко описал секрет успеха польской промышленности, совершенно не связанный с антипольской политикой русского империализма, но связанный именно с ёмкостью рынка и последующей его защитой, а не с тем, что «польская промышленность есть всецело создание иностранцев», как настойчиво он твердил:
«Благоприятным условием для развития этой [польской] промышленности, которым воспользовались иностранные капиталисты, было уничтожение в 1850 г. таможенной пошлины, взимавшейся при ввозе польских изделий в Россию, этим для польских изделий был открыт огромный рынок сбыта, образуемый многочисленным населением России. После этого в названном крае стали открываться (тоже иностранцами) и крупные металлургические заводы. Новый ещё более решительный толчок развитию польской промышленности был дан сильным возвышением таможенных пошлин на иностранные изделия в конце [18]70-х годов. При прежних, умеренных тарифах, в Германии у польской границы возник ряд фабрик и заводов, производивших товары для России. После возвышения пошлины на эти товары немецкие капиталисты перенесли свои предприятия через границу и основали их в польском крае. Новое поднятие таможенных пошлин в 1892 г. усилило прилив в этот край иностранных предпринимателей и дало новый толчок развитию польской промышленности»221.
В самой России 1850–1860-х гг. было видно, что – помимо государственных решений – идеологически «к числу фритредеров относится большинство наших учёных (…) Любопытно отметить, что “Московские Ведомости” под редакцией Каткова в 50-х годах и 60-х годах весьма энергично отстаивали начала свободы торговли, но затем в 70-х круто поворачивают в сторону протекционизма»222. При этом «ни земства, ни дворянство, ни сельскохозяйственные общества, ни другие организации почти никогда не выступали защитниками свободы торговли. Доминирующее влияние принадлежит самому государству, которое, как самодовлеющее учреждение, стремилось извлекать из таможенных пошлин наибольший доход. Понижение тарифных ставок производилось в надежде увеличить с ростом ввоза и таможенный доход», но эти надежды «оправдались в более, чем меньшей степени»223.
П. Б. Струве сообщал в своём исследовании, что формально централизаторское решение о таможенном присоединении Польши проводилось по инициативе самих поляков, впервые высказанной ещё в 1826 году224, но тогда остановленной Канкриным ради защиты внутренних русских губерний от непреоборимой польской контрабанды (из Пруссии) и чтобы избежать «совершенного упадка российской фабричной промышленности, ещё в младенчестве находящейся». «Польский тариф был либеральнее Имперского и иначе построен. Отсюда вытекла необходимость коренного пересмотра нашего таможенного тарифа». При этом упомянутый Тенгоборский был «в меньшей степени польским националистом, чем космополитом»225. Потому логично, что перед таможенным открытием России мировой (то есть британской) свободе торговли национальные интересы России отсутствовали вовсе. Смерть Канкрина бюрократически отдала внутренний рынок России и для польской промышленности, обеспечив ей огромный льготный спрос и потому – опережающее её развитие, которое создало феномен индустриализации Польши исключительно благодаря рынку России. Старый немецкий исследователь польского происхождения Валентин Витчевский (Valentin Wittschewsky, 1854–?), по недоразумению некоторыми исследователями в России сегодня считающийся «отечественным», отмечал уникальное положение Польши между Пруссией и внутренней Россией и то, что тариф 1851 года «обеспечил польской индустрии значительные преимущества: из Империи в Польшу ввозились главным образом сырые продукты и жизненные припасы, из Польши же сбывались внутрь Империи индустриальные продукты, и притом в значительных количествах», это «открыло польским продуктам беспрепятственный доступ на рынки внутренней России и далее, вплоть до самых крайних восточных границ империи и рынков соседних азиатских государств. Польско-немецкие представители железной и текстильной индустрии не замедлили, к крайнему недовольству их московских конкурентов, во всех отношениях использовать благоприятно сложившиеся для них обстоятельства. (…) Это парализовало предприимчивость русского капитала в деле эксплуатации естественных богатств страны. Покровительство, которое оказывалось в <18>60-х гг. заводам, перерабатывающим иностранный чугун, вызвало значительное расширение этих предприятий, число их возросло за время от 1867 до 1870 г. с 65 до 164. Притом эти предприятия, естественно, сосредоточились главным образом в пограничных областях. Привислянская область обязана расцветом своей железной индустрии указанному направлению промышленной политики и близости своей к западной сухопутной границе». К 1905 году в ряду промышленных районов Российской империи Польша («индустриализм импортированный») занимала третье место по объёму производства после Московского района («старый индустриализм») и Петербургского (практически с ним сравнявшись)226.
Дальнейшее погружение общественной мысли и правительственной экономической политики России в глубины «свободной торговли» шло в целом независимо не только от Крымской войны (и вызванной ею финансовой катастрофы, бюджетного дефицита и высокой инфляции), но и от Великих реформ 1860–1870-х гг. – при не принципиальных протекционистских поправках – при всех министрах финансов империи в 1850–1880-х годах227. Биограф одного из этих глав министерства финансов – Н. Х. Бунге – даёт содержательную картину идеологической и бюрократической судьбы «свободной торговли», идейно и практически уничтожавшей протекционизм:
«Бунге неоднократно обращался к вопросу о таможенном обложении. В предреформенный период он защищал лозунг свободы торговли и учение английской классической школы о международном разделении труда. В 1856 г., накануне принятия нового таможенного устава [1857 года], в печати началась дискуссия между фритредерами и протекционистами. Её исход был заранее предрешён. Ещё в 1850 г. взамен существовавшей с 1822 г. запретительной таможенной системы правительство ввело менее жёсткую охранительную. Либералы-западники видели в дальнейшем понижении пошлин одно из основных условий экономического прогресса России. (…) Новый тариф 27 мая 1857 г., ещё более ослабивший таможенную охрану, свидетельствовал о победе фритредеров. По словам Бунге, он “выразил собой положительное отрицание протекционизма”. Но приверженцы свободы торговли не питали лишних иллюзий… Бунге отмечал узость внутреннего рынка для сбыта иностранных товаров, низкий уровень доходов основной массы населения, слабость торговых оборотов, плохие пути сообщения… Фактически в европейском понимании они представляли собой умеренных протекционистов. Уже во второй половине <18>60-х годов Бунге пересмотрел свои прежние взгляды. Это объяснялось падением популярности фритредерской доктрины на Западе и явной потребностью в корректировке таможенной политики России. Тариф 1857 г. не оправдал надежд правительства. Вследствие роста импорта уменьшился активный итог торгового баланса. Не удалось добиться и увеличения таможенного дохода. И всё же очередной тариф 5 июля 1868 г. был выдержан в прежнем духе… В последующие годы это привело к преобладанию импорта над экспортом и пассивному сальдо торгового баланса»228.
Ярким примером конфликта либеральной догмы с национальной практикой стали последствия введения нового таможенного тарифа 1868 г., которое сопровождалось настоящим бумом интенсивного железнодорожного строительства, с той лишь важной особенностью, что этот тариф, удвоив таможенные доходы казны, не стал стимулом для развития отечественной промышленности, ибо уничтожил возможные защитные меры, которые направили бы мощный платёжеспособный спрос железнодорожных грюндеров на продукцию машиностроения и связанные с ним сырьевые сферы внутри страны, а не за рубеж. Вместо этого первый этап широкого строительства железных дорог в России тариф 1868 года сопроводил беспошлинным ввозом хлопка, каменного угля, ряда машин, почти беспошлинным ввозом чугуна и стали. Импорт господствовал над экспортом из России. Ставка на частную инициативу в деле кредитования и учреждения акционерных обществ, казённые им дотации и льготы привели к массовым мошенничествам и банкротствам, на деле распылявшим отечественный частный и государственный капитал. В этот период Россия дважды пережила острый бюджетный кризис, сопоставимый с кризисом, вызванным Крымской войной, – в результате русско-турецкой войны 1877–1878 гг. и завоевания Туркестана в 1877–1881 гг. Это вновь склоняло либеральное общество и либеральную часть власти к фритредерским искушениям, но уже сталкивало эти искушения с новой реальностью – с реальностью новых военно-промышленных задач, железнодорожного строительства и индустриализации. Поэтому даже либеральная финансовая власть была вынуждена с 1882 г., а затем и с 1891 г. повысить таможенные ставки на ввоз сырья и промышленных изделий. Именно эти шаги подготовили феномен экономической политики Витте ещё до его назначения министром финансов, стройную систему своих экономических взглядов который изложил в применении к развитию народного хозяйства как развитию тяжёлой индустрии. Сердцевина индустриализации была им сформулирована совершенно в духе марксистского взгляда на технологический прогресс: «Во всех отраслях современной промышлен- ности основными материалами для изготовления орудий производства служат железо, чугун и сталь. Размер потребления этих металлов в стране является показателем уровня её промышленного развития»229. Одновременные этим событиям быстрые шаги Германии к национальному политическому объединению и промышленному прогрессу показали, что есть практическая альтернатива британской «свободе торговли» – политика государственного экономического строительства, основанная на философии изолированного государства и протекционизма. Победа Пруссии над Францией в 1871 году дала этой германской альтернативе – последнее, чего ей не хватало: огромный единовременный, централизованный и бесплатный капитал контрибуции230 за проигранную Францией войну (примечательно, что это поражение страны, породив многочисленные историко-психологические последствия, всё же не заставило французов формулировать свою «отсталость» как историческую проблему). Эрик Хобсбаум (1917–2012) заметил в связи с этим историческим событием, что именно война 1870–1871 гг. с вызванной ею Парижской коммуной и взрывом коммунистических пророчеств и публицистики в Европе сделала знаменитым Карла Маркса, а уголовно-политический процесс в Германии 1872 года над его последователями заставил предать широкой огласке его «Манифест коммунистической партии»231.
Известный американский экономист, один из первых либертарианцев Генри Джордж (1839–1897) в 1886 году вынужден был признать:
«Протекционизм торжествует повсюду… Из великих наций одна Англия сорок лет назад перешла к системе свободной торговли. Наоборот, британские колонии сейчас же оградились тарифами, как только получили самоуправление232. О всех других народах нечего и говорить. Фритредерам нечего обольщаться», – цитировал Г. Джорджа русский критик протекционизма. И находил новое отступление от экономического либерализма в трудах даже его защитника П. П. Леруа-Больё (1843–1916), который признал наиболее существенными аргументами протекционизма его указание на противоречие «всемирных интересов» с интересами национальными, что внешняя конкуренция способна даже уничтожить национальное производство, а разделение труда, выходящее за пределы государства, угрожает его независимости233.
В конце 1890-х гг. Менделеев подвёл в абсолютных цифрах национальные итоги конкуренции «свободной торговли» и протекционизма в течение XIX века и, в частности, за 1860–1898 гг., что можно округлённо суммировать по его данным в финальную таблицу, ярко демонстрирующую гораздо большие успехи протекционистских Гер- мании и США по сравнению с фритредерской Великобританией:
Совокупный объём экспорта и импорта (млн франков)
Связывая наибольший рост объёма внешней торговли именно с периодом постепенного распространения идей протекционизма в 1860–1880-х гг., Менделеев резюмирует: «…не подлежит сомнению, что быстрота возрастания внешних оборотов и главных способов для неё (внешней торговли. – М. К.), т. е. морского пароходства, определяется прежде всего развитием внутренней промышленности стран, зависящей от распространения протекционизма. (…) Ни для кого, например, не спрятано то обстоятельство, что Германия выиграла в последнюю четверть XIX ст. настолько же от французских своих побед и тройственного союза, насколько от умелой и последовательной политики по отношению к внешней торговле, политики чисто протекционной и умевшей доставить германскому народу такое благосостояние, какого эта по существу бедная страна не имела никогда по отношению к другим странам». При этом Менделеев замечал вполне в духе требований социальной политики, фиксируя связь протекционизма и государственного социализма: «…германский протекционизм состоит не из одних таможенных пошлин, но включает в себя и широкое покровительство всему реальному просвещению (в духе реальных училищ в Германии и России, дававших, в отличие от классического образования в гимназиях, в дополнение к основному, прикладное техническое и математическое образование. – М. К.), всему развитию внешней торговли и обеспечению заработков лиц, трудящихся на фабриках и заводах»234.
Опоздание России с проведением политики последовательного протекционизма вплоть до середины – конца 1880-х гг. лишило её возможностей целой исторической эпохи, начиная с 1850 года, когда власть отказалась от протекционизма как раз в момент перехода от мануфактурного производства к фабричному и заводскому. Но к началу ХХ века уже ничто не могло помешать разительным успехам системы индустриализации России, построенной благодаря подготовленному по решению императора Александра III министром финансов И. А. Вышнеградским и реализованному товарищем министра финансов С. Ю. Витте (министр в 1892–1903) тарифу 1891 года и протекционистски выращенной на его основе экономике собственного чугуна и угля. Широко признанный, в том числе русскими марксистами, немецкий специалист по русской экономике Г. Шульце-Геверниц (1864–1943) говорил о тарифе 1891 года, что он «превосходит всё, что когда-либо было сделано в Европе в смысле таможенной охраны. (…) Тариф 1891 года… создал прочную таможенную стену, ограждавшую промышленность от иностранной конкуренции, обеспечившую промышленникам крупную норму прибыли, – эту самую главную приманку для притока в промышленность как отечественных, так и иностранных капиталов»235. Авторитетный для правящих большевиков автор уже при Советской власти на части территории России прямо подтверждал: «Таможенная охрана нашего производства путём усиленного обложения сырья, полуфабрикатов и изделий, являлась основным мотивом нашей экономической политики с 1890-х годов. Все задачи развития промышленности решались главнейше этим орудием экономической политики, которому приписывалась значительно большая универсальность и действительность, чем это было фактически. Тариф 1891 г. вызвал, в связи с железнодорожным строительством, значительное развитие нашей металлургии, горного дела и металлообрабатывающей промышленности»236.
Даже кризис 1899–1900 гг. не привёл к отказу от этой основы народного хозяйства, сближая Россию с «догоняющей» самодостаточной экономикой другой страны-континента – США:
Таможенные пошлины на стоимость товаров (1907, %) 237
В те годы исследователь уверенно писал, смиряя свои фритредерские симпатии, что итоги индустриализации России в 1881–1905 гг. являются «поражающими» и что, «вопреки всем фритредерским соображениям о благодетельности международного разделения труда, Россия будет продолжать свой путь к индустриализации и не уклонится от этого своего основного направления всей её хозяйственной политики»: отказываясь «примириться со всё большей эксплуатацией её иностранными государствами, выменивая по ничтожным ценам продукты своей почвы на чужой труд», – «стремиться к интенсивному индустриальному использованию внутренних производительных сил, т. е. спуститься в свои собственные недра, извлекать оттуда сырьё для индустриализации. (…) Если бы Россия была отдалённой колониальной страной, эксплуатация сокрытых в её недрах сокровищ составила бы прямую обязанность международного подвижного капитала. Тем сильнее должна была себя чувствовать обязанной Россия не оставлять втуне богатств, которыми так щедро наградила её природа». Поэтому исторически «коренными устоями» промышленного расцвета России в 1880-х были протекционизм и железнодорожное строительство, а центральным событием – «колоссальный рост» южнорусской горной промышленности238, то есть Кривого Рога и Донбасса. Сводные критические данные этого роста даны в таблице:
Производство чугуна в России (млн пудов) 239
Одновременно с этими академическими исследователями итоги протекционистской индустриализации подводил знаменитый большевистский трибун мировой революции и международного разделения труда Троцкий, уклоняясь от точного указания на протекционистский секрет создания и концентрации промышленности, но честно иллюстрируя его революционные результаты: «за десятилетие промышленного подъёма – 1893–1902 – основной капитал акционерных предприятий возрос на 2 миллиарда рублей, между тем как за период 1854–1892 гг. он увеличился всего на 900 миллионов»240.
Ещё дореволюционный марксист и социал-демократ, отец советской экономической географии Н. Н. Баранский (1881–1963), чья доктрина природно-идеологической многофакторности географии была принята Сталиным, в своём позднем сводном очерке внятно обрисовал практический (фактически альтернативный теоретическому у Троцкого) взгляд на международное разделение труда в его индустриальной перспективе, в котором было легко увидеть общий экономико-исторический консенсус тех в СССР, кто сознательно принял сталинскую идеологию «социализма в одной стране»:
«Англия, первой ставшая на путь индустриализации, вначале далеко опередила все остальные страны и долгое время пользовалась мировой монополией во всём, что касалось крупной машинной индустрии. И Германии и Соединённым Штатам для своих первых железных дорог пришлось ввозить оборудование из Англии. Только что зародившаяся промышленность этих стран совершенно не могла поднять головы из-за конкуренции Англии. При таких условиях английской буржуазии было вполне естественно держаться принципов свободной торговли, ибо при наличии фактического неравенства “свобода” не означает ничего другого, как лишь обеспечение власти сильного над слабым. (…) Опыты, проделывавшиеся в направлении свободы торговли некоторыми континентальными странами Европы, давали весьма печальные результаты и для их промышленности, и для платёжного баланса и денежной системы. Немудрено, что в странах, в которых в то время было больше всего данных для промышленного развития и которым поэтому конкуренция Англии была всего более досадна, а именно в Германии и Соединённых Штатах, раньше всего создавалась и идеология протекционизма (в виде учений Листа и Кери)… Пример этих стран, сумевших под защитой таможенных пошлин вырастить свою собственную промышленность до такого уровня развития, что она уже давно опередила английскую и перестала бояться её конкуренции, показал, что связь между таможенными пошлинами и географическим разделением труда в условиях неравномерного развития капиталистических стран оказывается совсем иной и гораздо более сложной, чем это могло бы показаться, исходя из чисто формальных рассуждений. Дело в том, что таможенные пошлины, применяемые страной более молодой и промышленно слабой, против страны, опередившей её в своём развитии, хотя и затрудняют, конечно, осуществление географического разделения труда через границу, но зато, обеспечивая развитие промышленности внутри страны, тем самым увеличивают географическое разделение труда в её пределах и ведут к развитию тех её производительных сил, которые иначе оставались бы втуне. (…) Таким образом, таможенные пошлины как бы “загоняют” географическое разделение труда внутрь страны с тем, чтобы, развив, её производительные силы, сделать её при наличии известных условий конкурентоспособной на мировом рынке и тем подготовить дальнейшее развитие географического разделения труда и вширь, и вглубь в мировом масштабе. Государственная власть вмешивается в условия географического разделения труда не только путём установления таможенных пошлин, но и путём регламентации железнодорожных тарифов»241.
Здесь же важно специально проанализировать также историческое, фактическое качество догмы (и постоянных к ней апелляций Троцкого) о приоритетности (если не абсолютной ценности) «международного разделения труда» как фактора мировой (глобальной) экономики и обязательного условия мировой революции и (мирового же) социализма. Некритическое повторение этой догмы на всех этажах марксистской мысли сделало обязательным представление о едва ли не автоматическом и линейном развитии этого разделения труда как всеподавляющего прогресса, о котором протекционисты разных политических убеждений вынуждены были молчать, даже не соглашаясь, ибо достаточных данных тогда, чтобы опровергнуть эту догму, ещё не существовало. Но правда и в том, что эту догму никто из её догматиков так и не проверял на фактическом материале, ограничиваясь повторением. В центре догмы стоял, конечно, старый образ мирового господства свободы торговли, а затем – новый образ империализма и империалистической конкуренции, в мясорубке которой, казалось, не было места не только слабым, но и самодостаточным. Выдающийся русский историк-марксист и востоковед М. Павлович (М. Л. Вельтман, 1871–1927) широкими мазками рисовал общую картину этого мира накануне Первой мировой войны: «Прообразом либерализма была европейская Англия. Прообразом империализма служит мировая Британская империя, в которой сотни миллионов подвластны одной господствующей нации, а на самом деле – господствующим классам этой нации»242. Современные исследователи так резюмируют этот цивилизационный расизм: «В начале ХХ в. все великие державы считали колониальную империю абсолютно законной целью национальных устремлений»243. И если можно с уверенностью заключить, что мобилизационная и военная мощь великих держав в целом была достаточной для поддержания системы глобального колониального милитаризма, то второй важнейший фактор индустриально-ресурсной глобализации того времени как основы международного разделения труда – империалистический финансовый капитал переживал серьёзный кризис. Да и структура собственной экономики СССР обрекала её исключительно на колониальный статус, откройся она «мировому», а на деле – хозяйству одной из колониальных великих держав (учитывая экономическую слабость Германии и наложенные на неё Антантой послевоенные ограничения, это могли быть лишь Великобритания и Франция). На пике внешнеторговых возможностей, накануне мирового кризиса, к декабрю 1927 года структура экспорта из СССР выглядела так: пушнина (17 %), нефть и нефтепродукты (15,4 %), продукция лесного хозяйства (12,6 %), марганец (2,2 %), остальное – продукция сельского хозяйства (52,8 %)244. Современный историк напоминает: «Условия внешней торговли в 20-е были для России неблагоприятными. После Первой мировой войны зерновой рынок был захвачен США, Канадой, Аргентиной и Австралией. В начале 20-х годов произошло крушение льняного рынка из-за вытеснения льняных тканей хлопчатобумажными. Находясь в стеснённых экспортных условиях, Россия не могла удовлетворить своих потребностей в импорте. Баланс внешней торговли, за исключением 1923 и 1924 гг., был отрицательным, что вело к значительному отливу золота из страны»245. Как и в иных случаях, ещё до начала публичной полемики троцкистов и сталинистов государственное издательство в СССР выпустило в свет перевод крайне уместного в её контексте труда авторитетного австрийского марксиста, первого канцлера Австрии Карла Реннера (1870–1950), который без особых усилий отмёл столь интенсивно навязываемый Троцким фактор мирового хозяйства как непререкаемого условия развития. Прежде всего, К. Реннер уже тогда, внутри актуальных событий попросту показал его мифологичность: «Мировое хозяйство разлагается на антагонистические национальные хозяйства. Социалистические вожди ещё не подвергли разработке этого факта с привлечением для этого всего необходимого багажа… Мировая война была лишь одною фазою, правда решающею, этого процесса, а выходом из этого процесса может быть лишь создание наряду с хозяйственным интернационалом и политического интернационала мирового государства, владычествующего над мировым рынком»246.
Разделение труда в целом развивалось между двумя полюсами, которые можно назвать так: бедный мир с его избытком трудовых и природных ресурсов (к нему надо отнести и Россию) и богатый мир с его избытком капитала и дефицитом природных ресурсов. Историки экономики авторитетно заключают (и я верю, что эту тенденцию и современники могли бы при желании заметить «изнутри истории»): в мировых отношениях ресурсов и капитала фактом первой половины ХХ века был рост взаимного протекционизма, «фрагментация рынков труда и капитала»247 и, добавлю, превращение труда в предмет массового экспорта из бедных стран в богатые. Вероятно, главный советский внешнеэкономический и внешнеполитический аналитик, бывший австро-венгерский профессор экономики, в 1918–1919 – нарком финансов и глава ВСНХ Венгерской советской республики Е. С. Варга (1879–1964) уже после изгнания Троцкого из СССР – с полным знанием дела разрушал доктринальное здание его «мирового разделения труда», не рискуя быть фактически опровергнутым даже заочно. Он профессионально описывал то, что видел в мире вокруг СССР в 1910–1930-е гг. (и что не могло не признаваться в СССР технологическим ориентиром), и то, что Троцкий в своей риторике наивно описывал как благое международное разделение труда, в которое должен встроиться СССР – «систематическое организационное переключение хозяйства на работу для войны», происходившее во всех европейских государствах:
«каждое государство стремится к тому, чтобы в возможно большей степени производить наиболее необходимые для войны жизненные припасы, сырьё и предметы вооружения у себя же в стране. (…) Каждое маленькое государство стремится создать у себя в стране известный минимум тяжёлой промышленности, производства оружия, искусственного шёлка, чтобы в случае войны не зависеть всецело от ввоза из-за границы. (…) В результате мы имеем тенденцию к прекращению разделения труда в мировом хозяйстве… известную “аграризацию” промышленных стран и искусственную индустриализацию аграрных стран. Идеологическим выражением этого развития служит теория автаркии, наиболее усердно провозглашаемая германскими фашистами (при этом под “автаркией” всегда понимают только ограничение ввоза, но никогда не имеют в виду добровольное сокращение вывоза). Одновременно подготовляется мобилизация и милитаризация всей рабочей силы на случай войны (принудительная «трудовая повинность» для молодёжи в Германии и т. д.). Организационная подготовка хозяйства к войне наиболее далеко продвинулась в Германии и Японии. В Германии все отрасли хозяйства объединены в картели, вступление в которые является обязательным, сырьё распределяется между производствами под контролем государства…Переход к “организованному голоду” может быть осуществлён в самое короткое время»248.
Современные исследователи суммируют сведения науки о том, что в 1914–1950 гг. произошла дезинтеграция мировой торговли, массовое и быстрое усиление протекционизма в сельском хозяйстве и промышленности в Болгарии, Чехословакии, Германии, Венгрии, Италии, Румынии, Испании, Швейцарии, Югославии. Причиной было то, что Первая мировая война «покончила с либеральным устройством XIX в… Производство и потребление в тотальной войне требовали гарантированных поставок жизненно важных стратегических материалов, сырья и продовольствия, и это вынуждало воюющие страны к ограничению экспорта и максимально возможному расширению импорта. Кроме того, участники войны применили борьбу с торговлей как одну из военных стратегий, стремясь блокадой и голодом поставить противника на колени. Международные товарные рынки были разрушены, объём мировой торговли сократился. (…) В глобальных масштабах доля торговли в ВВП сократилась с 22 % в 1913 г. до 15 % в 1929 г. и лишь 9 % в 1938 г.»249
Ясно, что вся эта реальность – которую не видеть было нельзя – была категорически против «мировой» риторики Троцкого и фактически обрекала руководимую им страну на судьбу ресурсной колонии империализма – и она, колония, может быть, даже придала бы ряду колониальных империй ещё по нескольку десятилетий жизни без деколонизации. Но и помимо мировой экономической реальности в правящем классе СССР существовал доминирующий пафос категорического отвержения приоритета торговли как капитализма вообще и мировой торговли в частности, в котором по умолчанию воспитывался приоритет внутреннего промышленного развития. Предельно примитивное как историческая доктрина, учение о «торговом капитале» и «промышленном капитале», выдвинутое ещё в 1915–1918 гг. главным официальным советским историком, заместителем наркома просвещения РСФСР, куратором науки и высшего образования М. Н. Покровским (1868–1932), делало именно экспортный «торговый капитал» в России источником внешнеполитической агрессивности самодержавия, а «промышленный» – опирающимся на внутренние ресурсы России.
Протекционизм
В середине XIX века Россия, подобно Пруссии начала XIX века, столкнулась с тяжёлым военно-стратегическим поражением от коалиции во главе с мировым лидером – Британской империей. И также столкнулась с необходимостью сравнить собственные военно-промышленные и инфраструктурные ресурсы, степень их развитости, с ресурсами противников, которые, всё по тому же «совпадению», являли собой признанные исторические образцы развития и цивилизованности. Это поражение не могло не актуализировать германский пример.
Поражение, нанесённое Англией и Францией России в Крымской войне – на её собственной территории России, – логично ложилось в перспективу её вероятного колониального подчинения. Это же поражение должно было стать и главным, грубым и наглядным, фактором обнаружения того простого обстоятельства, что даже добровольное участие страны в британской системе «свободы торговли» отнюдь не гарантирует её от военно политического диктата Британской империи. Столь унизительное отрицательное обнаружение суверенитета России как жертвы колониальной экспансии обрекало её либо на стратегическую капитуляцию, либо на создание промышленной основы военного суверенитета и, следовательно, отказа от «свободы торговли» в пользу протекционизма. Из исторического далёка, сорок пять лет спустя, Энгельс внятно излагал суть этого выбора, в котором прозрачно виделись индийский промышленный шаблон и индийская колониальная альтернатива:
«Россия в 1892 г. не могла бы существовать как чисто сельскохозяйственная страна, её сельскохозяйственное производство должно быть дополнено производством промышленным. (…) В тот день, когда Россия ввела у себя железные дороги, введение этих современных средств производства было предрешено. Вы должны быть в состоянии ремонтировать ваши собственные паровозы, вагоны, железные дороги, а это можно сделать дёшево только в том случае, если вы в состоянии строить у себя в стране всё то, что вы намереваетесь ремонтировать. С того момента как военное дело стало одной из отраслей крупной промышленности (броненосные суда, нарезная артиллерия, скорострельные орудия, магазинные винтовки, пули со стальной оболочкой, бездымный порох и т. д.), крупная промышленность, без которой всё это не может быть изготовлено, стала политической необходимостью. Всё это нельзя производить без высокоразвитой металлообрабатывающей промышленности, а эта промышленность не может существовать без соответствующего развития всех других отраслей промышленности, особенно текстильной. Я совершенно согласен с Вами, что начало новой промышленной эры для вашей страны следует отнести приблизительно к 1861 году. Крымскую войну характеризовала именно безнадёжная борьба нации с примитивными формами производства против наций с современным производством. (…) В таком случае с этой точки зрения и вопрос о протекционизме становится только вопросом степени, а не принципа; самый же принцип был неизбежен. И ещё в одном можно не сомневаться: если Россия после Крымской войны нуждалась в своей собственной крупной промышленности, то она могла иметь её лишь в одной форме: в капиталистической форме. (…) Но я не вижу, чтобы результаты промышленной революции, совершающейся на наших глазах в России, отличались чем-нибудь от того, что происходит или происходило в Англии, Германии, Америке. (…) русским надо было решить – будет ли их домашняя промышленность уничтожена их собственной крупной промышленностью, или это будет совершено путём ввоза английских товаров. При протекционизме это сделают русские, без протекционизма – англичане. Мне всё это кажется совершенно очевидным»250.
Но, давая волю своей политической страсти и фобиям, именно с колониальной точки зрения – и уже безо всяких ободряющих авансов русским социалистам – Энгельс в 1893 году, вскоре после того, как, по его же предельно русофобским признаниям, Россия как славянская раса в целом251 стала не только традиционно угрожать цивилизованной Европе «азиатским варварством», но и таки ступила на путь промышленного, то есть самостоятельного развития (и поэтому тоже угрожает цивилизации, борясь за внешние рынки)252, теперь прямо определил Россию в образе цивилизационной отсталости, обречённой на колониальное подчинение – «этот европейский Китай»253. И из такой аналогии ничего хорошего для России не следовало.
Проигранная Россией Крымская война 1853–1856 гг. против коалиции Англии, Франции и Османской империи уничтожила многие результаты 150-летней борьбы России за выход в Чёрное море и её безопасность с юга: Черноморское побережье России было оголено, военная инфраструктура разрушена, экономические интересы – и без того критически зависимые от иностранного торгового флота (монопольно обслуживавшего русскую внешнюю торговлю) как вестника иностранной свободы торговли – не защищены. Впервые не как риторическое преувеличение и не как политический штамп, не как интеллектуальная игра между кружками западников и славянофилов, но как грубый исторический ландшафт для навигации встала проблема, которой язык военно-политического поражения дал имя (подобное тому, что дали своему поражению от Бонапарта в 1807 году немцы) – отсталость. Именно эта травма экономической отсталости от главных внешнеполитических противников и конкурентов отдала ещё большую инициативу в руки фритредерам в экономической политике власти. Эта политика и без того уже с начала 1840-х и особенно с 1850 года, года таможенного присоединения к империи Царства Польского (по тарифам 1851, 1857, 1867, 1868 гг.), напротив, всё более отрицала протекционизм, на деле демонстрируя зависимость от той коалиции, которая победила Россию в Крымской войне. И экономические выводы из поражения в сторону свободы торговли лишь усиливали эту зависимость. Историк русской экономики поколение спустя так описывал «новые успехи фритредерства»:
«Во время Крымской кампании было проведено общее понижение таможенных пошлин при сухопутном привозе, ибо движение морским путём было затруднено. Эта временная мера и по миновании её срока была оставлена в силе, так как в правительственных кругах назрело намерение произвести новый общий пересмотр тарифа. (…) Характер этого пересмотра определился общим фритредерским настроением эпохи… общее состояние атмосферы того времени повелительно диктовало дальнейший уклон в сторону свободы торговли. Это была весна идеи свободной торговли, когда ею увлекались во всех странах и от её осуществления ожидали чуть ли не полного социального переворота и воцарения всеобщего благополучия. В России выдвинулась в это время целая плеяда экономистов, находившихся под влиянием фритредерской пропаганды. Это течение делается академической доктриной: представители его занимают в это время важнейшие университетские кафедры. (…) Протекционистское течение было представлено людьми практики: администраторами, представителями торгово-промышленных кругов…»254.
Говоря уже не исторически, а идейно и политически, историк – в начале ХХ века известный правый либерал и проповедник государственного экономического могущества – ярко демонстрировал, насколько такой выбор имперского правительства в пользу внешнеэкономического либерализма, правила которого устанавливал главный противник России в Крымской войне – Англия, служил интересам России. П. Б. Струве (1870–1944) так писал о месте России в шкале индустриализации и о роли протекционизма на этом пути: «экономическое развитие, одним из необходимых исторических условий которого является протекционизм, знаменует собой переход к высшей хозяйственной системе сравнительно с тем земледельческим укладом (в чём видел главный смысл протекционизма и Ф. Лист. – М. К.), на смену которого идёт эта новая хозяйственная система. Она представляет из себя высшую ступень, так как подымает производительность труда в стране…»255.
Радикальные критики России – и особенно во время Крымской войны – Маркс и Энгельс к тому времени уже подробно рассмотрели проблемы отсталости на примере немецких земель, которые с начала XIX века вели борьбу за преодоление исторического поражения. В этом мире Россия и германские земли были равны. Энгельс вспоминал:
«мировой рынок состоял тогда ещё из некоторого числа стран, преимущественно или исключительно сельскохозяйственных, группировавшихся вокруг одного крупного промышленного центра – Англии, которая потребляла большую часть излишков их сырья и взамен удовлетворяла большую часть их потребностей в промышленных изделиях. (…) Теория свободы торговли основывалась на одном предположении: Англия должна стать единственным крупным промышленным центром сельскохозяйственного мира»256.
Неизменные критики русского царизма, России как оплота общеевропейской реакции, как мировой угрозы, затмевающей в их сознании даже мировой британский и французский колониализм и милитаризм, ради борьбы против царизма поддерживавшие даже славянофильские общинные фантазии русских народников, даже националистическую, полуфеодальную и ассимиляторскую борьбу поляков за независимость от России в границах 1772 года257, Маркс и Энгельс с острым вниманием следили за тем, как Россия и её самодержавная власть пытаются преодолеть отсталость. В их оценках говорил их собственный немецкий опыт: разгрома 1807 года, борьбы за национальное объединение, протекционизма как фундамента объединения и независимости, военно-политической конкуренции – и, с другой стороны, победного шествия Британской империи с её внешними правилами «свободы торговли», колониальными внешними рынками для развития своего капитализма, политическим либерализмом. Их задачей было совместить цивилизационно-политическую критику России с проповедью либерально-капиталистического прогресса, ведущего Европу и мир, вслед за Англией, к коммунизму, и с национальными интересами объединённой Германии, где главным союзником полицейской монархии представлялась Россия. То есть для Маркса и Энгельса было важным обеспечить единство исторического прогресса Старого Света при лидерстве Британии, демократизации Германии и вовлечении «нейтрализованной» России на периферию западной антикапиталистической революции. То есть использовать её общинную отсталость, чтобы вслед за Западом привести Россию к социализму, не создавая царизму возможностей к развитию капитализма и военно-промышленному выживанию и, таким образом, борьбе против прогрессивного Запада. Для своей же тогда ещё не объединённой родины, Германии – в её собственной борьбе против экономической отсталости в тени доминирования Англии – Маркс и Энгельс уже в 1840-х гг. с небольшими, преимущественно риторическими оговорками, выступали за протекционизм как инструмент суверенного промышленного развития. Ещё в так называемых «Эльберфельдских речах» молодой Энгельс, апеллируя к авторитету главного проповедника германского протекционизма Ф. Листа и позже признавая, что «Лист является самым лучшим из того, что произвела немецкая буржуазная экономическая литература»258, пропагандировал принцип «золотой середины» между свободой торговли и протекционизмом, при том что вред крайностей первой видел преимущественно в актуальности, а вред крайностей второго – преимущественно в будущем, когда его польза окажется исчерпанной. В этих признаниях молодого Энгельса звучит вполне ясное противопоставление практических интересов национального (народного) хозяйства и интернационального экономического и, следовательно, социально-политического прогресса, капиталистического (индустриального) развития как приоритета национальной экономики – и коммунистической перспективы как результата мировой революции. Выступая как немец перед немцами и прямо ссылаясь на «систему» Ф. Листа, Энгельс писал:
«Если мы провозгласим свободу торговли и отменим наши пошлины, то вся наша промышленность, за исключением немногих отраслей, будет разорена. О бумагопрядильном производстве, о механическом ткачестве, о большинстве отраслей хлопчатобумажной и шерстяной промышленности, о важных отраслях шёлковой промышленности, почти о всей железодобывающей и железообрабатывающей промышленности тогда и речи не будет. Занятые во всех этих отраслях промышленности рабочие, оказавшись внезапно безработными, хлынут массами в сельское хозяйство и уцелевшие ещё остатки промышленности; повсюду начнётся быстрый рост пауперизма, централизация собственности в руках немногих ускорится в результате такого кризиса, и, судя по событиям в Силезии, неизбежным следствием этого кризиса явится социальная революция. Предположим теперь, что мы введём покровительственные пошлины. (…) Г-н Лист предлагает ввести постепенно возрастающие охранительные пошлины, которые со временем должны стать достаточно высокими, чтобы обеспечить за фабрикантами внутренний рынок; в течение известного времени они должны оставаться на этом высоком уровне, а затем постепенно начать снова снижаться, с тем чтобы, в конце концов, после ряда лет, покровительственная система могла быть уничтожена. Допустим, что этот план будет проведён и возрастающие покровительственные пошлины будут декретированы. Промышленность будет развиваться, свободный ещё капитал будет вкладываться в промышленные предприятия, спрос на рабочих, а вместе с ним и заработная плата возрастут, приюты для бедных опустеют, и, судя по внешним признакам, наступит период полного процветания. Это будет продолжаться до тех пор, пока наша промышленность не разовьётся настолько, чтобы удовлетворить внутренний рынок. Дальше она расширяться не сможет… К этому времени, полагает г-н Лист, отечественная промышленность уже настолько окрепнет, что будет меньше нуждаться в покровительстве и можно будет начать понижать пошлины»259.
В середине 1920-х гг. бывший социалист-революционер, помощник главы Временного правительства А. Ф. Керенского, известный советский экономист, директор Конъюнктурного института при Наркомате финансов РСФСР/СССР Н. Д. Кондратьев (1892–1938), считающийся в историографии оппонентом сталинской аграрной политики260, верно обнаружил в самом факте определения Энгельсом границ позитивного действия протекционизма проблему принципиальной применимости протекционизма к стратегии развития народного хозяйства в целом, то есть первый очерк проблемы достаточности (крестьянского) внутреннего рынка для развития капитализма, в чём состоял центр полемики народников против марксистов в 1890-е гг. Марксисты, говорившие о достаточности этого рынка, одержали победу в позитивной оценке перспектив капитализма в России и, подразумевалось, в оценке перспектив социализма в стране. Комментируя Эльберфельдские речи Энгельса, Н. Д. Кондратьев писал, что Энгельс, «допуская, что под влиянием протекционизма промышленность подымается, полагал, что этот подъём продолжится лишь до того времени, пока он не исчерпает ёмкости внутреннего рынка… Жизнь показала, что в данном случае прогноз Листа был верен, а Энгельс, подобно нашим народникам, ошибался»261. В контексте дискуссии в СССР 1920-х годов о строительстве «социализма в одной стране» – то есть сталинской самозамкнутости СССР от троцкистского «международного разделения труда», «социалистического первоначального накопления» за счёт внутренней административной эксплуатации крестьянства – признание Кондратьевым применимости такого протекционизма и при исчерпании внутреннего рынка звучало как признание верности стратегии «изолированного государства» Сталина262.
Вообще согласие близких к Советской власти некоммунистических интеллектуалов со сталинской доктриной «социализма в одной стране» как доктриной суверенной и самодостаточной России было не только актом оппортунизма, облегчённого идейной погружённостью сталинской доктрины в традицию протекционизма, но и актом политической стратегии. Один из таких интеллектуалов прямо писал конфиденту:
«нужно бояться превращения России в колонию. (…) я “за Сталина”… прежде всего потому, что “именно центральная установка Сталина гарантирует на некоторое время функционирование того партийно-государственного аппарата, внутри которого и создаётся, и формируется новая государственно-правящая психология, вырастает кадр государственных спецов”. Готов подписаться под этой формулой. Могу сказать, что её разделяет и весь “непартийный правящий слой” в Москве (точно знаю это)»263.
Убеждение Энгельса и Маркса в том, что именно протекционизм создаёт (в Германии) крупную промышленность, получило непрерывное развитие в их работах 1840-х годов264. В свою очередь, история марксистского прогноза о шансах капиталистического развития России265 имела в своём распоряжении прямо высказанные основателями политического коммунизма уже упомянутые тактические надежды на то, что – в контексте общемирового и, в первую очередь, западноевропейского развития в сторону коммунизма – общинная Россия может, сохранив свой патриархальный коллективизм, прямо – при помощи Запада – перейти к коммунизму. И этим внешне подтверждалась утопия ещё А. И. Герцена о прямом переходе от общины к социализму. Для этого России оставалось «лишь» избежать капиталистического развития, главные препятствия на пути которого были ликвидированы с отменой крепостного права в 1861 году. Заметив внимание к своей теории в России и выучив, как следует из переписки, русский язык для чтения описания пролетаризации России в труде В. В. Берви-Флеровского (1829–1918), Маркс266 напрямую обратился к русской аудитории, произвольно теоретизируя в духе Герцена:
«Если Россия будет продолжать идти по тому пути, по которому она следовала с 1861 г., то она упустит наилучший случай, который история когда-либо предоставляла какому-либо народу, и испытает все роковые злоключения капиталистического строя. (…) Если Россия имеет тенденцию стать капиталистической нацией по образцу наций Западной Европы, – а за последние годы она немало потрудилась в этом направлении, – она не достигнет этого, не превратив предварительно значительной части своих крестьян в пролетариев»267.
В формально личном письме (несомненно, ставшем известным целевой русской аудитории) к тогда ещё радикальной народнице В. И. Засулич, одной из первых начавшей примерять марксизм к революционной борьбе в России, Маркс писал:
«Анализ, представленный в “Капитале”, не дает, следовательно, доводов ни за, ни против жизнеспособности русской общины. Но специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что эта община является точкой опоры социального возрождения России, однако для того чтобы она могла функционировать как таковая, нужно было бы прежде всего устранить тлетворные влияния, которым она подвергается со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития»268.
В прямом обращении к русской революционной аудитории Маркс и Энгельс, хорошо известные своей политически мотивированной русофобией, откровенно льстили именно русским народникам, эксплуатируя их совершенно абстрактные надежды:
«Россия представляет собой передовой отряд революционного движения в Европе… рядом с быстро развивающейся капиталистической горячкой и только теперь образующейся буржуазной земельной собственностью мы находим в России большую половину земли в общинном владении крестьян. Спрашивается теперь: может ли русская община – эта, правда, сильно уже разрушенная форма первобытного общего владения землей – непосредственно перейти в высшую, коммунистическую форму общего владения? Или, напротив, она должна пережить сначала тот же процесс разложения, который присущ историческому развитию Запада? Единственно возможный в настоящее время ответ на этот вопрос заключается в следующем. Если русская революция послужит сигналом пролетарской революции на Западе, так что обе они дополнят друг друга, то современная русская общинная собственность на землю может явиться исходным пунктом коммунистического развития»269.
Позже в переписке со своим русским корреспондентом, уже квалифицированным марксистом, но политически близким к народничеству, Н. Ф. Даниельсоном (в русской печати под псевдонимом: Николай-он)270 Энгельс предметно проанализировал перспективы общины, промышленности, капитализма и социализма в России в контексте масштабного голода 1891–1892 гг., показавшего экономическую слабость общинного сельского хозяйства, на который Маркс и русские социалисты-народники полагались как на зародыш буду-щего социализма. Здесь русским народникам, взявшим на вооружение «букву» марксизма271 и уже с её помощью отстаивавшим особость русского пути к коммунизму, минуя капитализм как общую индустриальную основу народного хозяйства в силу его прогнозируемой маргинальности из-за слабости внутренней основы и недоступности внешних рынков, удалось найти в марксистском учении для Германии противоречие между образцом интернационального британского капитализма и случаем его особого национального развития в условиях германского протекционизма. В противоречие своим ранним надеждам на переход Германии к коммунизму именно в силу невозможности беспредельного локального развития капитализма272, но не переставая говорить, что голод и сокращает внутренний рынок (в деревне), и создаёт его (в городе), Энгельс всё же определённо писал Даниельсону: «переход от общинного земледелия и патриархальной домашней промышленности к современной промышленности… со временем… распространит капиталистическую систему также и на сельское хозяйство»273.
«Для 70-х годов прошлого столетия характерно, что Маркс был как бы экономическим и историко-философским авторитетом русского народничества – в эту эпоху духовное влияние Маркса, пожалуй, нигде не было так велико, как в России. Между тем, через 10–20 лет в борьбе русского марксизма с народничеством, начавшейся в 80-х годах за границей и в 90-х годах породившей русский, так называемый “легальный” марксизм, авторитетом того же Маркса побивалось народничество»274, – вспоминал марксист П. Б. Струве.
Таким образом, народники должны были доказать, что капитализм в России уже проиграл, а марксисты – что он побеждает и уже победил. И в равной степени сделать это на общем для них марксистском языке. Именно поэтому главным источником идейного переворота стало не распространение марксизма, а обнаружение его равной применимости и к России с её «социалистической» сельской общиной, и к Западной Европе, где община уже была уничтожена. «Меня марксистом гораздо больше сделал голод 1891–1892 гг., чем чтение “Капитала” Маркса», – вспоминал Струве275, обнажая трагедию отсталости, но умалчивая о том, что, подобно славянофилам, политические операторы отсталости, народники, уже вполне освоились с «Капиталом» и выступали его главными толкователями276. Именно проблему достаточности внутреннего рынка страны для развития капитализма начал исследовать Струве, дебютировав в немецкой социалистической прессе в 1892 году: он был обречён либо расстаться с образом промышленной и социалистической революции для России, либо увидеть, что обнищание деревни не уничтожает внутренних ресурсов развития капитализма и, значит, революционного пролетариата в стране.
В октябре 1893 года, продолжая давний спор с народническими политическими надеждами своего компетентного марксистского собеседника Н. Ф. Даниельсона, в ходе которого отрабатывались марксистские формулировки для России, Энгельс впервые заметил появление Петра Струве (в немецких публикациях: Peter von Struve) – нового русского марксистского теоретика, который, пожалуй, первым для русских революционеров «реабилитировал» протекционизм Ф. Листа, до того в России почти монополизированный консервативными модернизаторами С. Ю. Витте и его идейным единомышленником и активным пропагандистом протекционизма, великим химиком Д. И. Менделеевым (1834–1907)277. Здесь Энгельс решил: (1) покончить с русским экономическим мифом о России как новой Америке, (2) мифом об общине как первичной основе будущего коммунизма, (3) вновь подчеркнуть главную роль Запада в экспорте коммунизма – и так писал в связи с новой книгой своего конфидента «Очерки нашего пореформенного развития»:
«В берлинском “Sozialpolitisches Centralblatt” (третий год издания, № 1, 1 октября 1893 г.) некий г-н П. фон Струве опубликовал о Вашей книге большую статью; я должен согласиться с ним в одном пункте – что и для меня современная капиталистическая фаза развития в России представляется неизбежным следствием исторических условий, которые были созданы Крымской войной, способа, каким было осуществлено изменение аграрных отношений в 1861 г., и, наконец, неизбежным следствием общего политического застоя во всей Европе. Но где Струве решительно не прав, это там, где он, желая опровергнуть то, что он называет Вашим пессимистическим взглядом на будущее, сравнивает современное положение России с положением Соединенных Штатах. Он говорит, что пагубные последствия современного капитализма в России будут преодолены так же легко, как и в Соединенных Штатах. (…) ясно, что в России эта перемена должна носить гораздо более насильственный и резкий характер и сопровождаться несравненно большими страданиями, чем в Америке. (…) всё же более чем стомиллионное население образует, в конце концов, очень большой внутренний рынок для весьма значительной крупной промышленности; и у вас, как и в других странах, все выравняется, – конечно, если капитализм в Западной Европе продержится достаточно долго. (…) в России, так же, как и во всяком другом месте, невозможно было бы развить из первобытного аграрного коммунизма более высокую социальную форму, если только эта более высокая форма не была бы уже воплощена в жизнь в какой-либо другой стране и могла быть использована в качестве образца. (…) Будь Западная Европа зрелой в 1860–1870 гг. для такого переворота, будь этот переворот начат тогда Англией, Францией и т. д., – тогда русские действительно были бы призваны показать, что могло быть сделано из их общины, в то время ещё более или менее не тронутой. Но Запад пребывал в застое… России не было иного выбора, кроме следующего: либо развить общину в такую форму производства, от которой её отделял ещё ряд промежуточных исторических ступеней и для осуществления которой условия ещё не созрели тогда даже на Западе – задача, очевидно, невозможная, – либо развиваться в направлении капитализма»278.
В полемике с Энгельсом Н. Ф. Даниельсон попутно проговорил и подспудное убеждение марксистов-народников (и народников-славянофилов, и правящих славянофилов) в том, что – если государственная власть в России ценой разорения народного, крестьянского большинства навязывает «сверху» крупную капиталистическую промышленность, – то эта же государственная власть может с такой же лёгкой решительностью, буквально верхушечным решением, – уничтожить этот капитализм, открыв путь для свободного саморазвития из общины «народного производства» (социализма). Логика был такова: если государство без колоний (внешних рынков) ради своего капитализма уничтожает не колониальную, а собственную крестьянскую экономику – и защищает этот капитализм протекционизмом, то этот протекционизм оно может посвятить и созданию в рамках народного (общенационального) хозяйства – замкнутого, изолированного от внешнего капитализма, социализма. Вот из чего у Даниельсона рождалась недоговорённая до конца доктрина протекционизма ради изолированного социализма:
«Разве нельзя изменить цель покровительства? Изменить “курс”? Разве современная промышленность возможна только на капиталистической основе? Мы видим борьбу между двумя способами производства: крестьянским, развитие которого сознательно задерживается, но которое имеет все шансы пустить более глубокие корни и, следовательно, быть более прочным, и другим способом, совершенно искусственным, выращенным в теплице, выращенным за счёт крестьянства, т. е. большинства народа, и, тем не менее, мы продолжаем поддерживать его и покровительствовать ему. Кажется, что наше любимое детище – капитализм, – подрывая основы крестьянской промышленности, но не имея ни внешнего, ни внутреннего рынков, не имеет прочной почвы для своего развития. “Сложился внутренний рынок и одновременно снова оказался почти совсем разрушенным”, как Вы правильно выражаетесь. “Таким образом будет утрачена великая возможность” (на самом ли деле она утрачена?)…»279
«Конечно, мы не можем найти каких-либо новых факторов, отличных от тех, которые действуют в Западной Европе; но в неприкрытой экспроприации и эксплуатации населения (…) в нашем полуизолированном состоянии» я вижу доказательство того, что мы достигли критического периода в нашей экономической истории. Вы говорите, что это кажущееся безвыходное положение находит в других странах выход в торговых потрясениях, в насильственном открытии новых рынков. У нас нет такого выхода. Россия принуждена искать его в своих собственных экономических учреждениях, она не может найти никаких внешних рынков; кроме того, её освобождённое население слишком многочисленно»280.
Видно, что эта квазидоктрина марксиста Даниельсона не давала ответа на главный вопрос: за чей счёт будет происходить накопление капитала, который государство будет инвестировать в некапиталистическую индустриализацию, если не за счёт собственного, но мелкотоварного сельского хозяйства? Кого будет грабить это государство, если возможность ограбления колоний для него закрыта, вместо своих крестьян?
Великий мастер упрощения и дидактики, продиктовавший постсоветской России и Западу ХХ века основные школьные формулы русской истории, которые раз за разом обнажаются в подкладке многочисленных интерпретаций России и мифов «русской идеи» и «русского ренессанса», Н. А. Бердяев, с юности впитавший в свой исторический язык марксизм и его народническое перерождение в социалистическом идеализме, невольно нащупал потенциал некапиталистического идейного поворота в самой проблеме внутреннего рынка и накопления капитала. Предельно сжимая лозунг народнического сопротивления капитализму, в котором, как известно, ради прекращения пролетаризации в ходе индустриализации, это социалистическое народничество готово было апеллировать даже к славянофильской партии внутри самодержавной власти, Бердяев наткнулся на не произнесённую народничеством проблему накопления капитала. Получалось, что от государства, которое насаждало капитализм, народники требовали достроить общинный коллективизм до общегосударственного социализма, решив (не произнесённую) задачу аккумулирования распылённых аграрных ресурсов до масштабов народного хозяйства и тем разрешить «традиционный для русской мысли XIX века вопрос о том, может ли Россия избежать капиталистического периода развития… в том смысле, что Россия может сократить до нуля срок капиталистического периода (курсив мой. – М. К.) и прямо перейти от низших форм хозяйства к хозяйству социалистическому. Коммунисты, несмотря на свой марксизм, именно и пытаются сделать»281.
Так диагностически точно писал Бердяев в 1938 году, когда Сталин – в ходе принудительной и радикальной коллективизации – уже решил эту задачу исторически мгновенного накопления капитала в интересах социализации всего народного хозяйства. Получалось, что государству не только теоретически по силам осуществить этот антикапиталистический переход прямо от общинного земледелия к общенациональному коллективизму. И если перед постфеодальной автократией было позволительно ставить задачу мобилизации внутренних ресурсов, то ничто не мешало поставить эту задачу и перед коммунистической диктатурой. Надо отметить, что – как член киевского марксистского и социал-демократического «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» второй половины 1890-х гг. – Бердяев, несомненно, хорошо знал русскую марксистскую классику, в первую очередь – марксистские труды Г. В. Плеханова, широко распространившиеся в России в нелегальных изданиях. В самом первом из них Плеханов спорит с народническими попытками перетолковать перспективы индустриального (то есть капиталистического) развития России, противопоставляя, отделяя предпосылки капитализации, «период капиталистического накопления» от собственно «периода капиталистического производства» (в первом издании было написано: «периода свободной торговли на Западе»), чтобы, видимо, обосновать особый путь России282. Из этой терминологически ещё не до конца продуманной эскапады в любом случае следовало убеждение патриарха русского марксизма в том, что индустриализация и накопление капитала в интересах индустриализации – единый и одновременный процесс, оставляющий простор для революционной индустриализации и одновременного поиска для неё первоначального капитала.
Годы спустя после описанной выше дискуссии с Энгельсом о внутренних ресурсах для капиталистического (промышленного) развития России и полгода спустя после солидарного утверждения капиталистического фатализма из уст Энгельса и Струве Н. Ф. Даниельсон настаивал на критической недостаточности рынка для развития капитализма в России – и по-прежнему ожидал прекращения капиталистического развития страны283. Струве же выбрал фокусом своей политической публицистики именно вопрос о приятии русского капитализма как фактора общечеловеческого прогресса и пути самой России к социальному и политическому освобождению – и сделал это общепринятым фактом в среде революционной интеллигенции уже к концу 1890-х годов. Оставалось понять: какой именно путь наиболее подходит России? Названный Лениным в применении к перспективам капиталистического аграрного развития «прусским» (латифундистским) или «американским» (фермерским) – путь крупнотоварной концентрации сельского хозяйства или путь победы массового мелкотоварного крестьянского хозяйства? Иначе говоря, путь «первоначального накопления» или путь длительной эволюции?
Мировая революция без гегемона
К концу XIX века с кандидатурой мирового (европейского) донора капитализма и коммунизма, наличие которого, судя по словам Энгельса, было обязательно для перспективы коммунистического развития России (в качестве, как минимум, аграрного придатка284), возникли трудности. Гигант Британской колониальной империи сталкивался со всё большей мировой конкуренцией, но вряд ли сулил своим революционным союзникам нечто большее, чем место колонии. «Срединная Европа» Германии ещё не была мировым гигантом и естественным образом выдвигалась в революционные покровители России.
Западная Европа 1860–1870-х гг. не оправдала революционных надежд Маркса и Энгельса. Как писал позже русский марксист, «Интернационал окончательно умер в 1876 году. В <18>77 году германская партия праздновала свои избирательные победы. Франция не оправдывала надежд на скорое оздоровление, Англия замкнулась в борьбе за легализацию тред-юнионов, Романские страны были во власти Бакунина, Германия, одна только Германия представляла из себя единственный оплот движения, это была “скала”, на которой зиждилась церковь будущего»285.
Поэтому главным внутри мирового (европейского) социалистического прогресса стал вопрос об истории, взаимоотношении и противоборстве доктрин и практик «свободы торговли» Британской империи и протекционизма Германии.
В течение всего XIX века образ великой державы и путь преодоления отсталости не мыслился без следования британскому индустриальному образцу, которое даже не подвергало сомнению абсолютное политическое и экономическое лидерство Британской империи во главе целого мира её колоний и протекторатов. Пока германские земли были политически раздроблены, России было ещё не столь неуютно в положении государства-ученика и потенциальной жертвы колониального раздела. Но Германия объединилась и вступила в круг великих держав. И во второй половине XIX века в русской радикальной оппозиции отсталость России всё чаще переживалась в образах потенциальной колонии, прежде всего Британии, чья колониальная практика изображалась на примерах британского владычества в Ирландии и в Индии, а вовсе не близкой ей, например, аграрной и, благодаря Бакунину, Мадзини и Гарибальди, популярной Италии286.
Исследователь и критик марксизма, отец государственности Чехо-Словакии (Чехословакии) Т. Г. Масарик (1850–1937) точно сфокусировал эту зависимость от образца на личных предпочтениях Маркса и Энгельса: они «более, чем это подобает, судят о всём человечестве и о всей истории по образцу сначала Франции, а потом Англии»287, видимо, ориентируясь на французскую революционную и на британскую экономическую традиции. Ёмкий очерк победного шествия английского образца по Европе дал и Вернер Зомбарт (1863–1941), бывший марксист, чья компетентность была высоко оценена самим Энгельсом и с научным авторитетом которого принуждены были считаться даже в СССР. С высоты опыта первой четверти ХХ века Зомбарт очертил судьбу фритредерства уже вне его идеологических применений:
«Англия переходит в 40-х годах XIX столетия к свободной торговле. За ней следуют другие страны; в течение первой половины 50-х годов большинство европейских страны пересмотрели свои тарифы в либеральном духе. Так поступили Пруссия, Швеция, Норвегия, Дания, Сардиния… В 1860 году заключается торговый договор между Англией и Францией. Он определил собой эпоху: за ним последовали подобные же договоры с Бельгией, Италией, Германским таможенным союзом, Австрией и Швейцарией… [Однако] глубоких корней фритредерское движение, пожалуй, никогда не пускало, жизненных интересов и инстинктов крупных государств оно никогда не затрагивало. Россия всегда шла своим путём. Англия, которая его породила, никогда не помышляла о том, чтобы пожертвовать идее фритредерства своими государственными интересами (…) Англия как нация была заинтересована во внешней торговле… Англия после наполеоновских войн стала, благодаря своему быстрому промышленному развитию, “мастерской всего мира”; она была переполнена промышленными продуктами, которых сама не в состоянии была потребить, и поэтому была живейшим образом заинтересована в том, чтобы иметь всюду открытые рынки. Ей самой не приходилось опасаться ввоза, так как никакая другая страна не могла вступить с ней в конкуренцию. В качестве колониальной страны Англия тоже занимала исключительное положение…»288
Надежды Маркса и Энгельса на особый путь России и на превращение монопольного промышленного лидерства Англии в её лидерство революционное и коммунистическое – не оправдались. Именно тогда родилась неутешительная даже для принципа «свободы торговли» формула национального и самодостаточного развития капитализма (то есть объективных предпосылок успешности протекционизма) и разоблачение подлинного смысла колониального британского фритредерства, хрестоматийной жертвой которого уже стала Ирландия:
«Теория свободы торговли основывалась на одном предположении: Англия должна стать единственным крупным промышленным центром сельскохозяйственного мира. Факты показали, что это предположение является чистейшим заблуждением. Условия существования современной промышленности… могут быть созданы везде, где есть топливо, в особенности уголь, а уголь есть, кроме Англии, и в других странах: во Франции, Бельгии, Германии, Америке, даже в России. И жители этих стран не видели никакого интереса в том, чтобы превратиться в голодных ирландских арендаторов только ради вящей славы и обогащения английских капиталистов. Они сами стали производить, причем не только для себя, но и для остального мира; и в результате промышленная монополия, которой Англия обладала почти целое столетие, теперь безвозвратно утеряна»289.
Энгельс также писал из Лондона Н. Ф. Даниельсону 9 ноября 1886:
«промышленная монополия Англии приходит к концу. С появлением Америки, Франции, Германии в качестве конкурентов на мировом рынке, с введением высоких таможенных пошлин, на допускающих таможенные товары на рынки других развивающихся промышленных стран, дело становится вопросом простого расчёта»290. Ему же 15 октября 1888 о том, что происходит уже «повсюду»: «даже самые вульгарные приверженцы и глашатаи свободной торговли встречают теперь высокомерное презрение…»291 Именно в контексте победившего протекционизма в конце жизни Энгельс внятно, трезво и практично резюмировал опыт России после Крымской войны и отмены крепостного права:
«Поражения во время Крымской войны ясно показали необходимость для России быстрого промышленного развития. Прежде всего нужны были железные дороги, а их широкое распространение невозможно без отечественной крупной промышленности292. Предварительным условием для возникновения последней было так называемое освобождение крестьян; вместе с ним наступила для России капиталистическая эра, но тем самым и эра быстрого разрушения общинной собственности на землю. (…) В короткое время в России были заложены все основы капиталистического способа производства. (…) если правительство не желает для уплаты процентов по заграничным долгам прибегать к новым иностранным займам, ему надо позаботиться о том, чтобы русская промышленность быстро окрепла настолько, чтобы удовлетворять весь внутренний спрос. Отсюда – требование, чтобы Россия стала независимой от заграницы, самоснабжающейся промышленной страной; отсюда – судорожные усилия правительства в несколько лет довести капиталистическое развитие России до высшей точки»293.
И ещё более определённо – именно Н. Ф. Даниельсону, чьи экстремальные надежды на превращение русской сельской общины в основу для коммунизма в индустриальном мире столь долго, как минимум, не опровергали однозначно его идейно-политические конфиденты Маркс и Энгельс, Энгельс писал с нехарактерным для него оптимизмом в отношении России 15 марта 1892 – точно против возведения всех экономических проблем России к действию политики протекционизма, с которым выступал его адресат:
«С 1861 г. в России начинается развитие современной промышленности в масштабе, достойном великого народа. Давно уже созрело убеждение, что ни одна страна в настоящее время не может занимать подобающего ей места среди цивилизованных наций, если она не обладает машинной промышленностью, использующей паровые двигатели, и сама не удовлетворяет – хотя бы в незначительной части – собственную потребность в фабричных изделиях. Исходя из этого убеждения, Россия и начала действовать, причём действовала с большой энергией. Если она оградила себя стеной покровительственных пошлин, то это вполне естественно, ибо конкуренция Англии принудила к такой политике почти все большие страны; даже Германия, где крупная промышленность развивалась при почти полной свободе торговли, присоединилась к общему хору и перешла в лагерь протекционистов только для того, чтобы ускорить тот процесс, который Бисмарк назвал “выращиванием миллионеров”. А если Германия вступила на этот путь без всякой необходимости294, можно ли порицать Россию за то, что для неё было необходимостью, раз уж определилось новое направление промышленного развития?»295.
И вновь Энгельс терпеливо, настойчиво и подробно выступал с апологией протекционизма и великого потенциала России против антипротекционистской апокалиптики Даниельсона в письме к нему от 18 июня 1892:
«Не подлежит сомнению, что нынешний внезапный рост современной “крупной промышленности” в России был вызван искусственными средствами – запретительными пошлинами, государственными субсидиями и т. п. То же самое имело место во Франции, где запретительная система существовала уже со времён Кольбера, в Испании, в Италии, а с 1878 г. даже в Германии, хотя эта страна почти уже завершила свой промышленный переворот, когда в 1878 г. были введены покровительственные пошлины, чтобы дать возможность капиталистам принудить своих отечественных потребителей платить им такие высокие цены, которые позволили бы им продавать эти же товары за границей ниже издержек производства. И Америка поступила точно так же, чтобы сократить тот период, в течение которого американские промышленники не будут ещё в состоянии на равных условиях конкурировать с Англией. Что Америка, Франция, Германия и даже Австрия смогут достичь такого положения, при котором они будут способны успешно бороться с конкуренцией Англии на открытом мировом рынке – по крайней мере в отношении некоторых важных товаров, – в этом я не сомневаюсь. И теперь уже Франция, Америка и Германия сломили в известной степени промышленную монополию Англии, и здесь (в Лондоне. – М. К.) это ощущается очень сильно. Сможет ли Россия достигнуть такого же положения? В этом я сомневаюсь, так как Россия, подобно Италии, страдает от отсутствия каменного угля в наиболее благоприятных для промышленности местностях (…) Но тут перед нами возникает другой вопрос: могла бы Россия в 1890 г. существовать и удерживать независимое положение в мире как чисто сельскохозяйственная страна, живущая за счёт экспорта своего зерна и покупающая за него заграничные промышленные изделия? Я думаю, что мы с уверенностью можем ответить – нет. Стомиллионный народ, играющий важную роль в мировой истории, не мог бы при современном состоянии экономики и промышленности продолжать оставаться в том состоянии, в каком Россия находилась вплоть до Крымской войны. Введение паровых двигателей и машинного оборудования, попытки изготовлять текстильные и металлические изделия, хотя бы только для отечественного потребления, при помощи современных средств производства, должны были иметь место раньше или позже, но во всяком случае в какой-то момент между 1856 и 1880 годами. Если бы этого не произошло, ваша домашняя патриархальная промышленность всё равно была бы разрушена конкуренцией английского машинного производства, и в результате получилась бы Индия – страна, экономически подчинённая великой центральной мастерской – Англии. (…) Английские писатели, находящиеся на предвзятой позиции, никак не возьмут в толк, почему подаваемый Англией пример свободы торговли повсюду отвергается и вызывает в ответ установление покровительственных пошлин. Конечно, они просто не осмеливаются понять, что эта, ныне почти всеобщая, протекционистская система является более или менее разумным, хотя в некоторых случаях и совершенно нелепым средством самозащиты против той самой английской свободы торговли, которая подняла английскую промышленную монополию до её апогея. (…) Я рассматриваю всеобщее возвращение к протекционизму не как простую случайность, а как реакцию против невыносимой промышленной монополии Англии»296.
Надо отдельно подчеркнуть это положение Энгельса о (подразумевается: законной) реакции против индустриальной монополии Англии, которую так долго обслуживали формально всеобщий, универсальный, прогрессивный лозунг и политика «свободы торговли». В тех конкретно-исторических условиях, когда Энгельс, наконец, почти признал законность этой реакции, главными реальными противниками «невыносимой монополии» Англии были именно быстро восходящие экономики Германии и США. Даже русский консервативный критик государственного протекционизма и валютной политики министра финансов России Витте С. Ф. Шарапов (1855–1911) оптимистично изображал победу антибританского промышленного протекционизма как событие якобы самоочевидное и нетрудное, верно находя новую угрозу для стран победившего – по доктрине Ф. Листа – протекционизма в новом глобальном проекте империи, а именно – в монополизированном Лондоном рынке всемирного финансового капитала, что было немым признанием того, что протекционизм успешно справился с задачей накопления капитала:
«Если европейское человечество без особого труда справилось с промышленной гегемонией Англии, если Германия, Австрия, Италия и даже Россия (про Францию и Соединённые Штаты нечего и говорить) освободились от мануфактурного и денежного верховенства Англии, создали свою промышленность и завоевали самостоятельные внешние рынки, то та же Европа попала в полном составе в кабалу ещё горшую, допустив развиться международной биржевой спекуляции…»297
Позитивный географический образ собственного индустриального развития России революционеры и контрреволюционеры равно видели в Америке (столь же обширной, населённой и полной ресурсами, как Россия). Следуя за русскими последователями Маркса (по крайней мере, в области его экономической теории) Струве и В. П. Воронцовым (В. В., 1847–1918), другой русский марксист 1890-х С. Н. Булгаков (1871–1944) прямо применял образ Америки к «обширному и блестящему будущему» русского капитализма:
«производство может здесь безгранично расширяться на основе внутреннего рынка» и потому перспективой России для него была «самодовлеющая капиталистическая страна типа Соединённых Штатов»298.
В унисон с марксистской доктриной достаточного внутреннего рынка проводя протекционистскую политику обеспечения индустриализации, развивал аналогии между континентальными масштабами России и Северной Америки и Витте299: «Раскинутая на обширном пространстве, на сплошной территории, обеспеченная всем необходимым для достижения высшей степени экономического развития, Россия сама представляет единственный по величине рынок сбыта и её международные торговые сношения являются для неё не вопросом существования, а лишь способом естественного и потому мирного обмена излишков. В колониальной политике Россия не нуждается»300. Поклонник Менделеева, консервативный публицист М. О. Меньшиков (1859–1918) писал: «Будущая Россия – Сибирь, которую недаром все ставят в параллель с Америкой»301. Другой консервативный идеолог С. Н. Сыромятников (Сигма, 1864–1933) писал в 1903 году: «Восток не только наша колония, он зародыш новой России, по типу более близкий к Америке, чем к Европе и Азии»302. Исследователь свидетельствует, что «к 1890-м гг. в народнической прессе аналогии Сибири и Америки стали достаточно расхожим явлением, публицистическим штампом»303.
Альтернативой такому мифу процветающей России как Америки и была угроза превращения отсталой и зависимой России в аналог британских Ирландии и Индии – и её де-факто колониальная эксплуатация. Маркс и Энгельс уделили значительное внимание тому, что из себя представляет этот последний сценарий, который, несмотря на сохранённый Россией статус великой державы, делал его экономически наиболее обоснованным. Можно с достаточной уверенностью полагать, что присоединение Российской империи к пространству «свободной торговли» во главе с Британией лишь укрепляло эту перспективу, превращая Россию более всего в рынок сбыта для иностранной промышленности и встречного поставщика первичных ресурсов. Такая перспектива была описана Марксом более на примере британской Индии, чем даже на примере Ирландии (он всё же риторически более отводился Польше – как анти-России304). Причём из описания ясно вырисовывалась ресурсная неизбежность протекционистской борьбы России против превращения её в колонию, строительства в ней капитализма сверху или, наоборот, опустошающее превращение России в континентальную колонию при следовании её в фарватере британской «свободы торговли»:
«раз вы ввели машину в качестве средства передвижения в страну, обладающую железом и углем, вы не сможете помешать этой стране самой производить такие машины. Вы не можете сохранять сеть железных дорог в огромной стране, не организуя в ней тех производственных процессов, которые необходимы для удовлетворения непосредственных и текущих потребностей железнодорожного транспорта, а это повлечёт за собой применение машин и в тех отраслях промышленности, которые непосредственно не связаны с железными дорогами. Железные дороги станут поэтому в Индии действительным предвестником современной промышленности. (…) Опустошительное действие английской промышленности на Индию – страну, которая по своим размерам не меньше Европы и имеет территорию в 150 миллионов акров, – совершенно очевидно, и оно ужасно»305.
Аналогия с Америкой была важна марксистам для утверждения достаточной ёмкости внутреннего рынка России для развития в ней капитализма, спор о котором в 1890-е гг. породил главные русские марксистские экономические труды того времени, посвящённые развитию капитализма как индустрии: «О рынках при капиталистическом производстве» (1897) и «Капитализм и земледелие» (1900) С. Н. Булгакова, «Русская фабрика в прошлом и настоящем» (1898) М. И. Туган-Барановского, «Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка для крупной промышленности» (1899) В. Ильина (В. И. Ульянова-Ленина) (в журнальной полемике к ним присоединился и П. Струве306). В той полемике народники, опираясь на Маркса, указывали на бедность крестьянского большинства в населении России и, следовательно, абсолютное сокращение ёмкости внутреннего рынка при индустриализации и сокращение перспектив капитализма. В условиях невозможности для России самой приобрести себе колонии, подобные британским, под вопросом оказывалось само развитие капиталистической промышленности в России. Как мы увидим далее, в полемике о «социалистическом первоначальном накоплении» в СССР, которая отлилась в формулировки «Краткого курса истории ВКП (б)», ясно продолжилась эта полемика о внутреннем рынке и её положения об отсутствии у России колоний (британского образца).
В главном же – именно русский марксизм 1890-х соединил исследование экономической реальности России с доктриной марксизма и поставил перед будущими правящими в ней социалистами почти все главные задачи её экономического и технологического развития, дал язык их описания и вооружил идейными знаками, задал систему координат государственного управления, внутри которой могли свободно развиваться любые политические лозунги.
В 1894 году в своей первой книге, ставшей первым легальным манифестом политического марксизма в России, Струве, опираясь на доктрину Листа, фактически связал идею «изолированного государства» с проблемой максимального, то есть суверенного использования внутренних ресурсов и народного (национального) хозяйства страны. При этом важно, что такую рационализацию он видел именно в категориях товарного обмена (и разделения труда, отделения промышленности от земледелия) и прямо противопоставил её именно натуральному, архаическому, интегральному (то есть общинному) хозяйству. Он писал:
«…“историческая роль” обмена и товарного производства (капитализма) в рамках народного хозяйства – в преодолении ограничений и зависимости народонаселения и внутреннего рынка от естественных, натуральных средств (при натуральном хозяйстве. – М. К.) к существованию за счёт повышения производительности труда – и, далее, увеличения ёмкости внутреннего рынка:… Роль эта обусловливается тем, что ёмкость страны по отношению к населению зависит от уровня его её производительных сил, которые по историческим условиям могут развиваться только при стимулах, представляемых обменом. Эта зависимость с полной ясностью, насколько нам известно, была впервые указана Фридрихом Листом в его “Национальной системе политической экономии” (…) Самое это “отделение” создаёт ту “конфедерацию национальных производительных сил”, о которой говорил Лист и которая есть основа дальнейшего экономического и социального прогресса (…) гармонического развития сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности (…) где оно всего теснее связано со всесторонней фабричной промышленностью… могущей опираться на внутреннее сельскохозяйственное производство. (…) Не надо забывать, что взгляды Листа сложились в целую систему под влиянием факторов американской жизни, где расцветающее капиталистическое производство было, в особенности в ту пору, свободно от многих печальных сторон, столь характерных для капитализма в Англии и на континенте Европы. Не случайна, конечно, и та роль пропагандиста железных дорог, которую играл Лист в своём отечестве… Я не знаю книги, которая бы более убедительно, чем “Национальная система”, говорила об исторической неизбежности и законности капитализма в широком смысле слова (как товарного производства. – М. К.)… Не надо забывать также, что Лист всюду в своих рассуждениях исходил из понятия о нации и национальном хозяйстве; в основе всех его построений лежит тот исторический факт, что население земного шара не представляет в политическом отношении целого, а распадается на ряд государств. Вся новая и новейшая экономическая история красноречиво говорит о связи современного хозяйственного строя с современным государством»307.
Важно, что целостное народное хозяйство и суверенный капитализм тогдашний социалист Струве внятно противопоставил либеральной доктрине XIX века, следовавшей риторике «свободы торговли» и риторике невмешательства в хозяйственную жизнь, образно изображаемого фигурой «ночного сторожа» (Nachtwächter, охраняющего самозаконный бизнес от ночных хулиганов, по словам Струве, – «будочника»). И просто отверг эту доктрину с высоты новых знаний и практики. Струве подчёркивал: «Эта Nachtwächteridee – оказалась несостоятельной и в теоретическом, и в практическом отношении»308. Позже он ещё внятней определил этот воспринятый на Западе и реализованный в России экономический либерализм, противостоявший протекционизму: «господство либерально-фритредерских фраз и народнических широковещаний»309.
Социалистический взгляд на историю диктовал Струве необходимость соединить доктрину Листа о (формально противостоящем либеральному, если считать его исключительно фритредерским и глобальным) протекционистском пути развития национального капитализма – коммунистической перспективой Маркса (которая так же формально противостояла протекционизму, будучи столь же глобальной, наследующей капиталистическому интернационализму Британской империи). Точкой соединения Листа и Маркса Струве видит социализм и его революционную перспективу, в уважение цензурных условий называемый автором «социальной эволюцией» того капитализма, успешное развитие которого обеспечивалось следованием России заветам Листа для Германии:
«Тот же самый процесс, который интересовал Листа с точки зрения развития “национальной промышленности”, перед Марксом являлся как процесс социальной эволюции, как развитие капитализма. Оба автора, именно благодаря различию их точек зрения, прекрасно дополняют друг друга. (…) [Капиталистическая] формула экономической эволюции, данная Листом, есть формула экономического развития России. (…) Культурный прогресс России тесно связан с развитием… капитализма. (…) Капитализм… как эксплуатация человека человеком… не только зло, но и могущественный фактор культурного прогресса… коллективного действия трудящихся масс [по] эволюции капиталистического строя»310.
Струве удачно выявил идейный и административный стержень практического применения доктрины Листа в России. Цитируя упомянутый труд Менделеева «Толковый тариф» и воодушевлённо говоря о виттевском проекте строительства Транссибирской железной дороги, Струве уверенно описывал и, учитывая особую популярность его книги не только в марксистской, но и в русской революционной в целом, властной и университетской среде 1890-х гг., марксистски дополнительно легитимировал протекционистски обоснованные (в целях опоры на собственные ресурсы) перспективы пространственно-экономической стратегии развития России, которые в первой трети ХХ века стали предметом политического консенсуса, и даже предвосхищал свои собственные империалистические проекты311:
«Менделеев предсказывает Донецкому краю блестящую будущность, и нам это предсказание представляется верным. А будущая Донецкая промышленность может явиться, благодаря своим необыкновенным выгодным географическим условиям, – сильным конкурентом западно-европейской индустрии на рынках Балканского полуострова и Передней Азии. (…) Не надо забывать, что с постройкой Сибирской или – надо надеяться – сети сибирских железных дорог значение Азиатской России, как рынка для произведений нашей обрабатывающей промышленности, возрастёт во много раз. (…) Если пример Северной Америки что-нибудь доказывает, то только одно, а именно, что, при известных условиях, капиталистическая промышленность может получить очень широкое развитие, опираясь почти исключительно на внутренний рынок. Эти предпосылки в России налицо… Сравнение Северной Америки и России прекрасно иллюстрирует мысль Листа об экономическом превосходстве Agriculturmanufacturstand’a над Agriculturstand’ом. (…) Чем обширнее территория и многочисленнее население данной страны, тем менее нуждается последняя для своего капиталистического развития во внешних рынках»312.
Здесь следует сделать уточнение и провести ограничение. Практическая близость немецкого протекционизма и марксизма была близостью не столько Листа, Маркса и Энгельса как искренних немецких патриотов, сколько близостью именно русского марксизма 1890-х гг. как доктрины капиталистической модернизации России ради её социалистического преобразования и, несомненно, была продиктована самой проблемой осознанной отсталости России от Запада и философией её преодоления до и независимо от мировой революции313.
Это зримо следует из богатого коннотациями важного разъяснения лидера германской социал-демократии Августа Бебеля (1840–1913). Аргументируя общемировое измерение социально-экономического и политического прогресса против политики преодоления отсталости с помощью протекционизма в своей книге «Женщина и социализм», давшей, по общему признанию, наиболее детализированное изображение коммунистического будущего, Бебель писал:
«Достойное человека существование для всех не может быть уделом какого-нибудь одного привилегированного народа, так как, будучи изолирован от всех других народов, он не мог бы ни основать, ни удержать этого состояния».
И далее – прямо актуализировал давнюю традицию экономической мысли, обнаруживая стадии мирового прогресса: «Новое общество будет воздвигнуто… на международной основе. Народы заключают между собою братский союз: они протянут друг к другу руки и будут стремиться к тому, чтобы новое состояние постепенно распространилось на все народы мира». И добавил к этому «прогнозу» примечание: «Национальный интерес и интерес человечества в настоящее время враждебны друг другу. На высшей ступени цивилизации оба интереса когда-нибудь совпадут и составят единое целое» – фон Тюнен “Изолированное государство”…»314, то есть избрав таким образом в апологеты национально-государственных интересов теоретика предельного протекционизма, который, видимо, заслуживал такого же признания, как и Ф. Лист, но публично был едва замечен Марксом.
Русский либеральный критик Маркса нашёл объяснение этому умолчанию, в том числе, в том, что Тюнен наибольшее внимание уделил сельскому хозяйству, которое занимало Маркса заметно меньше315.
Но более оправданным оказалось внимание к продолжателю Фихте – И. Г. фон Тюнену (1783–1850) у русских неонародников и большевиков в 1920-е гг., когда на примере Советской России и решалась судьба изолированного земледельческого государства перед лицом индустриализации (об этом подробно ниже).
В ранней истории Советской России, когда основой её идеологического самоопределения ещё оставалась радикальная марксистская доктрина мировой революции, названный труд А. Бебеля (с его отсылками) был широко переиздан. Однако в официальную пропаганду Советской России вошли и иные образы будущего – они в некотором условном идейном балансе уравновешивали (должны были уравновесить) позицию Бебеля. И нет сомнений, что этот баланс был результатом сознательных идеологических усилий большевистской власти. Историк мировой социалистической традиции отмечает влияние в СССР идей немецкого автора Атлантикуса (Карла Баллода), который в своей книге 1898 года «Государство будущего» (переиздана в Советской России в 1921 г.) исследовал потенциал «социализма в одной стране» и был фактически одобрен – уже не политическим, как А. Бебель, – а теоретическим вождём германской социал-демократии конца 1890–1900-х гг. Карлом Каутским (1854–1938). «Совершенно нет необходимости, чтобы весь земной шар одновременно перешёл к социализму», – писал он. «Баллод пытался выяснить, каково максимально рациональное использование имеющихся производительных сил и ресурсов», и видел его в централизованном «крупном производстве, организованном как единый организм народного хозяйства», электрификации, территориальных производственных комплексах – и поэтому влияние этой кни- ги «заметно в советском планировании» 1920–1930-х гг.316
С другой стороны, социалистический проект «изолированного государства» как социальной утопии подвергал критике такой русский либеральный мыслитель, как П. И. Новгородцев (1866–1924), дидактически упрощая этот интернациональный проект до образа предельной самозамкнутости и, значит, игнорируя глобальные претензии Маркса и предчувствуя тот русский социализм, что вырастал из предпосылок протекционистской индустриализации и мобилизации России. «Роковой недостаток» социальных утопий Новгородцев находил в их «замкнутости, исключительности жизни»:
«чтобы устроиться хорошо и счастливо, надо отделиться от этих других и замкнуться в себе, надо создавать свою особую и самобытную жизнь (…) совершенно последовательно авторы подобных проектов проповедуют полное обособление от прочего мира… Подобно Платону и Фихте, они создают проекты уединённых колоний и замкнутых государств, разобщённых с прочим миром и пытающихся именно на почве этой замкнутости и разобщённости создать свой счастливый быт. (…) В каких бы ярких красках ни рисовали нам прекрасную гармонию идеального общества, мы твёрдо знаем одно: в своём осуществлении гармония эта неизбежно превратится в принудительную задержку личного развития, в вынужденный режим внешнего согласия»317.
Публицистика, легко проводящая словесную связь между православной доктриной самодержавного «Третьего Рима» и практикой большевистского «Третьего Интернационала» (иногда даже с «Третьим Заветом» и странно, что не с германским «Третьим Рейхом» или французской «Третьей республикой»), иной раз прямо связывает и немецкую идеологию протекционизма (в современном английском лексиконе часто называемом экономическим национализмом) Листа и интернационалистским ленинизмом318, отводившим России роль не столько звена в цепи, сколько фрагмента (запала, интерлюдии) мировой революции. Благодаря этому терминологическому фокусу319, недобросовестно подменяя западную гражданскую «национализацию» – русским этническим национализмом, в западной пропаганде риторически соединяется самодержавие и коммунизм как две стороны единого вечного врага либерального Запада – антизападной России. Поэтому и игнорируется настоящий немецкий семантический ландшафт, на котором развивалась идеология индустриализации России, и, несмотря на прямые сближения, остаётся недооценённым.
Можно сказать, что сама проблема достаточности национального рынка (масштаба национальной экономики) для развития суверенной промышленности (капитализма) генетически восходила к доктрине протекционизма Ф. Листа. Именно поэтому обязательное знание наследия Ф. Листа, хотя бы опосредованного Марксом и Энгельсом, стало частью марксистской школы в России уже в 1890-е, когда русский марксизм ещё только завоёвывал себе место среди лидеров русской социальной науки. Яркий представитель младшего поколения русских марксистов и социал-демократов, петербургский ученик Туган-Барановского и киевский ученик Булгакова, а тогда – решительный поклонник радикального революционаризма В. И. Ленина – Н. Валентинов (Вольский, 1879–1964) вспоминал о беседе 1903 года, в которой были внятно произнесены актуальные требования к интеллектуальному багажу вообще и багажу марксиста особенно:
«Я не буду, – говорил Туган-Барановский, – касаться Ленина как политика и организатора партии. Возможно, что здесь он весьма на своём месте, но экономист, теоретик, исследователь – он ничтожный. Он вызубрил Маркса и хорошо знает только земские переписи. Больше ничего. Он прочитал Сисмонди и об этом писал, но, уверяю вас, он не читал как следует ни Прудона, ни Сен-Симона, ни Фурье, ни французских утопистов. История развития экономической науки ему почти неизвестна. Он не знает ни Кенэ, ни даже Листа»320.
Даже советская литература имела очерк истории русского идейного протекционизма, одновременного интуициям Фихте и Листа321. С ним выступил петербургский социал-демократ начала 1890-х, экономист В. В. Святловский (1869–1927), обнаружив, вслед за Туган-Барановским, что в России Листа на четверть века опередил Н. С. Мордвинов (1754–1845), многолетний президент Вольно-Экономического Общества:
«Он понимал, что Россия не в силах была идти по стопам Англии и, не будучи в состоянии бороться с её конкуренцией, должна была стать на противоположную точку зрения, как то сделали впоследствии и другие континентальные страны во главе с Германиею. Протекционистские воззрения должны были коренным образом расходиться с господствующими фритредерскими взглядами того времени. (…) В своей записке, поданной им в середине 1816 г. “Мнение о способах, коими России удобнее можно привязать к себе постоянство кавказских народов”, Мордвинов развивает целый план создания для русской промышленности внешнего азиатского рынка…»322
Как удачно резюмирует взгляды идейного англомана Мордвинова современный исследователь, «именно пример Англии, которая сама на протяжении двухсот лет проводила протекционистскую политику, показывает, насколько долгим может быть обучение процессу производства. Идея тотальной свободной торговли представляет собой утопию, поскольку в этом случае не учитываются национальные особенности народов». То есть обычно приписываемую Ф. Листу идею об обучении нации производству до него впервые и как раз в России высказал Мордвинов323.
Ещё более крупной фигурой традиционного русского имперского протекционизма, обеспечившей его строгое практическое применение (хоть и преимущественно в фискальных целях), был признан министр финансов империи в 1823–1844 годах Е. Ф. Канкрин (1774–1845), в научном наследии которого историк, наряду со служебными записками о районировании России и проблемах Сибири (что логично для детализации доктрины протекционизма к практике народного хозяйства), выделяет написанные им по-немецки ещё в начале 1820-х труды о военной экономике, соотношении мирового и национального хозяйства324. Старый русский исследователь К. Н. Ладыженский (1858–1915) отметил (столь же присущее Ф. Листу) убеждение Канкрина в том, что
«всякая нация представляет особое, самостоятельное целое, должна стремиться к достижению известной независимости от других народов как
в политическом, так и в экономическом смысле. (…) если стать на национальную точку зрения, то представляется ещё весьма сомнительным, всегда ли для народа выгоднее покупать дешёвые иностранные изделия, нежели самому вырабатывать их с большими издержками: не надо забывать, говорит он, что выгодность такого положения покупается ценой потери экономической независимости от других народов, которая составляет органическое условие существования народности»325.
В другом, раннем исследовании, даже в самом кратком резюме вклада русского марксизма 1890-х в историю экономических идей, В. В. Святловский по умолчанию воспроизводил именно дискуссионную дихотомию якобы «естественного» либерального капитализма британского образца – и административного капитализма «сверху» германского образца. Подводя ещё самые предварительные итоги развития русского марксизма как политического течения, изнутри дискуссии «ортодоксов» и «критиков (идеалистов)», он специально акцентирует внимание на (увы, оставшемся тогда без развития) исторически глубоко фундированном заявлении Струве 1898 года, которое подаётся как предмет марксистского консенсуса и который одновременно можно счесть абсолютной формулой не только истории капитализма, но и индустриального протекционизма вообще:
«Нигде вы не встретите пресловутого “естественного” или самопроизвольного развития капитализма везде он был “искусственным”. Да иначе и быть не может. Современное государство и капитализм – это исторические близнецы»326.
Русский неонароднический историк мысли так описал идейный переход, в котором растущий отказ России от миметического экономического либерализма совпал с растущим идейным влиянием Германии и германского образца, который теперь включал в себя политический марксизм: «идеологами русской буржуазии начала шестидесятых годов были эпигоны западничества, российские фритредеры; но мы видели тогда же, что вместе с ростом буржуазии неизбежен был её переход от фритредерства к крайнему протекционизму. Процесс этого перехода совершался в семидесятых и восьмидесятых годах, а к началу девяностых протекционизм был уже боевым кличем всей буржуазии (типичным идеологом которой в этом случае был, например, Менделеев). Русские марксисты, не будучи идеологами буржуазии, тоже стояли за протекционизм…»327.
С этих пор пример объединённой Германии начинает конкурировать в России с британским образцом, становясь стандартом практической экономики и политической самоорганизации, отличным от британского – прежде всего, чисто идеологического парламентаризма и экономического либерализма, поскольку на деле последний требовал от поклонников Англии не только идеологического копирования, но реального включения их народного хозяйства в сферу британского доминирования. Об этом вызове сразу для России и для Германии ярко написал американский экономист русского происхождения, в первой своей эмиграции прошедший трудную школу австрийского марксизма и австрийской социал-демократии, Александр Гершенкрон (1904–1978), который получил мировое признание, в том числе, и благодаря своему исследованию конкурентных преимуществ отсталости, появившемуся очень вовремя – с началом «холодной войны», когда слова не только об отсталости СССР, но и об её технологической выгоде звучали явно против пропагандистского консенсуса Запада. В этом смелом знании говорил опыт не только социалиста, но и участника восстания австрийских рабочих в феврале 1934 года328. А. Гершенкрон писал в 1952 году:
«Признаём мы это или нет, но на наши рассуждения по поводу индустриализации экономически отсталых стран огромный отпечаток накладывает важное обобщение, сделанное Марксом, согласно которому история экономически развитых стран указывает пути развития более отсталым странам: “Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего”… Вполне можно было бы утверждать, что в период между серединой и концом XIX века Германия следовала по тому же пути развития, что и Англия на более раннем этапе. Однако я бы поостерёгся безоговорочно полагаться на справедливость этого вывода, поскольку он верен лишь наполовину. За скобками остаётся вторая важная сторона вопроса: во многих отношениях отсталая страна именно в силу своей отсталости может демонстрировать существенные различия по сравнению с развитой страной… Эти различия касались не только скорости развития (то есть темпов промышленного роста), но также производственной и организационной структуры промышленности, возникавшей благодаря индустриализации. Более того, различия в темпах роста и характере промышленного развития в значительной степени были обусловлены использованием тех или иных институциональных инструментов, которые сильно различались или вообще не имели параллелей в промышленно развитых странах. Помимо этого, в развитых и в отсталых странах различным был интеллектуальный климат (то есть “дух” и “идеология”), на фоне которого происходил процесс индустриализации»329.
Именно идеология немецкого протекционизма Фридриха Листа, реализованная объединённой Германией Отто фон Бисмарка (1815–1898), своим примером и пафосом породила индустриализацию эпохи императора Александра III, которую в наибольшей степени идеологически связывают с экономической политикой С. Ю. Витте. В этой идейной формуле, лежащей на поверхности интеллектуальных интересов Витте и его союзника Менделеева, можно искать особые смыслы – и они найдены330. Одним словом, именно германский протекционизм Ф. Листа стал образцом индустриального успеха России331. Популярный и энергичный очерк француза русского происхождения уверенно проводит прямую связь между образцом и успехом, реконструируя, на какой исторической сцене пришлось действовать России во второй половине XIX века, одновременно с объединением Германии:
«в самом сердце Европы появляется другой титан. Бедный ещё в 1870 году, немецкий колосс четверть века спустя лишь немногим уступает французскому уровню жизни. Причина этого успеха – в политике протекционизма, основанного на ярой англофобии. Фридрих Лист выразил это в своей “Отечественной332 системе политической экономии”: “мы ненавидим всей душой коммерческую тиранию в Джона Буля [Британии – М. К.], норовящую всем завладеть в одиночку, не позволяющую ни одному народу подняться на более высокий уровень и показать свои преимущества”. Под прикрытием таможенных бастионов Германия развивала свои сильные стороны (…) Следует ли приступать к созданию железнодорожных сетей? Инженеры относят к этому скептически, учёные – сдержанно, а банкиры – с тревогой. Между тем, в 1842–1843 годах ситуация в мире резко меняется, главным образом под влиянием экономистов. Подобно Фридриху Листу в Германии, они прежде других поняли, что железная дорога играет ведущую роль в процессе индустриализации (…) Технологическая цепочка уголь – металл – машина воплощается в жизнь»333.
Глубокий французский исследователь основ европейского модерна (современности) как раннего капитализма, практически и идеологически тесно связанного с полицейским государством и биополитикой, Мишель Фуко (1926–1984) убедительно выразил реализацию либерального (особенно британского) капитализма конца XVIII–XIX вв. как системы не столько свободы, сколько принципиального и крайнего неравенства, доминирования и взаимной вражды. Они и стали тем историческим ландшафтом, на котором разворачивались конкурирующие образы / образцы развития для России. Это был выбор без выбора, наука для уже избранных и бремя для всех остальных. М. Фуко пишет:
«В эту эпоху открывается мировой и планетарный рынок, а по отношению к этому мировому рынку утверждается привилегированное положение Европы, хотя в эту эпоху в равной мере утверждается идея о том, что конкуренция между европейскими государствами есть фактор всеобщего благосостояния… в XIX в. мы вступаем в тяжелейшую эпоху войн, таможенных тарифов, экономического протекционизма, национальных экономик, политического национализма, [самых] великих войн, которые только знал мир. (…) Чтобы спасти свободу торговли, к примеру, американские правительства, сами воспользовавшиеся этой проблемой, чтобы восстать против Англии, с начала XIX в. установят защитные таможенные тарифы, спасая свободу торговли, которую могла скомпрометировать английская гегемония»334.
Непосредственно для России здесь антилиберальным образцом была Германия:
«Во-первых, практически сформулированный к 1840 г. Листом принцип, согласно которому национальная политика и либеральная экономика несовместимы, по крайней мере, в Германии. Поражение Zollverein [Германского Таможенного союза 1819–1866 гг.] в попытке создать немецкое государство, исходя из экономического либерализма, было тому своего рода доказательством. И Лист, и последователи Листа отстаивали принцип, согласно которому либеральная экономика, не будучи общей формулой, универсально применимой ко всякой экономической политике, никогда не могла быть и действительно не была ничем иным, как тактическим инструментом или стратегией в руках некоторых стран для обретения позиции экономической гегемонии и империалистической политики в отношении остального мира. Говоря просто и ясно, либерализм не есть общая форма, которую должна принимать всякая экономическая политика. Либерализм – это всего лишь английская политика, политика английского доминирования. В силу этого Германия со своей историей, со своим географическим положением, со всеми её сложностями, не может позволить себе либеральную экономическую политику. Ей нужна протекционистская экономическая политика. Вторым одновременно теоретическим и политическим препятствием, с которым столкнулся немецкий либерализм в конце XIX в., был бисмарковский государственный социализм: чтобы немецкая нация существовала в единстве, нужно, чтобы она не просто была защищена извне протекционистской политикой, нужно ещё подавить, пресечь всё то, что может скомпрометировать национальное единство изнутри, то есть чтобы пролетариат как угроза национальному и государственному единству эффективно реинтегрировался в социальный и политический консенсус»335.
Логично, что в точности эти же положения развивали в России Витте и Менделеев336. Вдохновлённые теорией Фридриха Листа, ставшей в Германии теорией «катедер-социалистов», монопольно занявших кафедры местных университетов337, идеология и практика Витте стали политикой интенсивной индустриализации, чему нимало не помешали его консервативно-славянофильские среда и родственные связи338. Уже в социал-либеральной своей жизни экс-марксист Струве, рискуя хвалами в адрес самодержавной бюрократии, утверждал политический смысл промышленного прогресса России, какой бы ценой он ни был достигнут: «В политике Витте… в период 1892–1902 гг. …объективно заключался глубоко революционный элемент: его промышленная политика подготовляла элементы новой России»339.
Первый русский экономист, познакомивший русского читателя, в частности, с учением Карла Маркса, с 1885 года – товарищ управляющего, в 1889–1894 – управляющий Государственным банком Российской империи Ю. Г. Жуковский (1833–1907), подводя неформальный итог рецепции учения Листа в России, пытался уравновесить его практическую популярность – идеологическими перспективами, его именно «национальную систему» – образом интернационального прогресса, не акцентируя внимания на том, что именно применение учения Листа в Европе стало одним из факторов развития прогрессивной экономической конкуренции, а интернациональные принципы более всего служили национальным интересам экономически лидирующей Британской империи, и что крымское поражение в войне было бы слишком легко превратить в экономическую капитуляцию. Следуя этому умолчанию, которое впоследствии не могло не войти в конфликт с политикой Витте, Ю. Г. Жуковский всё же писал, видя разрыв между колониальной угрозой и ценностями прогресса:
«Протекционизм всегда находил своих защитников не только между классами, лично в нём заинтересованными, но и между людьми, которые по личному своему положению могли относиться к вопросу совершенно беспристрастно. Поддержка местного производства была главным его основанием. Защита местных производителей от разорения – вот тот главный аргумент, в силу которого протекционизм постоянно поддерживался политикой отдельных стран. Если свобода торговли может быть безусловно выгодна в интересах общечеловеческих, то в смысле национальной политики отдельных стран она могла быть связана с потерями, которые всегда обрушаются на страну менее развитую, и дело может кончиться для такой страны совершенной эксплуатацией и низведением на степень колонии страною более развитой.
Положение это остаётся совершенно верным, но только с известными ограничениями и при известных условиях. Непосредственные материальные выгоды, извлекаемые страной менее развитой из сношения с страной более развитой, могут быть ниже непосредственных торговых барышей, получаемых страною более развитой; но выгод, получаемых первой страной из такого сношения, мы не можем измерять исключительно одними коммерческими барышами, а должны принять в расчёт всё, что может извлечь такая страна из подобного сношения в смысле её цивилизации. Если последняя представляет известную ценность, то она не может доставаться ей даром, как всякая ценность, и она должна более или менее дорого заплатить за такое приобретение, и естественно платить тем дороже, чем она сама менее развита»340
При наличии независимых народных хозяйств и «изолированных государств» – генетическую запрограммированность
«чистого» экономического развития не только в сторону либертарианской мировой диктатуры, но и в сторону конкуренции экономических суверенитетов хорошо видели не только левые критики либерализма, но и такой консервативный антикоммунистический ритор, как И. А. Ильин: «хозяйственный интерес принимает форму государственного размежевания, и, вследствие этого, взаимная конкуренция государств приобретает остро выраженный экономический характер»341. Следуя за историей либеральных идеологий, впрочем, не следует забывать и о противостоявшей им экономической реальности, которая на поверку оказывалась гораздо более инертной и мало восприимчивой к идеологической моде, чем это следовало из растиражированных образов косности, отступающей перед прогрессом. Историки экономики убедительно показали, что ещё до ренессанса протекционизма, при доминировании «свободы торговли» реальная экономическая открытость (совокупная доля экспорта и импорта в ВВП, %) в Западной Европе с 1850 по 1870 гг. едва достигла 28 %, а в период максимальной свободы торговли в 1870–1880 гг. не превысила 35 %, достигнув лишь трети, а с 1880 до 1902 гг. находилась в стагнации342.
Это значит, что даже на пике эпохи свободной торговли и идеологии, ведшей от имени Британской империи борьбу за мировое господство, в самой ойкумене либерального прогресса доминировал практический протекционизм. Важно и то, что западное понимание «иного», по сути колониального статуса России среди «европейских цивилизаций», подобного статусу Латинской Америки как объекта экспансии, было настолько консенсуально, что – вне риторики вежливости и толерантности – присутствует даже в лапидарных описаниях мира, как, например, в подготовленном, по собственному признанию автора, для 18-летних кратком очерке мировой истории «Грамматика цивилизаций» классика французской историографии ХХ века Фернана Броделя (1903–1985). Он прямо определил России место и имя «Другой Европы»343. Однако формула индустриализации «европейских цивилизаций» вне Англии оказалась, по оценке того же Броделя, единой: если в Англии она стартовала с хлопчатобумажной промышленности, то во Франции, Германии, Канаде, США и России – со строительства железных дорог344. Примечательно, что в связи с этим строительством и вокруг него уже к концу XIX века, например, во Франции Бродель находит своеобразный государственный социализм и так характеризует её экономическое лицо: «Система управления промышленностью опиралась на государственный дирижизм в хозяйственной жизни. Цель промышленной политики состояла в управлении развитием ключевых производственных и инфраструктурных секторов, поскольку считалось, что только государство в силах защитить прогресс от действий предпринимателей, эгоистично преследующих собственные интересы, и иррациональных рыночных сил»345.
Так практический протекционизм в Европе естественным образом соединялся с экономическим социализмом. После отставки Витте с государственных постов теперь либеральный (но пребывавший в идейном одиночестве среди русских либералов – фритредеров и англоманов) экономист и политик П. Б. Струве в курсе лекций в одном из созданных Витте учебных заведений уже как непременный факт констатировал убедительную победу протекционизма независимо от форм, которые он принимает: «протекционизм побеждает совершенно неизбежно как более производительная система национальных экономических сил (…) Интересы самого производства создали английскую свободу торговли. Английское фритредерство не есть выражение интересов английского потребителя, а есть выражение окончательной зрелости, окончательного подъёма английского производства, которое не только уже не нуждается в подпорках протекционизма, а, наоборот, в интересах удовлетворения своей безграничной активности сбрасывает с себя путы всякой охраны»346.
Перед Первой мировой войной конкурентная «правота «национальной экономики» Ф. Листа подтвердилась, прежде всего, тем, что США и Германия, которые придерживались политики протекционизма, экономически опередили фритредерскую британию. Однако промышленный рывок Германского рейха был тесно связан с имперским милитаризмом, выигрывавшим от раскручивания винта охранительных таможенных пошлин и казённых заказов и подтолкнувшим в конце концов мир к мировой войне. Эпоха после неё стала временем дезинтеграции мировой экономики и торжества протекционизма, национализма и милитаризма. Как писал в конце Первой мировой войны правящий большевик-идеолог, новой реальностью стал «экономический национализм», например, Франции против Германии в ходе подготовки к войне, когда германские товары начали вытеснять французские с французского рынка, – «исходя из той правильной мысли, что военная мощь и политическое влияние страны прямо пропорциональны экономическому развитию ея»347.
В пору Великой депрессии 1929–1933 годов принципами свободы торговли поступилась даже Британия, «благодаря чему её экономическое развитие в 1930-х годах оказалось более успешным, чем в 1920-х. Но после Второй мировой войны вышедшие из неё явно сильнейшими США задали тон возрождению фритредерства… Говорить о протекционизме стало считаться дурным тоном…»348 Новой абсолютной мировой империи конкурирующие великие державы стали мешать точно так же, как они мешали Британской империи в XIX веке. Менделеев разъяснял: «государственное невмешательство, т. е. laissez faire, и “свобода торговли” (free trade) не есть общий закон, человечеству обязательный и полезный, а непременно приведёт к экономической гегемонии народов, у которых промышленность успела развиться ранее признания указанного принципа, над народами, принявшими принцип невмешательства ранее, чем у них развилась своя промышленность, могущая бороться с иностранною»349. Современные французские исследователи мировой экономики объясняют, как на деле на мировом рынке действовали эти британские laissez faire и free trade в XIX веке: «Англия прагматично прибегала как к приёмам “свободной торговли”, так и к протекционистским приёмам, в зависимости от обстоятельств. Свободная торговля применялась, если не существовало опасности для британской продукции; наоборот, она позволяла им завоёвывать иностранные рынки, а когда конкуренция принимала неблагоприятный оборот для местных производителей, тогда без колебаний применялись протекционистские меры. Таким образом, протекционизм и свободная торговля последовательно применялись в определённых секторах, например, в сельском хозяйстве и текстильной промышленности»350.
В момент же созревания русского коммунизма в форме большевизма и коммунистического государства в России в форме изолированного социализма, в форме сталинизма, – в начале ХХ века, перед войной и во время Первой мировой войны, на самой заре ХХ века британская «свобода торговли» умерла, уступив место взаимной борьбе протекционизмов, породив в этой борьбе новый инструмент территориальной экспансии капитализма – империализм, который взял на своё вооружение милитаризм, мобилизацию и тотальную войну. Британский идеолог Дж. Гобсон (1858–1940) открыл век особо ценным в устах британца признанием (выделено мной):
«Империализм отвергает принцип свободной торговли: он покоится на экономической основе протекционизма. Поскольку империалист логичен, он откровенно признаёт себя протекционистом»351
Один из вождей русского либерализма П. Н. Милюков (1859–1943), после поражения его антибольшевистских ставок в Гражданской войне переживший стремительную эволюцию влево, во вновь отредактированном издании своего сводного труда по русской истории решительно поддержал противостоящий всемирной «глобализации» национальный, суверенный взгляд на историю, лежавший в основе интеллектуального ландшафта сталинского «социализма в одной стране». Восприняв термин-теорию евразийца П. Н. Савицкого о «месторазвитии» как индивидуальном комплексе географических, исторических и культурных факторов в применении к России, Милюков утверждал: «Научная социология отодвигает на второй план точку зрения всемирной истории. Она признаёт естественной единицей научного наблюдения отдельный социальный (национальный) организм»352.
Изолированное государство
Когда на рубеже 1890–1900-х гг., выстраивая «критическое направление» в русском марксизме и социализме, лидер русского марксизма 1890-х П. Б. Струве решил принять среднюю линию, равно независимую от материализма Маркса и неокантианства уже идущего по пути ревизионизма Бернштейна, он продекларировал свою солидарность с метафизическим идеализмом создателя германской социал-демократии Ф. Лассаля и Фихте353, а политически последовал за Энгельсом 1890-х. Это не было случайным выбором, ибо было выбором внутри социализма. Именно трактат Фихте «Замкнутое торговое государство»354 известный русский марксист, а затем – ревизионист и религиозный мыслитель С. Н. Булгаков в своём университетском курсе определённо назвал «планом организации экономического быта и борьбы с бедностью при посредстве государственной власти, идеей социалистического государства»355.
Трактат Фихте «Замкнутое торговое государство» был переведён и издан в России ещё в годы перехода к идейному протекционизму и ускоренной индустриализации 1880-х и повторно – «неожиданно», с предисловием идейного большевика, накануне решающей полемики о «социализме в одной стране»356.
Лев Троцкий в своих мемуарах, неизменно сводя свои счёты со Сталиным, свидетельствовал, что своеобразный национал-революционный эгоизм Сталин молча, втайне проявил ещё в начале 1918 года, во время переговоров РСФСР с Германией в Брест-Литовске, которые для Троцкого и Ленина были эпизодом в ожидавшейся мировой революции357. Для Троцкого в ходе этих переговоров и, видимо, в их результате непосредственно для России была важна гораздо более масштабная, иная «главная забота: сделать наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому пролетариату, [эта забота] была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал “мир в одной стране”, как впоследствии – “социализм в одной стране”»358. Природу этого интереса Сталина Троцкий прозревал в том, что Сталин, как и его выдвиженцы во власти, на деле не был интернациональным революционером, а был революционным этатистом и националистом: «Ворошилов был только национальным революционным демократом из рабочих, не более. Это обнаружилось особенно ярко сперва в империалистической войне, затем в февральской революции. (…) во время войны эти люди были в большинстве патриотами и прекратили какую бы то ни было революционную работу359. В февральской революции Ворошилов, как Сталин, поддерживал правительство Гучкова – Милюкова слева. Это были крайние революционные демократы, отнюдь не интернационалисты. Можно установить правило: те большевики, которые во время войны были патриотами, являются теперь сторонниками сталинского национал-социализма»360.
Но это было сказано в мемуарах. А в ходе первого, в начале 1920-х гг., непосредственного переживания революционного одиночества России без мировой именно западной революции принуждение мыслить страну в качестве изолированного пространства, обречённого опираться только на собственные ресурсы, понимание «одной страны» разделяли даже влиятельные и открытые политические сторонники Троцкого, фактически споря с ним. На XI съезде РКП (б) 27 марта 1922 г. выступил один из них – начальник Политического управления Революционного Военного Совета СССР В. А. Антонов-Овсеенко. Он заявил нечто далёкое от широких троцкистских схем мировой революции:
«Мы должны осознать, что мы находимся и на долгое время, до развития мировой революции, несомненно долженствующей иметь место, будем находиться в положении осаждённой крепости, ни в коем случае не возлагая сколько-нибудь серьёзных надежд на существующую помощь заграничного капитала… Мы должны… больше возложить непосредственных задач на наши внутренние силы и направить своё внимание на поиски непосредственно внутри России тех возможностей, которые в ней имеются. Это обязывает к очень многому. Это обязывает к тому, чтобы считаться с нашей собственной экономикой, с которой мы чрезвычайно мало считались»361.
Четвёртый конгресс Коминтерна в ноябре – декабре 1922 в своей резолюции «О русской революции» с видимым мучительным усилием искал баланс между лозунгом-догмой мировой революции и интересами единственного правящего социализма (в России), рискуя сорваться в отчаянное заклинание:
«пролетарская революция никогда не сумеет восторжествовать в пределах одной только страны – она может восторжествовать только в международном масштабе, вылившись в мировую революцию. (…) Русские пролетарии полностью выполнили перед мировым пролетариатом свой долг передовых борцов за революцию. Мировой пролетариат должен наконец, в свою очередь, выполнить свой долг»362.
В это время Троцкий переиздаёт свою брошюру 1917 года «Программа мира» о мировом характере революции и против «оборончества», дополняя её послесловием 1922 года. Сначала он действительно глубоко обнаруживает тесную связь национального государства и национальной обороны, но, как ему кажется, нейтрализуя их приоритет тем, что апеллировал к социализму как не национальной, а мировой проблеме, то есть (как было показано выше) мифическому, уже разрушенному общемировому контексту, который он противопоставлял конкретной стране: «Если бы проблема социализма могла быть совместима с рамками национального государства, то она тем самым была бы совместима с национальной обороной. Но проблема социализма встаёт перед нами на империалистической основе, то есть в таких условиях, когда сам капитализм вынужден насильственно ломать им же установленные национально-государственные рамки». И в послесловии 1922 года смело идёт против складывающейся доктрины «социализма в одной стране», которую позже сам якобы не смог найти ранее конца 1924 года (выделено мной):
«Несколько раз повторяющееся в “Программе мира” утверждение, что пролетарская революция не может победоносно завершиться в национальных рамках, покажется, пожалуй, некоторым читателям опровергнутым почти пятилетним опытом нашей Советской Республики. Но такое заключение было бы неосновательно. Тот факт, что рабочее государство удержалось против всего мира в одной стране, и притом отсталой, свидетельствует о колоссальной мощи пролетариата, которая в других, более передовых, более цивилизованных странах способна будет совершать поистине чудеса. Но, отстояв себя в политическом и военном смысле, как государство, мы к созданию социалистического общества не пришли и даже не подошли. Борьба за революционно-государственное самосохранение вызвала за этот период чрезвычайное понижение производительных сил; социализм же мыслим только на основе их роста и расцвета… До тех пор, пока в остальных европейских государствах у власти стоит буржуазия, мы вынуждены, в борьбе с экономической изолированностью, искать соглашения с капиталистическим миром… подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах Европы»363.
«Соглашение с капиталистическим миром в стране, не признанной абсолютным большинством государств, только что пережившей массовый истребительный голод, кровавую Гражданскую войну и отражение иностранной интервенции, переживающей экономическую блокаду, идущей на территориальные, экономические уступки ради подписания договоров с государствами-лимитрофами, чтобы получить через них выход во внешний мир и уже одним этим преодолевая формальную изоляцию, – звучало, конечно, не иначе как требование ещё большей, уже неуправляемой капитуляции, делающая бессмысленными и революционный переворот, и войну, и революционное переустройство, и собственную революционную власть. Нужно было действительно считать себя вождём мировой революции, чтобы выступить против абсолютного большинства правящих в отвоёванной стране революционеров с теоретизированием столь кабинетного толка, как это сделал Троцкий. Один из прежних вождей партии социалистов-революционеров и министр Временного правительства В. М. Чернов в 1928 году писал в эмиграции о расколе большевиков неожиданно с большим сочувствием оппозиционным “мировым революционерам”, чем правящим сталинским “суверенизаторам”, намекая на их близость к нравам “[полицейского] участка”: “Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек издеваются над идеей “социализма в одной стране” и насмешливо спрашивают насчёт “социализма в одном уезде” или даже “в одном участке”…»364.
Но что на деле могла предложить разорённая войной и революцией страна капиталистическому миру, мировому разделению труда, если бы оно не пало жертвой протекционизма? Только зерно, лес и иное сырье. Хороша ли была для неё мировая конъюнктура? Нет. Было ли это актом колониального сосуществования России империализмом? Да, это было актом колониальной капитуляции. Социализм ли в России поддержал в лице Троцкого эмигрант Чернов или шанс собственного возвращения к власти?
Решительный противник Брестского мира Ленина – Троцкого в 1918 году, сторонник революционной войны против Германии и тем не менее – любимец Ленина в среде высшего руководства большевиков Н. И. Бухарин (1888–1938) вспоминал о недавнем прошлом осенью 1926 года, когда к уже произнесённой формуле «социализма в одной стране» идеологи ВКП (б) мучительно подыскивали доктринальные и политико-экономические основания. Бухарин, фиксируя особую, жизненно важную зависимость революционной России от уже утраченных к 1926 году перспектив революционной Германии365, намечал и формулу защиты отечества как такового (в отличие от защиты социалистического отечества по лозунгу Троцкого – Ленина 1918 года), противостояния революционного национального государства всемирному империализму. Он говорил, имея в виду Германию, в образце которой легко угадывалась негативная перспектива России:
«Ленин ещё в начале империалистической войны считал возможной такую перспективу, когда в случае победы какой-нибудь из коалиций в Европе станет возможной национальная война против победоносной империалистской коалиции: если какое-нибудь из крупных, ранее жизнеспособных империалистских государств будет наголову разбито. Когда Германия была разбита, была порабощена, когда она перешла на положение полуколонии, когда она в этом своём качестве оказывала известное сопротивление победоносному антантовскому империализму, тогда… постановка вопроса в Германской коммунистической партии была такова, что не исключалась возможность защиты германского отечества против победоносного антантовского империализма…»366.
Седьмой расширенный пленум Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ) в ноябре – декабре того же 1926 года в своём постановлении по «русскому» вопросу, отвечая на обвинения троцкистов в «национальной ограниченности» тех, кто согласился строить «социализм в одной стране», ясно и требовательно сократил значение фактора мировой революции до служебного по отношению к судьбе СССР: формально идя на компромисс с Троцким, Сталин потребовал от мировой революции, так сказать, аванса, доказывающего её платёжеспособность. А роль СССР перенёс с периферии сцены мировой революции в её центр:
«недооценка внутренних сил развития в СССР… выражается в отрицании возможности построения социализма в СССР… пленум ИККИ полагает, что Советская Страна объективно является главным организующим центром международной революции… пленум считает клеветой на ВКП (б) обвинения в национальной ограниченности. Ориентируясь во всей своей работе на международную революцию, считая, что окончательная победа социализма возможна лишь как победа мировой революции, что только эта революция может гарантировать СССР от войны и интервенции и поможет ещё более ускорить темп хозяйственного развития СССР… СССР имеет внутри страны “всё необходимое и достаточное” для построения полного социалистического общества»367

