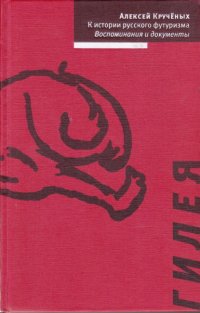
Читать онлайн К истории русского футуризма. Воспоминания и документы бесплатно
- Все книги автора: Алексей Крученых
Вступительная статья, подготовка текста и комментарии
Нины Гурьяновой
Книга опубликована благодаря финансовым инвестициям
Юрия Ковалева
© Вступительная статья, комментарии. Н. Гурьянова, 2006
© Оформление. А. Бондаренко, 2006
© Составление. “Гилея”, 2006
Биография дичайшего
Воспоминания Крученых в литературном контексте 1920-1930-х годов
- Я плюнул смело на ретивых
- Пришедших охранять мой прах
- – Сколько скорби слезливой
- в понуренных головах —
- Плевок пускай разбудит сих
- А мне не надо плача
- Живу в веках иных
- Всегда живу… как кляча
– эти футуро-биографические строки из “Утиного гнездышка дурных слов” были написаны Крученых в самом начале ю-х гг. прошлого века. Дабы избежать недоразумений, сразу оговоримся: в отличие от большинства мемуарных изданий, эта книга не является попыткой “ретивой” мумификации поэта Крученых; хотелось бы, чтоб читатель прочел ее как “продолжение”, которое давно уже “следует”, как документированный контекст бытия поэта-заумника “в веках иных”.
Крученых опубликовал свою первую поэму “Игра в аду” в соавторстве с Велимиром Хлебниковым в 1912 г. В 1930 г. вышли в свет два последних поэтических сборника Алексея Крученых “Ирониада” и “Рубиниада”, изданных автором тиражом 150 и 130 экземпляров. После этого в творчестве “вождя заумцев” и вдохновителя русского футуризма, “острейшего полемиста и виртуоза эпатажных выступлений”1 наступил тот особый период, длившийся до конца жизни поэта, который Николай Харджиев, близкий друг Крученых, назвал “рукописным”. (Из солидного поэтического наследия Крученых 1930-1960-х гг., требующего отдельного исследования и издания, было посмертно опубликовано лишь несколько стихотворений и стихотворных циклов.) Этот период был очень насыщенным, несмотря на сознательную “изоляцию” – “Крученых отошел в сторону, но не пропал”, – вспоминал А. Шемшурин2. В его творчестве появляется новый “прибавочный элемент”: поэт в это время работает прежде всего как исследователь, историк и хранитель. В эти годы – помимо литературной деятельности, которую Крученых никогда не прекращал – он собирал, обогащал, обрабатывал и хранил огромный архив русского литературного и художественного авангарда. Создаваемая им в те годы коллекция уникальных рукотворных альбомов, посвященных самым разным темам и личностям – только часть его творческого наследия, и наряду с его воспоминаниями 1930-х и выступлениями 1940-60-х гг. воспринимаются как фрагмент “живой” истории и эволюции русского футуризма3.
Крученых задумал публикацию большой книги о футуризме чуть ли не сразу после появления юбилейной брошюры “15 лет русского футуризма”, изданной в Москве в 1928 г. В следующем году работа над воспоминаниями уже была в разгаре, судя письму Крученых к А.Г. Островскому от 6 июня 1929 г.: “Я постараюсь не позже июня месяца прислать Вам некие воспоминания о футу <ризме>”4. Однако работа заняла у Крученых еще не менее трех лет – в окончательном варианте он довел текст своих воспоминаний до 1932 г.; тем не менее, он неоднократно возвращался к ним и продолжал переработку некоторых глав в своих поздних выступлениях и статьях, включенных в наш сборник.
Литературная ситуация конца 1920-х – начала 1930-х гг. располагала к воспоминаниям – после смерти Хлебникова и Маяковского стало ясно, что определенный этап в истории русской литературы завершен, безвозвратно ушел из реальности настоящего. В этой атмосфере “подведения итогов” к осмыслению прошлого обратились многие, особенно это касалось поэтов, принадлежавших в 1910-е гг. к новаторским течениям: в 1931 г. выходят “Охранная грамота” Пастернака и “Путь энтузиаста” Василия Каменского, тогда же в журналах публикуются отдельные главы из воспоминаний Бенедикта Лившица (позднее, в 1933 г., опубликованных отдельной книгой “Полутораглазый стрелец”). В Америке Бурлюк продолжает печатать в собственных изданиях отрывки из своих воспоминаний о футуризме и Маяковском (в 1929 г. он прислал рукопись “Фрагменты из воспоминаний футуриста” А.Г. Островскому в расчете на публикацию их в издательстве “Федерация”). Все эти произведения во многом были вдохновлены желанием отразить или воссоздать “внетекстовый контекст” литературы футуризма на протяжении нескольких десятилетий и в определенной степени сами являются фрагментами того исторического и литературного контекста, без которого “эстетический объект” творческого наследия поэта уже не может существовать. Кажется, что каждый из лидеров кубофутуристического движения решил предоставить современникам “собственную” версию русского футуризма, закрепить свое место в литературной школе (как это, к примеру, делал Бурлюк, будучи в Америке, более других футуристов рисковавший исчезнуть из русской среды, русского литературного контекста) или же объяснить собственное творчество через призму направления – в согласии или по контрасту с ним – как это произошло в “окарандашенных и огосиздашенных”, по выражению Бурлюка5, воспоминаниях Каменского и Лившица.
Кроме того, осенью 1930 г. Т. Гриц, В. Тренин и Н. Харджиев приступили к работе над “Историей русского футуризма”6. Огромную помощь в подготовке этой книги оказывали Крученых, Матюшин, Малевич, Бурлюк7. Книга была отвергнута “Федерацией” в начале 1931 г.
Все это, наряду с разразившимися в очередной раз публичными дебатами в прессе о футуризме, не могло оставить в стороне Крученых – с его дотошностью хронографа и библиографа, с его уникальной коллекцией рукописных и печатных документальных материалов по истории футуризма. Свои идеи о том, как должна быть написана история футуризма, Крученых изложил в предварительных планах к своей рукописи “Наш выход”8. Если Бурлюк, которого он окрестил в своих воспоминаниях “своеобразным универмагом”, но которому он никогда не отказывал в первенстве и признании заслуг, вызывал у Крученых сложные чувства, а Каменского он принимал и опирался в своей рукописи на полусказовый, “лубочный” стиль его воспоминаний, то к Лившицу отношение было противоположным. “Эти воспоминания Б. Лившица являются прекрасным примером того, как пишется история футуризма – а пишется она скверно”, – замечал Крученых в своих записках9.
В историческом и социальном контексте начала 1930-х гг. главной задачей своих воспоминаний он считал необходимость продемонстрировать “генеалогию” футуризма как литературной школы, определить его координаты в ткани времен, наконец, “показать, что был футуризм” (а не отдельные незначительные эпизоды в биографии “великих поэтов” – как это прозвучало, например, в предисловии Степанова к собранию сочинений Хлебникова), в противовес усилиям “других историков футуризма (Степанов, Тынянов), которые пытаются доказать, что истории футуризма не было”. Эти слова направлены не только против “традиционалистов” от литературы, но и против формализма – Крученых в своих установках наотрез отказывался принять формалистскую литературоведческую теорию с ее категорическим отрицанием историзма. Вместе с тем сама идея выступить “летописцем” футуристического движения вступала в противоречие и с концепциями раннего футуризма, в теории которого отрицалась линейность времени как поступательного, направленного движения. В поэтике Хлебникова этих лет появляется понятие пространства времени, материи времени (“непрозрачное время”). Ранний русский футуризм (в отличие, например, от лефовской “версии” 1920-х гг.) был замечателен “множественностью” экстатического времени: “Самое удивительное, самое современное учение футуризма может быть перенесено в Ассирию или Вавилон, а Ассирия <…> в то, что называется нашим временем <…> Футуристическое движение только и может быть рассматриваемо как вневременное движение”10.
В неожиданном повороте Крученых к исследованию собственной творческой генеалогии и генеалогии футуризма – особенно по контрасту с вызывающим началом автобиографии, написанной лишь четырьмя годами ранее, где футурист заявляет, что родители у него были, “как ни странно”11, – проявилась новая, несовместимая с ранними принципами, концепция, свидетельствующая о новом творческом самосознании. В этой попытке взглянуть на все движение в исторической перспективе, его позиция, пожалуй, как нельзя ближе подходит к позиции Пастернака, выраженной им в “Охранной грамоте”: а именно – идее “футуризма, совмещенного с историей”12. Не случайно эта же тема литературной исторической памяти – но уже в поэтической, метафорической форме – варьируется в цикле стихов Крученых 1940-х гг., посвященных Пастернаку13. С другой стороны, в попытке Крученых утвердить единство и прямую преемственность футуристического движения от “Пощечины общественному вкусу” до Лефа можно видеть начало романтической “мифологизации” футуризма, создания “пантеона” его героев. (Впрочем, первым опытом создания своеобразного будетлянского “эпоса”, “мифа” следовало бы считать его неизданную пьесу Тлы-глы”14, героями которой являлись Хлебников, Малевич, Маяковский, Матюшин, Розанова.) Закономерно, что одним из обновленных футуризмом генеалогических звеньев Крученых называет традицию романтизма, в частности, русского поэтического романтизма Гоголя и Пушкина. Если прибегнуть к формуле Бахтина, то “биографическое ценностное сознание” Крученых в его воспоминаниях следует несомненно отнести к “авантюрно-героическому” типу15.
В отличие от “Автобиографии дичайшего” (1928), Крученых на этот раз избегает открытой автобиографичности – постоянно как бы “соскальзывая” в тень, пряча свое присутствие на второй план. Он уже не пытается подчеркнуть свою роль в качестве лидера поэтической школы, как делал это в автобиографии и даже ранее, например, в записях конца 1910-х гг.:
я создал заумную поэзию
1) дав всем известные образцы ее
2) дав ей идею <…>
3) наконец, создав школу в которую входят: “переодетый” Крученых – Василиск Гнедов, Алягров, О. Розанова, И. Терентьев, Федор Платов, Ю. Деген, К. Малевич, И. Зданевич <…>16
В отличие от Бурлюка и Лившица, он старается избегать частных подробностей и деталей, даже малейшего налета сентиментальности и ностальгии, всего, связанного с понятием частного “быта” – в противовес историческому “бытию”. В этом отношении характерны заключительные строки главы “Смерть Хлебникова”: “Хлебников умер 37 лет – в возрасте Байрона, Пушкина и Маяковского”, – в которых Крученых намекает на особую символику числа, возводя этим смерть поэта в закономерную случайность, не зависящую от повседневных обстоятельств. В этом его позиция снова схожа позиции Пастернака “Охранной грамоты”, “истолковывающего смерть поэта как “из века в век повторяющуюся странность”17. Позднее, в разговорах с близкими друзьями, Крученых не раз возвращался к этому, связывая смерть Маяковского с его вступлением в РАПП в 1930 г. и интерпретируя события гораздо более откровенно18. Этим же можно объяснить и его резкий выпад в главе “Сатир одноглазый” против вполне оправданных рассуждений критиков о главенстве эротики в поэзии Бурлюка. Чуковский писал о Крученых: “Эротика в поэзии ненавистна ему, и вслед за Маринетти он готов повторять, что нет никаких различий между женщиной и хорошим матрасом. “Из неумолимого презрения к женщине и детям в нашем языке будет только мужской род!” – возгласил он в одной своей книжке”19. Замечание Чуковского, однако, поверхностно и не совсем справедливо по отношению к эротической поэзии самого Крученых – дело совсем не в “презрении к женщине”, а в презрении к известной идеологии “серебряного века”, возводящей культурологическую модель “женственности” в абсолютный идеал. Позиция Крученых в разработке теории футуризма связана, в первую очередь, с его идеей “героической поэтики”, которой он оставался верен до конца жизни.
В 1917 г. Бердяев, расширяя чисто эстетическое понятие футуризма до сферы мировоззрения, писал: “Нужно принять футуризм, постигнуть его смысл и идти к новому творчеству… Футуризм должен быть пройден и преодолен, и в жизни, и в искусстве. Преодоление же возможно через углубление, через движение в другое измерение, измерение глубины, а не плоскости, через знание, не отвлеченное знание, а знание жизненное, знание – бытие”20. Любопытно, что предложенный им и, казалось бы, совершенно отстраненный от идей и позиций футуризма, “путь преодоления” находит непосредственную параллель в словах Крученых, сказанных им тремя годами раньше и характеризующих собственно идею “будетлянского” искусства: “Раньше мир художников имел как бы два измерения: длину и ширину: теперь он получил глубину и выпуклость, движение и тяжесть, окраску времени и проч. Мы стали видеть здесь и там. Иррациональное (заумное) нам так же непосредственно дано, как и умное”21. Эта концепция иррационального (или “нутряного”, как пишет Крученых в главах о Маяковском), совершенно неприемлемая для лефовской идеологии, остается гораздо более важной и глубокой в его творчестве даже в конце 20-х гг.
За строками другого текста, принадлежащего перу Ольги Розановой, столь же искренне приверженной идее футуризма, прочитывается скрытый намек на упомянутую статью Бердяева (работа Розановой “Кубизм, футуризм, супрематизм”, о которой идет речь, была написана около 1917 г.). Оценивая значение футуристического периода, Розанова писала, что “футуризм дал единственное в искусстве по силе, остроте выражения слияние двух миров – субъективного и объективного, пример, которому, может быть, не суждено повториться. Но идейный гностицизм, футуризм не коснулся стоеросового сознания большинства, повторяющего до сих пор, что футуризм – споткнувшийся прыжок в ходе мирового искусства – кризис искусства (курсив мой. – Н.Г.). Как будто бы до сих пор существовало какое-то одно безличное искусство, а не масса ликов его по числу исторических эпох… Футуризм выразил характер современности с наивысшей проницательностью и полнотой”22.
Футуризм внес в предшествующее ему “усталое” искусство ту жизненно необходимую прививку нового, прививку “возрождающегося варварства, без которого мир погиб бы окончательно”23. В глазах наиболее чутких к ритму времени представителей русской культуры “серебряного века” это было главным достоинством футуризма.
Непосредственно знакомясь с текстами раннего русского футуризма (и неохватным кругом интересов участников этого движения – достаточно вспомнить хотя бы имена Вальдемара Матвея (Маркова), Матюшина или Хлебникова) нельзя не поймать себя на мысли о том, что такое эффектно сформулированное определение “варварского неведения”, оправданное с позиций современной футуризму и чуждой ему социальной цивилизации, во многом поверхностно. К примеру, в круг чтения Крученых за два месяца 1916 г., наряду со многими литературными и научно-популярными “новинками”, которые Крученых просматривал регулярно, входили: поэзия Франсуа Вийона, проза Мережковского о Толстом и Достоевском, “Язык как творчество: психологические и социальные основы творчества речи. Происхождение языка” (Харьков, 1913) А.Л. Погодина, статьи о сектантстве и старообрядчестве, в частности, Д.Г. Коновалова “Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве” (Богословский вестник. 1908. Апрель), “Патология обыденной жизни” и “Толкование сновидений” Фрейда, “Автоэротизм. (Для врачей и юристов)” (СПб., 1911) профессора Гэвлока Эллиса (последнюю работу Крученых использовал для подготовки своей книги “Тайные пороки академиков”.)
Подчеркивая различия футуризма итальянского и русского, Крученых писал в одной из статей: “В искусстве может быть несоглас (диссонанс) но не должно быть грубости, цинизма и нахальства (что проповедуют итальянские футуристы) – ибо нельзя войну и драку смешивать с творчеством. Мы серьезны и торжественны, а не разрушительно грубы…” Для русских поэтов и художников итальянская идея нового “универсального динамизма” и ритма, как проявление, созвучное бергсоновской идее витальности, трансформировалась в статьях Крученых в “футуристический сдвиг форм”, слова и образа. Уже в самом названии одной из книг – “Взорваль” – подразумевается разрыв, резкий сдвиг, взрыв форм. Императивное “Читать в здравом уме возбраняю!”24 – через слово как таковое заставляет обратиться читателя к жизни как таковой, к ее органической иррациональной сути, существующей вне всякого канона.
В своей зауми Крученых апеллирует не к логике читателя и его умению разгадывать словесные ребусы, не к книжному знанию, а к “знанию-бытию”, к логике – вернее, алогизму – подсознательного, сна, как бы минуя сложившиеся языковые системы. Влияние фрейдистской теории “работы сна” и деформации речи в снах, в частности, концепции “сгущения” и “смещения”, на сдвигологию Крученых требует отдельной статьи. Многие примеры искажения слов и их детальная интерпретация в “Толковании сновидений” Фрейда несомненно послужили моделью для Крученых в разработке механики зауми. Удивительно, что до сих пор никто из исследователей, по сути, не обратил серьезного внимания на многочисленные ссылки самого Крученых на Фрейда в своих работах. Между тем интенсивное изучение поэтом трудов Фрейда хронологически совпадает с разработкой им теории заумного языка и его основных формотворческих принципов.
За внешней эпатажной “грубостью” и “неведением” футуризма, этого “рыжего” русской культуры, сознательно напялившего на себя своего рода “ослиные уши”, дразнившие критиков, стоит явление гораздо более сложное. “Художник увидел мир по-новому, и как Адам, дает всему свои имена”, – провозглашалось в “Декларации слова, как такового”25. И в этом смысле нигилистическое “неведение” футуризма скорее восходит к теологической традиции “ученого незнания”, выраженной в трудах Мейстера Экхардта и Николая Кузанского, точно так же, как и название одной из выставок Ларионова, “Ослиный хвост”, апеллирует не только к скандалу в парижском Салоне – но и намекает (опять же, через возможное посредство “Так говорил Заратустра” Ницше26) на средневековый карнавальный по духу “Праздник Осла”, одно из проявлений “ученого незнания” в эстетической сфере. Анархическая антиканоничность раннего русского авангарда была не средством эпатажа, а средством постижения мира – футуристы видели свою главную задачу как раз в том, чтобы “взорвать” изнутри набившие оскомину клише “идеала” и “красоты”, академические, символические и прочие традиционные схемы рационального восприятия, обусловленного бременем “знания”, чтобы увеличить этим “территорию” искусства, приблизив его к самой материи бытия. “Нас спрашивают об идеале, пафосе? – Ни хулиганство, ни подвиг, ни фанатик, ни монах – все Талмуды одинаково губительны для речетворца, и остается всегда с ним лишь слово как (таковое) оно”27.
Этим, в первую очередь, объясняется “кровный” интерес авангарда к “пограничным” явлениям, где существуют иные критерии качества, иные ориентиры, иная оценка: в частности, к дилетантизму, к живописи Пиросмани или рукописному рисунку писателей, к детскому творчеству. Концепция дилетантизма как проявления свободного, не скованного никакими рамками творчества, творчества как игры в среде раннего поэтического и художественного авангарда означала преобладание интуиции над умением, жизни над мертвой схемой “измов”: “Кубизм, футуризм и проч, измы… дали схему чертеж – чертеж от черта и дым чертовски черных чертежей (вспомните раскраску кубистов) задушит скоро нас”. В этих довольно неожиданных словах Крученых звучит предостережение, боязнь новой “схемы”28. Приглашая Гуро к сотрудничеству в области футуристической книги, Крученых отмечает именно это качество ее дара: “не техника важна, не искусственность, а жизнь”29.
Во всех этих пограничных явлениях претензия на качество технического мастерства или стиля, признанного эталоном в данную эпоху, целиком снимается, и “любительство” (дилетантизм) приобретает новый смысл – особую ценность “непосредственности” (или ненамеренности), единственной, могущей передать “мгновения в беспрерывном”, “трепет жизни”: “Нам ближе простые, нетронутые люди, чем вся эта художественная шелуха, льнущая, как мухи к меду, к новому искусству”30. Принцип непредсказуемости и непреднамеренности (“без почему”) – или, по выражению Крученых, “полной безыскусственности” – позволял расширить границы жанра, стилистики, приема; преодолеть “банальность мастерства”31.
Если вслед за Харджиевым считать Крученых “первым дадаистом”32, то нельзя не отметить, что диссонанс, сдвиг, абсурд – или алогизм – являются отправными точками поэтики Крученых и его теории зауми, в которой смещены границы традиционных эстетических учений модернизма. В декларациях и статьях 1920-х гг. его концепция зауми вливается в универсальную для авангарда XX в. идею дегуманизации искусства33 и как нельзя ближе подходит к принципам сюрреализма. Еще одной точкой пересечения является интенсивный интерес к идеям психоанализа, в частности, исследования подсознательного. Его интерпретация творческого процесса во многом базируется на принципах интуитивного, автоматического, “мгновенного” письма, создает обостренный эффект всеподчиняющей реальности, сверхреальности (или сюрреальности)34, эффект присутствия, существующего вне линейной последовательности физического времени. Эта реальность присутствия, разворачивающаяся в пространстве действия искусства, связана с еще одним важным аспектом, аспектом игры, включающем в себя активный элемент иронии и основанном на смещении воображаемого и реального, фантастической детали и повседневного контекста: “Не новые предметы (объекты) творчества определяют его истинную новизну. Новый свет, бросаемый на старый мир, может дать самую причудливую игру”35.
Роман Якобсон писал в свое время: “…Крученых, к нему я никогда не относился как к поэту; мы переписывались как два теоретика, два заумных теоретика”36. На первый взгляд, кажется парадоксальным, что именно этот аспект творческой личности Крученых напрочь отсутствует в его воспоминаниях 1930-х гг. Из планов и материалов к книге можно судить о том, что с самого начала определился ее жанр, в лефовской традиции “литературы факта” (“не столько научн<ое> обоснование < футуризма >, сколько публицистика и расск<аз> разных фактов”) и метод: “вести приблизит<ельно> хронологически”. Эта сознательная “ораторская установка” в ущерб “научному обоснованию” объясняет разочаровывающую упрощенность воспоминаний Крученых, оказавшего в свое время столь значительное влияние на круг молодых лингвистов и поэтов-современников именно как критик и теоретик зауми. Эта сторона деятельности Крученых восполнена в нашем сборнике двумя наиболее значительными статьями о нем Терентьева и Третьякова, вышедшими из “школы заумников”, и подборкой его собственных деклараций 1910-20-х гг. о зауми в поэзии и живописи. Подобно его “выпыту” о стихах Маяковского, первой критической брошюре о Маяковском, опубликованной в 1914 г., декларации, как критические тексты, полемизируют и с методом традиционного литературоведческого анализа, и со свободной стилистикой поэтического эссе, столь любимой символистами. Являясь художественными текстами и теоретическими обоснованиями зауми одновременно, они построены на лингвистической интуиции автора, парадоксе, метафорической образности языка, за которыми, в случае Крученых, скрывается доскональное знание материала и опыт тщательного, рационального, структурированного анализа. Крученых как бы следует тексту “изнутри”, придерживаясь герменевтического метода. В отличие от академического исследователя, в своих декларациях Крученых не раскрывает перед читателем последовательный методический путь рассуждений и анализа – он выдает ему уже найденную формулу, результат, конспект, доведенный до совершенства формы и поражающий спонтанностью “подсознательного”. Этим обусловлено стремление к безглагольности фраз – одна из характерных особенностей его деклараций и критической прозы.
В свою очередь, в “Нашем выходе” – как и в поздних статьях и выступлениях о футуризме “Воспоминания о Маяковском” (1959) и “Об опере “Победа над солнцем” (1960), публикуемых в настоящем томе – приоткрывается другая, еще одна малоизвестная сторона творчества Крученых. К упомянутым Владимиром Марковым ипостасям Крученых – поэта, прозаика, критика, теоретика и издателя здесь прибавляется Крученых-рассказчик37.
Один из вариантов рабочего названия его книги был “История русского футуризма в воспоминаниях” (не по аналогии ли с “Библией в картинках”?). В черновиках Крученых отмечает основную хронологическую канву с отправной датой “1909 г.”:
1910 г. в П<етер>б<урге> – перв<ая> выст<авка> Союза молодежи (Школьник, Розанова, Спандиков и др. зимой 1910-н в М<оскве> вернисаж Бубнового валета (И. Машков, П. Кончаловский, А. Лентулов, М. Ларионов, Н. Гончарова, Д. и В. Бурлюки, В. Кандинский, Р. Фальк и др.
1911 – Ослиный хвост 1911-12 и Мишень 1912-13 возн<икает> <под эгидой> М. Лар<ионова> и Н. Гонч<аровой>, отколовшихся от Бубнового Валета
1912 – Пощечина. Выступления Маяковского совместно с Бурлюками в нач. марта – пропаганда лев <ого> искусства
20 ноября 1912 в Троиц<ком> <театре> также в П<етер>б<урге> лекция Бурлюка Что такое кубизм
1913 Вопрос о взаимоотношениях театра и [кино] [жив < описи >] лит<ературы>? Ряд писателей
2, 3, 4 и 5 дек. в театре Луна-Парк в П<етер>б<урге> трагед<ия> Маяк <овского > “Вл<адимир> Маяк<овский>” (дек<орации> и кост < юмы > Школьника и Филонова) и оперы Круч<еных> Победа над солнцем (Муз<ыка> Матюшина, дек<орации> Малевича) обе вещи поставл<ены> Союзом мол<оде>жи 1914 27/1 приезд Маринетти в П<етер>б<ург>
Сохранился и более развернутый план книги о футуризме, из которого ясно, что за модель такого рода повествования “публицистического” характера, до сих пор совершенно несвойственного его творчеству, Крученых решил принять изданные воспоминания Каменского “Путь энтузиаста”:
План
Опр<еделение> эпохи П<утъ> Эн<тузиаста> 109–111 стр. Начало лит<ературного> фут<уризма> в 1909-10 гг.
см Путь Энтузиаста— <стр> 92–96 знак<омство> с Хлебниковым >
<стр> 96 и т. д. Бурлюк
Осн<ование> футур<изма> – <стр> 106 и далее
Эпоха пощечин 1912 г. нач. 13 г.
1/ манифест (пощ<ечина> общ<ественному> вк<усу>)
2/ автобиогр <афия > Маяк<овского>
3/ автоб< иография дичайшего? >
4/ как писали манифест (13 стр.) 6/ груп<па> эго-фут<уристов> Общ<ие> полож<ения> принципы работы все время отмежев<ывались> от эго-фут<уристов>, мезонин<а> поэзии, симв<олистов> акм<еистов> и итал<ьянских> фут<уристов>
1). фут<уристическая> пощечина поэзии
2). Показать в книге как делалась лит<ературная> школа футуризма; скандалы ф<утуристов> не пьяные ск<андалы>, не бытовые, житейские (как у Есенина а чисто литературного порядка для рекламы, она провод <илась > <нрзб.> ист<ория> фут<уризма> идет как ист<ория> делания литературной> школы —
3). Фут<уристы> всегда были оптимистами принцип – бодрость, вера в жизнь, в Россию (патриоты) – а у Андрея> Бел<ого> <нрзб. > прокл<ятые> франц<узы> Занародн<ую> войну (Хлебников> соч<инил> нов<ую> наредную песню – за войну: когда народ хочет воевать, то надо воевать)
4). Борьба ф<утуристов> с симв<олизмом> фр<анцузским> борьба двух языков, культур. Ф<утуристы> шли от жизни, от улицы – “подлый”, демокр<атический> яз<ык> Сим<волисты>—уайльдисты, офранцуженные> Терещенки – буржуа (Аполлон см. Садок судей i Нов<ая> орфеграфия> Ап<оллон> <за> <19 >17 г. – умрем за букву Ь)
5). Принцип работы. Не столько научн<ое> обоснование, сколько публицистика и расск<аз> разных фактов
6). Показать, что был фут<уризм> (др<угие> ист < орики > футур<изма> пытаются доказать, что ист<ории> футур<изма> не было. Тынянов, Степанов и др. <нрзб. > Объективно: Баль-м<онт> для кого-то хороший поэт Общ <ественно>-пол этические > усл<овия> как это отр<азилось> на литер <атуре> —отражала эти вкусы крупн<ая> бурж<уазия> общ<ественное> сост<ояние> после трагедии 1905 – общий пессимизм и упадок духа: мистич<еские> пробл<емы> пола ⁄ На западе ⁄ борьба мол<одых> не связ<ана> предрассудками (Борьба со старым) разрушит <ельная> часть – сод<ержание> нов<ых> вещей (не огранич<ивались> стихами выст<авками> лит<ературой>).
В другом наброске Крученых выделяет в качестве основных героев своих воспоминаний Бурлюка, Хлебникова, Маяковского, отмечая: “вскользь: Гуро, Филонов, Малевич, Матюшин, Кульбин, И. Зданевич”. Это решение заставило его несколько нарушить первоначальный строго хронологический подход к повествованию – Крученых открывает свои воспоминания главой о Хлебникове, этим сразу расставив акценты, обнаружив в героике созданного им образа поэта возможность представить читателю свою “историческую” идею русского футуризма.
Вероятно, то же стремление побудило Крученых написать отдельную главу о Филонове вместо короткого упоминания “вскользь”. Эта глава уникальна тем, что в ней явственно звучит тема, которую Крученых старательно заглушает в своих воспоминаниях: тема забытья, непризнания, исподволь констатирующая конфронтацию поэтической реальности раннего авангарда и действительности 1930-х гг. Она усилена точно найденным метафорическим мотивом “двойника”: всепобеждающей посредственности, зловещей “тени” героя. Слова Пастернака “Стоит столкнуться с проявлением водянистого лиризма, всегда фальшивого и в особенности сейчас… как вспоминаешь о правоте Крученых… его запальчивость говорит о непосредственности. Большинство из нас с годами примиряется с торжеством пошлости и перестает ее замечать…”38 в этом контексте приобретают новое содержание. Крученых, с его категорическим неприятием пошлости, как и Пастернак, был чувствителен к теме пошлости как измене творческому назначению человека. Эта тема звучит и в его заметках-парадоксах “О войне” и пушкинском Германне – правда, здесь проблема пошлости в литературе вырастает в проблему пошлости в истории, странно перекликаясь с идеей Ханны Арендт о повседневной банальности зла.
Судя по одному из черновых набросков оглавления, предисловие “От автора” и глава “Рождение и зрелость образа” были дописаны и включены в текст уже на последней стадии работы, а глава “Конец Хлебникова” следовала не перед, а после главы “Маяковский и зверье”, непосредственно перед главой “Конец Маяковского”. Объяснение Крученых гибели Маяковского, данное в этой главе, прямо противоположно официальной версии, построенной на том, что “самоубийство вызвано причинами чисто личного порядка, не имеющими ничего общего с общественной и литературной деятельностью поэта”39. В словах Крученых о случайности гибели человека-Маяковского (именно в этом подчеркивании: человека-Маяковского, а не просто Маяковского), у которого было еще много сил, скрыт вполне очевидный подтекст: Крученых не соглашается с неизбежностью самоубийства Маяковского-человека, но молчит о “роковой неизбежности” трагического конца поэта-Маяковского. В этом контексте особое значение приобретает метафора о потере дара – о поэте, “потерявшем” голос.
Возможно, эта мрачная интонация показалось резкой; возможно, что просто не в характере автора было заканчивать на подобной ноте – во всяком случае, последняя глава о Маяковском и Пастернаке, в которой проскользнула надежда на “продолжение”, во многом меняет характер книги, делая ее откровенно полемической, “публицистически открытой”. В этой главе Крученых декларирует свою истинную позицию поэта, “занимающего крайний полюс литературной современности”40, столь же разительно расходящуюся с лефовской, что и позиция Пастернака. Хотя и придерживаясь концепции “литературы факта” (подчеркнутой в подзаголовке: “фактические справки по поводу”), он отграничивает себя от идей Маяковского периода сближения с РАППом о главенствующей роли идеологического содержания литературы как “агитпропа социалистического строительства”41, проскальзывавшими уже в лефовский период. Крученых, напротив, утверждает здесь “содержательность формы”, то, что именно форма может если не определить содержание, то повлиять на него, – идею, выраженную в словах Пастернака, обращенных к Крученых семью годами ранее: “Если положение о содержательности формы разгорячить до фанатического блеска, надо сказать, что ты содержательнее всех”42. Видимо, эта полемичность в немалой степени послужила причиной того, что в позднем сокращенном варианте воспоминаний (в который также не вошла библиография футуризма) Крученых исключил ее из рукописи. Пастернаковская тема продолжается в двух машинописных сборниках стихов 40-х гг., уже упомянутых нами. Бытовая конкретика времени перенесена в них в иное измерение литературной памяти и наделяется особыми качествами алогического бурлеска, а личность портретируемого – как и личность автора – превращается в прекрасно отыгранный персонаж. Эти стихи представляют лишь малую толику материалов Пастернака в архиве Крученых (всего же – более гооо листов рукописей, фотографий, писем, альбомов), но проливают новый свет на характер отношений двух поэтов. Наиболее значительные исследования и публикации, в которых так или иначе затрагивается эта тема43, свидетельствуют о гораздо более сложных и глубоких взаимоотношениях, нежели укрепившийся в критической литературе с конца 1970-х гг. штамп44.
Документальную ценность воспоминаний Крученых нельзя не признать очень высокой (вслед за многими современными исследователями футуризма – Харджиевым, Катаняном и др. – опиравшимися в своих работах на эти воспоминания и неоднократно цитировавшими их): пожалуй, из всех русских литературных мемуаров, связанных с новаторскими течениями XX в., которые опубликованы до настоящего времени, они менее всего предвзяты и наиболее многосторонни и точны. Их отличает от других воспоминаний и то, что с самого начала Крученых предполагал включить в качестве отдельных разделов книги (а не простого приложения!) публикацию неизданных документов и библиографию (на тот момент – первую библиографию русского футуризма), что выводило книгу за пределы чисто мемуарного жанра. В этом смысле название книги – “К истории русского футуризма” – целиком оправдано. Что же касается места воспоминаний в литературном наследии Крученых – его определить будет довольно сложно.
Во-первых, книга Крученых, несмотря на ее кажущуюся “традиционность” (особенно по сравнению с ранними статьями изобретателя заумного языка), экспериментальна в силу своей эклектичности. Она не принадлежит ни одному из известных литературных жанров, занимая маргинальное положение, размывая границы мемуарного жанра, художественной прозы, литературной критики, научно-популярной литературы. Во-вторых, уровень мастерства, с которым написаны разные главы, неравноценен. Если начальные главы воспоминаний (со 2-й по 5-ю), подчиненные хронологическому порядку, написаны в традициях мемуарной прозы, то в лучших главах воспоминаний, каковыми нам кажутся первая глава о Хлебникове и последние (двенадцатая и тринадцатая) главы о Маяковском, Крученых позволил себе изменить заранее намеченной “публицистичности” и “рассказу фактов”: в них проскальзывает парадоксальная, построенная на метафорике подсознательного стилистика критического анализа, свойственная раннему Крученых. Многие его тезисы о Маяковском были подхвачены в таких литературоведческих работах, как, например, исследование Харджиева и Тренина “Поэтическая культура Маяковского”45. Что касается наименее удачных глав – “Итоги первых лет” и, особенно, “В ногу с эпохой”, – нельзя не согласиться с оценкой Розмари Циглер, говорящей о “попытке соединить две разные точки зрения на культуру: взгляд авангардиста со взглядами вульгарно-марксистской культурной социологии и психологии своего времени… <у Крученых> проявляющейся в некоторых пародийных чертах”46. Крученых исправлял свою рукопись для печати в 1932 г., после многочисленных нападок на него в печати, после апрельского постановления ЦК ВКП(б) “О перестройке литературно-художественных организаций”: воспоминания, принятые к печати “Федерацией”, были его последней попыткой напечататься в государственных издательствах. Никак не проявлявший “политического” рвения в своей поэзии (“Трудно было заставить Крученых написать стихи о Руре”, – жаловался Маяковский в выступлении на первом московском совещании работников Лефа 16 и 17 января 1925 г.), в своих полемических высказываниях он все еще разделял (искренне ли?) позиции “лефовцев”, несмотря на резкую перемену в отношении к последнему Маяковского в самом конце 1920-х гг. объявившего себя “левее Лефа”47. Хотя Крученых в 1925-30 гг. “на словах” и поддерживал политическую линию Лефа, он никак не “перестраивал” собственную поэтику, в которой оставался независимым, сознательно предпочитая “литературу показа” любому “социальному заказу”.
Рассказ о футуристах в контексте освободительной борьбы пролетариата, да еще с позиции “участника” и “очевидца”, в устах Крученых, одного из самых “аполитичных” футуристов, всерьез подумывавшего об эмиграции в 1917-19 гг. в связи с приходом большевиков к власти, по меньшей мере нелеп48. Может быть, именно это сознание собственной нелепости заставляет его быть убедительным любой ценой, что в результате создает ощущение невольного гротеска, пародийности. Стилистически глава “В ногу с эпохой” – самая вымученная, неудачная глава: в сущности, компиляция. В “плакатном” стремлении убедить читателя в кровной связи кубофутуризма с революцией Крученых прямо следует тезисам статьи Маяковского “За что борется ЛЕФ”. Здесь же Крученых на скорую руку создает монтаж из цитат и текстов Каменского и Бурлюка, в частности, статьи Бурлюка “Красный Октябрь и предчувствия его в русской поэзии”49. Он даже не удосуживается подобрать нужные ему цитаты, почти полностью копируя их из Бурлюка. Так, например, Бурлюк цитирует Гиппиус со следующими комментариями: “Вот например как откликается на Октябрь Зинаида Гиппиус: (далее следует цитата. – Н.Г.)… Одна мысль о красном Октябре превращает поэтессу в тигру лютую, а злоба, видимо, дурной пособник вдохновенья, что и отразилось вплотную на ублюдистых стишонках”. У Крученых – точно та же цитата, и его комментарии почти дословно повторяют комментарии Бурлюка. Цитаты из стихотворений Каменского (“Ну раз еще сарынь на кичку” и “Пионерский марш”) Крученых заимствует из той же статьи.
Ответ на вопрос, почему Крученых прибегает к такой попытке, ясен. К 1932 г. поэт, о котором в 1929 г. Асеев в “Охоте на гиен” опубликовал следующие строки: “есть предметы для него безвкусные: общество, организованность, солидарность: они хранят для него деревянный вкус… он порвал со старым строем и не поверил в возможность существования нового”50, – должен был отбиваться от нападок со стороны уже не только газетной критики. Крученых не мог не понимать, что без “расстановки политических акцентов” в его рукописи о печати ее не может быть и речи51. Но не только это. Не стоит забывать, что Крученых, которого Владимир Марков точно охарактеризовал как поэта, наиболее независимого внутри группы кубофутуристов, но в то же время – наиболее преданного самому движению52, писал не автобиографию, а “книгу о футуризме”, “фактическую” историю футуризма, которой старался следовать объективно. С точки зрения социологии литературы и истории футуризма, эти главы представляют определенный интерес, так как в них более всего отразилась ситуация литературной политики тех лет и самый процесс создания весьма спорной версии об органическом продолжении ранней футуристической традиции в советский период в Лефе, конструктивизме и других течениях (в который были вовлечены тогда многие новаторы, начиная с лефовцев и Маяковского).
В конце 1920-х – начале 1930-х гг. Давид Бурлюк (который в своих американских публикациях называл себя “отцом советского пролетарского футуризма”), Маяковский, Каменский сознательно заняли крайне консервативные пробольшевистские позиции, во многом изменив своим ранним анархическим идеалам в политике и эстетике. Крученых старается не исказить факты – в своей истории футуризма он постоянно опирается на документы и реальные тексты участников этого движения. “Пришел десять лет назад первый Октябрь! А теперь вот уже их декада! Позади. Необходимо подводить итоги! Надо будет это сделать литературно-художественным критикам и в области поэзии, равно во всех других областях науки”, – писал Бурлюк в своем альбоме “Десятый Октябрь”53. Другое дело, что их задачи, концепции и стилистика имели уже мало общего с идеей раннего кубофутуризма, а часто были просто противоположны.
В вышеупомянутых главах воспоминаний за всеми этими цитатами сам Крученых, – и связанная с именами Хлебникова, Гуро, Малевича, Матюшина, И. Зданевича иная линия раннего русского футуризма – практически исчезает. Тем не менее, в силу, возможно, той же самой приверженности факту и действительности, Крученых так никогда и не смог, несмотря на “наигранную бодрость” этих глав, изменить себе и своей концепции русского футуризма, сохранив за собой особенное положение “проклятого поэта”54 в искусстве и истории. Как только мы оставляем документально воссозданное и выверенное автором историческое пространство текста и вторгаемся в зону автобиографического пространства Крученых, где правит уже не факт, а метафора, ситуация меняется. Провести границу между фикцией, сочиненным анекдотом и действительным фактом, принадлежащим биографии поэта – будь то его ранние юношеские рассказы, письма к друзьям, автобиография или, например, медицинская справка о “нормальности”, вклеенная в домашний альбом – невозможно. Говоря о последней и зная любовь Крученых к мистификациям, за которыми всегда, тем не менее, что-то кроется, трудно утверждать, что заставило поэта заручиться у знакомого доктора-коллекционера этим “документом” и украсить им альбом, открытый для друзей и почитателей, а впоследствии предназначенный самим Крученых для архива. Возможно, это – саркастический выпад поэта против “славы”, прочно укрепившейся за футуристами после выхода книги доктора Е. Радина “Футуризм и безумие” (М., 1913).
Крученых и не старается дать своему читателю ключ – эта ситуация типична для стилистики Крученых позднего периода 1940-60-х гг., столь близкой постмодернистскому сознанию55; Крученых – балансирующего на границе жанров, стирающего привычные границы реальностей. Как-то Крученых признался в письме к Шемшурину: “Я дарю лишь набросок, но тут целая система, Кант с Милюковым. – Загадка… Читатель любопытен прежде всего и уверен, что заумное что-то значит, т. е. имеет некоторый логический смысл. Так что читателя как бы ловят на червяка – загадку, тайну… Сказать: люблю — это связывает и очень определенно, а человек никогда не хочет этого. Он скрытен, он жаден, он тайнотворец. И вот ищется вместо люблю другое равное и пожалуй сугубое – это и будет: ле фанте чиол или раз фаз чаз… хо-бо-ро мо-чо-ро = и мрачность, и нуль, и новое искусство! Намеренно ли художник укрывается в душе зауми – не знаю”56.
В поэтике Крученых – будь то “заметки на полях”, декларация о зауми, поэма или размышления о футуризме – событие творчества, по сути, намного важнее, чем само произведение, то есть конечный результат опыта, в его остановленной неизменной “вещности”; наоборот – бесконечное возвращение к футуристическому “прочитав – разорви!” В произведениях поэта, когда-то ответившего на вопрос что такое высшее счастье: “это когда в холодную ночь идешь и ищешь ночлега. Увидишь огонек, будешь долго стучать, но тебе не откроют и прогонят прочь”57, – отразилось то же независимое безжалостное стремление не останавливаться, оставаясь до абсурда верным анархической энергии противостояния своего пути.
Нина Гурьянова
I. Наш выход. К истории русского футуризма
(Воспоминания, материалы, библиография)
От автора
1932 год – дата, округляющая счет истории русского футуризма. Именно в этом году исполняется 20 лет со дня первых публичных выступлений будетлян (вечера, диспуты), 20 лет со дня выхода Маяковского на литературную трибуну, 20 лет со дня взлета первой моей книги, написанной совместно с В. Хлебниковым1, и 20 лет со дня написания первого грозно-будетлянского манифеста “Пощечина общественному вкусу” в книге того же названия.
Даты межевые. Пора оглянуться, напомнить кое о чем, подвести некоторые итоги!
В этом же 1932 г. исполнилась еще одна – на этот раз очень грустная – годовщина, именно: го лет со дня смерти одного из самых славных будетлян – Велимира Хлебникова.
Хотелось бы как-нибудь особенно отметить эту годовщину. В прессе были опубликованы неизданные стихи Хлебникова, факсимиле его рукописей, спешно готовится к выходу 5-й том собрания его сочинений2. Здесь же я хотел бы дать очерк, характеризующий литработу Хлебникова, и предпослать его всей книге, которая будет в дальнейшем посвящена преимущественно изображению литературного быта раннего футуризма (1912–1917 гг.), отошедшего уже в область истории.
При написании статьи руководили мною и такие соображения: Хлебников, один из родоначальников русского футуризма и сам по себе замечательный поэт, до последнего времени очень мало был известен широкой читающей публике, еще менее изучен литературоведами.
Творчеству Маяковского, например, посвящена масса статей, отдельных книг, устроен даже специальный музей, да и при жизни своей сам Маяковский выступал с многочисленными докладами, демонстрировал и разбирал свои произведения. В. Хлебников оставался в тени. Даже вещи его до сих пор еще не все собраны и изданы. Хлебников сейчас только начинается, а между тем прошло уже 10 лет со дня его смерти. Вот почему, я думаю, в эту годовщину вполне уместно начать книгу о русском футуризме именно с обзора творчества Велимира Хлебникова.
Для читателя, мало знакомого с произведениями футуристов вообще, а Хлебникова в частности, пусть эта глава послужит “вступительным словом” к дальнейшей демонстрации публичных выступлений и творчества футуристов.
Несколько слов о характере самих воспоминаний. В них, естественно, говорится о том, чему я сам был свидетелем, а в большинстве случаев и участником, причем меня интересовала по преимуществу магистраль русского футуризма, т. е. так называемый кубофутуризм, или будетлянство.
Все боковые линии и течения (эгофутуристы, “Мезонин поэзии”, “Центрифуга” и др.), по-моему, только излишне усложняют и затемняют основную линию русского футуризма. Исходя из этого, я буду касаться боковых течений только вскользь, когда без этого обойтись никак нельзя. (Например, моменты блокировки с эгофутуристами, “Мезонином” и т. п. для совместных публичных и печатных выступлений.)
Магистраль футуризма в дальнейшем, послереволюционном периоде вобрала в себя все наиболее интересное и жизненное из “Центрифуги” и “Мезонина” (к тому времени уже распавшихся группировок). Таковы, например, Н. Асеев и Б. Пастернак. Усиленная таким образом магистраль стала называться Лефом.
Естественно, лефовцы будут в орбите моей памяти при написании этой книги. Все остальное оставим профессионалам-историкам и регистраторам!3
Надо, однако, подчеркнуть: при всей субъективности в выборе материала он несомненно поможет читателю понять, каким образом шумное полустихийное движение, в безудержно-молодом задоре бунтарски ниспровергавшее вековые каноны и традиции академизма в искусстве, могло вылиться в одно из самых активных течений советской литературы.
Это сделали великие исторические события и рост самих будетлян.
Тут нет ничего неожиданного. На наших глазах своенравные воды порожистых рек волей и мастерством строителей направляются в строго расчисленные спиральные камеры гигантских турбин.
Но чахлую гнилую Неглинку брезгливо прячут в канализационные трубы.
Москва. Октябрь, 1932 г.
Велимир Хлебников
28 июня исполнилось го лет со дня смерти Велимира Хлебникова, и только теперь он становится известен широкому читателю. Недаром весной один красноармеец рассказывал мне:
– Пришлось брать отпуск и из Москвы ехать в Тверь. Сказали, что там еще есть в продаже первый том стихотворений Хлебникова. Редкий случай!
Первые тома Хлебникова давно раскуплены. Они стали библиографической редкостью.
Если бы Хлебников дожил до этого – как бы гордился, как бы по-детски был счастлив!..
Чем же привлекают к себе эти книги современного читателя? Почему до революции произведения его казались такими необычными, что печатать их “рисковали” только его близкие друзья и футуристы?
Причина простая: талант Хлебникова – талант новатора и революционера как слова, так и литературных приемов, шел по совершенно новому руслу, и появление его на фоне эпохи литературного блуда 1907–1910 гг. не могло быть оценено тогдашними бульварно-санинскими и эстетно-аполлонствующими кругами1.
Теперь произведения Хлебникова, не полностью еще собранные, появились перед революционно-пролетарским читателем. И уже явственно, что поэт, раньше понятый лишь небольшим кружком друзей нового слова, становится достоянием широкой аудитории.
По произведениям Хлебникова еще долго будут учиться исключительно разработанной технике звукописьма, стихо-механике, где тончайшие части выверены, пригнаны, где детализовано малейшее движение звукообраза.
- …Дышит небу диким стадом
- Что восходит звука атом!..2
Отметим некоторые отличия поэтической речи Хлебникова от рутинной речи поэтов, тянущихся в “классики”.
1) Ритм.
До Хлебникова ритм стихов напоминал томное колебание качалки в гостиной – такое укачивание стихом довели до предела Бальмонт и Северянин.
Канонизированные размеры строф, а иногда даже целых стихотворений (сонет, триолет и т. п.) связывали поэтическое слово благополучным однообразием колыхания. Читатель заранее знал, что поэт, начавший стихотворение энно-стопным ямбом, таким же ямбом его и окончит. Это уже как бы вошло в литературную традицию начала XX века. Если и шли споры, то лишь о количестве и законности полуударений в стопе (см., напр., толстотомные исследования А. Белого).
Ритм Хлебникова отличается неожиданностью ходов и поворотов. Читатель словно оказывается в новом заповеднике и не знает, что его ждет на повороте. Если признать, что ритм в значительнейшей части определяется соотношением метрических единиц (стоп), то ритмический рисунок Хлебникова неожидан и асимметричен, в противоположность ритмическому рисунку классиков, где стихи напоминают ряд спичечных коробок. Ломаностью и асимметрией ритма Хлебников выделяется даже среди футуристов. Возьмем начало одного из первых стихотворений его “Трущобы”:
- Были наполнены звуком трущобы
- Лес и звенел и стонал,
- Чтобы
- Зверя охотник копьем доканал.3
Здесь перебои ритма вполне оправданы. В трущобах мчатся всадники, на каждом шагу их ждет неожиданность. Словом “чтобы” Хлебников переламывает строку. Как на охоте, когда внезапно приходится становиться бок о бок со зверем, так и поэт, точно всадник, стягивая узду, находчиво сокращает число стоп стиха.
Еще динамичнее ритм Хлебникова в позднейших вещах.
Вот, например, строки из “Ночного обыска”, где каждая фраза как приказ, как восклицание. Быстрый и отрывистый стих вполне совпадает со словарем и достигает наибольшей выразительности и свободы:
- – На изготовку!
- Бери винтовку!
- Топай, братва
- Направо, 38.
- Сильней дергай!
- – Есть!4
2) Инструментовка и рифма.
Можно насчитать несколько сотен новых и мощных рифм, внесенных Хлебниковым в русскую поэзию.
Рассматривая рифмы Хлебникова, зачастую находишь в них всю образную, сюжетную значимость строфы.
Однако главная забота поэта – подготовить рифму инструментовкой стиха. Парные строки строятся на произносительном (артикуляционном) подобии, и посторонние звуки, мешающие данной артикуляции, не могут и не должны входить в строку. Хлебников помещал в рифму самые ударные слова, но рифма, конечно, предопределялась всей строкой.
- Волге долго не молчится.
- Ей ворчится, как волчице.
- Волны Волги точно волки
- Ветер бешеной погоды
- Вьется шелковый лоскут
- И у Волги, у голодной
- Слюни голода текут.
Отрывок инструментован на звуках в-о-л-к, которые, повторяясь в семи коротких строках, двадцать раз разнообразятся звуковыми аккордами “вол-ворч-од-долг” и т. д.
В первых двух строках даны, кроме ударной, две внутренние полновесные рифмы – Волге-долго, ворчится-волчице и т. д. В третьей начальная рифма – волны Волги.
Созвучия, таким образом подобранные, дают предельную инструментовку переливов и рокота грозной волны.
Бушующая дикая Волга ни разу не ослабевает и не сбивается в чуждый звукоряд – весь отрывок в ударных местах построен на основной мелодии гласных о-о-о-у (вой-ропот-гул).
3) Образность речи.
Образы Хлебникова ярки и неожиданны, идут вразрез со стандартом. Вот, например, разоблаченная чайка и, попутно, меткая характеристика международных хищников-спекулянтов.
Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками глазом, имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в искусстве, с которым они похищают брошенную тюленям еду.
(“Зверинец”, 1909 г.)6
Иногда это ряд образов, неразрывно между собой связанных и влекущих друг друга:
- Мне, бабочке, залетевшей
- В комнату человеческой жизни
- Оставить почерк моей пыли
- По суровым окнам подписью узника7.
Но некоторые образы Хлебникова кажутся сперва похожими на загадку, кажется – поэт начудил.
- Олень – испуг, цветущий широким камнем.
Разгадка простая: олень – сама чуткость, весь насторожившийся, легкий, он в то же время придавлен тяжестью ветвистых рогов – как бы цветущим (замшелым?) камнем.
Особую категорию представляют словообразы Хлебникова.
- Вселенночку зовут мирея полудети
- И умиратище клянут.
“Мирея” – динамичное слово взамен фразы: “растворяясь в мировом”. “Умиратище” дает образ чудища, несущего смерть, и т. д.
Впрочем, классификация образов Хлебникова требует специального исследования.
4) Также вскользь скажем о словоновшествах Хлебникова, которые он вводил всегда очень обдуманно и намеренно и “расшифровка” которых требует обширных теоретических исследований.
Правда, некоторые его словоновшества уже как будто привились. Общеизвестно, например, его “Заклятие смехом”, все состоящее из одного только слова и производных от него.
- О, рассмейтесь, смехачи!
- О, засмейтесь, смехачи!
- Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно.
- О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных
- смехачей!
и т. д.10
Хлебников показал здесь большое чутье языка, прекрасное знание приставок и суффиксов, ритмическую виртуозность.
“Смехачи” так поразили, что некоторые критики еще в 1913 г. предлагали за одну эту вещь поставить памятник Велимиру Хлебникову – “освободителю стиха”, а в наше время (в 1927-28 гг.) существовал даже юмористический журнал под хлебниковским названием “Смехач”.
Велимир создал десятки тысяч новых речений. От одного глагола “любить” он произвел около тысячи слов. Он написал специальный доклад о новых “летных” словах (на потребу авиации), основал теорию “внутреннего склонения слов” и т. д.
Как-то ночью, проходя с друзьями по улице и взглянув на небо, он начал называть все созвездия их древнеславянскими именами!
В литературу Хлебников пришел от занятий по филологии, философии, естествознанию, математике и этих занятий не оставлял.
- Я – Разин со знаменем Лобачевского.11
Хлебников подчеркивал эту аналогию, ставя себя под знамя знаменитого ученого, создавшего новую геометрию. Друзья вспоминают, как изумлял их Хлебников широкой ученостью, например, говоря о возможности влияния китайской, японской, индийской и монгольской линии на русскую поэзию и давая обобщенные характеристики поэзии всех этих народов. Оперировать “народами и государствами” было обычным занятием Хлебникова, а его мечта – стать “председателем земного шара”, потому что всю жизнь он боролся за уничтожение государств, ограниченных пространством12.
* * *
Темы произведений Хлебникова разнообразны – зоологическая жизнь (“Зверинец”, “И и Э”), сельские идиллии (“Вила и леший”, “Сельская очарованность” и др.), фантастика (пьесы: “Мирсконца”, “Чортик”, “Пружина чахотки” и др.), быт будущих веков (“Радио”, “Дома и мы”, “Лебедия будущего” и т. д.)13.
Если определить темы Хлебникова схематично, это – природа – город – будущее.
Но больше всего он любил говорить и писать о войне. Одна из первых больших вещей Хлебникова “Учитель и ученик” – разговор о судьбах и битвах народов14. В 1915 г. он выпустил книгу “Новое учение о войне”. В течение десяти лет (1912-22 гг.) Хлебников произвел колоссальное количество математических и историко-хронологических выкладок, пытаясь установить “закон повторяемости войн” – ритм мировых битв15.
Общий его взгляд на войну таков: война государств – национальна, война должна быть, если народ этого хочет, но удар должен направляться не против соседнего народа, а против его дурного правительства.
- Долой Габсбургов, узду Гогенцоллернам!
Сам он мечтал быть на поле брани. Утверждал, что у него “костяк воина”, что, надевая шлем, он делается похож на “воина средних веков”17.
В 1916 г. Хлебников живет в Москве и задумывает организацию “государства времени”, куда, подобно платоновскому государству ученых, должны входить лучшие люди эпохи – революционеры, поэты, ученые – “председатели земного шара”, числом 317 человек.
Весною 1916 г. Хлебников поехал в Астрахань, где был призван на военную службу и отправлен в 93-й запасный полк, стоявший в Царицыне (ныне Сталинграде). Но ярмо империалистической военщины показалось ему “казнью и утонченной пыткой”, как он писал Н.И. Кульбину, прося освободить от ужасающей обстановки лазарета “чесоточной команды”.
Вот как он описывает себя в положении царского солдата:
Ад перевоплощения поэта в лишенное разума животное, с которым говорят языком конюхов, а в виде ласки так затягивают пояс на животе, упираясь в него коленом, что спирает дыхание; где ударом в подбородок заставляли меня и многих товарищей держать голову и смотреть веселей18.
И Хлебников возненавидел эту армию, подготовляемую для бессмысленной бойни.
- Где как волосы девицыны
- Плещут реки там в Царицыне,
- Для неведомой судьбы, для неведомого боя,
- Нагибалися дубы нам ненужной тетивою.
- В пеший полк 93-й
- Я погиб, как гибнут дети.
С этого момента Хлебникову особенно отвратительной стала империалистическая война, и он бросил в лицо ей несколько песен-проклятий. Большинство этих в свое время напечатанных стихов Хлебников смонтировал после в поэму “Война в мышеловке”.
В 1920 г., говоря о войне, он видит крах капитализма:
- В последний раз над градом Круппа
- Костями мертвых войск шурша,
- Носилась золотого трупа
- Везде проклятая душа.
Работая в бакинской “Росте”, в 1921 г. Хлебников в стихотворении, выросшем из плакатных работ, подчеркивает классовые тенденции белогвардейщины:
- От зари и до ночи
- Вяжет Врангель онучи,
- Собирается в поход
- Защищать царев доход.
- Чтоб как ранее жирели
- Купцов шеи без труда,
- А купчих без ожерелий
- Не видали б никогда.
- Чтоб жилось бы им как прежде,
- Так, чтоб ни в одном глазу,
- Чтобы царь, высок в надежде,
- Осушал бы им слезу.
- Небоскребы, как грибы,
- Чтоб росли бы на Пречистенке,
- А рабочие гробы
- Принимал священник чистенький21.
Если до 1916 г. Хлебников писал “о войне и России”, то после 1916 г. он говорит о войне и революции.
Он искренно принял Октябрь как событие давно ожидавшееся и закономерное. Еще в 1913 г., в статье “Учитель и ученик” (сборник № 3 “Союз молодежи”), он писал: “Не следует ли ждать в 1917 г. падения государства?”22
В начале 1917 г., освободившись от военной службы, он вернулся в Петроград, проявляя ко всему происходившему громадный интерес и участие, появляясь совершенно спокойно в разгар уличных боев и стрельбы. Позднее он пишет “Октябрь на Неве”. Вот отрывок, рисующий тогдашнюю столицу:
…“Аврора” молчаливо стояла на Неве против дворца, и длинная пушка, наведенная на него, походила на чугунный неподвижный взгляд – взор морского чудовища. Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда, его последняя охрана. (Удалось напророчить, называя его ранее Александрой Федоровной!) У разведенных мостов горели костры, охраняемые сторожами в огромных тулупах; в козлы были составлены ружья, и беззвучно проходили черные густые ряды моряков, неразличимых ночью, только видно было, как колебались ластовицы…23
Через несколько дней он выехал в Москву. В дальнейшей записи читаем:
Совсем не так было в Москве. Мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив головы на руки на Казанском (вокзале. —А.К.). Днем попадали под обстрел на Трубной и Мясницкой…24
В революционные годы Хлебников в некоторых произведениях тематически и стилистически близок Некрасову. Например, в поэме “Ночь перед Советами” рассказывается, как помещик, злой собачар, заставлял свою крепостную выкармливать грудью борзого щенка и лишь остатками молока кормить своего ребенка. Внучка этой крепостной, дожившая до революции, – главное действующее лицо поэмы – вспоминает самоуправство помещика, засекшего до чахотки “молочного брата” собаки “Летай-Кабыздоха”, мальчика, дерзнувшего разделаться по-мужицки с непрошенной “родней”.
- Утром барин встает,
- А на дворе – вой.
- Смотрит – пес любимый
- Висит как живой
- Крутится.
- Машет лапой.
- Как осерчал,
- Да железной палкой в пол застучал:
- – Гайдук! Эй!
- Плетей!
- Да плетьми, да плетьми
- Так и папаню засек до чахотки
- Красный кашель пошел! На скамье лежит —
- В гробу лежат краше!..25
В поэме “Ночной обыск” дается эпизод первых дней Октября: революционеры-моряки ищут спрятавшихся белогвардейцев.
- Слышу носом
- – Я носом зорок, —
- Слышу верхним чутьем:
- Белые звери есть,
- Будет добыча.
- – Брат, чуешь?
- Пахнет белым зверем.
- Я зорок
- А ну-ка, – гончие – братва!..26
Таким образом, от войны национальной, войны государств, Хлебников переходит к изображению классовой борьбы – войны гражданской. Ей посвящены лучшие вещи последнего периода его творчества: “Ладомир”, “Настоящее”, “Разин”, “Ночь перед Советами”, “Ночной обыск” и др.
Учение Хлебникова о войне, его “взоры на будущее” естественно переходят в научные утопии.
Для современного читателя интересны его мечты о городах будущего. То, что неясно для некоторых и сейчас, волновало Хлебникова еще в 1914 г.
Например, строительство новых домов:
На город смотрят сбоку, будут – сверху. Крыша станет главное27 (с развитием авиации. —А.К.).
Так Хлебников предвосхитил “фасады с воздуха”, которыми уже занимается современная архитектура.
В постройках будущего должно быть
чередование сгущенной природы камня с разреженной природой-воздухом28 (к озеленению городов. —А.К.).
И общие соображения:
Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома – значит без войны вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения…29
(“Мы и дома. Мы и улицетворцы”)
Дальше его мечты о школах на площадях среди зелени, преподавание посредством кино и радио. (Надо не забывать, что все это писалось 10–15 лет тому назад!)
Небокниги
На площадях, около садов, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа, и здесь творецкая община тенепечатью на тенекнигах сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьма. Новинки земного шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных своих родственников, приказы Советов.
(“Лебедия будущего”, 1915 г.)3°
Дальнейшее развитие этих мыслей мы находим в вещах 1921 г.:
Радио будущего – главное дерево сознания – откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество.
Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись “Осторожно”, ибо малейшая остановка работы радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания.
(‘Радио будущего”)31
Уже в наши дни и на наших глазах многие мечты Хлебникова осуществляются, утопия становится бытом.
Детство и юность будетлян
Ради ясности дальнейшего – кратко о себе. Делаю это не из “эгоцентризма”, а просто потому, что моя биография в известной степени восполняет воспоминания о моих товарищах по искусству.
В 1912-13 гг., когда мы бились плечо-о-плечо, никто из нас не думал об “истории футуризма” и мало интересовался прошлым, хотя бы даже своим. Но теперь, когда история футуризма уже вошла в общую историю литературы, становится необходимой и полная биография.
Деятелей каждого литературного направления – реалистов ли, символистов ли, романтиков и т. п. отбирают, в конечном счете, экономические и социальные факторы. Это они подготовляют ту или иную группу писателей или художников к ее роли в искусстве. Вот почему мы часто без труда наблюдаем сходство биографий участников подобных групп, хотя бы эти люди выросли далеко друг от друга, ничего не зная о своих будущих друзьях и даже не сознавая себя зачинателями определенного направления.
Завершается развитие одного цикла искусства, и настает пора развертываться другому. Будто раздается бой барабана… Гогены словно просыпаются, бросают филистерское сидение за служебным столом, забывают семью, едут на Таити… Появляются новые формы, раздаются хохот и улюлюканье староверов и т. д. и т. д. Известен путь новаторов. Он варьирует в подробностях у каждого, но в основном один. Нужды нет, что Гоген не отрезал уха, как Ван Гог, Сезанн не ездил на Таити и жил филистером в Арле, – все-таки их биографиям обще резкое расхождение с трафаретом. Это дает повод мещанам обвинять людей искусства в пороках, в преступлениях, наделять их всевозможными недостатками. Эти “недостатки” обычно сопутствуют рождению новых форм.
Вот так именно я смотрю на свою биографию. Я полагаю, что мои угловатости созвучны необычностям моих товарищей, но те и другие мастерски укрепляли позиции футуризма. Публика этого, конечно, не понимала. Когда она травит и улюлюкает новонаправленца – футуриста, символиста или кого хотите, – обывательщина не понимает, что футурист не может не делать того, что ее возмущает. Футурист борется за осуществление новых форм.
В этой борьбе находят отражение и борьба за существование, и классовая борьба, словом, здесь действуют основные исторические законы.
И понятно, что силы для такой борьбы подготовляются историческим процессом, а каждый отдельный участник борьбы – своим жизненным и литературным опытом.
И чем личность более упорна в своих отличиях и “недостатках”, чем крепче она их вырастила, тем более они пригодятся ей тогда, когда барабан забьет тревогу.
Итак – моя биография, думаю, имеет типовой, а не индивидуальный характер.
Родился я 9 февраля 1886 г. в бедной крестьянской семье, в одной из деревень под Херсоном1