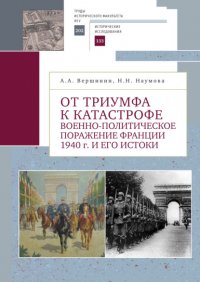
Читать онлайн От триумфа к катастрофе. Военно-политическое поражение Франции 1940 г. и его истоки бесплатно
- Все книги автора: А. А. Вершинин, Н. Н. Наумова
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени М. В. Ломоносова ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
[202]
ТРУДЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
СЕРИЯ II
ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (133)
Редакционный совет:
академик РАО, д.и.н., проф. Л. С. Белоусов (сопредседатель);
академик РАН, д.и.н., проф. С.П. Карпов (сопредседатель);
д. и.н., проф. Н. С. Борисов;
член-корреспондент РАН, д.и.н., проф. Л. И. Бородкин;
д. и.н., проф. А. Г. Голиков; д.и.н., проф. С. В. Девятов; д.и.н. О. Е. Казьмина; д.и.н. А. Р. Канторович;
гл.н.с., д.и.н. Л. В. Кошман; Н.В. Литвина; д.и.н., проф. Г.Ф. Матвеев; член-корреспондент РАН, д.и.н., проф. С. В. Мироненко; к.э.н. С. В. Орлов;
член-корреспондент РАН, д.и.н., проф. Е. И. Пивовар;
д. и.н. А. В. Подосинов; д. филол.н., проф. О. В. Раевская; к.и.н. Ю. Н. Рогулев; д.и.н. С. Ю. Сапрыкин;
член-корреспондент РАН, д. иск., проф. В. В. Седов; д.э.н., проф. В. В. Симонов; к.и.н. О. В. Солопова;
к. и.н. А. А. Талызина
Печатается по решению Ученого совета исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова от 29.09.2021 г. (протокол № 5)
Рецензенты:
д. и.н. Г.Н. Канинская (Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова),
к. и.н. В. Н. Горохов (МГУ им. М. В. Ломоносова),
к. и.н. Р. А. Сетов (МГУ им. М. В. Ломоносова)
@biblioclub: Издание зарегистрировано ИД «Директ-Медиа» в российских и международных сервисах книгоиздательской продукции: РИНЦ, DataCite (DOI), Книжной палате РФ
© А. А. Вершинин, Н. Н. Наумова, 2022
© Исторический факультет МГУ, 2022
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2022
Введение
О военно-политическом поражении Франции в мае-июне 1940 г. до сих пор сказано гораздо меньше, чем это событие того заслуживает. Французские историки долгие годы не знали, как к нему подойти: слишком много проблем завязано здесь в один узел. К началу Второй мировой войны Третья республика пребывала в затяжном политическом и социально-экономическом кризисе. Слабость международных позиций Франции, ставшая очевидной всему миру в сентябре 1938 г. в Мюнхене, являлась во многом проекцией ее внутренней нестабильности. В этом свете рассматривалась и «странная война» 1939–1940 гг.: не желавшая сражаться нация во главе со слабыми лидерами воевала, не воюя. Значение поражения мая-июня 1940 г. на этом фоне просто терялось. Оно выглядело как само собой разумеющееся, вытекавшее из ошибок всего межвоенного 20-летия и как таковое не требующее какого-то специального объяснения. Чисто военный аспект проблемы здесь вообще отходил на второй план[1].
Об этой особенности историографии событий 1940 г. пишет ведущий французский исследователь международных отношений в ХХ в. М. Вайс: «Большая часть историков [изучавших участие Франции во Второй мировой войне – авт.], которые, естественно, рассматривали [интересующее их – авт.] явление a posteriori, тяготели к тому, чтобы анализировать ход событий в свете их результата. Иными словами, можно задаться вопросом о том, не ставят ли историки поражения [1940 г. – авт.] перед собой цель критиковать французскую историю 1930-х гг., отталкиваясь от исхода франко-германского противостояния?»[2].
Играл свою роль и другой фактор. Разгром 1940 г. открыл путь к демонтажу Третьей республики и установлению вишистского режима, вставшего на путь сотрудничества с Германией. Эта тема на протяжении всего XX в. оставалась болезненной для французского общества, что также не способствовало непредвзятому изучению обстоятельств военно-политического поражения Франции. Они, так или иначе, «тонули» либо в истории французского коллаборационизма, либо рассматривались в контексте возникновения движения генерала Ш. де Голля, продолжившего из Лондона войну против Германии и ее союзников[3]. В рамках обоих нарративов события мая-июня 1940 г. отходили на второй план. Их рассматривали как апофеоз банкротства старой Франции и момент национального позора. «Поражение 1940 года, – пишут в этой связи историки С. Гарсон и Т. Сарман, – является одной из кровоточащих ран во французской истории, источником постоянной скорби, гнева или удивления» [4].
Эту точку зрения озвучили уже сами действующие лица. Правительство Виши в 1942 г. организовало суд над представителями военно-политической элиты Третьей республики, так называемый Риомский процесс, в ходе которого их обвиняли в подрыве оборонного потенциала Франции и пытались возложить на них ответственность за поражение страны. С иных позиций, но так же жестко лидеров Третьей республики критиковал де Голль, подчеркивая их нежелание вовремя реформировать вооруженные силы, которые в итоге оказались не готовы принять вызов Вермахта[5]. Своего рода символом этой проигравшей элиты стал генерал М. Гамелен, с 1931 по 1939 гг. отвечавший за подготовку страны к войне. На протяжении всех двух месяцев судебных заседаний в Риоме он не проронил ни слова, объявив, что «молчать – значит по-прежнему служить Родине», однако после войны издал три тома мемуаров, в которых пытался оправдаться перед нацией в совершенных ошибках[6]. Это ему не помогло: Гамелен скончался в 1958 г., так и не восстановив своей репутации, лишенный правительством права на воинские почести, положенные человеку, в прошлом командовавшему французской армией.
В Советском Союзе и России причины и последствия военного поражения Франции 1940 г. традиционно рассматривали через призму проблемы ответственности за начало Второй мировой войны. Франция, не пойдя по пути сближения с СССР в середине 1930-х гг., обрекла себя на следование в фарватере британской политики, которая уверенно шла курсом на «умиротворение» нацистской Германии. Дипломатическое фиаско в Мюнхене фактически лишило Париж шансов сформировать коалицию больших и малых стран, заинтересованных в общей борьбе против германской экспансии в Европе. Весной-летом 1939 г. в ходе англо-франко-советских переговоров Франция вновь показала себя неспособной проводить самостоятельную от Лондона линию, а также оказалась заложницей политических комплексов и антипатий своего польского союзника. Однако уже осенью 1939 г. она оставила на произвол судьбы и его. У столь бесславной истории мог быть лишь бесславный итог[7].
Все это – реальные факты, которые не оспариваются большинством серьезных исследователей. Французская стратегия оказалась совершенно не приспособлена к тем вызовам, с которыми она столкнулась после 1933 г. Военно-политическая элита страны в целом ряде отношений проявила нерешительность, слабость и недальновидность. Точка зрения советских историков, которые корни проблемы усматривали в ее классовой сущности и стремлении любой ценой направить германскую агрессию против первого в мире социалистического государства, безусловно, требует корректировки. Однако это ни в коей мере не предполагает снятие с высших руководителей Франции ответственности за начало Второй мировой войны в целом и оправдание тех ошибок, которые они совершили.
Разнообразный спектр мнений о причинах поражения Франции во Второй мировой войне, сложившихся среди историков, можно условно разделить на две направления. Одно из них (Ф. Бедарида, М. Вайс, Ж. Дуаз, Ж-Б. Дюрозель, М. М. Наринский, В. П. Смирнов) рассматривает события с точки зрения концепции общего упадка Третьей республики в 1930-е гг. Речь идет о процессе постепенной деградации политических институтов Франции, который охватил и сферу принятия ключевых решений во внешнеполитической и оборонной сферах. Особое внимание представители этого течения в историографии уделяют облику французской политической элиты, значительно обновившейся на рубеже 1920-1930-х гг. и оказавшейся не на высоте исторического момента. Ее недееспособность перед лицом германского напора и британской пассивности стала, по их мнению, важной предпосылкой начала Второй мировой войны.
Другое направление в историографии (М. С. Александер, Р. Франк, Э. дю Рео, Р. Янг), не отвергая полностью значения факторов, выделяемых их коллегами, на первый план выдвигает проблему объективной ограниченности того военного, политического и экономического инструментария, который находился в распоряжении руководства Франции накануне войны. По их мнению, вызовы, с которыми столкнулась страна, были беспрецедентны по своей сложности. С учетом этого ограничения руководство страны сделало максимум того, что было возможно. Благодаря его усилиям в мае 1940 г. в военном отношении Франция по большинству параметров не уступала Германии. Представители этого направления в историографии полагают, что говорить об особой роли фактора деградации политических элит в данном случае не приходится: доводы в пользу того, что другие политики и военные в той ситуации могли бы сделать больше, кажутся им умозрительными. Что действительно сыграло роль в трагическом финале Третьей республики – это поражение французской армии на поле боя.
Истину, как часто бывает, следует искать между этими двумя позициями. Французский историк Р. Ремон призывает отказаться от крайностей в оценке причин поражения 1940 г. С одной стороны – от однозначной критики исключительно политического режима, который «бросил страну в рискованную войну… и одновременно пренебрег приготовлениями к ней», который «имел столько пороков, скрытых или явных, что задаешься вопросом: каким чудом он так долго держался?». С другой стороны, по мнению историка, «не следует сводить перипетии событий лета 1940 г. только к случайностям, к преувеличению роли факта неожиданности и результатам недальновидного [поведения – авт.]»[8].
Подобная позиция выглядит наиболее взвешенной, однако раскрыть ее в полной мере можно, лишь детально исследуя процесс формирования и трансформации французской стратегии после окончания Первой мировой войны. «Роль большой, или высшей, стратегии, – отмечал Б. Лиддел Гарт, – заключается в том, чтобы координировать и направлять все ресурсы страны или группы стран на достижение политической цели войны – цели, которая определяется большой, или государственной политикой»[9]. В случае Франции после 1918 г. стратегической целью являлась уже не победа в войне, а сохранение того положения, которое страна завоевала по ее итогам. Речь шла об использовании всего арсенала средств, который имелся в распоряжении Третьей республики, в первую очередь, военного и дипломатического. При этом, однако, возникал целый ряд важных обстоятельств, которые приходилось учитывать лицам, принимавшим ключевые стратегические решения.
К. Клаузевиц писал о том, что «идеальная война», конфликт двух сил, мобилизующих все ресурсы для нанесения первого и единственного уничтожающего удара, является чистой абстракцией и никогда не имеет место в реальности [10]. Такой же абстракцией следует считать «идеальное сдерживание» в реалиях межвоенного периода. Франция не могла постоянно держать занесенный меч над головой поверженной Германии: это выходило не только за пределы ее наличных сил, но и противоречило здравому смыслу. Для достижения прочного мира требовалось адекватно оценивать стоящую перед страной угрозу, острота которой постоянно менялась. Соответственно приходилось настраивать существующую систему союзов и распределять имеющиеся внутренние ресурсы с целью поддержания боеспособности вооруженных сил. На это накладывались такие ограничения, как общее состояние экономики страны и общественные настроения, которые в условиях демократической политической системы постоянно меняли курс находившихся у власти правительств. В реалиях Франции межвоенного периода проблема стратегического планирования превращалась, таким образом, в сложнейшую задачу.
В первом разделе данной книги предпринята попытка разобрать французскую стратегию на составные элементы и посмотреть, насколько в каждой из ее сфер страна была готова к войне. В центре внимания авторов находятся дипломатическая деятельность правительств Третьей республики по обеспечению национальной безопасности и военное строительство. Детально рассматривается положение дел, возникшее по итогам заключения Версальского мира; выделяются его внутренние противоречия; анализируются причины упадка французской военной мощи на рубеже 1920-1930-х гг. и того внешнеполитического тупика, в котором Третья республика оказалась после 1936 г., а также попытки его преодоления. Особое внимание уделяется активизации французского военного строительства накануне войны: исследуется его политический и социально-экономический фон, освещаются дискуссии, развернувшиеся между военными и государственными деятелями по вопросам перевооружения. Отдельные главы посвящены событиям 1939 г., предварявшим начало Второй мировой войны.
Второй раздел непосредственно касается участия Франции в войне. Что представляла собой французская армия к осени 1939 г.? Как действовало ее командование? Что скрывается под понятием «странная война» и каковы были альтернативы ей? Как вообще Франция собиралась выиграть эту войну? Как она готовила свою экономику и собственное население к новым испытаниям? Какая роль здесь отводилась британскому союзнику? Ответы на эти вопросы требуют рассмотрения под новым углом тех сюжетов, которые уже освещались в историографии, в том числе в отечественной. Наконец, особое внимание уделяется, собственно, событиям мая-июля 1940 г. Неожиданное для всех военное поражение сопровождалось коллапсом политической системы и масштабным «исходом» населения с оказавшихся под угрозой захвата территорий. Каждый из этих трех элементов катастрофы 1940 г. заслуживает отдельного изучения.
Авторы книги провели анализ большого массива российской и иностранной литературы, а также привлекли богатый материал источников, как опубликованных (мемуары, сборники документов), так и архивных (Архив исторической службы министерства обороны Франции, Архив внешней политики Российской Федерации, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив социально-политической истории). Введение и главы 1–8 написаны А. А. Вершининым; главы 9 – 11 – Н. Н. Наумовой; заключение написано совместно Н. Н. Наумовой и А. А. Вершининым.
Разгром Франции во Второй мировой войне, несмотря на прошедшие с тех пор 80 лет, вызывает вопросы как у историков, так и у широкой общественности. За последние три десятилетия за рубежом вышло много работ, проливающих свет на его причины и последствия. В современной российской историографии, несмотря на наличие фундаментальных трудов, опубликованных в советское время, до сих пор не существует комплексного исследования, которое более-менее подробно освещало бы эту тему. Авторы данной книги не ставят перед собой задачу ответить на все вопросы, связанные с военно-политическим крахом Третьей республики. Их цель – показать всю сложность поднятой проблемы через анализ той реальной ситуации, в которой оказалась Франция в межвоенные годы, и рассмотреть общие подходы к выявлению причин поражения 1940 г., ставшего одним из центральных событий в истории Второй мировой войны. Без понимания его подлинного значения ее картина останется неполной.
Часть I
Истоки катастрофы
Глава I
«Неприкосновенность территории» во главе угла: у истоков французской стратегии межвоенного периода (1918–1930 гг.)
14 июля 1919 г. в день национального праздника Третьей республики Париж стал свидетелем впечатляющего зрелища. Широкие проспекты французской столицы превратились в сцену для проведения грандиозного парада в честь победы Франции и ее союзников в Первой мировой войне. Накануне, 13 июля президент страны Р. Пуанкаре вручил маршальские жезлы трем главным авторам разгрома Германии – Ж. Жоффру, Ф. Фошу и Ф. Петэну. На площади Согласия на всеобщее обозрение выставили трофейные германские пушки: некогда грозные орудия были свалены в груду, на вершину которой водрузили фигуру галльского петуха. В ночь на 14 июля у подножия огромного кенотафа, установленного на площади Звезды, при участии председателя Совета министров[11], «отца победы», Ж. Клемансо прошла церемония поминовения погибших за Отечество[12].
День был посвящен чествованию победителей. Торжественный парад открывала тысяча ветеранов, получивших увечья на полях сражений, за которыми верхом следовали три маршала и контингенты союзных армий, предводительствуемые своими командующими: британскую колонну возглавлял генерал Д. Хейг, американскую – генерал Дж. Першинг. В центре внимания находились «пуалю» – рядовые солдаты французской армии, вынесшие на себе основной груз войны на Западном фронте. Их сопровождали бойцы колониальных частей – африканцы и зуавы. Замыкали шествие танки FT-17 фирмы «Рено». Парад проследовал через Париж с запада на восток – миновал Триумфальную арку и завершился на площади Республики. Вечером в честь победы был дан праздничный салют. Зрителями торжеств стали два миллиона парижан и гостей столицы[13].
«Выжившие смогли увидеть этот день»[14], – написал тогда Клемансо, и в этих словах проявилось глубокое понимание той цены, которую Франции пришлось заплатить за ее триумф. Первая мировая война стала одним из наиболее тяжелых испытаний за всю историю страны, которая вплотную подошла к грани национальной катастрофы. Дважды, в 1914 и в 1918 гг., германские армии угрожали Парижу. Десять северовосточных департаментов, промышленное сердце Франции, стали ареной грандиозных сражений и практически лежали в руинах. Почти 1,4 млн. французских солдат были убиты, что составляло более 16 % от числа всех мобилизованных и примерно четверть мужчин в возрасте от 18 до 27 лет[15]. 3,6 млн. человек получили ранения. На фоне практически не растущей с конца XIX в. численности населения эта убыль являлась колоссальным ударом по демографическому потенциалу страны. Национальное богатство сократилось на 12 %. Государственный долг в 1918 г. составил огромную сумму в 170 млрд. франков[16].
Даже 11 ноября 1918 г., в день долгожданного перемирия Клемансо был далек от оптимизма. Вечером этого дня в беседе со своей дочерью, отвечая на вопрос, счастлив ли он, глава правительства сказал: «Я не могу этого сказать, потому что я не счастлив»[17]. Эмоции, которые владели французским обществом и элитами, в феврале 1919 г. хорошо описала газета «Тан»: «Правда состоит в том, что мы радуемся победе подобно тому, как радуются выжившие после катастрофы или ужасной болезни»[18]. Французы, оказавшись победителями, остро ощущали свою слабость. Тем сильнее было их стремление максимально воспользоваться триумфом для того, чтобы раз и навсегда ликвидировать германскую угрозу. Это намерение не скрывали уже в начале войны. 20 сентября 1914 г. правительство официально заявило, что Третья республика стремится не только освободить территорию страны и вернуть себе Эльзас и Лотарингию, но и настроена «покончить с гегемонией прусского милитаризма». Посол Франции в России М. Палеолог в те же дни отметил в обращении к министру иностранных дел России С. Д. Сазонову, что Антанта должна «установить в Европе новый режим, гарантирующий на долгие годы всеобщий мир»[19].
За этими словами скрывался масштабный замысел переустройства Старого света. К началу 1917 г. после серии внутренних консультаций и переговоров с союзниками он приобрел целостный вид. Возвращение в состав страны Эльзаса и Лотарингии считалось само собой разумеющимся и не фигурировало как предмет переговоров. Ядром французской программы были условия, касавшиеся региона между границей, установленной в 1871 г. по итогам франко-германской войны, и Рейном. Помимо Эльзаса и Лотарингии, речь, таким образом, шла о Рейнской области Германии (Рейнланде), Сааре и Люксембурге. Вся эта территория должна была попасть под прямое влияние Франции, что обеспечило бы ей качественно новый уровень безопасности. Руководство страны выделяло два аспекта вопроса: «во-первых, стратегическую безопасность, предполагавшую ту или иную форму контроля над линией Рейна, но также и экономическую безопасность, связанную с пониманием того факта, что в ХХ в. безопасность была неотделима от промышленной мощи»[20].
Создание стратегического рубежа на Рейне завершало формирование того, что со времен кардинала Ришелье и Людовика XIV рассматривалось как pré carré, – линии естественных границ Франции, замыкавшей в себе ее зону безопасности и сферу исключительного влияния[21]. Рейнская область превращалась в буфер, который защищал бы страну от нового вторжения с востока. В то же время Париж получал в свое распоряжение ресурсы всего лотарингского промышленного района, одного из главных центров европейской черной металлургии, производившего 10 млн. тонн стали в год. До войны более половины этого объема приходилось на германские фирмы[22]. Лишив своего противника этих ресурсов, Франция серьезно ослабляла его военно-промышленный потенциал и пропорционально увеличивала свой. В случае достижения еще одной цели, которую намечали ее руководители, – присоединения Люксембурга – страна превращалась бы в одного из крупнейших производителей стали в мире, практически ликвидируя четырехкратное отставание по этому важнейшему показателю от Германии и становясь на один уровень с Великобританией [23]. Венчать масштабную стратегическую конструкцию должен был таможенный союз с участием Бельгии и Италии, в котором Париж играл бы первую скрипку. Реализация столь амбициозных планов не только навсегда ликвидировала бы военную угрозу со стороны Германии, но и превращала бы Францию в экономического гегемона Европы.
Однако для воплощения этого замысла в жизнь требовалась эффективная стратегия. Французы основывали ее на трех главных постулатах: идее имманентной враждебности Германии, понимании уязвимости Франции, очевидном факте ее зависимости от союзников. Историческая память и ожесточенность вооруженного противостояния 1914–1918 гг. говорили им о том, что удара от немцев можно ждать в любой момент. В ноябре 1918 г. среди видных политиков и военных раздавались голоса в пользу отказа от перемирия на основе «14 пунктов» президента США В. Вильсона и решающего наступления вглубь территории Германии. В числе недовольных преждевременным перемирием были президент Франции Р. Пуанкаре, председатель нижней палаты парламента П. Дешанель, послы в Лондоне и Вашингтоне. Командующий 10-й армией генерал Ш. Манжен настаивал на проведении запланированного на вторую половину ноября наступления в Лотарингии. Военный советник Клемансо генерал А. Мордак убеждал главу правительства в необходимости продолжения боевых действий с целью полного военного разгрома Германии. Тех же взглядов придерживался тогда Ш. де Голль[24].
При всем своем негативном отношении к большевизму, французы не испытывали того страха перед перспективой стихийной советизации Германии, который оказывал серьезное влияние на американцев и британцев. Они настаивали на сохранении морской блокады германских портов, несмотря на то, что она наносила удар по уровню жизни немцев и не способствовала внутриполитическому спокойствию в их стране. По мнению Клемансо и его советников, снятие блокады стало бы проявлением слабости и дало бы Берлину возможность накопить ресурсы, что, в свою очередь, позволило бы его представителям занять более жесткую позицию на мирных переговорах1. Даже разоруженная германская армия представляла, с точки зрения французского военно-политического руководства, значительную угрозу. Постоянно опасаясь возобновления боевых действий, оно откладывало демобилизацию своих вооруженных сил, которая затянулась до весны 1920 г., несмотря на недовольство общественности и явные признаки брожения в войсках[25][26].
Это стремление обеспечить себе дополнительную гарантию на случай непредвиденного развития событий объяснялось и глубоким чувством уязвимости Франции. Германская промышленность, практически не пострадавшая в годы войны, по своему объему по-прежнему почти вдвое превосходила французскую, которая понесла серьезный ущерб в 1914–1918 гг. Для того чтобы компенсировать людские потери, 40-миллионной Франции с ее практически стагнирующей численностью населения требовались десятилетия[27]. В Германии, насчитывавшей 75 млн. человек, складывалась обратная ситуация. Индекс рождаемости в 1913 г. составлял здесь 3,52 ребенка на одну женщину[28], что позволяло уже в обозримой перспективе нивелировать последствия утраты 2 млн. человек убитыми за годы войны. Демографический и индустриальный балансы сводились явно не в пользу Парижа.
Исправить положение дел могла бы эффективная система альянсов. Однако и здесь послевоенная Франция оказалась перед лицом серьезных проблем. В 1919 г. на пространстве бывшей Российской империи царил хаос, и никакой надежды на то, что она возродится как серьезная военная держава, не просматривалось. Большевиков во Франции считали в лучшем случае опасными бунтарями, в худшем – агентурой германского Генерального штаба[29]. Рассчитывать на помощь России в сдерживании потенциального германского реваншизма, таким образом, не приходилось. Поддержку Франции могла бы оказать Италия, однако этот вариант имел несколько важных недостатков. Во-первых, итальянцы не лучшим образом зарекомендовали себя на фронтах мировой войны и не представляли собой, с точки зрения Парижа, серьезной военной силы. Во-вторых, их продолжали считать конкурентами в борьбе за влияние в Средиземноморье. В ходе переговоров о присоединении Италии к Антанте в 1915 г. ей пообещали территориальное приращение за счет земель, населенных немцами и южными славянами. Но уже в ходе мирной конференции большая часть этих обещаний была дезавуирована, а демарш, сопровождавшийся отъездом итальянской делегации из Парижа, – фактически проигнорирован. К 1919 г. Австро-Венгрия уже не существовала как единое государство, и на карте континентальной Европы больше не оставалось крупных держав, которые могли бы помочь Франции в деле обеспечения ее безопасности.
Все эти факторы в ходе переговоров на Парижской мирной конференции учитывал Клемансо. В 1919 г. «Тигру», как его называли сторонники и недоброжелатели, исполнилось 78 лет. Молодым политиком он уже участвовал в обсуждении мирного договора между Францией и Германией, того, который был подписан в 1871 г. и знаменовал сокрушительное поражение его страны. Он видел затяжную осаду Парижа, провозглашение Германской империи в Зеркальной галерее Версальского дворца, победный парад германских войск на Елисейских полях. Избранный тогда депутатом Национального собрания, Клемансо выступил против капитуляции[30]. С поражением он так и не примирился. Незадолго до смерти он признался в интервью американскому журналисту: «Я всегда ненавидел Германию за то, что она причинила Франции»[31]. В 1919 г. ему представился шанс завершить дело всей жизни и поставить победную точку в историческом франко-германском противоборстве.
Жорж Клемансо.
Источник: United States Library of Congress.
«Когда он сидел в зале совещаний, – вспоминал государственный секретарь США Р. Лансинг, наблюдавший за Клемансо на парижских переговорах, – он мог бы быть моделью для китайской статуи Будды. Он был поразительным человеком, в котором чувствовалась энергия ума, искусство самообладания и холодная безжалостная сила воли… С восточным стоицизмом он наблюдал за ходом событий и безошибочным инстинктом, присущим западному сознанию, вычислял, где лежат интересы Франции»[32]. Однако, «Тигр» был достаточно опытным дипломатом, чтобы понимать, что, защищая интересы Франции, ему предстоит выдержать еще одну битву. Как он сам заявил в частной беседе накануне старта переговоров в Париже, «выиграть мир» будет ничуть не легче, чем победить в войне[33]. Противниками здесь должны были стать те, кто еще вчера являлся союзниками.
В «Большой тройке» держав-победительниц Франция была слабейшей. Чтобы добиться успеха, ей предстояло идти на компромиссы. Клемансо отказался от любых проектов демонтажа германского государства, которые активно обсуждались во Франции: существование Германии являлось исторической данностью, с которой было необходимо считаться[34]. Ядром французского замысла послевоенного урегулирования стала идея ограничения возможностей Берлина начать новую войну. Оформлявшая ее программа представляла собой попытку разработать сложную стратегию, основанную на дипломатическом и военном инструментарии. В стратегии Клемансо на Парижских переговорах французский историк Ж.-А. Суту выделяет несколько уровней, ключевыми из которых были два[35].
Первый ставил во главу угла необходимость сохранения тесного взаимодействия между Францией и ее главными союзниками по Антанте – США и Великобританией. «Начиная с весны 1917 года, – отмечает британский историк А. Туз, – Клемансо говорил об уникальной исторической возможности создания союза трех великих демократий, который приведет к миру, стоящему на “защите справедливости”» [36]. Отсюда вытекала та концепция Лиги Наций, которую собиралась отстаивать на переговорах французская делегация. Международная организация, основанная на военно-политическом и экономическом сотрудничестве держав-победительниц, мыслилась как инструмент установления новых правил игры, вплоть до возможности наделения ее правом применения вооруженной силы. Мировой порядок, задуманный Вильсоном, должен был служить целям обеспечения безопасности Франции.
Второй уровень строился на фундаменте традиционной реальной политики. Германию следовало максимально ослабить, чтобы исправить дисбалансы в совокупной мощи двух стран. Систему военных ограничений и репарационных выплат должно было завершать создание новой французской стратегической границы на Рейне. Накануне Парижской конференции эта цель получила оформление в виде конкретных условий: территорию к западу от реки, а также узкую полосу на ее восточном берегу предполагалось отделить от Германии и создать здесь автономное политическое образование под французским протекторатом. Веймарская республика, таким образом, лишалась бы не только удобного плацдарма для возможного нападения на Францию, но и важного индустриального района с высокой плотностью населения. Париж же, взяв Рейнскую область под военный контроль, собирался интегрировать ее в свое таможенное пространство. Наряду с планировавшимся присоединением Саара с его угольными шахтами это создавало задел для серьезного военно-экономического усиления Франции.
Особое значение инструментарию силового сдерживания Германии придавали военные. «Если мы удерживаем Рейн, Франция может оставаться спокойной. У нее будет и безопасность, и репарации. Если она его не удержит, у нее не будет ни одного, ни другого. Все, что ей предложат, все, что ей дадут взамен – лишь иллюзия, видимость, пустота»[37], – отмечал маршал Ф. Фош, в годы войны являвшийся главнокомандующим союзными силами и игравший активную роль при выработке условий мирного урегулирования. По его мнению, Рейн мог стать надежным барьером, для обороны которого потребовалось бы не более 120 000 солдат – половина от численности войск, защищавших французские границы в 1914 г.[38] Потенциальный противник кроме того лишался важного плацдарма, с которого открывался прямой путь в сердце страны. Франция же, наоборот, получала и заслон, и, удерживая контроль над переправами через реку, плацдарм для вторжения вглубь германской территории.
По замыслу Клемансо, США и Великобритания должны были стать гарантами этой новой французской стратегической границы. Однако Вильсон и премьер-министр Великобритании Д. Ллойд Джордж отказались поддержать его предложения. С их точки зрения, безопасность, обеспечиваемая экспансией либеральных ценностей, свободного рынка при минимальном наборе институциональных опор в виде арбитражных гарантий Лиги Наций не предполагала участие в схемах, базировавшихся на понятии национального интереса и факторе силы. Свою роль играла и необходимость поддержания международного баланса на континенте. По словам В. Н. Горохова, «политика англосаксонских держав, направленная на сохранение достаточно сильной Германии, была обусловлена желанием обеспечить традиционное равновесие сил как гарантию европейской стабильности. При этом Веймарской республике отводилась роль противовеса как Франции, так и Советской России»[39]. «Французы, в свою очередь, очевидно, не могли принять эту минималистскую концепцию безопасности… и верили в необходимость гораздо более действенных, конкретных “территориальных”, геополитических обязательств»[40], – отмечает Ж.-А. Суту. Результатом этого противоречия стал итоговый компромисс, оформленный в Версальском договоре, который лег в основу французской стратегии и военного планирования на годы вперед.
Франция не смогла добиться полной реализации обеих задач, поставленных ее руководством в ходе мирной конференции. Лига Наций, учрежденная с учетом англо-американских пожеланий, оказалась рыхлым органом с ограниченной компетенцией и слабыми полномочиями. Она была весьма далека от образа «мирового жандарма», контролирующего выполнение договоров, который представлял себе Клемансо. Военные ограничения, наложенные на Германию, выглядели сурово, но сами по себе они, с точки зрения французов, не являлись надежной гарантией против германского реванша[41]. Ключевое французское требование обособления левого берега Рейна и установления над ним военного контроля Парижа было принято лишь частично. Рейнская область оккупировалась временно и должна была быть освобождена в три этапа к 1935 г., после чего сохранялся ее демилитаризованный статус. Саар переходил под управление Лиги Наций и в 1935 г. должен был высказаться на плебисците по вопросу о своей государственной принадлежности. Проект политического и экономического поглощения Рейнланда, Саара и Люксембурга остался нереализованным. Наконец, гарантии безопасности Франции от неспровоцированного нападения со стороны Германии, полученные от США и Великобритании в обмен на уступки по рейнскому вопросу, в конечном итоге отказались фикцией, будучи дезавуированы и Вашингтоном, и Лондоном.
Половинчатый характер Версальского договора для обеспечения французской безопасности отмечали уже современники. Как выразился историк Ж. Бенвиль, он был «слишком жесток при всей своей мягкости и слишком мягок при всей своей жесткости»[42]. В то же время с точки зрения военного планирования он создавал серьезный задел. В ходе тяжелых обсуждений Клемансо смог внести в текст договора важную оговорку, которая давала Парижу возможность укрепить и продлить свой контроль над Рейнской областью: в случае угрозы безопасности территории Франции или перебоя в поступлении репарационных платежей французы могли возобновить или продлить оккупацию Рейнской области. Глава французского правительства добился изъятия из проекта договора пункта о 30-летнем сроке взимания репараций, а также настоял на том, что любое финансовое послабление Берлину должно получить единогласную поддержку держав-победительниц, что давало Франции право вето в репарационном вопросе. Таким образом, чем хуже платила бы Германия, тем дольше Франция оставалась бы на берегах Рейна.
Фердинанд Фош.
Источник: Dutch National Archives
Фош был наиболее активным критиком договоренностей, заключенных в Версале. По словам его биографа, «он всегда действовал энергично, будь то на поле боя или за столом переговоров»[43]. Именно такой человек понадобился политическому руководству Антанты в один из наиболее сложных моментов войны – в марте 1918 г., когда германские армии угрожали прорвать фронт союзников севернее Парижа. Состоявшееся тогда назначение Фоша главнокомандующим союзными войсками способствовало преодолению кризиса [44], и хотя решения маршала (это звание он получил в августе 1918 г.) часто подвергали критике, даже его недруги признавали: «Вы можете не соглашаться с ним, но вы не можете не восхищаться им. Воля, упорство – у него есть все качества лидера»[45]. После войны он занял пост главы межсоюзнического Военного комитета в Версале и всю свою энергию приложил к тому, чтобы навсегда ликвидировать угрозу безопасности Франции со стороны Германии.
Взгляды Фоша на международные отношения основывались на нескольких основных постулатах. Во-первых, маршал мало верил в жизнеспособность дипломатии per se как инструмента обеспечения национальной безопасности. Франция, прежде всего, должна опираться на собственное могущество и на баланс сил. В том случае, если ее мощь уступает ресурсам потенциального противника, она может вступать в союзные отношения с государствами, имеющими схожие интересы. При этом подразумевались классические военно-политические альянсы в духе XVIII–XIX вв. Идеи нового мирового порядка и новой дипломатии, провозглашенные Вильсоном, Фош считал надуманными. При этом он полагал, и это являлось второй основой его мировоззрения, что вооруженная сила и стратегическое превосходство играют роль важнейшего инструмента в арсенале великой державы, действующей на международной арене: она не должна находиться в критической зависимости от какой-либо страны, даже союзной. В-третьих, маршал больше, чем кто-либо из политиков, не доверял немцам. Он считал, что сама природа германского государства представляла собой угрозу. Прусский милитаризм он рассматривал как основу германского мировоззрения, без ослабления и искоренения которой долговременное мирное сосуществование с Веймарской республикой невозможно[46].
Эти идеи, в той или иной степени, разделяла большая часть командования вооруженных сил. Генералы, безусловно, предпочитали бы увидеть более жесткие условия, навязанные Германии. Вместе с тем передача Франции контроля над Рейнской областью с перспективой его расширения и продления являлась большим преимуществом и позволяла строить планы на будущее. Сам Фош не мог не отдавать себе в этом отчета. Его упорная борьба против мира, подписанного в Версале, объяснялась, вероятно, не только принципиальным несогласием с самими условиями договора. Парижские переговоры Клемансо вел в своем традиционном стиле – авторитарно, советуясь лишь с самым узким кругом ближайших советников. Маршал был фактически отстранен от участия в них, что не могло не вызвать его неудовольствия и создавало для него дополнительные стимулы подвергать жесткой критике достигнутые договоренности. Так или иначе, после 1919 г. он в своей деятельности на высших командных постах никогда не ставил под сомнение статьи Версальского мирного договора, отталкиваясь от них как от отправной точки.
Идея «рейнского щита» давала ответ на основной вопрос французского военного планирования после 1918 г. Первая мировая война продемонстрировала, как в условиях индустриального общества выглядит тотальный вооруженный конфликт между великими державами. Победа в нем, как показал опыт самой Франции, требует концентрации всей экономической мощи страны и мобилизации всех доступных человеческих ресурсов. Великобритания могла разворачивать свою военную экономику под прикрытием «рва с морской водой» и военно-морского флота. Соединенные Штаты имели уникальное преимущество, располагаясь на другом континенте, на большом отдалении от гипотетических театров военных действий (ТВД). Франция же непосредственно соседствовала с территорией своего основного вероятного противника. Более того, вблизи границы находилась большая часть французского экономического потенциала.
На территории между бассейном Сены и восточными рубежами страны располагалось три четверти ее угледобычи и текстильного производства, 90 % мощностей сталелитейной промышленности и добычи железной руды, 70 % нефтепереработки и производства сульфата аммония[47]. В случае вторжения немцев на территорию Франции, этот район со всей его промышленностью становился полем сражения. Лишившись бесценных ресурсов, страна теряла шансы победить в войне на истощение. «Если бы северо-восточная Франция оказалась разрушена или оккупирована, то игра была бы проиграна»[48], – отмечает канадский историк Р. Янг. По опыту 1914–1918 гг. командование французской армии ожидало, что будущая война против Германии также приобретет затяжной окопный характер. Но при этом главной угрозой для страны на начальном этапе боевых действий считалось «внезапное нападение» (attaque brusquée). Немцы могли повторить опыт 1914 г. и попытаться сокрушить французов одним мощным наступлением, чтобы избежать гибельной для себя войны на истощение. Именно этот удар, даже не достигнув основных политических центров страны, мог лишить Францию ядра ее военной экономики[49].
Здесь рождался ключевой для французского военного планирования межвоенных лет императив «неприкосновенности территории». Генерал Э. Бюа, начальник Генерального штаба французской армии в 1920–1923 гг., писал в дневнике 15 апреля 1919 г.: «Если мы не хотим снова воевать на своей территории, нам необходим не только щит на левом берегу Рейна, но и абсолютно надежные договоренности с Бельгией, с одной стороны, и со Швейцарией, с другой стороны… Чем дальше на территорию противника мы сможем перенести театр военных действий, тем меньше нам придется укреплять нашу собственную границу» [50]. Оборона по линии Рейна решала и другую важную задачу – позволяла экономить живую силу, которой Франция после потерь 1914–1918 гг. особенно дорожила. «Авангард» на Рейне мог действовать и наступательно в том случае, если бы возникла необходимость силой заставить Германию выполнять условия мирного договора.
Его наличие наполняло конкретным военным смыслом «тыловые союзы», которые Париж начал заключать с восточными соседями Германии после 1919 г. Предполагалось, что они возьмут на себя ту же роль, которую до 1918 г. играл альянс с Российской империей, а кроме того обеспечат политическую основу французского доминирования в Восточной Европе. Отсюда вытекала необходимость установления тесных отношений с Польшей и оказания ей помощи в войне против Советской России, а также выстраивание тесных отношений с другими государствами региона, в первую очередь с Чехословакией, Румынией и Королевством сербов, хорватов и словенцев, в 1920 г. создавших военно-политический союз, т. н. Малую Антанту[51]. 19 февраля 1921 г. в Париже был подписан франко-польский союзный договор, предполагавший координацию действий двух стран на международной арене, а также, согласно отдельно заключенной военной конвенции, взаимную помощь в случае конфликта с Германией или Советской Россией[52]. Франко-чехословацкий договор о дружбе и союзе, заключенный в 1924 г., не был дополнен военной конвенцией, однако чехословацкая армия, с 1919 г. находившаяся под командованием французских генералов[53], рассматривалась как потенциально союзная. В случае конфликта с Германией выдвижение с Рейнского плацдарма давало французским войскам возможность взаимодействовать с польскими и чехословацкими силами.
Принцип «неприкосновенности территории», таким образом, отнюдь не диктовал чисто оборонительный характер военного планирования. Напротив, как отмечают французские историки Ж. Дуаз и М. Вайс, «стратегический выбор непосредственно после войны был в пользу молниеносной атаки против Германии в самом начале боевых действий, чтобы избежать затяжной войны, которая могла приобрести ход, благоприятный для Германии, благодаря превосходству ее военного потенциала»[54]. А. Мажино, военный министр в 1922–1924, 1929 и 1931–1932 гг., будучи безусловным сторонником идеи «неприкосновенности территории», считал, что «армия должна быть способна с самого начала боевых действий идти вперед, занимать отдельные стратегические позиции, которые необходимы для концентрации германских сил, при необходимости брать в залог ресурсы, которые, находясь в нашем распоряжении, делали весьма затруднительной, может быть, даже невозможной подготовку промышленности противника к войне»[55].
Аналогичные мысли развивались во французской военной периодике начала 1920-х гг. Генерал В. д’Юрбаль писал о вероятности новой войны, в которой против Франции выступит Германия, объединившаяся с Австрией и опиравшаяся на поддержку России. В подобной ситуации французская армия должна развернуть решительное наступление в направлении Берлина и Мюнхена. Генерал утверждал, что оборонительная стратегия сыграет на руку немцам и поставит под сомнение шансы Франции на победу. Офицер под псевдонимом «Люциус» в серии статей доказывал преимущества атаки перед обороной. По его мнению, несмотря на все уроки Первой мировой войны, непреложной оставалась та истина, что лишь активное наступление позволяет верховному командованию навязать противнику свою волю и в конечном итоге добиться успеха.[56]
Рейнский плацдарм рассматривался в Париже как основная точка приложения колоссальной военной мощи. В 1920 г. после проведения демобилизации французская армия насчитывала 872 000 человек[57] и оставалась на тот момент самой большой кадровой армией мира, полностью доминируя над сокращенным до 100 000 человек и разоруженным германским Рейхсвером. По уровню технической оснащенности она также занимала первое место. В 1919 г. Франция имела около 13 000 артиллерийских орудий, 2600 танков, из которых 100 были тяжелыми, и лучшую в мире авиацию[58]. Ее авангардом была Рейнская армия, дислоцированная на территории Германии. Сразу после окончания войны она насчитывала 200 000 человек[59] и подлежала демобилизации лишь в последнюю очередь. Этим войскам предназначалась роль дамоклового меча, подвешенного над Германией на случай ее отказа от принятия условий мирного договора. В 1920 г. численность французского контингента на берегах Рейна составляла 95 000 человек[60] – шесть дивизий постоянной готовности, и еще столько же выделялись в резерв[61]. По замыслу французского командования, эта сила представляла собой самостоятельное оперативное соединение, которое без значительных подкреплений, используя заранее занятые плацдармы на восточном берегу Рейна, могло проводить любые операции на территории Германии.
Уже первый послевоенный план стратегического развертывания (план «Т») ставил перед Рейнской армией наступательные задачи на территории Германии, прежде всего – в Рурской области. Пришедший ему на смену в 1921 г. план «П» предполагал, в случае обострения международной обстановки, выдвижение франко-бельгийских войск с рейнского плацдарма вглубь Рурского бассейна и долины Майны с целью срыва германской мобилизации и захвата важнейшего промышленного района страны. В случае дальнейшего развития конфликта, в действия вводились следующие этапы плана, которые прописывались лишь в самых общих чертах: мобилизация в две волны 84 французских дивизий с привлечением 20 бельгийских, вторжение на территорию центральной Германии в координации с польскими и чехословацкими войсками с целью рассечения страны на северную и южную части[62]. Эта же идея лежала в основе действовавшего в 1924–1926 гг. плана «А», в котором более детально прописывалась процедура мобилизации и выдвижения дополнительных воинских контингентов на линию Рейна. «Наступательная концепция, – гласил план «А», – [является – авт.] единственной дающей возможность компенсировать те неизбежные недостатки, которые вытекают из низкой численности нашего населения и слабости нашей промышленности»[63].
На протяжении 1920-х гг. контроль над Рейнской областью являлся краеугольным камнем всего французского военного строительства. Генерал Бюа был уверен в том, что война не начнется, по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется французское и бельгийское присутствие на берегах Рейна[64]. Маршал Ф. Петэн, главнокомандующий сухопутными войсками, комментируя в 1928 г. стратегическое положение Франции на Рейне, отмечал с несвойственным ему оптимизмом: «Не будем мрачно смотреть в будущее и, после стольких жертв, скажем о нашей законной надежде на честный и долгий мир»[65]. Оккупация Рейнской области носила временный характер, однако прописанный в мирном договоре режим ее эвакуации (по зонам с севера на юг, заканчивая очищением района Майнца в 1935 г.) до конца оставлял перед французами открытым путь в сердце Германии. Кроме того, Франция, при наличии политической воли, сохраняла легальную возможность воспользоваться периодическими нарушениями Веймарской республикой взятых на себя обязательств и продлить пребывание своих войск на берегах Рейна.
Солдаты французских оккупационных войск на берегу Рейна у Кобленца, 1929 г.
Источник: Deutsches Bundesarchiv, Bild 102-08810 / CC-BY-SA 3.0
«Рейнский щит» позволил Франции почувствовать себя в безопасности. Благодаря ему, прилагая минимальные усилия, Париж мог принуждать Берлин к выполнению мирного договора и купировать возможную военную угрозу с его стороны. В первой половине 1920-х гг. французские войска трижды переходили Рейн, чтобы навязать немцам свою волю: в апреле 1920 г, в марте 1921 г. и в январе 1923 г. Во всех случаях военное вмешательство достигало своей цели. Рурская операция 1923–1924 гг., в конечном итоге завершившаяся для Франции бесславно, с чисто военной точки зрения являлась успехом. Именно тогда в военной среде стали раздаваться голоса тех, кто предлагал вернуться к предложениям Фоша 1919 г. и, воспользовавшись бедственным положением Германии, навсегда де-юре обособить от нее Рейнскую область[66]. Однако, эти призывы в итоге не нашли отклика у политиков.
В январе 1923 г. в кругу высших военных Петэн констатировал: «Каждый знает, что у Франции нет империалистических целей. С тех пор, как она вернула Эльзас и Лотарингию, ее национальные устремления удовлетворены. С экономической точки зрения Франция, при помощи своих колоний, может почти полностью снабжать себя сама. Она, таким образом, хочет лишь одного – жить в мире. Если ей снова придется взять в руки оружие, у нее не будет иной цели, кроме как обеспечить безопасность и добиться от противника возмещения причиненного ущерба. Таковы военные цели Франции. Их знают все французы, и правительство страны, в которой сформировалось подобное общественное мнение, не может иметь перед собой других»[67]. Маршал во многом выдавал желаемое за действительное. К моменту завершения мировой войны цели Франции были куда более амбициозными, чем просто зафиксировать статус-кво с поправкой на отторжение от Германии Эльзаса и Лотарингии. Однако Версальский договор не оставлял альтернатив – Парижу приходилось довольствоваться тем, что смог выторговать Клемансо. Обеспечение безопасности находилось во главе угла, но страна, помимо этого, хотела снять с себя политическое, экономическое и психологическое бремя поддержания огромной военной машины, оставшейся со времен мировой войны.
В 1922 г. в ответ на предложение военного министра Мажино увеличить финансирование вооруженных сил министр финансов Ш. Ластейри заявил: «Есть ли на самом деле абсолютная необходимость в столь значительных расходах на вооружения? Мы держим левый берег Рейна, мы держим переходы через реку. В настоящий момент мы защищены от угрозы. Нельзя ли предположить, что, пока мы находимся на Рейне, опасность не столь неотвратима, чтобы мы не могли, по хорошо известному выражению, “дать Франции немного вздохнуть”?»[68]. Страна действительно несла значительную военную нагрузку. Непосредственно после мировой войны французские военные контингенты размещались на трех континентах. В Европе они сдерживали германскую угрозу на Рейне, в Силезии, Шлезвиге и Мемеле; помогали строительству польской и чехословацкой армий; осуществляли интервенцию в Советской России. В Азии – наводили порядок на Ближнем Востоке, следили за Константинополем, контролировали Индокитай. В Африке они охраняли огромную французскую колониальную империю. В армии и стране усиливалось недовольство затягивавшейся демобилизацией.
«Дать Франции немного вздохнуть», в первую очередь, означало сворачивание этих обременительных обязательств, пропорциональное сокращение численности действующей армии и уменьшение срока военной службы по призыву. С 1913 г. он составлял три года, и в преддверии войны позволил нарастить численность действующей армии: к 1914 г. на 10 000 жителей во Франции приходилось 56 призывника против 41 в Германии[69]. Однако уже на завершающем этапе войны было понятно, что пережившая огромное перенапряжение, понесшая большие потери страна будет ждать сокращения трехлетнего срока и выдаст соответствующие мандаты своим представителям в парламенте. «Что прежде терпелось перед лицом неотвратимой опасности, с тем плохо мирятся сейчас, после одержанной победы, не говоря уже о том, что в силу естественной реакции против недавнего еще злоупотребления оружием все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к сражениям, отталкивает от себя народные массы» [70], – писал де Голль.
Военный советник Клемансо генерал Мордак вспоминал, как сразу после завершения боевых действий в 1918 г. председатель Совета министров говорил о том, что сокращение срока воинской службы с трех лет до года – лишь вопрос времени[71]. «Сокращение срока активной службы, – писал генерал М.-Э. Дебене, начальник Генерального штаба армии в 1923–1930 гг., – является прямым следствием победы. После столь тяжелого и продолжительного испытания решающий успех заставляет облегчить ношу народа, который столь великодушно пошел на неслыханные жертвы ради правого дела»[72]. С 1920 г. проекты военной реформы обсуждались одновременно в правительстве, парламенте и на заседаниях Высшего военного совета, главного органа управления сухопутными силами, в состав которого входили высшие офицеры.
Среди министров имелся почти полный консенсус. Разногласие возникло лишь в 1920 г., когда военный министр А. Лефевр выступил против сокращения срока службы по призыву до 18 месяцев и предложил уменьшить его лишь до двух лет. Однако он оказался в полном одиночестве. Председатель правительства А. Мильеран призывал «не напрягать нервы до предела и делать все для того, чтобы снять нагрузку, если не доказано, что ее необходимо сохранить»[73]. В том же духе высказывался депутат генерал Э. де Кастельно: «Я не готов тридцать лет носить на своих плечах тяжелый груз, который поможет мне избежать опасности через пятьдесят лет. Я просто попрошу о передышке, если таковая вообще возможна» [74]. Депутат Ж. Фабри, один из главных спикеров нижней палаты по военным вопросам, заметил, что полуторагодовой срок военной службы позволит французской армии купировать любую угрозу, которая в тот момент могла исходить от Германии[75].
Высшие офицеры по долгу службы не могли с оптимизмом относиться к сокращению срока службы по призыву, но были вынуждены подчиняться воле политиков и учитывать настроения общественности. При этом они оговаривали, что количества солдат (профессионалов и набранных по призыву) должно хватать для укомплектования такого количества дивизий, которое было необходимо для «обеспечения дипломатических обязательств и внешней политики» Франции. У военных и политиков, таким образом, имелись разные точки отсчета: если первые ставили во главу угла конкретные внешнеполитические задачи, для реализации которых требовалась вооруженная сила, то вторые были готовы подверстать численность действующей армии под достижение политической цели сокращения срока военной службы. В 1920 г. Высший военный совет решил, что французская армия мирного времени должна составлять не менее 41 дивизии, однако правительство настояло на цифре в 32 дивизии[76].
Генералы были готовы пойти на снижение срока службы по призыву до полутора лет, однако считали, что оно несет с собой риски и дальше сокращать его нельзя. Высший военный совет особо указывал на то, что «срок службы длительностью в 18 месяцев является той планкой, при понижении которой национальная безопасность окажется под угрозой»[77]. Кроме того, в Генштабе настаивали на увеличении числа профессиональных военнослужащих до 100 000 человек. «Профессионализация» вооруженных сил являлась одним из вариантов их развития после окончания войны. Генерал Бюа уже в конце декабря 1918 г. писал в своем дневнике, что служба в армии мирного времени «обязательно будет краткосрочной», а значение и количество профессиональных военных серьезно вырастет[78]. Подобная конфигурация могла вписаться во французскую стратегию: профессиональные мобильные контингенты брали бы на себя ответственность за поддержания порядка в колониях и находились «на острие удара» в Рейнской области.
Однако идея «профессионализации» вооруженных сил не только противоречила философии «вооруженной нации», унаследованной Третьей республикой от эпохи Революции конца XVIII в. и ставшей важной частью ее политической культуры. Она вступала в конфликт с опытом Первой мировой войны, которая велась «большими батальонами» – массовыми армиями. Кроме того, на реализацию подобного замысла у французского правительства не было денег: «низкая оплата, альтернативные экономические возможности и неясность в вопросе пенсионного обеспечения препятствовали набору нужного числа профессионалов»[79]. После 1918 г. во Франции наблюдалось падение престижа службы в вооруженных силах. Резко сократился набор в высшую военную школу в Сен-Сире, считавшуюся кузницей французской армейской элиты: «несмотря на послабления при поступлении, выпуски в Сен-Сире были малочисленными… В 1928 г. офицерский корпус насчитывал 25 % выпускников Сен-Сира против 40 % в 1913 г.»[80]. Ряды армии массово покидали квалифицированные офицеры-артиллеристы, находившие высокооплачиваемую работу в частных фирмах[81].
Военные не могли идти против политиков, которые опирались на поддержку общественного мнения. В декабре 1920 г. при обсуждении проекта военной реформы на Высшем военном совете под председательством президента Республики маршал Фош заявил, что при полуторагодовом сроке службы по призыву Франция столкнется с трудностями в части силового принуждения Германии к выполнению мирного договора, однако, в конечном итоге, поддержал предложение правительства[82]. По утверждению Петэна, невозможность полностью опереться на наемные кадры не являлась основанием для отказа от реформы[83]. Принятый в 1923 г. закон сокращал срок службы по призыву до полутора лет. При этом логика военной реформы предполагала и дальнейшее уменьшение срока службы до одного года, о чем в тексте документа имелась специальная оговорка. В то же время Франция не могла себе позволить столь резких сокращений. Уже летом 1924 г. на завершающем этапе Рурской операции для обеспечения оккупации германской территории привлекалось 75 % доступных пехотных полков французской армии[84]. Одновременно шли военные кампании в Северной Африке (Рифская война) и в Сирии (против восставших друзов), для ведения которых привлекались войска из Рейнской области. Лишь во второй половине 1920-х гг. дальнейшее обсуждение военной реформы перешло в практическую плоскость.
Результатом попыток принять во внимание общественный запрос на дальнейшее сокращение срока службы по призыву до одного года с одновременно сохранявшейся необходимостью вести колониальные войны и оккупировать часть германской территории, а также с учетом финансовых трудностей правительства был комплекс законов 1927–1928 гг. Их реализация привела к полной реорганизации вооруженных сил, вышедших из Первой мировой войны. Французская армия уменьшалась до пяти кавалерийских и 25 пехотных дивизий, из которых пять предназначались для действий в колониях и имели высокую степень автономии, формируя фактически отдельную армию. 20 дивизий, составлявших армию метрополии, соответствовали 20 военным регионам, в которых они располагались. С учетом профессиональных солдат (106 000) и солдат, призванных на год и отслуживших полгода, пройдя базовое обучение (120 000), для их комплектации имелось 226 000 человек с военной подготовкой. В случае военной угрозы этот контингент должен был обеспечить прикрытие границы и укомплектовать тыловые учебные центры и штабы, проведя мобилизацию двух дополнительных дивизий в каждом военном регионе[85].
Мари-Эжен Дебене.
Источник: Bibliothèque nationale de France
Начальник Генштаба сухопутных сил Дебене, являвшийся одним из разработчиков реформы 1927–1928 гг., писал: «Армия метрополии, французская территориальная армия, организованная в соответствии с законами 1927–1928 гг., полностью ориентирована на максимально возможную реализацию идеи вооруженной нации»[86]. Действительно, реформированная армия мирного времени не являлась боеготовой вооруженной силой, а представляла собой лишь «костяк для проведения мобилизации и формирования армии военного времени»[87]. В каждом ее полку было лишь два батальона вместо трех, в каждой дивизии – два полка вместо четырех, положенных по штатам времен Первой мировой войны. Реформа предполагала уход от корпусной системы, что затрудняло отработку слаженности действий крупных соединений на маневрах. Профессиональные солдаты занимались не столько собственной боевой подготовкой, сколько обучением новобранцев. В результате обесценивалось их основное преимущество как потенциального фундамента новой армии.
После реформы 1927–1928 гг. призывник, отслужив год, а в реальности 10 месяцев с учетом организационных и логистических факторов, переходил в резерв, в котором оставался на протяжении 19 лет. Предполагалось, что для поддержания боевых навыков он будет регулярно проходить военные сборы в том полку, где отбывал срочную службу. Частота сборов соответствовала трем возрастным группам резерва. Расчет делался на то, что, таким образом, между солдатами сформируется та слаженность, позволяющая им эффективно действовать в бою, которая до 1923 г. возникала в казармах в ходе трехлетней службы. Вот как эта задача объяснялась в документах Генштаба: «Люди, которые будут вместе сражаться на войне, должны иметь предварительную возможность познакомиться друг с другом в мирное время. Они должны уже знать своих командиров, а командиры – их»[88]. На практике добиться этого не удавалось ввиду отсутствия централизованной системы организации боевой подготовки резервистов: к сборам привлекались запасники разных возрастов, которые могли сами выбирать время их прохождения; сохранялись многочисленные отсрочки и освобождения.
В результате мобилизация проходила по следующему сценарию. Действующий полк разворачивался в три полка военного времени. При этом относительно боеспособным был лишь первый, состоявший преимущественно из военнослужащих-«срочников» и недавно отслуживших солдат запаса. В двух других пропорционально увеличивалась доля резервистов старших возрастов (до 75 %)[89]. Реализация подобного «утраивающего механизма» имела несколько важных последствий. Во-первых, мобилизация проходила «поэшелонно», во-вторых, она значительно затягивалась по времени, в-третьих сопровождалась формированием неравноценных войсковых соединений, в которых костяк подготовленных резервистов серьезно размывался. Эти особенности оказывали влияние на военную доктрину, которая, приспосабливаясь к новой структуре вооруженных сил, упрощалась. Армия, укомплектованная в основном резервистами, должна была руководствоваться «катехизисом» четких и понятных инструкций. Кроме того, в силу того же кадрового и организационного перекоса, в ней отсутствовал механизм внедрения тактических и технических инноваций[90].
Складывалась парадоксальная ситуация: французская армия в своей части, готовой к непосредственному ведению боевых действий, лишь вдвое превосходила по численности ограниченный Версальскими статьями Рейхсвер при гораздо более высокой выучке и организации германских вооруженных сил. С точки зрения стратегии реформы 1927–1928 гг. создали ситуацию, при которой Франция оказалась неспособна проводить наступательные операции без объявления всеобщей мобилизации. По точному замечанию Ж. Дуаза и М. Вайса, «миф больших батальонов в сочетании с законом об однолетней службе породил того монстра, которым была французская армия 1930-х гг.»[91].
Некоторые военные считали, что подобная реальность соответствовала задачам, стоявшим перед вооруженными силами. Генерал М. Вейган в 1939 г. вспоминал: «Наши военные законы 1927–1928 гг…создали армию, которая вполне отвечала реалиям Европы, подчинявшейся положениям Версальского договора. Германия была практически разоружена, Рейнская зона оккупировалась союзными войсками в течение 15 лет и демилитаризировалась на неопределенный срок»[92]. Другой генерал писал в 1920 г., что французская армия «может быть лишь армией национальной обороны»: «Она не может быть ни инструментом завоевания, ни постоянной угрозой соседям»[93]. В законе 1927 г. было прямо сказано: «Военная организация страны имеет своей главной целью обеспечение неприкосновенности национальной территории»[94]. Наступательная конфигурация французского развертывания в Рейнской области явно не соответствовала новому видению развития вооруженных сил.
Принятый в 1926 г. и действовавший до 1929 гг. «план А bis» являлся первым послевоенным оборонительным планом стратегического развертывания французской армии. В случае конфликта с Германией оккупационные войска должны были занять оборону и держать ее до окончания мобилизации в тылу[95]. При этом линия концентрации французских войск смещалась на 65 км западнее, чем предусматривалось по «плану П», приближаясь к границе Франции. Пришедший ему на смену в 1929 г. «план Б», разрабатывавшийся одновременно с принятием военной реформы, окончательно ставил перед войсками на Рейне оборонительные задачи. В случае начала войны им предстояло выигрывать время, ведя арьергардные сражения и отступая на заранее обозначенные рубежи[96]. В 1935 г. Петэн признавал, что концепция национальной обороны, выросшая из реформ 1927–1928 гг., «полностью основывалась на допущении, что наш возможный противник не способен в короткий срок выставить мощную армию, и на расчете на то, что при его приближении мы найдем время для подготовки»[97].
Столь глубокая трансформация всей военной машины никем заранее не предусматривалась. Вопрос о том, что будет представлять собой французская армия мирного времени, долгое время оставался открытым. При том, что принцип «неприкосновенности территории» оставался ключевым пунктом военного планирования, это не предполагало перехода к чисто оборонительной доктрине. Рубеж Рейна рассматривался не только как непреодолимая преграда, но и как база для активных наступательных действий. Реформа 1927–1928 гг., на годы вперед лишившая Францию инструмента оперативного проецирования военной силы за пределы своих границ, вызревала постепенно, и важнейшим фактором здесь являлось доминирующее среди политиков и общественного мнения представление о том, что страна, защищенная «щитом на Рейне», находится в относительной безопасности от внешней угрозы. Именно эта идея способствовала смещению приоритетов и позволила подчинить задачи национальной обороны внутриполитическим факторам. Фабри в ходе предварительного обсуждения закона 1923 г. открыто признавал: «Свои построения я делаю, отталкиваясь от факта сохранения оккупационного режима [в Рейнской области – авт.], который установлен на 15 лет. Я не смотрю дальше» [98].
Парламентарии выступали выразителями широкого общественного консенсуса. Его влияние на себе ощущали уже члены так называемой небесно-голубой палаты, сформированной по итогам выборов 1919 г. и получившей свое неофициальное название из-за большого числа бывших военных, занявших депутатские кресла[99]. Народные избранники, по словам Ф. Гельтона, оказались в двусмысленном положении: «Будучи кандидатами в депутаты, они в большинстве своем активно апеллировали к официальной жесткой линии в отношении Германии. В то же время в стенах Палаты и на публичных собраниях они поддерживали более активную демобилизацию и сокращение срока службы по призыву»[100].
Это противоречие постоянно углублялось. Рурский кризис 1923 г., вызванный попыткой силой заставить немцев платить по репарационным счетам, символизировал окончание периода массовой патриотической мобилизации, вдохновленной идеями закрепления результатов выстраданной победы в мировой войне. К 1924 г., отмечает французский исследователь Н. Русёлье, «война виделась скорее источником бедствий, чем каналом политической мобилизации»[101]. Ожидания от силовой операции против Германии не оправдались, действия французского правительства пагубно сказались на состоянии национальной экономики. На этом фоне социальные настроения начали быстро меняться. Проявилась «изнанка» воинственного патриотизма – колоссальная усталость широких слоев населения от войны, военной риторики и, вообще, силовой политики как таковой. Французов, – отмечал младший современник событий, философ и социолог Р. Арон, – «не покидало воспоминание об ужасах войны. По правде говоря, даже правители не верили, что кто-либо… сможет хладнокровно взять на себя ответственность за новую бойню. Допустить, что война фатально неизбежна, значит, говорили тогда, содействовать тому, чтобы она и в самом деле стала таковой»[102].
Антивоенные идеи объединили все французское общество. В авангарде пацифизма стояли объединения ветеранов войны, людей, прошедших окопы и не желавших снова в них возвращаться. К концу 1920-х гг. в рядах ветеранских организаций состояло около 3 млн. человек, а сами ветераны в отсутствии права голоса у женщин составляли до половины французского электората[103]. Их программа представляла собой сложное сочетание патриотизма и антимилитаризма, но пацифизм в ней явно преобладал. Ежегодно в день окончания войны 11 ноября сценами для его демонстрации становились национальный мемориал в Дуомоне, сооруженный в память о погибших в Верденском сражении, и 36 000 мест памяти павших, которые появились в самых отдаленных городах и деревнях. Еще одним столпом массового пацифизма являлись женские организации. Около 600 000 французских женщин остались вдовами войны, многие потеряли отцов, братьев, сыновей. Именно они стали голосом «страны единственных сыновей»[104], для которой потеря каждого человека на фронте являлась частью большой национальной трагедии. В 1921 г. была основана Лига женщин против войны, установившая тесные связи с пацифистскими группами внутри международного женского движения [105].
Мемориал в Дуомоне, современное состояние.
Источник: Paul Arps / Wikimedia Commons
С пацифистских позиций выступали многочисленные крестьянские ассоциации, обладавшие серьезным весом в стране, где половина населения до сих пор проживала в сельской местности и откуда на фронт ушли миллионы призывников. Около половины преподавателей школ и лицеев, отправившихся на войну, погибли, что во многом обусловило яркую антивоенную позицию влиятельного профсоюза учителей. Пацифистские идеи активно внедрялись в школьное образование. В их основе лежала концепция «патриотического пацифизма». Антивоенные идеи должны были вытеснить традиционный для Франции республиканский милитаризм и лечь в основу новой политической культуры страны. Шло «моральное разоружение» французского общества[106]. Маршал Петэн открыто обличал «антипатриотическое влияние» преподавателей на умы молодежи [107]. Против войны резко выступало мощное рабочее движение во главе с социалистической (СФИО[108]) и коммунистической (ФКП) партиями. Франция не хотела больше воевать.
Р. Арон так описывает настроения своего поколения, вошедшего в активную жизнь в 1920-е гг.: «Какая еще война была такой длительной, жестокой и бесплодной, как война 1914–1918 годов? Страсти, придавшие ей легитимность, были чужды и порой почти непонятны двадцатилетним юношам в 1925 году. Большинство из нас пережило эту войну издалека, не страдая от нее. Те же, кто воевал сам или осиротел в этой войне, ненавидели ее тем сильнее, что считали выгоды победы несоизмеримыми с принесенными жертвами. Возмущение выливалось в антимилитаризм. Этот антимилитаризм содействовал в известном смысле деморализации армии»[109].
Эту же мысль выражал де Голль. «В духе нашего времени, – писал он, – есть, кажется, все для того, чтобы терзать совесть профессионалов [военных – авт.]. Повсюду распространяются некие мистические настроения: войну не только проклинают, ее склонны считать устаревшей, и всем хочется чтобы так было на самом деле. О битвах не хотят вспоминать ничего, кроме крови, слез и могил, забывая о величии, которым народу утешаются в своей скорби. Никому нет дела до Истории, черты которой иные искажают для того, чтобы вычеркнуть из нее войну. На военное сословие нападают в самой его сердцевине»[110]. В подобной атмосфере те силы, которые призвали бы страну к оружию ради защиты прав, полученных в Версале в 1919 г., рисковали полной политической маргинализацией. Именно с этим был связан мощный дрейф почти всех французских партий в сторону пацифизма.
В одной точке совпали два процесса: рост антивоенных настроений в обществе и осознание политиками невозможности обеспечить безопасность страны силовыми методами. Знаковым событием здесь стал Рурский кризис, который весной 1924 г. привел к власти левоцентристскую коалицию «Картеля левых» и в то же время показал, что Франции необходима новая германская политика. В декларации своего правительства, представленной парламенту 17 июня, новый председатель Совета министров Э. Эррио объявил о пересмотре курса в отношении Веймарской республики: Франция больше не будет прибегать к силовому давлению и практике «взятия залогов»; ее требования ограничатся лишь репарационным вопросом, после его урегулирования Веймарская республика может быть принята в Лигу Наций; Лиге также предстоит сыграть основную роль в контроле над германскими вооружениями; свою внешнюю политику Париж собирается реализовывать через «международные институты информации, сотрудничества и арбитража»[111]. Сформулированный Эррио лозунг его внешней политики – «арбитраж, безопасность, разоружение» («триада Эррио») – замышлялся как основа нового международного порядка, в рамках которого безопасность покоилась не на силе, а на общей приверженности идеалу мира.
От этих же идей во многом отталкивался А. Бриан, которому в 1925 г. в качестве министра иностранных дел выпало вести трудные переговоры с Германией и Великобританией по вопросу обеспечения европейской безопасности. Этот ветеран французской политики возглавлял правительство в разгар Первой мировой войны в 1915–1917 гг. и уже тогда задумывался о будущем европейской безопасности. В начале 1917 г. его кабинет договаривался с Великобританией и Россией о признании особых прав Франции на Рейнскую область[112]. В тот момент Бриан выступал сторонником традиционной модели сдерживания и поддержания баланса сил. Он руководствовался ей и в 1921 г., когда вновь сформировал правительство. Тогда он без колебаний применил против Берлина силу и к удовольствию Фоша приказал занять ряд городов на правом берегу Рейна после того, как Германия отказалась принять решение союзников по режиму взимания репараций[113].
Однако Бриан не зря пользовался репутацией одного из наиболее гибких политиков своего времени. Одни называли это беспринципностью, другие – даром предвидения. Так или иначе, долгая карьера французского министра знала не один резкий поворот, когда он полностью пересматривал те взгляды, которыми еще совсем недавно руководствовался. Как отмечал Л. Д. Троцкий, до революции 1917 г. живший во Франции и внимательно следившей за политической жизнь страны, «Бриан изучение вопроса заменял чутьем»[114]. Пережив в молодости увлечение социализмом, в зрелые годы он отошел от идеологических догм, став политиком, который интуитивно чувствовал реальность, улавливая скрытые течения общественной жизни и сообразуясь с ними. Именно об этом в своем характерном стиле говорил Клемансо, когда констатировал, что «преимущество [Бриана – авт.] состоит в том, что он не знает, что делает»[115].
В начале 1920-х гг. Бриан полностью пересмотрел свои подходы к решению проблемы безопасности. Заняв в 1925 г. пост министра иностранных дел, он ясно понимал, что поле для дипломатического маневра, имевшееся у него в распоряжении, максимально сузилось. Союзники по Антанте отказались подтвердить гарантии безопасности, данные Франции на мирной конференции. Собственными силами для того, чтобы давать немцам постоянно «чувствовать твердую руку у себя на воротнике»[116], Париж не располагал. Чтобы немцы в будущем вновь не стали врагами, с ними предстояло договориться. Объясняя смысл своего курса на примирение с Германией, французский министр открыто признавал: «Моя политика – это наша рождаемость»[117]. При этом, он осознавал, что в середине 1920-х гг. никакой другой курс не нашел бы поддержки общественного мнения. «Стихийный пацифизм выживших в войне подпитывался той надеждой, которую воплощала фигура Бриана»[118], – отмечает французский историк Ж.-Л. Кремьё-Брийяк.
Аристид Бриан.
Источник: Wikimedia Commons
Конференция в Локарно, проходившая 5-16 октября 1925 г., явилась формальной фиксацией неудачи той политики в сфере безопасности, которую Франция проводила с 1920 г. Подписанный там Рейнский гарантийный пакт закреплял послевоенную конфигурацию западной границы Германии и демилитаризованный статус Рейнской зоны. Париж и Берлин обязывались отказаться от взаимного применения силы. Гарантами их соглашения стали Великобритания, Италия и Бельгия. Вскоре после подписания Локарнских соглашений Германия вошла в Лигу Наций и де-юре превратилась в одного из участников послевоенного мирового порядка, вернув себе ранг великой державы. «Просто представьте себе, – отмечал Бриан в интервью газете «Тан», – что Рейнский пакт – это добровольное, договорное согласие [Германии – авт.] с Версальским договором; что соглашением, которое Германия сама инициировала, она свободно признает территориальный статус-кво и провозглашает неприкосновенность франко-германо-бельгийской границы в том виде, в каком она была зафиксирована 28 июня 1919 г. Это, наконец, мир. Это наша безопасность, обеспеченная лучше, чем когда-либо раньше» [119].
Локарнские соглашения получили высокую оценку во всем мире и, прежде всего, во Франции. Заслуги Бриана были оценены: в 1926 г. совместно с министром иностранных дел Великобритании Остином Чемберленом он получил Нобелевскую премию мира. Однако новую надежду на мир Париж купил ценой отказа от линии на сдерживание германской мощи. Союзные договоры с Польшей и Чехословакией получили новое оформление: теперь любая взаимная помощь опосредовалась арбитражем Лиги Наций. Соответственно резко падало значение военного инструментария во французской внешней политике. Э. Даладье, тогда депутат парламента, в 1927 г. увязывал разворачивавшуюся во Франции военную реформу с новой международной обстановкой. «[Мы разрабатываем – авт.] строго оборонительную организацию [вооруженных сил – авт.] под эгидой арбитражного договора, первая статья которого провозглашает, что Франция никому не объявит войну, что она настроена, и настроена решительно, сохранить свои границы в неприкосновенности, защитить свою территорию, воспрепятствовать тому, чтобы на нее снова пришла война»[120]. Командование французских вооруженных сил занимало при этом осторожную позицию. Его представители указывали на то, что без военных гарантий подписываемые политические соглашения не имели реальной ценности.
Узнав о начале переговоров о Рейнском гарантийном пакте, Фош повторил, что единственным залогом европейской безопасности являются «Франция и ее союзники, стоящие на Рейне и имеющие превосходство в вооружениях»[121]. Особую озабоченность маршала вызывала судьба Рейнской области. В марте 1926 г. в записке, поданной в правительство, Фош отмечал: «И речи идти не может о том, чтобы покинуть берега Рейна до истечения 15-летнего срока, определенного [Версальским – авт.] договором; важно безотлагательно привести французские вооруженные силы в состояние обеспечить их защиту; без этой гарантии все – безопасность, внешнеполитические позиции, репарации – пойдет прахом после оставления линии Рейна»[122]. Тревогу внушало и сворачивание непосредственного контроля над разоружением Веймарской республики после вывода из Германии в феврале 1927 г. межсоюзнической военной контрольной комиссии.
Однако военным приходилось учитывать политические реалии. На фоне сближения между Парижем и Берлином говорить о продлении французского пребывания в Рейнской области не имело смысла. Локарнские соглашения во многих отношениях означали добровольный отказ Франции от тех преимуществ, которые ей давал Версальский договор. В январе 1926 г. союзники вывели войска из района Кёльна.
Очищение остальных оккупированных секторов было лишь вопросом времени. В подобной ситуации в 1926 г. французское правительство приняло принципиальное решение о возможности досрочной эвакуации Рейнской области в обмен на дальнейшую нормализацию франко-германских отношений и окончательное решение репарационного вопроса. Заключенное в 1929 г. в ходе Гаагской конференции соглашение предполагало вывод французских войск из районов Кобленца и Майнца до лета 1930 г.[123] Бриан считал, что в долгосрочной перспективе французская мощь не имела шансов уравновесить германскую, поэтому имело смысл заранее конвертировать те преимущества, от которых все равно пришлось бы отказаться, в более ценные активы. Все те механизмы сдерживания Германии, которые Клемансо заложил в текст Версальского договора, отправлялись на свалку истории: Франция признавала, что в реальности не могла ими воспользоваться. Возможностей легально применить силу в отношении Берлина у Парижа больше не было. Отныне у него «были связаны руки» [124].
В то же время у бриановской политики имелось и другое измерение. Впервые в истории международных отношений пацифистские идеи и настроения начали оказывать столь мощное влияние на дипломатию великих держав[125]. Осознание разрушительных последствий Первой мировой войны, начавшееся внутри европейских обществ, вышло на мировой уровень[126]. И идея «триады Эррио», и локарнская политика Бриана выросли из этого корня. В Локарно не просто исправлялась старая модель мирного урегулирования, созданная в Версале. Речь шла о попытке построить на ее фундаменте новую систему коллективной безопасности – «многосторонней политики, основанной на взаимопомощи и господстве международного права»[127]. Как считалось, эпоха старых военно-политических альянсов, опиравшихся на понятие национального интереса, показала свою порочность и ушла в прошлое. «14 пунктов» Вильсона, Лига Наций, «дух Локарно» и даже ленинский Декрет о мире – все это были проявления нового взгляда на мировую политику, в которой сила должна была уступить место диалогу и многосторонним соглашениям, секретная дипломатия – публичным дискуссиям на саммитах, узко понимаемый национальный интерес – представлению о равноправии всех народов мира и их единстве в стремлении к миру. Сама война, веками воспринимавшаяся в качестве нормального способа снятия межгосударственных противоречий, была поставлена вне закона пактом Бриана-Келлога 1928 г.
Модель коллективной безопасности предполагала отказ от силового сдерживания. «Отныне считалось, – отмечает Ж.-А. Суту, – что безопасность необходимо поддерживать вместе с потенциальным противником, включая его в единую международную систему, а не действуя против него посредством формирования двусторонних союзов, которые, в определенном смысле, заранее определяли, кто будет фигурировать в качестве потенциального противника»1. Ту роль, которую раньше играли альянсы, подкрепленные военными конвенциями и автоматически приводимые в действие, теперь должны были взять на себя многочисленные взаимно пересекающиеся пакты о ненападении и взаимопомощи, заключенные при арбитражных гарантиях Лиги Наций[128][129].
Правовой департамент французского МИД в 1938 г. разъяснял, чем классический военно-политический союз отличается от пакта в духе коллективной безопасности: «Разница состоит в том, что, [заключая такой союз], мы не стремимся обеспечить мир с помощью общего усилия, направленного против агрессора. Государство, считая, что сохранение политического могущества другого государства представляет для него жизненный интерес, берет на себя обязательство защищать его в случае нападения, и по той же причине получает аналогичное обязательство в свой адрес»[130]. «Коллекционирование пактов»[131](accumulation des pactes) стало важной отличительной чертой французской дипломатии в 1920-1930-е гг. Особое значение придавалось идее всеобщего разоружения. Париж активно участвовал в работе специальных комиссий Лиги Наций, где обсуждалась проблема сокращения вооружений, и готовился к проведению международной конференции по разоружению, которая должна была открыться в 1932 г. в Женеве.
Французы тем охотнее пошли по пути строительства системы коллективной безопасности, что она соответствовала базовым устремлениям их внешней политики после войны: сохранение мира любой ценой и нежелание рисковать новым вооруженным столкновением с Германией. «Новая дипломатия» пользовалась подавляющей общественной поддержкой, настолько очевидной, что даже военные не могли с этим не считаться. Комментируя заключение Локарнских соглашений, Фош, вопреки всем своим опасениям, признавал: «Так или иначе, все ими довольны – Германия, Франция и даже Польша с Чехословакией. Это доказательство того, что они не так уж плохи. В любом случае они позволяют вздохнуть Европе»[132]. На Парижской мирной конференции Клемансо пытался совместить вильсоновские идеи нового мирового порядка с жизненно важным для Парижа императивом национальной безопасности. После 1925 г. многим во Франции казалось, что сама эта дилемма являлась ложной: коллективная безопасность рассматривалась как возможность раз и навсегда закрыть вопрос о военной угрозе французским границам.
Однако в условиях 1920-х гг. новая концепция международных отношений, взятая на вооружение Францией, стала оружием слабого. Она лишь легитимировала в глазах элит и общественного мнения масштабное стратегическое отступление Парижа. С 1918 г. вся французская картина европейской безопасности строилась на факте контроля над Рейнской областью. В результате пересмотра этого фундаментального положения Версальского договора в ней возникала очевидная брешь. На фоне роста пацифистских настроений в обществе, которые исключали любое серьезное наращивание вооружений, командование французской армии оказывалось в весьма затруднительном положении. «Уравнение, которое ему предстояло решить, было тем более сложным, что [военным – авт.] приходилось иметь дело с реальной обстановкой во всей ее сложности, примирять все существующие точки зрения» [133], – отмечает Ф. Гельтон.
В 1924 г., после политического поражения Франции в ходе Рурского кризиса, которое серьезно ослабило ее международные позиции, и до разворачивания основных мероприятий военной реформы комментаторы из числа высших офицеров размышляли над тем, как действовать в случае утраты линии Рейна. Они приходили к выводу о том, что большое французское наступление в сторону экономических и политических центров Германии в этом случае становилось невозможным. Максимум, что могли предпринять войска прикрытия, развернутые на французской и бельгийской границе, – это небольшое продвижение вглубь демилитаризованной зоны с целью пресечь значительную концентрацию германских войск на левом берегу Рейна[134]. Еще в 1922 г. маршал Петэн обрисовал мрачную перспективу в случае ухода французских армий из Рейнской области: «Что произойдет, когда мы больше не будем стоять на Рейне? Безопасность наших границ больше не будет обеспечена ни барьером Рейна, ни расстояниями. На случай нападения нам придется создать заслон непосредственно на месте» [135].
Обсуждение возможности строительства оборонительного рубежа вдоль границы с Германией началось сразу после подписания Версальского договора. Уже в мае 1920 г. Высший военный совет обсуждал проблему «обороны национальной территории». По поводу самой необходимости укрепления восточной границы Франции среди генералов не было разногласий. Все сходились на том, что «организованные укрепления», по словам генерала Дебене, «экономят живую силу в огромных пропорциях»[136]. Для армии, понесшей колоссальные потери относительно общей численности населения, не имевшей возможности восстановить их в ближайшем будущем, обреченной пережить в середине 1930-х гг. «тощие годы» – демографическое эхо мировой войны, когда предполагалось уменьшение вдвое количества призывников, этот факт имел первостепенное значение. Многие считали, что укрепления на границе, по выражению британского историка М. Александера, сыграют роль «мультипликатора» силы[137]. В то же время высшие офицеры высказывали различные точки зрения по вопросу о том, как именно следует совместить возведение укрепленных районов со стратегией обеспечения национальной безопасности.
Наличие укреплений само по себе не обрекает занимающую их армию на жесткую оборону. Ее секторы могут использоваться как опорные районы для развития маневра крупных войсковых соединений. Прикрывая фортами и траншеями отдельные опасные участки ТВД, можно высвобождать силы для удара на других направлениях. На ключевом заседании Высшего военного совета в мае 1922 г. именно по этому вопросу столкнулись точки зрения маршалов Фоша и Жоффра, с одной стороны, и маршала Петэна, с другой. Петэн настаивал на обеспечении «абсолютной неприкосновенности территории»[138]посредством возведения укрепленной линии, чем вызвал острую критику коллег. Фош отмечал: «Одерживая победу, обеспечиваешь, таким образом, защиту территории… Добиться неприкосновенности территории – это не та главная цель, которую ставят перед армией. Это опасная догма». Его поддержал Жоффр, который констатировал, что «строить новую китайскую стену – значит обречь себя на поражение»[139].
Из этих подходов к планированию укреплений на восточной границе Франции родилось два проекта их возведения. Начальник Генштаба сухопутных сил Бюа, которого поддерживал Петэн, предлагал создать непрерывную полосу подготовленного в инженерном отношении поля боя, протянувшуюся от бельгийской до швейцарской границы. Цепи траншей, усиленных пулеметами и колючей проволокой, могли эшелонироваться в глубину и амортизировать удар противника[140]. Подобная конфигурация хорошо вписывалась в оборонительную концепцию и имела очевидный плюс – она предполагала относительно небольшие финансовые затраты.
Ей противопоставлялся проект укрепленных районов на основе долговременных сооружений, которые должны были служить «центрами сопротивления» для полевых армий. Маневрируя с опорой на них, крупные войсковые соединения могли «выбирать время и наиболее подходящие условия для перехода в наступление»[141]. Строительство капитальных бетонных огневых точек требовало значительных затрат, однако обеспечивало то преимущество, которого не было у полевых укреплений, – возможность минимизировать использование живой силы. Эшелонирование обороны в глубину непосредственно на границе имело и другой важный недостаток – оно приводило к ситуации, когда сражения начального этапа войны разворачивались бы в непосредственной близости от важных промышленных центров, защита которых являлась одной из важных целей самого замысла строительства укреплений.
Магистральной установкой в указанных спорах являлся поиск компромисса. Во главе угла оставалась «двойная цель – остановить врага и подготовить наступательный маневр на вражеской территории»[142]. Специальная комиссия Высшего военного совета под руководством генерала А. Гийома, которая в 1926 г. была переформирована и работала как правительственная, в декабре 1925 г. выпустила итоговый доклад. В нем ставилась под сомнение целесообразность создания сплошной полосы укреплений на восточной границе и предлагалась идея строительства укрепленных районов. Тем не менее, Петэн продолжал настаивать на оборудовании эшелонированных вглубь полей боя, указывая на то, что бетонные огневые позиции уязвимы для огня тяжелой артиллерии, и подчеркивал, что первоочередной задачей укреплений должна быть именно оборона. К оборонительной концепции склонялся и генерал Дебене. Гийома в ответ ссылался на то, что «укрепления не препятствуют наступлению»[143].
Однако поддержка наступательной конфигурации планировавшихся укрепрайонов постепенно ослабевала ввиду уже тогда понятных «количественных» последствий военной реформы, а также все более очевидных перспектив вывода войск из Рейнской области. Французская армия постепенно утрачивала объективные возможности развернуть наступление на германской территории, на что прямо указывал Петэн в дискуссиях со своими оппонентами. На первый план выходила задача отражения «внезапной атаки» посредством упорной обороны. Укрепления должны были содействовать силам прикрытия в составе действующей армии, которым предстояло сдерживать удары врага, пока в тылу разворачивалась мобилизация «вооруженной нации»[144]. По этому вопросу на одном из решающих заседаний Высшего военного совета в 1927 г. произошел резкий обмен мнениями между маршалами. На заявление Петэна, подчеркнувшего «необходимость предотвратить проникновение врага на территорию страны», Фош ответил: «Если у нас нет инструмента [войны – авт.], страну не получится защитить зонтиком». Он напоминал о том, что «любая пассивная оборона, в конце концов, выдыхается»[145].
В ходе развернувшихся дискуссий военные пришли к выводу о том, что придание укреплениям оперативной глубины целесообразно, оговариваясь, что такой подход имеет ряд серьезных недостатков. В результате, получила поддержку промежуточная концепция, сформулированная Петэном. За основу был взят проект подземной крепости, оснащенной находившимися на поверхности орудийными башнями и турелями, соединенной скрытыми ходами с вспомогательными бункерами и огневыми позициями. Подобные сооружения должны были стать основой двух укрепленных районов. Укрепрайон Мец прикрывал участок границы в окрестностях одноименного города. Пересекаемый рекой Мозель с юга на север, он являлся потенциально уязвимым для германского наступления. Восточнее располагался укрепрайон Лаутер, основной задачей которого считалась защита от возможного удара вдоль левого берега Рейна. Сооружать серьезные укрепления по линии Рейна вверх по его течению считалось нецелесообразным ввиду того, что река представляла собой серьезный оборонительный рубеж, западнее которого, к тому же, вытянулась горная цепь Вогезов. Незначительные укрепления должны были прикрывать Бельфор у швейцарской границы, однако это направление возможной атаки расценивалось как второстепенное[146].
Французский план, таким образом, не предусматривал строительство сплошной «китайской стены» от моря до Альп[147]. Территории к западу от Меца и между Мецем и Лаутером оставались без серьезных фортификаций. Страсбург, как считалось, не подлежал обороне и должен был эвакуироваться. Бельгийский равнинный участок границы предполагалось оставить открытым. Бюа подчеркивал невозможность построить на нем «постоянные укрепления, способные в достаточной степени защитить наши большие промышленные центры» и доказывал необходимость выдвижения войск на территорию Бельгии[148]. Согласно подписанной в 1920 г. франко-бельгийской военной конвенции, две страны обязывались оказывать друг другу помощь в случае войны. По замыслу французского Генштаба, войска должны были войти в Бельгию и занять оборону на укреплениях вдоль реки Шельда[149]. Как утверждала комиссия Гийома, район, прилегающий к Арденнам, можно было оборонять без возведения значительных укреплений. Узкие труднопроходимые дороги, проходящие через поросшие лесом горы, легко блокировались, а протекающая вдоль их западных склонов река Маас давала дополнительные возможности обороняющимся[150].
Итоговый вариант укрепления границы серьезно отошел от тех идей, которые высказывались при начале обсуждений в 1920 г., однако формально сохранил в себе представление о двойном предназначении укрепрайонов – возможности использовать их как для обороны, так и для наступления. Но при обсуждении в парламенте проект столкнулся с критикой. Ряд политиков указывал на недостаточно выраженный оборонительный характер фортификаций. Дебене пришлось отдельно выступать по этому вопросу перед сенаторами. В Палате депутатов озвучивались предложения вернуться к идее сплошной полосы полевых укреплений. На их основе первоначальный проект был доработан. Выступая перед парламентариями в декабре 1929 г., военный министр Мажино отмечал, что целью создания укреплений является оборудование «сплошной линии огня»[151]. Сама перспектива задействования укрепрайонов при планировании наступления выглядела политически предосудительной на фоне роста массового пацифизма и ожиданий, связанных с разоружением. «Не будет преувеличением сказать, – пишет об этом М. Александер, – что в политико-психологическом контексте конца 1920-х – начала 1930-х гг. никакая другая значительная оборонная программа, вероятно, не получила бы необходимую парламентскую поддержку. Бетон и купола линии Мажино являлись продуктами эры Женевы[152]»[153].
Андре Мажино.
Источник: United States Library of Congress
Главным лоббистом строительства укреплений был Поль Пенлеве, с 1925 по 1929 гг. занимавший пост военного министра. Его решением 22 октября 1928 г. стартовали подготовительные инженерные работы на восточной границе страны. 17 января 1929 г. по его предложению проект был одобрен правительством Пуанкаре. Однако свое название система укрепрайонов получила по имени сменщика Пенлеве Мажино. В декабре 1929 г. именно он добился от парламента выделения 3 млрд. франков на четыре года для ее строительства[154]. Участник войны, получивший на фронте тяжелое ранение и оставшийся инвалидом, Мажино был убежденным противником эвакуации Рейнской области, однако к 1928 г. принял ее как неизбежность и, став министром, сконцентрировал все усилия на укреплении границы в качестве замены оборонительной линии Рейна. Он считал, что времени у Франции остается немного. «Мажино, – вспоминал близкий соратник военного министра Фабри, – хотел, чтобы “его линия” была окончена в 1935 г. к началу череды “тощих лет”»[155].
Военные настаивали на том, что «линия Мажино» не имеет ничего общего с «китайской стеной». «Организация обороны франко-германской границы, – писал в своих мемуарах генерал Вейган, – должна была помочь защитить ее минимальными средствами, чтобы сохранить лучшую часть армии для наступления за счет экономии сил на укрепленных участках фронта»[156]. О том же писал Дебене: «Проект укреплений, на котором мы остановились и который сегодня реализован на границе, предполагал возведение системы сооружений различной оборонительной ценности, но способных оказать серьезное сопротивление и расположенных так, чтобы производить взаимодополняющий боевой эффект; их создание делает небольшие по численности воинские контингенты мощным фактором сражения; эти укрепления серьезно экономят живую силу, которую, таким образом, можно выводить в резерв с различными оперативными целями. Прикрытие границ обеспечивается без ослабления главных сил»[157]. Однако объективно на первый план выходила именно оборонительная функция укрепрайонов. На этом делали акцент политики, формулировавшие стратегию национальной безопасности. Сама французская армия к концу 1920-х гг. в значительной степени руководствовалась именно оборонительной доктриной. Такой урок ее командование вынесло из Первой мировой.
Война заставила французов уверовать в абсолютное преимущество обороны перед наступлением. Считалось, что фронт, оборудованный в инженерном отношении, обеспеченный артиллерией всех калибров и подкрепленный резервами, было чрезвычайно трудно прорвать. Четыре года боев на Западном фронте, казалось, подтверждали этот факт. Примеров успешных прорывов, которые имели бы серьезное оперативное значение, практически не имелось, в то время как упорная оборона, напротив, часто приносила победу. Успех союзников под Верденом 1916 г., хоть и купленный дорогой ценой, выглядел значительно привлекательнее, чем катастрофические последствия «бойни Нивеля» у Шмен-де-Дам в 1917 г. После войны один из французских военных теоретиков полковник Ф. Кюльман, анализируя опыт недавних сражений, показал, что при четко организованной обороне армия несет почти вдвое меньшие потери, чем при наступлении (35 % против 65 %)[158].
Позиционная война полностью изменила характер боевых действий. «Собственно говоря, – писал Дебене, – стабилизация фронтов на практике зафиксировала проблему, созданную наличием у “вооруженных наций” современного материального оснащения и огромных масс живой силы, проблему, которую война сформулировала в следующих тревожных словах: необходимо найти новую форму маневра»[159]. Удовлетворительного ответа на этот вопрос у армейского командования не появилось вплоть до 1918 г. После ряда экспериментов, оплаченных кровью тысяч солдат, французские генералы пришли к выводу: «Необходимо наращивать индустриальную мощь в виде артиллерии и насыщать противостоящий врагу фронт всеми типами орудий, чтобы заставить его отступить с передних, а затем и с последующих линий обороны»[160]. Наращивание средств огневого поражения предполагало создание ударного артиллерийского кулака, что влекло за собой серьезные изменения в самом управлении войсками.
После войны Дебене, возглавивший Генштаб и принявший на себя руководство французской военной наукой, канонизировал схему так называемого методического сражениям, в основе которой лежали действия Петэна в октябре 1917 г. при Мальмезоне и самого Дебене в августе 1918 г. в битве при Мондидье [161]. Имея под своим командованием 15 дивизий и около 1600 стволов артиллерии, Дебене, нанося последовательные дробящие удары по сходящимся направлениям, заставляя противника распылять резервы, смог заставить немцев отступить. В ходе сражения пехотные подразделения перемещались шаг за шагом, согласно жесткому расписанию и имели перед собой конкретную цель. Подобная схема позволяла легко управлять массированным артиллерийским огнем, прокладывая дорогу пехоте. Успех при ее реализации зависел от четкости выполнения приказов, слаженности, следовании заранее намеченным планам и централизации. Инициативе и маневру отводилась минимальная роль. В конечном итоге все решало действие артиллерийского кулака, который требовалось грамотно применить. «Огонь убивает», – отмечал Петэн, обобщая свой военный опыт[162].
«Модель Мондидье» не обеспечивала выхода из позиционного тупика и не реанимировала маневрирование, но позволяла привести фронт противника в неустойчивое положение без чрезмерного расходования живой силы. Принятые в 1921 г. «Временные инструкции по тактическому применению больших соединений», которые легли в основу французской военной доктрины в межвоенные годы, подчеркивали преимущество огня перед маневром, из чего вытекало представление о предпочтительности обороны перед наступлением. В них отмечалась важность централизации управления, порождавшей систему, важнейшей целью которой было исключить из хода операции любой момент непредвиденности и неожиданности. Подразумевалось, что после огромных потерь 1914–1918 гг. французская армия не могла позволить себе рисковать[163].
Подобные взгляды разделялись не всеми. Фош, как уже отмечалось, критиковал чисто оборонительную концепцию укрепления границ и выступал сторонником маневренной войны. На заседании Высшего военного совета в 1926 г. он высказал сомнения в целесообразности массирования средств огневого поражения и отмечал, что наиболее важную роль в сражении должна играть дивизионная артиллерия[164]. Схожие мысли высказывал и Жоффр. Преемник Петэна на посту главнокомандующего армией генерал Вейган критиковал «Временные инструкции» как ставящие во главу угла «перспективу позиционной войны, и игнорирующие возможность и особенности маневренной войны и встречного сражения, не учитывающие фактор воли противника»[165]. Раздавались голоса тех, кто считал, что современные средства борьбы позволяют эффективно преодолеть позиционный тупик.
Уже на завершающем этапе Первой мировой войны проявился боевой потенциал танков и авиации. Французский танк Рено FT-17 открывал новые возможности бронетехники на поле боя. Принятый на вооружение в 1917 г., вооруженный башней с углом обзора 360 градусов, он передвигался со средней скоростью 8 км/ч и обладал дальностью автономного действия в 60 км, что позволяло перейти от применения танков как средства поддержки пехоты к тактике самостоятельных подвижных соединений. Ее элементы были реализованы французами в июне 1918 г. в контрнаступлении у реки Мас в Пикардии[166]. По утверждению французского исследователя Ф. Коше, «с возобновлением подвижной войны танки стали существенной составляющей сражения, ведущегося различными родами войск, открывая путь настоящей революции на поле боя»[167].
В 1916–1918 гг. были отработаны основные формы современной воздушной войны. Если сначала на авиацию возлагались преимущественно разведывательные задачи, то уже в 1916 г. французское командование пришло к пониманию целесообразности ее применения с целью непосредственной поддержки войск на поле боя[168] и отработало эту тактику в битве на Сомме[169]. В 1917 г. генерал Петэн подчеркивал важность воздушных ударов по вражеским промышленным центрам и коммуникациям, формулируя, таким образом, задачи для стратегической авиации[170]. «[На завершающем этапе войны], – отмечает Ф. Коше, – уже вырисовывались контуры доктрины, которая в будущем обеспечит успех мобильных соединений в сражении. Связка “танк-самолет” была успешно испытана в рамках штурмовой поддержки наземных частей с воздуха»[171].
После войны этот опыт активно развивался. Генерал Ж.-Б. Этьен, занимавший пост инспектора танковых войск, разработал теорию мобильных танковых соединений, и многие исследователи считают именно его отцом французских бронетанковых сил[172]. Этьен полагал, что «танк, без сомнения, является самым мощным оружием внезапной атаки и, следовательно, победы», а также настаивал на том, что танковые соединения должны «находиться в общем резерве главнокомандующего, который мог бы временно придавать их наступающей армии». По его мнению, было бы «непрактично и нерационально применять танки как органичную часть пехотной дивизии, задача которой, так или иначе, – ведение боя с опорой на огневую мощь или силу укреплений»[173].
Майор М.-К. Пижо в 1923 г. предлагал формировать «большие охранные соединения», фактически – механизированные дивизии, снабженные мотопехотой и самоходной артиллерией, которые выполняли бы роль крупных кавалерийских формирований, на порядок превосходя их по мощи и скорости передвижения[174]. Полковники Ш.-Ж. Шедвиль и П.-М. Вельпри, первоначально будучи сторонниками консервативного взгляда на роль танков в будущей войне, во второй половине 1920-х гг. развили теорию их самостоятельного применения на поле боя. Важнейшим фактором, повлиявшим на эволюцию бронетанковой техники, стал технический прогресс, который значительно расширил потенциал танка[175].
Генерал Ж. Думенк[176] вместе с Этьеном стоял у истоков французских бронетанковых сил еще в годы Первой мировой войны. Во второй половине 1920-х гг. в серии лекций для учащихся Высшей военной школы он представил концепцию подвижного моторизованного соединения, способного преодолевать десятки километров за один день. В это же время Думенк предложил проект создания танковой дивизии, который, по мнению современного исследователя, превосходил то, что несколькими годами позже в своей работе «Профессиональная армия» описал де Голль[177]. В 1930 г. Думенк подверг критике идею Петэна об обеспечении «неприкосновенности территории» за счет строительства долговременных укреплений и в качестве альтернативы предложил полагаться на маневрирование крупными подвижными соединениями[178].
После войны главный инспектор авиации маршал Э.-М. Файоль в ряде докладов сформулировал новый взгляд на боевое применение самолетов. Он указывал на то, что самолеты могут оказывать важную поддержку пехотным частям на поле боя, эффективнее всего действуют в тех случаях, когда используются массами, и должны иметь четкую специализацию. По мнению маршала, авиацию следовало передавать под единое командование, которое самостоятельно применяло бы ее для первоначального завоевания господства в воздухе и последующей поддержки сухопутных сил[179]. Под руководством Файоля были разработаны «Инструкции по формированию крупных воздушных соединений мирного времени». Сохраняя авиацию в подчинении командования сухопутных сил, они предполагали создание пяти территориальных командований в Париже, Меце, Лионе, Туре, Дижоне, что позволяло централизовать управление ВВС и обеспечить, при необходимости, их концентрацию на том или ином ТВД. Другим предложением Файоля, реализованным на практике, было создание многоцелевых самолетов. В результате ВВС, организационно оставаясь на протяжении 1920-х гг. в подчинении армейского командования, развивали те функции авиации, которые выходили за рамки вспомогательных действий на поле боя[180].
Большая часть этих новшеств осуществилась лишь частично. На протяжении всего десятилетия армия пользовалась тем оружием, которое осталось у нее со времен войны. «Убежденное в том, что армии вполне хватит имеющихся тысяч танков и самолетов, [правительство – авт.] не принимало во внимание плохое качество вооружения, произведенного в спешке в годы войны, которое должно было использоваться и, как правило, уничтожаться на поле боя» [181], – констатирует Ф. Гельтон. Старые запасы были ликвидированы лишь к 1930 г., при этом перевооружение происходило весьма медленно: вплоть до 1934 г. ежегодные затраты на разработку и ввод в строй новых образцов оружия и техники не превышали 12 % от расходной части военного бюджета. В 1921 г. была принята программа переоснащения пехоты, которая предполагала лишь замену стрелкового оружия, пулеметов и мелкокалиберной артиллерии[182]. Ежегодно на нужды сухопутных сил выделялось 400–600 млн. франков. По словам Р. Жакомэ, в 1936–1940 гг. занимавшего пост генерального секретаря военного министерства, эта сумма едва покрывала расходы на содержание имевшейся материальной части, компенсацию затрат, связанных с обучением войск и финансированием колониальных войн в Сирии и Марокко[183].
Военная реформа 1927–1928 гг. привела к ситуации, когда на поддержание и обновление материальной части армии не хватало средств даже в рамках выделенного бюджета. Военный министр Мажино писал министру финансов в июне 1930 г.: «В ситуации невозможности сократить расходы на содержание личного состава, которые лишь растут с увеличением стоимости жизни и из-за сокращения срока службы до одного года, приведшего к дополнительным затратам, фатальную роль сыграло то, что нам пришлось пожертвовать производством вооружений и военными поставками. Недостаточное финансирование по третьему разделу бюджета (строительство и новые вооружения) привело к тяжелым последствиям»[184]. В результате перестройки армии в конце 1920-х гг., около 90 % ее бюджета уходило на содержание личного состава и обслуживание старой техники.
Из всех трех родов войск наименьшее финансирование (27 % от общего объема за период 1920–1936 гг.) получила авиация, что не могло не сказаться на показателях ее перевооружения: в 1931 г. она располагала лишь 1667 самолетами вместо 2427, предусмотренных в 1924 г.[185] Нехватка средств также обострила внутренний конфликт вокруг доктрины боевого применения самолетов. Файоль предлагал создать авиацию двух типов: вспомогательную, действующую в интересах сухопутных сил, и резервную, на которую возлагались задачи завоевания господства в воздухе и ведения стратегических бомбардировок. Сокращение финансирования заставляло делать выбор в пользу одного из двух вариантов.
Командование сухопутных сил на том этапе не придавало большого значения воздушной поддержке наземных войск, чем воспользовались сторонники концепций итальянского теоретика Дж. Дуэ. Он считал, что авиация представляет собой вид вооружения, способный кардинальным образом изменить облик войны. В случае успешного завоевания господства в воздухе самолеты, проводя стратегические бомбардировки, способны полностью парализовать экономику и инфраструктуру противника, что заставит его капитулировать. Отсюда вытекал вывод о том, что именно авиации, выделенной в самостоятельный род войск, должно уделяться первоочередное внимание военных и гражданских властей. Сухопутным силам при этом отводилась второстепенная функция обеспечения статичной обороны[186]. Борьба между этими двумя взглядами на перспективы развития ВВС стала бичом вооруженных сил и привела к кризису французской авиации во второй половине 1930-х гг.
Проблема, впрочем, заключалась не только в нехватке средств. Осмысление опыта войны, несмотря на целый ряд перспективных идей, пошло по пути канонизации «модели Мондидье». В феврале 1919 г. по поручению Клемансо штаб-квартира верховного главнокомандования (распущенная в октябре того же года) подготовила несколько записок, в которых делалась первая попытка обобщить и проанализировать опыт войны. Они, по выражению О. Вьевьорка, «не блистали смелостью»[187]. Все инновации касались главным образом особенностей боевого применения артиллерии. Доклады констатировали ее особую роль в современном сражении и предлагали сделать орудия более мобильными. Впадая в футуризм, их авторы предвидели создание пушки, которая несколькими выстрелами сможет уничтожить целый город[188]. Танковые соединения должны были действовать как соединения «бронированной пехоты»: они должны были либо сопровождать пехоту (легкие танки), либо прорывать в ее интересах укрепленные полосы противника (тяжелые танки). Механизация кавалерии не предполагалась: ее основным боевым средством оставалась лошадь. Авиации отводилась вспомогательная роль – заниматься разведкой и использоваться для атаки отдельных наземных целей.
Подобный взгляд на перспективу внедрения новых средств ведения войны сохранялся на протяжении всех 1920-х гг. Пособие по применению танков, изданное в 1920 и переизданное в 1929 гг., отмечало, что «действия легких танков должны соответствовать формату пехотного боя». Принятые в 1929 г. «Инструкции по использованию боевых танков» оговаривали: «Боевые танки являются вооружением, сопровождающим пехоту… В бою вовлеченные танки выступают как неотъемлемая часть пехотных построений». При этом особо указывалось: «Танки применяются лишь как дополнительное боевое средство, временно переданное в распоряжение пехоты. Они значительно усиливают боевой потенциал пехоты, но не заменяют ее»[189]. Генерал Этьен так и не смог реализовать на практике свои идеи. Его инициативы не находили понимания у командования армии, и в 1927 г. он был вынужден уйти в отставку.
Эти ошибки в военном строительстве, которые в будущем сыграют роковую роль для французской армии, часто объясняются действием субъективного фактора. «Период с 1927 по 1930 гг., – пишет М. Александер, – когда в военных вопросах последнее слово оставалось за Дебене и Петэном, был отмечен систематическим подавлением тактической инициативы в пользу централизованного контроля со стороны командования. Маневрирование вокруг укрепленных районов и опорных точек с некоторым акцентом на контратаку мобильными силами, о котором говорили при маршале Фоше и [генерале – авт.] Бюа, уступило место концепции “непрерывного подготовленного поля боя” на границе и массирования артиллерии в обороне»[190]. «Находящиеся в ореоле славы великие вожди французской армии во главе в Петэном собирались буквально воспроизвести рецепты, которые обеспечили им успех в 1918 г., не мысля в категориях современной войны», – отмечает О. Вьевьорка[191]. Главнокомандующий французской армией в 19351940 гг. генерал М. Гамелен писал в мемуарах: «Нам не хватало не видения цели, а понимания того, какими способами ее достигать. Вместо того чтобы внедрять новое, мы всегда ограничивались пустыми разговорами. Уже по завершению боевых действий мы должны были без колебаний приступить к модернизации. Но наши тогдашние верховное командование и Генеральный штаб под руководством маршала Петэна спешили “переобуться в старые ботинки”»[192].
Все эти суждения, высказанные задним числом, не учитывают того факта, что полученный французской армией опыт действительно говорил о том, что «огонь убивает», а оборона – более сильная форма борьбы, чем наступление. Период маневренной войны 1918 г. был слишком короток для того, чтобы заслонить собой уроки Вердена и Шмен-де-Дам. В июле 1939 г., выступая в Лондоне перед высшими офицерами британской армии, генерал Вейган вспоминал ответ Фоша на вопрос Ллойд Джорджа о том, кто, французский маршал или германский генерал Э. Людендорф, выиграет кампанию 1918 г. «Выиграю я, – с убеждением заявил Фош, – потому что перед Людендорфом сейчас стоит гораздо более трудная задача, чем та, которую решаю я. Я должен лишь обороняться, в то время как ему приходится атаковать, чтобы прорвать наш фронт. Ему это не удастся». «Как тогда, так и позднее я не мог не восхищаться быстротой и точностью его мышления. Эти слова – иллюстрация той аксиомы, что для атаки необходима большая сила, чем для обороны, в особенности при учете фактора мощи современных оборонительных средств»[193], – констатировал Вейган за два месяца до начала Второй мировой войны. Наступление рассматривалось лишь как coup de grace – завершающий удар по ослабленному позиционными боями противнику по типу операций союзников осенью 1918 г.
Чтобы планировать, предвидя будущую войну, а не отталкиваясь от опыта предыдущей, требовалась во многом уникальная ситуация, в 1920-х гг. сложившаяся в Германии: сильная, в ряде отношений лучшая в мире военная мысль, которая уже в ходе сражений 1916–1917 гг. нащупала пути выхода из позиционного тупика путем внедрения новой тактики боя; возможность проводить «чистый эксперимент», строя новую армию «с нуля»; мощная мотивация военных всех уровней, имевших перед собой ясную цель, и политиков, давших им карт-бланш в вопросах военного строительства[194]. Французское нежелание рисковать, когда риск мог иметь фатальные последствия, на этом фоне выглядит логичным. Однако остается другой вопрос: почему та сила, которая одержала победу в 1918 г., деградировала до состояния «штата для подготовки [резервистов – авт.], не способного даже к организации обороны»[195]?
Петэн в середине 1920-х гг. отдавал себе отчет в том, что французская армия находится в кризисе. На заседании Высшего военного совета в мае 1925 г. он констатировал: «Армия сейчас пребывает в плачевном состоянии. Это машина, которая работает на холостом ходу». Через год при обсуждении вопросов укрепления границ он выразился еще жестче: «Наша армия находится в состоянии полного распада. У нас нет ничего. Реорганизация армии должна иметь приоритет перед строительством укреплений… Если у нас не будет армии, укрепления нам не помогут. Армия – важнее всего»[196]. В то же время маршал мало что сделал для исправления подобного положения дел. Перед лицом новых вызовов армейское командование действовало неуверенно.
Военные были дезориентированы. В стране не существовало того института, который формулировал бы единый взгляд вооруженных сил на цели и задачи военного планирования. «Спор вокруг близкой Петэну проблемы формирования единого командования постоянно возникал, но всегда оканчивался безрезультатно»[197], – пишет биограф маршала. Сухопутная армия, флот и обособившиеся к концу десятилетия военно-воздушные силы выдвигали различные, несогласованные между собой повестки развития, которые часто вступали в конфликт друг с другом. В 1930 г. во Франции существовало три отдельных министерства, ведавших обороной и имевших собственные генеральные штабы, – военное, военно-морское и военно-воздушное. Каждое из них ревниво оберегало свою автономию и конкурировало с другими за ресурсы. К концу 1920-х гг. на фоне недофинансирования армии вперед вырвался флот. С 1922 г. министерство ВМФ с успехом избегало всех бюджетных сокращений и смогло сконцентрироваться на строительстве современных кораблей и подводных лодок[198]. В результате создания профильного министерства в 1928 г. армия и флот лишились собственных военно-воздушных сил, и если ВМФ в 1932 г. добился передачи ему контроля над морской авиацией, то армия на годы вперед оказалась в ситуации, при которой она не могла непосредственно влиять на развитие рода войск, чье значение для сухопутной войны становилось все более очевидным.
Внутри военного министерства и командования сухопутных сил также не было единства. Полномочия и ответственность распылялись между множеством ведомств. Ж. Дуаз и М. Вайс приводят пример: «Управления родов войск зависят непосредственно от министра и, таким образом, не подчинены начальнику Генерального штаба. Поэтому власть генерального секретаря министерства, изначально распространявшаяся на финансовые и правовые вопросы, постоянно увеличивается и “подменяет собой работу Генерального штаба”»[199]. В воздухе повисал ключевой вопрос: «Кому Республика доверяет командовать своей армией?»[200]. Заместитель председателя Высшего военного совета, де-юре главнокомандующий, назначался военным министром, однако в непосредственном ведении министра находился и прямой подчиненный главнокомандующего, начальник Генштаба сухопутных сил.
Подобная ситуация порождала конкуренцию между двумя ключевыми фигурами в армейском командовании и размывала ответственность, что было объяснимо в условиях начала XX в., когда политики после «дела Дрейфуса» сомневались в лояльности вооруженных сил, но утратила всякий смысл после войны. В 1920-е гг. стабилизирующим фактором являлась сама фигура Петэна, обладавшего беспрекословным авторитетом и в 1922 г. занявшего вновь введенный пост главного инспектора армии, дополнительно усиливший его аппаратный вес. Начальники Генштаба генералы Бюа и Дебене служили под командованием маршала в годы Первой мировой войны. Это позволило главнокомандующему сконцентрировать в своих руках все нити руководства сухопутными силами[201]. Однако положение дел неизбежно должно было поменяться после его отставки.
Центральный орган взаимодействия между военными и гражданскими властями, Высший совет национальной обороны (ВСНО) во главе с председателем правительства, не справлялся с функцией координации работы различных ведомств, отвечающих за подготовку к войне. Непрерывная бюрократизация привела к тому, что к 1929 г. в состав ВСНО входили все министры, имевшие решающий голос, и лишь трое военных с консультативным голосом – заместитель председателя Высшего военного совета и начальники генеральных штабов армии и флота. Сложилась ситуация, при которой орган окончательно превратился в «подобие парламента ведомств, отражающих все центробежные стремления»[202].
В итоге, система военно-гражданского взаимодействия, существовавшая в 1920-х гг. во Франции, не способствовала такой расстановке приоритетов государственного развития, при которой неизбежный в будущем вызов со стороны незамиренной Германии оказывался бы во главе угла. В ее рамках не происходило объединения задач обороны и императивов внутреннего развития в цельную стратегию, реализация которой имела бы первостепенную значимость. Имело место, скорее, обратное: через эти каналы в высшую армейскую среду проникали политические импульсы, транслируемые различными партиями, поочередно и во все более противоречивых комбинациях стоявшими у руля страны. Как следствие, не только у государственных деятелей, но и у военных происходило размывание представления о магистральных целях, первоочередных и второстепенных задачах, сопутствующих им издержках. Это не могло не сказываться на общем облике армии.
Генерал Ш. Нолле, военный министр в правительстве Э. Эррио в 1924–1925 гг., говорил о «болезненном состоянии» французских вооруженных сил. «Армия, – поясняет его слова британский историк П. Джексон, – постепенно теряла свою идентичность живого воплощения французской нации по мере того, как массовые настроения становились все более критичными к категориям патриотизма и жертвенности, ключевым для системы ценностей профессиональных военных… На протяжении 1920-х гг. армейское командование чувствовало себя все более изолированным и уязвимым. Таков был политический и культурный контекст превращения французской армии из мощной силы, ориентированной на наступательные действия против Германии, в прошедший краткосрочную подготовку кадровый резерв для мобилизованной вооруженной нации, призванной защитить французскую территорию»[203]. Высшим офицерам не удалось занять активную политическую позицию, а со временем они потеряли к этому любую мотивацию. Идя вслед за общественно-политической конъюнктурой, они завели французскую армию в тупик.
Глава II
Кризис французской стратегии в начале 1930-х гг
В начале 1930-х гг. французская политика безопасности переживала глубокий кризис. Курс на сближение с Германией, взятый министром иностранных дел Брианом, себя фактически исчерпал. В полной мере проявились те его недостатки, которые были порождены противоречиями международной обстановки середины 1920-х гг., однако определенное время скрывались энтузиазмом и надеждами «эры Локарно». «С началом Локарнской политики, – пишут об этом Ж. Дуаз и М. Вайс, – безопасность Франции, как казалось, была максимально обеспечена. Но она же породила мощную динамику, которая, напротив, вела к утрате гарантий безопасности»[204]. В 1925 г. при подписании Локарнских соглашений Бриану пришлось отдать дальнейшую судьбу Франции в чужие руки, в надежности которых не было уверенности.
Зафиксированные в Локарно британские обязательства в отношении нерушимости франко-германской границы, получение которых было важной целью Парижа, носили исключительно декларативный характер. Их действенность определялась готовностью Лондона реально вмешиваться в европейские дела в случае возникновения кризисной ситуации, однако ни один британский кабинет, находившийся у власти в межвоенные годы, подобного желания не демонстрировал [205]. Французская система союзов с восточноевропейскими государствами изначально имела ограниченную эффективность как инструмент сдерживания германского реваншизма. При подписании франко-польской военной конвенции в 1921 г. политики и командование вооруженных сил в лице Фоша высказывали сомнения в перспективах взаимодействия с молодым государством, имеющим сложные отношения со всеми своими соседями[206]. Решения, принятые в Локарно, привели к пересмотру и этих договоренностей. После 1925 г. любая взаимная помощь, которую могли оказать друг другу Франция и ее восточноевропейские союзники, должна была осуществляться в рамках устава Лиги Наций. По этому принципу действовали франко-чехословацкий и франко-румынский договоры (1924 и 1926 гг.), а также соглашение между Францией и Королевством сербов, хорватов и словенцев (1927 г.). Во второй половине 1920-х гг. система «тыловых союзов» фактически существовала лишь на бумаге.
В итоге, безопасность Франции зависела от того, удастся ли Парижу, играя на равных, нормализовать отношения со вчерашним врагом, намерения которого оставались сомнительными, а совокупная мощь по-прежнему сильно превосходила французскую. Р. Арон, так писал о попытках франко-германской нормализации в 1920-е гг.: «Трезвый расчет показывал, что для Франции лучший способ сохранить и мир, и свое положение – это заставить Германию соблюдать статьи [Версальского – авт.] договора, касающиеся разоружения, или по меньшей мере добиться демилитаризации Рейнской области. Пацифизм должен был продиктовать противодействие, но психологически понятно, что он подсказал удовлетворить требования внушавшего опасения соседа. Франция сделала полуосознанную попытку задобрить Германию; к несчастью, она имела дело уже с Германией, которую едва ли можно было умилостивить иначе, как согласившись на рабское подчинение» [207].
В 1925 г. французские политики, не сумев заставить немцев выполнять Версальский договор, были вынуждены пойти на соглашение, которые несло с собой значительные риски. Серьезных оснований считать, что Веймарская республика в перспективе будет вести себя иначе, чем кайзеровский Рейх не было. В 1932 г. об этом писал де Голль, дипломатично не упоминая Германию, но вполне ясно указывая на ключевое противоречие идеи коллективной безопасности: «Где это видано, чтобы угасли страсти и интересы, из которых проистекают военные конфликты, чтобы кто-то по доброй воле отказался от того, что имеет, или от того, чего желает, чтобы люди, наконец, перестали быть людьми? Можно ли считать окончательным нынешнее равновесие, пока мелкие хотят вырасти, сильные – господствовать, старые – продолжать существовать? Как стабилизировать границы и власть, если эволюция продолжается?»[208]. Бриан пытался направлять эту эволюцию и рассчитывал, что в ходе реализации идей Локарно в Европе возникнет некая новая модель взаимоотношений, которая качественно изменит имевшиеся вводные и даст Парижу дополнительное пространство для маневра. Именно к этому сводились его попытки договориться с США по вопросам глобальной безопасности (пакт Бриана-Келлога 1928 г.) и инициировать процесс европейской интеграции (проект Панъевропы 1929 г.) [209].
Однако амбиции Германии росли пропорционально ее совокупной мощи. Уже в 1925 г. германская сталелитейная промышленность по объемам производства вышла на довоенный уровень, несмотря на территориальные потери по итогам Первой мировой войны. Производительность труда в том же году на 14 % превзошла цифры 1913 г.[210] Общий объем промышленной продукции рос медленнее, превысив довоенный на 3 % лишь в 1928 г. Однако доля Германии в мировом промышленном производстве (11,6 %) превышала британскую (9,4 %) и почти двое превосходила французскую (6,6 %)[211]. При этом имелся резерв для быстрого наращивания показателей. Активно внедряемая рационализация производства высвобождала индустриальные мощности: в 1926 г. сталелитейные заводы Германии работали лишь вполсилы. Экономика Франции также активно восстанавливалась после 1924 г., и в 1930 г. ее промышленное производство на 44 % превзошло довоенный уровень[212]. Однако этого было недостаточно, чтобы сократить накопленное отставание от Германии.
В это же время, несмотря на ограничения, наложенные на Веймарскую республику по условиям Версальского договора, негласно развивались и германские вооруженные силы. Сокращенный до численности в 100 000 человек, лишенный тяжелого вооружения, комплектующийся на добровольной основе Рейхсвер представлял собой ядро современной массовой армии. В середине 1920-х гг. в нем состояло лишь 36 500 рядовых: остальные военнослужащие являлись офицерами и унтер-офицерами, что позволяло подготовить командные кадры и, при необходимости, за счет призыва быстро увеличить численность вооруженных сил. Уже к 1925 г. на основе комплексного изучения опыта мировой войны в Германии были разработаны уставы, закладывавшие основы принципиально новой тактики войск. Командующий Рейхсвером генерал Г. фон Сект смог сохранить фундамент военного могущества кайзеровского Рейха – большой Генеральный штаб, спрятав его под вывеской «войскового управления». Германская промышленность, несмотря на запреты, продолжала создавать современные образцы артиллерийского и бронетанкового вооружения. В 1924–1925 гг. в стране был разработан полноценный мобилизационный план, предполагавший, в случае необходимости, развертывание семи дивизий Рейхсвера в двадцать одну. С 1925 г. проводились ежегодные военные маневры[213]. Для запуска военной машины и военной экономики Германии требовались лишь соответствующие политические условия.
К началу 1930-х гг. у руководства Франции не осталось вариантов действий на случай резкого обострения международной обстановки. В 1930 г. последний французский солдат покинул Рейнскую область. После этого безопасность страны полностью зависела от того, насколько последовательно Берлин будет придерживаться курса на сохранение мира. Но именно в этом вопросе сохранялась большая неопределенность. Обвал нью-йоркской биржи в октябре 1929 г. и начавшаяся после этого Великая депрессия сломали все расчеты на мирную эволюцию Локарнской политики. Германия одной из первых ощутила на себе тяжелые последствия мирового экономического кризиса. Падение промышленного производства сокращало доходы государства и разгоняло маховик безработицы[214]. Ответом правительства канцлера Г. Брюнинга на кризис стал жесткий курс на сокращение государственных расходов, что еще больше подогревало массовое недовольство. Социально-политическая ситуация в Германии быстро дестабилизировалась. На выборах в Рейхстаг в сентябре 1930 г. ошеломляющий успех сопутствовал нацистской партии (НСДАП), которая сформировала вторую по численности фракцию в парламенте. Ее лидер А. Гитлер открыто говорил о том, что Веймарский режим – «не что иное, как дань врагам и худшее из кабальных условий Версальского договора»[215].
Как отмечает А. Туз, «если у правительства Брюнинга в 1930 и начале 1931 гг. имелось пространство для маневра, то лишь в сфере внешней политики, а не экономики, и оно воспользовалось этим пространством самым пагубным образом»[216]. Пытаясь перехватить часть лозунгов националистов и выйти из внутриполитического тупика, канцлер начал реализовывать более агрессивную внешнеполитическую программу. Несмотря на тяжелое финансовое положение страны, было принято решение расширить военно-морскую программу за счет строительства двух новых кораблей. Берлин активизировал свою политику в Центральной и Юго-Восточной Европе, предложив Венгрии и Румынии заключить эксклюзивные двусторонние торговые соглашения. В то же время было объявлено о проекте создания австро-германского таможенного союза, что явно шло вразрез с положениями Версальского договора. Кроме того, германское правительство заявило о необходимости введения моратория на уплату репараций[217].
Все эти шаги имели антифранцузскую направленность. Брюнинг и глава МИД Ю. Курциус отклонили предложение Парижа об оказании Германии финансовой помощи в обмен на выполнение обязательств по репарациям, отказ от таможенного союза с Австрией и ограничение военно-морской программы[218]. Франко-германское сотрудничество себя, очевидно, исчерпывало. В начале 1932 г. окончательно отошел от дел Бриан. Выступая на заседании Лиги Наций в сентябре 1930 г., он заявил: «Пока я нахожусь там, где стою сейчас, войны не будет»[219]. Однако его эпоха подошла к концу, открывая пусть в неизвестность. Смерть Бриана в марте 1932 г. стала символическим концом политики «в духе Локарно». Договоры и взаимные обязательства оставались в силе, но они уже не опирались на необходимую политическую волю и баланс интересов.
Эдуард Эррио.
Источник: Bibliothèque national de France
Французская политика находилась на важной развилке. Она могла продолжать руководствоваться «триадой Эррио» и выстраивать здание национальной безопасности на ее фундаменте. Проблема заключалась в том, что «новая дипломатия», дававшая плоды в период стабильного развития и экономического роста второй половины 1920-х гг., не подходила для эпохи кризисов. Великая депрессия привела к резкой радикализации внутри- и внешнеполитической повестки в странах Запада, и первой жертвой этого процесса стало представление о возможности гармоничного международного развития без войн и конфликтов. Все минусы этой во многом умозрительной концепции, вероятно, сказались бы в любом случае, однако кризис рубежа 1920-1930-х гг. ускорил распад той системы, на которую возлагались столь большие надежды. «Политика фашистов и нацистов, – отмечает британский историк П. Джексон на страницах «Кембриджской истории Второй мировой войны», – была невосприимчива к “нормативному влиянию” “Новой дипломатии”. Оба режима рассматривали “мировое общественное мнение” как нечто, чем можно манипулировать, а не в качестве фактора, который всегда необходимо учитывать в политических построениях. Их целью было разрушить нормативный порядок, возникший после 1918 г. Французские и британские дипломаты должны были оставить те исходные постулаты и политические соображения, которыми они руководствовались в предыдущее десятилетие»[220].
Однако возвращение к силовой политике сдерживания Германии было сопряжено с целым рядом трудностей. Локарнские соглашения сделали де-юре невозможными любые односторонние действия Франции в отношении Германии. Эвакуация Рейнской области в 1930 г. подтвердила это положение дел де-факто. Французская внешняя политика в начале 1930-х гг. реализовывалась через каналы Лиги Наций. «Мистика Лиги Наций, хотя она и не вызывала в той же степени былого энтузиазма и не внушала той веры, оставалась ключевым элементом нашей внешней политики, а также определяла ход внутренних дел»[221], – вспоминал Гамелен. Вместе с тем сама Лига оказалась слабым институтом с неясной компетенцией и отсутствующими механизмами реализации своей воли. Специальные статьи ее устава предполагали международную помощь жертве агрессии, однако эти гарантии, по признанию самого Бриана, оставались «в значительной мере моральными обязательствами»: они не были точно определены, и государства могли толковать их различным образом в зависимости от конкретных обстоятельств [222]. В 1931 г. Лига Наций провалила свой первый экзамен на дееспособность перед лицом агрессии, не сумев занять четкую позицию в отношении вторжения Японии в Маньчжурию.
Франция переживала тяжелые последствия экономического кризиса. К лету 1932 г. промышленное производство составило 69 % от уровня 1929 г. Быстрыми темпами сокращалась занятость. В декабре 1932 г. в стране насчитывалось 277 000 безработных, через два года эта цифра превысила 400 000 человек. Вместе с частично занятыми уровень безработицы достигал 50 % всех работающих по найму. Сокращались реальные заработные платы. Падали и доходы государства[223]. Однако в отличие от Германии, где экономический кризис привел к росту реваншистских настроений, во Франции он лишь укрепил массовый пацифизм. В начале 1930-х гг. в стране не осталось ни одного влиятельного политического движения, которое бы выступало под лозунгами активного силового курса на мировой арене. По словам историка, пацифизм превратился в своего рода «французскую страсть»[224], охватив все слои общества и завоевав подавляющее большинство образованного класса. В 1927–1928 гг. мощной критике с антивоенных позиций подверглись законы, осуществившие реформу армии, авторы которых сами в значительной степени вдохновлялись пацифистскими идеями. Соответствующие петиции подписывали писатели и ученые с мировыми именами[225].
Руководство Франции оказалось в трудной ситуации. Инерция бриановской политики, сложность ее пересмотра в условиях начала 1930-х гг. подталкивали его к продолжению курса на поддержание коллективной безопасности. Однако те цели, которые ставил перед собой Бриан, были уже, очевидно, недостижимы. Берлин менял свою внешнеполитическую ориентацию. В преддверии намеченной на 1932 г. международной конференции по разоружению в Женеве правительство Веймарской республики подняло вопрос о военном паритете Германии с другими государствами. Созыв этого представительного форума стал завершением долгой работы, которая началась сразу после подписания Версальского договора. Но в момент ее открытия Париж столкнулся с непростой дилеммой, в которой отразилось главное противоречие его внешней политики.
Вся ее логика со времен Локарно предполагала принятие германских требований. Французы всегда исходили из того, что разоружению должно предшествовать обеспечение безопасности, но этот тезис во многом повисал в воздухе и не отвечал на главный вопрос, который ставили немцы: почему Германия, подписав Локарнские соглашения, войдя в Лигу Наций, став равноправным членом международного сообщества, должна терпеть ограничение своего суверенного права на самооборону? К этой позиции с пониманием относилась Великобритания, которая оказывала на Францию серьезное давление. Равенство в вооружениях с Германией могло быть достигнуто за счет сокращения французского военного потенциала. К разоружению Париж подталкивали внутриполитические соображения. Помимо популярности этого лозунга в обществе сказывалось и влияние экономического кризиса. На содержание вооруженных сил, несмотря на все сокращения, уходила значительная часть бюджета – 13,5 млрд. франков в 1931 г.[226]