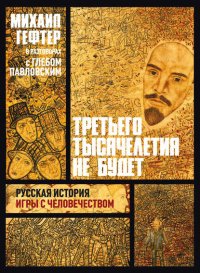Читать онлайн Антология народничества бесплатно
- Все книги автора: Михаил Гефтер
© Гефтер М. Я., наследники, 2020
© Издательство «Нестор-История», оформление, 2020
Валентин Гефтер. Как это делалось в Черемушках в 1970-е…
Почти не у кого теперь спросить, как создавалась «Антология народничества» и почему вообще ею стали заниматься в окружении историка Михаила Гефтера в период его «отставничества» от официальной науки. Конечно, интерес к этому периоду русской истории, тогда еще прошлого, XIX века возник у М. Я. не случайно и задолго до этого. Так, в 1960-е он после долгой тяжелой болезни вернулся к работе и вскоре, среди прочего, стал одним из редакторов первого тома многотомной «Истории КПСС», которую взялся создавать официоз в конце оттепельного периода и связанного с ним пересмотра сталинской историографии всей революционной парадигмы, породившей большевизм. Так что уже тогда М. Я. в сотрудничестве с коллегами по Институту истории АН СССР Б. С. Итенбергом и В. А. Твардовской был готов к «новому прочтению» этого периода.
Но, возможно, и современная история взлета революционного терроризма на Западе в 1970-е (во многом как результат событий 1968 года) более всего подвигла Гефтера заняться подготовкой Антологии. И недаром его помощниками в этой работе стали молодые историки, так или иначе не «вписавшиеся» в советскую историческую науку. Их воспоминания, так же как и воспоминания членов семьи Гефтера, помогли бы понять, как началась и шла эта работа. Возможно, первым импульсом для него стали розыски в архиве Дома Плеханова в Ленинграде, где М. Я. обнаружил (видимо, не только для себя) немало документов, отсылавших исследователей к предшественникам идеологов позднего народничества. Не исключено, что еще одним из источников его интереса к этой теме стали книги ведущих литераторов, обратившихся в те годы к добольшевистской истории так называемого освободительного движения в России, в первую очередь печатавшихся в серии «Пламенные революционеры», которыми зачитывалась тогда интеллигентская публика. (Нынешнему читателю все меньше говорят имена этих авторов – Юрия Трифонова, Юрия Давыдова, Анатолия Гладилина, более молодого Владимира Савченко, бывавшего в нашем доме и писавшего тогда о контрразведчике «Народной воли» Николае Клеточникове, служившем в спецподразделении охранки.)
Итак, началось все с поиска первоисточников – в публикациях столетней давности, следы которых можно было найти в московских библиотеках и архивах, а также в книгах, за многие годы скопившихся в библиотеке Михаила Гефтера. Интересен придуманный им план издания. Недостаточно было собрать малоизвестные в то время не только широкой публике, но и для многих советских исследователей, забытые или упрятанные в спецхран материалы. Не менее важно дать будущему читателю возможность понять весь контекст того времени, получившего название «пореформенная Россия». И для этого М. Я. написал множество, в его терминологии – «вводок» и «мостиков» между публикуемыми материалами участников народнического движения периода до 1881 года. Увы, все они сгинули в недрах московских охранителей советского строя после двух обысков у Михаила Гефтера в конце 70-х. Конечно, следователи Мосгорпрокуратуры формально искали иные материалы (изымалось все, хоть как-то относящееся к делу самиздатского журнала «Поиски», по которому он проходил свидетелем), но в мешки сгребалось все подряд, что выходило из-под пера инакомыслящего историка. Разыскать их через годы в органах не удалось: видимо, в ситуациях такого рода «рукописи горят», ну или их просто выбрасывают за ненадобностью для обвинения в борьбе с режимом. (Слова об истории террора и его героях не были тогда уголовно наказуемыми.) Возможно, в 1990-е при издании не публиковавшихся до тех пор трудов М. Я. приоритет был отдан более актуальным текстам, или он сам и не без основания посчитал, что «у них» ничего из изъятого не найти, – сейчас трудно сказать. Но, скорее всего, интересы авторов стали в постсоветское время уже иными…
Так или иначе, но (со)хранить рукопись целиком, к сожалению, оказалось невозможно. Хотя ее и переправили на Запад младшим друзьям автора-составителя Антологии с целью издать там, но эта затея не осуществилась. В парижском подвале нашлись только тексты самих народников и заметки Гефтера, пояснявшие идею и план будущего издания, но не «перемычки» между главами самого М. Я.
Через много лет, уже в наше время в подготовке Антологии поучаствовали разные люди; так, за научный комментарий взялась Валентина Александровна Твардовская, которая консультировала, выверяла и контролировала библиографическую работу студентов Историко-архивного института, ныне входящего в РГГУ.
Сегодня перед нами скорее сборник материалов, оставшийся по упомянутым выше причинам без «перемычек», создававшихся М. Я. Гефтером в 1970-е. И все же Антология, по нашему мнению, читабельна и актуальна и сегодня, к тому же она снабжена библиографическими описаниями документов и обширным именным указателем в конце рукописи.
Антология представляет в документальных свидетельствах выработанное Михаилом Гефтером авторское «новое прочтение» важного и во многом ключевого этапа революционного движения в России, идей и методов борьбы второй половины XIX века, без которых не случилось бы многое, что произошло как в годы двух русских революций начала теперь уже прошлого столетия, так и в постимперский период нашей истории.
В заключение напомню сверхзадачу этой затеи Михаила Гефтера, сформулированную им в упомянутых выше заметках об «Антологии народничества»: «увидеть сугубо непростую родословную народнического террора и изначально скрытый в нем тупик движения в целом». Насколько это сумеет разглядеть сегодняшний читатель, не знаю, но в помощь ему назову ряд моментов, на которых сам «застреваю» при обсуждении с коллегами (прежде всего с автором послесловия к данному изданию) «проклятых вопросов» нашей истории. Это:
Объяснение причин индивидуального террора неприятием действий представителей верховной власти, если имеет место:
– грубое нарушение прав и оскорбление достоинства человека, зависимого от властного лица;
– явное игнорирование права оппонентов власти на участие в обсуждении самых острых проблем народной жизни вплоть до устранения их из публичного пространства всевозможными «полицейскими» способами;
– принятие и использование неправовых законов для обвинения несогласных с властью в антигосударственных преступлениях вплоть до смертных приговоров тем, кто прибегает к насилию против должностных лиц.
Утопизм и нетерпение радикалов в достижении всенародного счастья путем свержения деспотии, состоящий в их убежденности, что именно они представляют тех, кому предстоит обрести права и свободы, и находятся «во главе» исторического процесса, траектория которого им заведомо известна.
Вечная проблема благородной цели и средств ее достижения, не дожидаясь результатов реформ сверху и изменений в обществе. Искренняя вера в то, что для ускорения естественного развития востребованы радикальные меры, в том числе не исключающие насилия по отношению к тем, кто является препятствием на эволюционном движении к праведной цели.
Миф о предупредительной миссии радикализма, основанный на твердом знании о будущих реках крови и тяжких потрясениях при сохранении существующего порядка вещей. Даже если так необратимо будущее по вине власть предержащих, то где грань, при которой радикал остановится. А если выбор народный не совпадет с его представлениями о пути к всеобщему счастью, то преемственность в применении радикальных действий может оказаться не менее опасной, чем упрямое следование «слепой и глухой» к народным чаяниям власти, реагирующей только на негодование и силу.
Остается открытым ответ на вопрос, удалось ли М. Я. Гефтеру подобной подборкой и разнообразием текстов Антологии показать «тупик движения в целом».
Но для меня очевидно, что одной из его задач было не только продемонстрировать высоту помыслов народников, нравственный императив их лидеров и глубокие социальные корни этого освободительного движения, но также дать возможность читателю делать собственные выводы, исходя из знания о событиях последнего столетия, из того, насколько они явились следствием того самого тупика, в который уже в XX веке «завез» Россию воображаемый локомотив «закономерного исторического процесса».
Михаил Гефтер о замысле (записки к издателю)
1. Сражение мысли с властью: русский вариант
Предлагаемый сборник – документальное издание. Не хрестоматия в обычном смысле, а скорее антология. Отличие в сквозном замысле, объединяющем разнородные по происхождению и жанру материалы.
Замысел: показать, как одно из крупнейших и трагических событий российской истории – Первое марта 1881 года – было подготовлено разночинским движением предшествующих десятилетий, выросло из противоречий и исканий не в последнюю очередь – из судеб людей, вступивших в это движение в начале 1870-х годов и прошедших путь от теоретических споров и кружковых баталий до попыток воплотить в жизнь свои идеи посредством революционной организации и тактики политического действия, не останавливаясь перед принесением в жертву самих себя.
Издание, выходящее в свет к концу XX века[1], не может, естественно, оставить вне поля зрения как ближние, так и дальние отзвуки и следствия событий тех лет. Речь идет не о том, чтобы выровнять в некоем умозрительном балансе иллюзии и мужество, «нетерпение» и напряженную работу мысли, не прекращавшуюся и в разгар охоты на царя. Составители видят свою задачу, чтобы без всякого насилия над материалом представить отдельные составляющие революционного действия не врозь, а синхронно, помогая тем самым читателю увидеть сугубо непростую родословную народовольческого террора и изначально скрытый в нем тупик движения в целом.
Идеи, движение, судьбы – содержание сборника. Соответственно замыслу и плану привлекается документальный материал: революционные программы и публицистика, позволяющие в совокупности показать генезис «Народной воли» и ее эволюцию за краткий срок существования; показания и судебные речи революционеров; письма, автобиографии и мемуары, которые при всех индивидуальных различиях дадут возможность читателю рассмотреть типичные черты молодого человека народнической и народовольческой формации; документы правящего лагеря, а также либерального и консервативного течений общественной мысли, воссоздающие в целом политический контекст движения и венчающего его акта. Составителям представилось необходимым завершить издание разделом, в который вошли материалы, отображающие движение от его апогея к краху, а также первые симптомы вступления России в новую – постпервомартовскую эпоху.
Намечаются следующие разделы:
1. Пролог. (От появления «новых людей» к хождению в народ; вдохновители и инициаторы; итоги и новые искания).
2. Завязка. (Вторая «Земля и Воля», кризис с момента возникновения; роль Юга; перелом – выстрел Веры Засулич и сдвиги в общественном настроении).
3. «Народная Воля». (Выстрел А. Соловьева и распад «Земли и Воли»; Липецкий и Воронежский съезды; выработка программы и типа организации; споры и консолидация).
4. Накануне. (Внутренняя жизнь «Народной Воли»; пропаганда, деятельность в рабочей среде; эволюция политической мысли, социализм и террор, полемика с чернопередельцами; покушение на царя; диктатура Лорис-Меликова, «Народная Воля» и общество).
5. Цареубийство. (От «процесса 16-ти» к Первому марта; панорама событий, отклики – внутренние и международные).
6. Триумф и гибель. («Народная Воля» после Первого марта; позиция либералов; борьба в «верхах» и поражение Лорис-Меликова; судебные расправы; идейные и психологические сдвиги в революционной среде).
7. Эпилог. Завещание Александра Михайлова.
Каждый из разделов будет открываться вводным словом.
Вместо комментария – развернутая летопись событий и содержащий необходимые сведения об упоминаемых персонажах именной указатель.
Объем книги – 20 а. л.
2. Русские народники. Люди. Идеи. Движение
Замысел издания: воссоздать картину ищущей, работающей революционной мысли в неразрывной связи ее с опытом, уроками революционной практики. Движение народников – русский феномен XIX века, отличительная черта которого – сосредоточенность на способе действия, форме организации и взаимоотношениях революционеров (между собой и с народом, властью, обществом), причем эти три аспекта единого целого представляет в документах эпохи не как простое приложение главных идей к действительности, а как предмет мысли, теории, непрерывно корректируемой действием. Одна из ошибок почти всей имеющейся литературы, в том числе марксистской, состоит в искусственном рассечении народничества на «сектор» философии, идеологии, утопии и «сектор» практики, событий. Идеологи обычно рассматриваются в одном месте – от начала их деятельности и до конца (см., например, у Ф. Вентури – Герцен, Чернышевский, Ткачев, Лавров, Бакунин и т. д.), в то время как исторический взгляд настоятельно требует, чтобы они «присутствовали» в контексте развивающегося движения, а само движение было представлено в виде своего рода цепной реакции с выделением узлов, переломных рубежей, каждый из которых является продолжением и преодолением предшествующего. Важно не потерять при этом многообразия оттенков, подходов, мнений, выявляющих себя в открытом и подспудном диалоге, достигающем в критических точках предельного напряжения. Наконец, необходимо органически совместить в единой панораме движения его сквозные идейные устремления и искания (проблематика общинного социализма, крестьянской революции, абсолютизма и постреволюционной власти, положения действующего меньшинства в условиях патриархальной инерционности и неподвижности глубинных слоев народа, проблема включения России во всемирно-историческое развитие и «прерыва» буржуазной эволюции на ее специфически-исходной стадии…) – совместить их с таким же сквозным процессом становления «новых людей»: особого типа человека-разночинца, выламывающегося из господствующей крепостнической и авторитарно-бюрократической среды и формирующего (сознательно, целенаправленно) свою среду. Мы имеем здесь дело с феноменом выстраивания снизу гражданского общества, которое, не совпадая еще с народом как целым, вместе с тем резко обособляет себя от старых и новообразующихся буржуазных «верхов». Этот аспект народничества, крайне недостаточно или вовсе не проанализированный в литературе, для того, чтобы быть рельефно показанным в данном издании, нуждается в широком использовании материалов, которые формально носят «личный» характер (письма, дневники, судебные показания в части, разъясняющей мотивы, стимулы и обстоятельства вхождения в революционные организации и т. д.).
По нашему убеждению, лишь таким образом можно избежать предвзятости, которая в отношении народничества кажется более живучей, чем в каком-либо другом аналогичном случае. Выражается ли эта предвзятость в хулах или восхвалениях, в основе ее лежит линейная схема, которая устраняет противоречия и различия и всё сводит к смене «властителей дум». Предлагаемое издание призвано содействовать изжитию этого предрассудка. Потому так существенно ввести в текст – и достаточно широко – рядовых революционеров, которые воплощали в себе общий характер мыслящего движения, каким было классическое народничество. Одновременно следует отвести должное место материалам, отражающим ответные реакции и импульсы, которые шли в революционную среду из народной, в том числе крестьянской толщи. Следует заметить, наконец, что при таком комплексном и динамическом построении проектируемое издание не только даст читателю возможность приблизиться к «живому» прошлому, но и обнаружит поразительную близость тогдашних вопросов, сомнений, уроков действия с нынешними («новая левая», проблематика третьего мира во всех аспектах, включая нетрадиционность способов действия, выбора пути).
Естественно, что сформулированная задача весьма осложняет организацию материала и требует особых композиционных приемов. Предлагается разделить книгу на шесть проблемно-хронологических разделов, а внутри них сгруппировать материал в тематические блоки (гнезда) с тем, чтобы каждое из этих гнезд, как правило, включало в себя разные оттенки социалистических и демократических идей, диалоги, споры, расхождения и разрывы и т. п. В некоторых случаях целесообразно было бы дать также (в виде приложений или мелким шрифтом) документы, характеризующие контртенденции реакционного, консервативного и либерального свойства.
Для того, чтобы многоплановое и идейно разнообразное содержание сделать более доступным читателю, предлагается, кроме общего введения к книге, каждому из разделов и основных блоков предпослать сжатые вступления с характеристикой конкретной ситуации, отдельных течений и позиций, а также с кратким источниковедческим обзором документов.
Книга будет снабжена летописью событий и развернутым указателем имен народников.
Фрагмент рукописи М.Я. Гефтера «Заметки к проспекту» (1977 г.)
Антология народничества
Автор-составитель М. Я. Гефтер
Глава 1. Пролог
1. Герцен А. И. Письма к будущему другу. Письмо четвертое. 1864 // Герцен А. И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. XVIII. М., 1959. С. 88–89.
2. В. Г. Белинский – В. П. Боткину. 8 сентября 1841 г. // Белинский В. Г. Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 12. М., 1956. С. 65–72.
3. Н. П. Огарев – А. И. Герцену. 2 февраля 1845 г. // Огарев Н. П. Избранные социально-политические и философские произведения. В 2 томах. Т. 2. М., 1956. С. 367.
4. Баласогло А. П. Проект учреждения книжного склада с библиотекой и типографией. Не позднее 1845 г. //Дело петрашевцев. Т. 2. М.; Л., 1941. С. 41–43.
5. К. Д. Кавелин – Т. Н. Грановскому. 4 марта 1855 г. // Литературное наследство. Т. 67. Революционные демократы. Новые материалы. М., 1959. С. 607.
6. Шелгунов Н. В., Михайлов М. Л. Прокламация «К молодому поколению» // Народническая экономическая литература. М., 1958. С. 83–98.
7. Заичневский П. Г. Прокламация «Молодая Россия» // Народническая экономическая литература. М., 1958 С. 101–107.
8. Прокламация «Предостережение» // Лемке М. Политические процессы в России 1860-х гг. (по архивным документам). Изд. 2-е. М.; Пг., 1923. С. 527–530.
9. Чернышевский Н. Г. Из романа «Что делать?» // Полное собрание сочинений в 15 томах. Т. 11. М., 1939. С. 144–145.
10. Серно-Соловьевич Н. А. Письма из крепости. 1864 // Лемке М. Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». По неизданным документам. СПб., 1908. С. 214–217.
11. Худяков И. А. Записки каракозовца. М.; Л., 1930. С. 110–115.
12. Каракозов Д. В. Друзьям рабочим (1866) // Народническая экономическая литература. М., 1958. С. 117–119.
13. Ишутин Н. А. Размышления по поводу смертной казни. (Написано в Петропавловской крепости. 1866) // Красный архив. 1929. Т. 2 (33). С. 214–216.
14. М. А. Бакунин – А. И. Герцену и Н. П. Огареву. 19 июля 1866 г. // Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. СПб., 1906. С. 279–280, 290–294.
15. Кропоткин П. А. Записки революционера. М., 1988. С. 292–298.
16. Рогачев Д. М. Исповедь (1877 г.) // Былое. 1924. № 26. С. 74–79.
17. Вопросы, разосланные перед съездом народников, и объяснительная записка к ним. (Осень 1875 г.) // Революционное народничество 70-х годов XIX века. Сб. документов и материалов в 2 томах. Т. 1. 1870–1875 гг. М., 1964. С. 402–406.
18. С. М. Кравчинский – П. Л. Лаврову (начало 1876 г.) // Былое. 1912. № 14. С. 52–59, 63.
19. Баранников А. И. Письмо родным. 7 апреля 1881 г. // Красный архив. 1926. Т. 1 (14). С. 177–178.
1. А. И. Герцен*[2]
Письма к будущему другу. Письмо четвертое («Колокол», 15.06.1864)[3]
[…] Воспоминания мои переходят за пределы николаевского времени; это им дает особый fond[4], они освещены вечерней зарей другого, торжественного дня, полного надежд и стремлений. Я еще помню блестящий ряд молодых героев, неустрашимо, самонадеянно шедших вперед… В их числе шли поэты и воины, таланты во всех родах, люди, увенчанные лаврами и всевозможными венками […] Я помню появление первых песен «Онегина» и первых сцен «Горе от ума» […] Я помню, как, прерывая смех Грибоедова, ударял, словно колокол на первой неделе поста, серьезный стих Рылеева и звал на бой и гибель, как зовут на пир…
И вся эта передовая фаланга, несшаяся вперед, одним декабрьским днем сорвалась в пропасть и за глухим раскатом исчезла […]
Время светлых лиц и надежд, светлого смеха и светлых слез кончилось. Порядком понял я это после, но впечатления того времени, переплетаясь с мифическими рассказами 1812 года, составили в моей памяти то золотое поле иконописи, на котором еще чернее выходят лики святых.
Когда немного улегся террор и шум николаевского венчанья на царство, начали показываться какие-то потерянные люди, несчастные, ненужные, не знающие, куда идти, т. е. не знающие ни цели, ни дороги, но чувствующие, что так жить нельзя. […] Старшие из них были уцелевшие декабристы, мы замыкали их процессию как уличные мальчики замыкают уходящий полк, и сами росли в лишних людей. За нами шло уже поколение без воспоминаний, кроме детской и годов школы, оскорбленное грубым притеснением, без прямой связи с прошедшим, без прямого упования на будущее, болезненное, чахлое, оно вяло в листе и безотрадно погибало на полдороге. […]
Не много в их числе развилось энергии, но много ее сгублено в внутренней работе и в внутреннем разладе, в поднятых вопросах, в поднятых сомнениях и в неимоверной тяжести жизни. Грешно в них бросать камни. Вообще лишним людям тех времен обязано новое поколение тем, что оно не лишнее.
2. В. Г. Белинский*
В.Г. Белинский – В.П. Боткину* (8 сентября 1841 г.)
Ты не так понял: мое вспоминание старых дрязг – ты принял его как будто за указ тебе в прошедшем. Боткин, в нем, в этом прошедшем, много дряни – не спорю; но забыть ее нет возможности, ибо с нею соединено тесно и все лучшее, что было в нашей жизни и что навсегда свято для нас. Нет нужды говорить, что ни один из нас не может похвалиться, ни упрекнуть себя большею долею дряни; количество равно с обеих сторон, и нам нельзя завидовать друг другу или стыдиться один другого. Но я не о том писал и не то хотел сказать: ты не так понял меня. Постараюсь однажды навсегда уяснить это обстоятельство, чтоб оно больше не смущало тебя. Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи. Я с трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю ее донельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в новой крайности, – это идея социализма, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Все из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути к жизни. Видишь ли: мы дружились, ссорились, мирились, опять ссорились и снова мирились, враждовали между собою, неистово любили один другого, жили, влюблялись, – по теории, по книге, непосредственно и сознательно. Вот, по моему мнению, ложная сторона нашей жизни и наших отношений. Но должны ли мы винить себя в этом? И мы винили себя, клялись, проклинали, а лучше не было, нет и не будет. Любимая (и разумная) мечта наша постоянно была – возвести до действительности всю нашу жизнь, а следовательно, и наши взаимные отношения; и что же! мечта была мечтой и останется ею; мы были призраками и умрем призраками, но не мы виноваты в этом, и нам не в чем винить себя. Действительность возникает на почве, а почва всякой действительности – общество. Общее без особого и индивидуального действительно только в чистом мышлении, а в живой, видимой действительности оно – онанистическая, мертвая мечта. Человек – великое слово, великое дело, но тогда, когда он француз, немец, англичанин, русский. А русские ли мы?.. Нет, общество смотрит на нас как на болезненные наросты на своем теле; а мы на общество смотрим как на кучу смрадного помету. Общество право, мы еще правее. Общество живет известною суммою известных убеждений, в которых все его члены сливаются воедино, как лучи солнца в фокусе зажигательного стекла, понимают друг друга, не говоря ни слова. Вот почему во Франции, Англии, Германии люди, никогда не видевшие друг друга, чуждые друг другу, могут сознавать свое родство, обниматься и плакать – одни на площади в минуту восстания против деспотизма за права человечества, другие хотя в вопросе о хлебе, третьи при открытии памятника Шиллеру. Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а без деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности – субстанция общественной жизни. Ясно ли, логически ли, верно ли? Мы люди без отечества – нет, хуже, чем без отечества мы люди, которых отечество – призрак, – и диво ли, что сами мы призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремления, наша деятельность – призрак. Боткин, ты любил – и твоя любовь кончилась ничем. Это история и моей любви. Станкевич* был выше, по натуре, обоих нас, – и та же история. Нет, не любить нам, и не быть нам супругами и отцами семейств. Есть люди, которых жизнь не может проявиться ни в какую форму, потому что лишена всякого содержания: мы же – люди, для необъятного содержания жизни которых ни у общества, ни у времени нет готовых форм. […] Вот, что я хотел тебе сказать и чего ты не понял. Я упомянул о старом не вследствие досады и не в виде жалобы, а как о старом предмете нового сознания. Не тень неудовольствия хотел я бросить на наши прежние отношения, но пролить на них примирительный свет сознания, не обвинять хотел я тебя или себя, но оправдать. Ища исхода, мы с жадностью бросились в обаятельную сферу германской созерцательности[5] и думали, мимо окружающей нас действительности, создать себе очаровательный, полный тепла и света, мир внутренней жизни. Мы не понимали, что эта внутренняя, созерцательная субъективность составляет объективный интерес германской национальности, есть для немцев то же, что социальность для французов. Действительность разбудила нас и открыла нам глаза, но для чего?.. Лучше бы закрыла она нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного к жизни сердца утолить сном ничтожества […]
- Но третий ключ – холодный ключ забвенья —
- Он слаще всех жар сердца утолит…
Мы, Боткин, любим друг друга; но наша любовь – огонь, который должен питаться сам собою, без внешней поддержки. О, если бы ему масла внешних общественных интересов! […] Социальность – или смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими ближними во Христе, но кто – мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не желая слышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке, – и люди это видят, и никому до этого нет дела! Не знаю, что со мною делается, но иногда с сокрушительною тоскою смотрю я по нескольку минут на девку… и ее бессмысленная улыбка, печать разврата во всей непосредственности рвет мне душу, особенно, если она хороша собою. Рядом со мною живет довольно достаточный чиновник, который так оевропеился, что, когда его жена едет в баню, он нанимает ей карету; недавно узнал я, что он разбил ей зубы и губы, таскал ее за волосы по полу и бил липками за то, что она не приготовила к кофею хороших сливок; а она родила ему человек шесть детей, и мне всегда тяжело было встречаться с нею, видеть ее бледное, изнеможенное лицо, с печатью страдания от тирании. Выслушав эту историю, я заскрежетал зубами – и сжечь злодея на малом огне казалось мне слишком легкою казнию, и я проклял свое бессилие, что не мог пойти и убить его как собаку. И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности!.. А сколько таких мужей, таких семейств! Сколько прекрасных женственных созданий, рукою дражайших родителей бросаемых на растление скотам вследствие расчета или бессознательности! И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании! Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание – мой бог. В истории мои герои – разрушители старого – Лютер*, Вольтер*, энциклопедисты[6], террористы, Байрон («Каин»[7]) и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется – непосредственной), и потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средние века – великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков; но мне приятнее XVIII век – эпоха падения религии: в средние века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII – рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности. И настанет время – я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник как милости и спасения будет молить себе казни, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувство, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: «я люблю другого», любовник ответит: «я не могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь; но ступай к тому, кого ты любишь», и не примет ее жертвы, если по великодушию она захочет остаться с ним, но, подобно богу, скажет ей: хочу милости, а не жертвы… Женщина не будет рабою общества и мужчины, но, подобно мужчине, свободно будет предаваться своей склонности, не теряя доброго имени, этого чудовища – условного понятия. Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, Христос даст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новою землею. Не думай, чтобы я мыслил рассудочно; нет, я не отвергаю прошедшего, не отвергаю истории – вижу в них необходимое и разумное развитие идеи; хочу золотого века, но не прежнего, бессознательного животного золотого века, но приготовленного обществом, законами, браком, словом, всем, что было в свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло. Боткин, ведь ты веришь, что я, как бы ты ни поступил со мною дурно, не дам тебе оплеухи, как Катков* Бакунину* (с которым потом опять сошелся), и я верю, что и ты ни в каком случае не поступишь со мною так[8]: что же гарантирует нас – неужели полиция и законы? – Нет, в наших отношениях не нужны они – нас гарантирует разумное сознание, воспитание в социальности. Ты скажешь – натура? Нет, по крайней мepe я знаю, что с моей натурою, назад тому лет 50, почитая себя оскорбленным тобою, я был бы способен зарезать тебя сонного, именно потому, что любил бы тебя более других. Но в наше время и Отелло не удушил бы Дездемоны даже и тогда, когда б она сама созналась в измене. Но почему же мы очеловечились до такой степени, когда вокруг нас целые миллионы пресмыкаются в животности? – Опять натура? – Так? Следовательно, для низших натур невозможно очеловечение? – Вздор – хула на духа! Светский пустой человек жертвует жизнью за честь, из труса становится храбрецом на дуэли; не платя ремесленнику кровавым потом заработанных денег, делается нищим и платит карточный долг: что побуждает его к этому? Общественное мнение? Что же сделает из него общественное мнение, если оно будет разумно вполне? – К тому же воспитание всегда делает нас или выше, или ниже нашей натуры, да сверх того, с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это сделается через социальность. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов. К тому же: fiat justiti – pereat mundus[9].
3. Н. П. Огарев*
Н.П. Огарев – А.И. Герцену* (2 февраля 1845 г.)
Герцен! А, ведь, дома жить нельзя. Подумай об этом. Я убежден, что нельзя. Человек, чуждый в своем семействе, обязан разорваться с семейством. Он должен сказать своему семейству, что он ему чужой. И если б мы были чужды в целом мире, мы обязаны сказать это. Только выговоренное убеждение свято. Время тайн исчезло. Только явное свято. Жить не сообразно с своим принципом есть умирание. Прятать истину есть подлость. Лгать из боязни есть трусость. Жертвовать истиной – преступление. Польза! Да какая ж польза в прятаньи? Все скрытое да будет проклято. В темноте бродят разбойники, а люди истины не боятся дня. Наконец, есть святая обязанность быть свободным. Мне надоело все носить внутри. Мне нужен поступок. Мне – слабому, нерешительному, непрактичному, dеm Grubelenden[10] – нужен поступок! Что ж после этого вам, более меня сильным? Или мы амфибии нравственного мира и можем жить попеременно во лжи и в истине? Чистосердечно – я не вижу возможности трансакций. Подумай об этом, Герцен, и напиши мне: да или нет. Твое «да» удесятерит мои жизненные силы. Твое «нет» ввергнет меня в скорбь, но ни на волос не пошатнет моего убеждения и упования.
Мне только одного жаль – степей и тройки, березы, соловья и снеговой поляны, жаль этого романтизма, которого я нигде не находил и не найду. Это привязанность к детству, к прошлому, к могилам. Мир вам, деды! Я перехожу к детям. Вас, друзья, мне не придется жалеть. Я не могу представить, чтоб мы были не вместе.
Будущность! Неужели она страшна? Неужели вместо того, чтоб быть членом святого семейства, придется сделаться поэтом отчаяния или просто смолкнуть в непроходимом одиночестве? Нет! нет! простите мне минуту сомнения! Да или нет, Герцен?
4. Л. П. Баласогло*
Проект учреждения книжного склада с библиотекой и типографией (не позднее 1845 г.)
[…] Пора России понять свое будущее, свое призвание в человечестве; пора являться в ней людям, а не одним степным лешим, привилегированным старожилам Росской земли, или заезжим фокусникам просвещения, бродящим по ее захолустьям и трущобам, с улыбкою пьяного презрения к человечеству России! […] Россия есть сама другая Европа, Европа средняя между Европой и Азией, между Африкой и Америкой, – чудная, неведомо-новая страна соединения всех крайностей, борьбы всех противоречий, слияния всех характеров земли. Пора же остановить на этой стране взор ее же девственного любомудрия, взор человечественного сострадания, взор любви и жизни, и paзумa. В ней, и только в ней сосредоточены все нити всемирной истории – этого гордиева узла, который так храбро разрубают парижские александры[11], не зная ничего, кроме Европы, и то плохо, и так хитро запутывают, воображая, что распутали, терпеливые труженики Германии – это дик[о]образы европейской мысли, с пастушескими нравами мечтательных тюленей. Пора увидеть Россию, пора прозреть на нее созерцанием не одной ее, как хотят ее литературные квасные медведи, угрюмо сосущие, в виду недостающегося европейского меду, ses lapas[12], а всего окружающего ее мира, который, наконец, ворвался в нее со всех сторон и отовсюду и бродит в ней хаосом нового общественного мироздания.
Кто уцелеет душою в этом столпотворении вавилонском, от которого некуда разбежаться, в естественном единстве необозримой, беспредельной средиземной равнины земного шара? Кто найдется умом в этой немой борьбе инстинктно-враждебных столкновений, нечаянных и негаданных за миг до роковой встречи! Борьбе татарской ярости с жестко-коварной флегмой немца, славянски-лукавого молодечества с нормански-восторженною, глухою лютостью белых медведей Скандинавии, армянского плутовства с английским эгоизмом расчетов, французского самохвальства с чукотски-мрачным тупоумием, итальянской живости с китайским хладнокровием, греческого пронырства с казацкой остервененностью нравов!.. Кто проникнет вещим слухом в тайный смысл этого глухого, неминучего брожения понятий, присмотрится к жизни этих болотно-стоячих вод, к этому бесструйному лепету, бесплескному трепету этого страшного, безбрежного мертвого моря человечества… Кто постигнет всю важность этих прений не словами, а дубинными фактами, не угрозами, а уходами, не бурным торжеством права или силы, а тихим, почти бесстрастным, почти ангельским смирением отчаянной воли, привыкшей биться каждую минуту на жизнь и смерть, для порядка вещей, направо и налево, назад и вперед, кругом и вверх и под ногами!.. Кто вразумится, как естествоиспытатель, что тут происходит, совершаясь воочию, химическое разложение всех стихий, всех пород человечества, пред слиянием их в одну породу – в одно человечество, человечество России! […] И увидев, наконец, то там, то сям побеги новой органической жизни, приветит с замиранием ceрдца свежеразумные, невинно-суровые, вдохновенные очи первенцев юного поколения России! […]
Пора же их видеть! Они всюду, они рождаются сотнями, они растут головою не по дням, а по часам! Они, едва прозрев на свет, уже погружаются в самобытную думу и, инстинктно отрешаясь старого грешного мира и всех дел его, мелеют в нем, бессильные, как молодые раки по морском отливе: они боязливо, но сурово поглядывают в нерешимости и на уходящие воды и на юный, как они сами, берег, еще столь свеже пустынный, столь девственно-влажный!.. Кто скажет им, этим бедным сиротам создания: «Вставайте, бедняжки! Шевелитесь, трогайтесь вперед, мои бедные, бесприютные! Ступайте, вам даны глаза и ноги! Вот юная земля, она создана для вас! Вот древний океан – вечный отец мира! Изучайте его мудрость, ловите, вяжите его, этого скользкого, седосмехого Протея[13]. Минувшее веков уходит пред вами в безотзывную даль, оставляя за собою, вокруг вас, новое – ту сферу, в которой вам суждено жить и подвизаться […] Вникайте же скорее в это старое, пока оно не ушло! Вразумляйтесь, вживайтесь умом в плодотворное новое, пока оно не перегнало вас, сущих на влажной мели новоземья!..»
5. К. Д. Кавелин* – о смерти Николая I*
К.Д. Кавелин – Т.Н. Грановскому* (4 марта 1855 г.)
[…] Отрицательная радость моя, желчная, ядовитая, по случаю перемены, так велика, что, может быть, я и увлекаюсь. Калмыцкий полубог, прошедший ураганом, и бичом, и катком, и терпугом по русскому государству в течение 30-ти лет, вырезавший лица у мысли, погубивший тысячи характеров и умов, истративший беспутно на побрякушки самовластия и тщеславия больше денег, чем все предыдущие царствования, начиная с Петра I, – это исчадие мундирного просвещения и гнуснейшей стороны русской натуры – околел, наконец, и это сущая правда! До сих пор как-то не верится! Думаешь, неужели это не сон, а быль? Я видел его погребальную процессию из Дворца в крепость[14], где он сгноил и обезумил столько людей и где бы ему приличнее было бы жить, чем лежать после смерти, – процессию беспорядочную, в шубах и шинелях, такую же бессмысленную, как все его царствование, – и все-таки до сих пор не могу еще прийти порядочно в себя! Если б настоящее не было так странно и пасмурно, будущее так таинственно загадочно, можно было бы с ума сойти от радости и опьянеть от счастия. Экое страшилище прошло по головам, отравило нашу жизнь и благословило нас умереть, не сделавши ничего путного. Говори после этого, что случайности нет в истории и что все совершается разумно, как математическая задача. Кто возвратит нам назад тридцать лет и призовет опять наше поколение к плодотворной и вдохновенной деятельности! Какому Ваалу[15] нового времени принесены в жертву лучшие силы, цвет и надежда России? Когда-то соберутся новые? Еще генерация, выросшая и воспитанная под самой несчастной звездой, лишенная энергии, идей, чести, только с виду носящая человеческий образ, должна пройти, пока выйдет что-нибудь путное. […]
6. Н. В. Шелгунов*, М.Л. Михайлов*
Прокламация «К молодому поколению» (1861 г.)[16]
[…] Когда Манифест о воле был уже готов и оставалось только объявить его, русское правительство прежде всего струсило; оно испугалось своего собственного дела; ну, а если вся Россия поднимется? Если народ пойдет на Зимний дворец? И решили объявить народу волю в великом посту, а балаганы на время масленицы отнесли подальше от дворца – на Царицын луг. О, знание сердца человеческого! О, знание русского народа! Ведь правительство думало, что оно осчастливит свой народ? Где же слыхано, чтобы человек счастливый пошел бить стекла и колотить встречных? Если же правительство боялось народа – значит, оно имело причины его бояться. И точно, причина была: во-первых, государь обманул ожидание народа – дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна. Во-вторых, он украл у него радость, объявил манифест в великом посту, а не 19 февраля. В-третьих, организацией комиссий, составлявших и рассматривавших «Положение», государь показал полнейшее презрение ко всему народу и к лучшей, то есть к образованнейшей, честнейшей и способнейшей, части русского общества – к народной партии: все дело велось в глубочайшем секрете, вопрос разрешался государем и помещиками, никто из народа не принимал участия в работе, журналистика не смела пикнуть – царь давал народу волю как милость, как бросают сердящемуся псу сухую кость, чтобы его успокоить на время и спасти свои икры. […]
Романовы, вероятно, забыли, что они свалились не с неба, а выбраны народом, потому что их считали способнее управлять Россией, чем каких-нибудь польских и шведских королевичей[17]. Вот почему, если они не оправдывают надежд народа, долой их! Нам не нужна власть, оскорбляющая нас; нам не нужна власть, мешающая умственному, гражданскому и экономическому развитию страны; нам не нужна власть, имеющая своим лозунгом разврат и своекорыстие.
Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье. […]
Мы не знаем ни одного сословия в России, которое бы не было оскорблено императорской властью. Обижены все. Последняя обида нанесена как раз в то время, когда императорская власть думала, что она творит великое дело, что она кладет первый камень великому будущему России. Мы не отвергаем важности факта, заявленного манифестом 19 февраля; но мы видим важность его не в том, в чем видит его важность правительство. Освобождение крестьян есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастию; к благосостоянию политическому и экономическому или к экономическому и политическому пролетариату. […]
Правительство наше, вероятно, не догадывается, что, положив конец помещичьему праву, оно подкосило свою собственную императорскую власть. Император был крепок только помещиками, и Екатерина II отлично понимала это, называя себя первой помещицей. Кончились помещики, кончилось и императорство – у него нет больше почвы, осталось имя без сущности, форма без содержания. […]
Если Александр II не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу, тем хуже для него. Общее недовольствие могло бы еще быть успокоено, но если царь не пойдет на уступки, если вспыхнет общее восстание, недовольные будут последовательны – они придут к крайним требованиям. Пусть подумает об этом правительство, время поправить беду еще не ушло; но пусть же оно и не медлит.
Но, с другой стороны, и мы должны помнить, что имеем дело с правительством ненадежным, с правительством, которое временными уступками будет успокаивать нас и из личных, временных выгод готово испортить все будущее всей страны – для десяти подлецов ничего не значит счастье шестидесяти миллионов.
Молодое поколение! Не забывайте этого.
Не забывайте того, что мы обращаемся к вам по преимуществу, что только в вас мы видим людей, способных пожертвовать личными интересами благу всей страны. Мы обращаемся к вам потому, что считаем вас людьми, более всего способными спасти Россию, вы – настоящая ее сила, вы – вожаки народа, вы должны объяснить народу и войску все зло, сделанное нам императорской властью, вы должны показать народу, что тут нет никакого помазания, что бог познается в делах общего блага, в делах добрых, а где добра нет, там действует злая сила – дух тьмы, а этот-то дух и есть русская императорская власть в том виде, как она существовала до сих пор.
Мы должны объяснить народу, что у него есть доброжелатели, что есть люди, желающие, чтобы он владел землей, а не находился в вечной зависимости от землевладельцев; есть люди, желающие убавить ему подати и всякие платежи, водворить правду в суде, избавить народ от лишних нянек и опекунов.
Не забудьте и солдат. Объясните им, что и у них есть доброжелатели, которые хотели бы убавить солдатам срок службы, дать им больше жалованья, избавить их от палок. […]
В последнее время расплодилось у нас много преждевременных старцев, жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек. Эти господа не понимают, что экономизм нищает нас в духовном отношении, что он приучает нас только считать гроши, что он разъединяет нас, толкая в тесный индивидуализм. Они не понимают, что не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями. Начиная материальными стремлениями, еще придем ли к благосостоянию? – односторонняя экономическая наука нас не выручит из беды. Напротив, откинув копеечные расчеты и стремясь к свободе, к восстановлению своих прав, мы завоюем благоденствие, а с ним, разумеется, и благосостояние, то есть то, чего нам так хочется, – деньги.
А эти, к несчастью, плодящиеся у нас конституционные и экономические тенденции ведут к консерватизму, они черствят человека, они ведут к сословному разъединению, к привилегированным классам. Хотят сделать из России Англию и напитать своею английскою зрелостью. Но разве Россия по своему географическому положению, по своим естественным богатствам, по почвенным условиям, по количеству и качеству земель имеет что-нибудь общее с Англией? Разве англичане на русской земле вышли бы тем, чем они вышли на своем острове? Мы уж довольно были обезьянами французов и немцев, неужели нам нужно сделаться еще и обезьянами англичан? Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком.
- Нет, нет, наш путь иной
- И крест не нам нести…[18]
Пусть несет его Европа. Да и кто может утверждать, что мы должны идти путем Европы, путем какой-нибудь Саксонии, или Англии, или Франции? Кто берет на себя ответственность за будущее России, кто может сказать, что он умнее шестидесяти миллионов, умнее всего населения страны, что он знает, что ей нужно, что он приведет ее к счастию? Где та наука, которая научила его этому, которая сказала ему, что его взгляд безошибочен? По крайней мере, мы не знаем такой науки, мы знаем только, что Гнейсты[19], Бастиа[20], Моли[21], Рау[22], Рошеры[23] раскапывают навозные кучи и гниль прошедших веков хотят сделать законом для будущего. Пусть этот закон будет их законом, а мы для себя попытаемся поискать закон другой.
Для неверующих мы делаем следующий пример. Существует Китай; ближайшие соседи его не знают другой страны, более цивилизованной. Рошеры и Моли Китая утверждают, что закон, по которому развивалась жизнь в Китае и слагалась тамошняя цивилизация, есть именно тот закон, по которому должны развиваться все народы. Соседи верят глубокомысленным ученым и, не видя жизни и цивилизации выше китайской, лезут сами из всех сил в Китай. Но вдруг оказывается, что есть другие страны, что у других народов существуют стремления, неизвестные китайцам. Следует ли из этого, что стремления эти вздор, что только китайская цивилизация и политические убеждения китайцев одни истинны? Человек, видевший только Европу, сотни немецких королевств с их кенигами, герцогами и принцами, или Францию с ее Наполеоном, разумеется, удивится, узнав, что в Америке порядки совсем другие. Почему же России не прийти еще к новым порядкам. Не известным даже и Америке? Мы не только можем, мы должны прийти к другому. […]
Европа сложилась из остатков древнего мира; тысячу лет назад в Европе была монархия, уж тогда Европа разбилась на могучих собственников и на бессильных рабов, не имевших земельной собственности, уж тогда было положено в ней начало того экономического и политического неравенства, которое привело и к пролетариату и вызвало социализм.
Европа пыталась было выйти из своего крайнего положения, но партия привилегированных людей была слишком сильна, вековые традиции были слишком крепки и в народе, и в тамошнем мещанстве, а социальные теории настолько смутны и слабы своей организационной стороной, что 1848 год должен был привести к неудаче. А этой-то неудачи струсили и наши западники, и наши доморощенные политикоэкономы. […]
Неудача 1848 года[24] если что-нибудь и доказывает, так доказывает только одно – неудачу попытки для Европы, но не говорит ничего против невозможности других порядков у нас, в России. Разве экономические, земельные условия Европы те же самые, что и у нас? Разве у них существует и возможна земледельческая община? Разве у них каждый крестьянин и каждый гражданин может быть земельным собственником? Нет. А у нас может. У нас земли столько, что достанет ее нам на десятки тысяч лет. […]
Мы похожи на новых поселенцев: нам ломать нечего. Оставимте наше народное поле в покое, как оно есть, но нам нужно выполоть ту негодную траву, которая выросла из семян, налетевших к нам с немецкими идеями об экономизме и государстве. […]
Никто нейдет так далеко в отрицании, как мы – русские. А отчего это? Оттого, что у нас нет политического прошедшего, мы не связаны никакими традициями. […] Вот отчего у нас нет страха пред будущим, как у Западной Европы, вот отчего мы смело идем навстречу революции, мы даже желаем ее. Мы верим в свои свежие силы; мы верим, что призваны внести в историю новое начало, сказать свое слово, а не повторять зады Европы. Без веры нет спасения, а вера наша в наши силы велика.
Если для осуществления наших стремлений – для раздела земли между народом – пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого. И это вовсе не так ужасно. Вспомните, сколько народу потеряли мы в польскую и венгерскую войну[25]. И для чего? Из капризов Николая, и не только без всяких выгод, но на позор своей страны. Вспомните, что Крымская война стоила нам 300 000 народу, что она разорила целый край, что ввела нас в громадный долг, а разве мы испугались ее? Нет, хоть она и стоила нам лучших сил страны. А разве наше дворянство – лучшая рабочая сила страны? Нет. До сих пор оно стояло враждебно к народу, оно было именно тем осадком общества, куда уходило все сочувствующее царской власти, все лакействующее, все ничего не делающее, все притесняющее народ, все своекорыстное, все вредное для России. Дворянство представляло у нас постоянно элемент более чем консервативный. Но нам могут заметить, что наше образование шло из дворянства, что лучшие люди были из этого сословия. Во-первых, это не совсем правда. А Ломоносов*, Кольцов[26], Белинский*? Во-вторых, лучшее, что выходило из дворянства, тотчас же отделялось от него и становилось на сторону угнетенного народа, […]
Не ту пору мы переживаем. Современный честный русский не может быть другом правительства. Он друг народа. Все же враждебное народу, все эксплуатирующее его есть правительство, а все поддерживающее правительство и стремящееся не к общему равенству прав, а к привилегиям, к исключительному положению, есть дворянство и партия дворянская. Это враг народа, враг России. Жалеть его нечего, как не жалеют вредные растения при расчистке огорода. […]
Представьте себе, что внезапно, в один день, умирают все наши министры, все сенаторы, все члены Государственного совета. Пусть вместе с ними умирают все губернаторы, директоры департаментов, митрополиты, архиереи – одним словом, вся нынешняя служебная аристократия. Что теряет от этого Россия? Ничего. Через час явятся новые министры, новый сенат, новый Государственный совет, явятся новые губернаторы, директоры департаментов, архиереи и митрополиты – и колесо государственного управления пойдет до того по-старому, что Россия и не заметит никакой перемены.
Представьте, что в одно время с ними умирают все тунеядствующие вельможи, великие князья и княжны, все лакированные флигель-адъютанты, фрейлины, все статс-дамы – весь придворный штат. Разумеется, потеря эта, как и всех министров, взятая с общей человеческой точки, принесет много огорчений родственникам, оставшимся в живых, но и только. На место умерших найдется немедленно не меньшее число людей, способных заниматься тем же, и через час такие же лакированные адъютанты и фрейлины наполнят снова двор, и если государь вздумал бы назначить вечером бал, то едва ли бы и сам он заметил перемену в лицах. Новые флигель-адъютанты танцевали бы с не меньшим искусством, как и прежние, шеи новых фрейлин были бы так же пленительны, улыбки их так же очаровательны, разговоры их так же пусты, как и прежних, и в общем характере не было бы заметно никакой перемены.
Представьте, что вместе с министрами и фрейлинами умирает все наше старое дворянство, вся аристократия происхождения, все ничего не делающие помещики. Пусть даже число новых покойников будет сто тысяч. И эту потерю Россия не заметит. Через час царь может создать новых помещиков, наделать новых графов и князей. Разве не всякий на это способен? […]
Но вот картина меняется. Министры с их товарищами живы и здоровы, сенат и Государственный совет тоже, а с ними и все ничего не делающее столбовое дворянство; фрейлины и флигель-адъютанты танцуют, камер-юнкеры и камергеры прислуживают за царским столом, одним словом, все идет так, как идет теперь, все бесполезное население России живо и здорово, но умирает аристократия мысли, умирают литераторы, поэты, ученые, художники, фабриканты, то есть те люди, которые производят вещи, полезные для страны, и снабжают ее предметами наиболее нужными, в произведениях которых высказывается гений и все способности народа, которые составляют гордость и славу нации. Что станется тогда с Россией? И сколько нужно времени, чтобы восстановить ее потерю? […] «Чего же вы хотите? – могут, наконец, спросить нас. – Вы говорите о скудоумии власти, но кто же этого не знает?» Тем хуже для нас. Мы знаем, мы видим все умственное и нравственное ничтожество власти, и мы терпим ее.
Кому нравится это, пусть остается в ярме, но кто проснулся и дозрел до понимания человеческого достоинства, в ком есть хоть искра гражданского мужества, гражданской доблести, пусть сбросит с себя цепи, пусть пристает к людям, ищущим свободы, пусть число свободных людей растет все больше и больше, пусть они теснее и теснее пристают один к другому и, наконец, потребуют перемены существующих порядков.
К этим-то людям свободы мы и обращаемся – они поймут нас.
Чего мы хотим?
Мы хотим, чтобы власть, управляющая вами, была власть разумная, власть, понимающая потребности страны и действующая в интересах народа. А чтобы она могла быть такой, она должна быть из самих нас – выборная и ограниченная.
Мы хотим свободы слова, то есть уничтожения всякой цензуры. Мы хотим развития существующего уже частью в нашем народе начала самоуправления. Если крестьяне имеют это право, если они избирают сами из себя старшин и голов, если общинам предоставлено право гражданского суда и полицейской расправы, зачем же этими правами выборного начала и самоуправления не пользуется вся остальная Россия? Или все остальное население хуже понимает свои потребности и потребности страны? Или в нем меньше смыслу, чем в земледельческом населении? Нет, этого не скажет наше правительство. Оно дало крестьянам волю потому, что боялось крестьянских топоров, но нас никто и никогда не боялся. Теперь же мы сильнее, и мы хотим последовательного развития начал народного управления. Наша сельская община есть основная ячейка, собрание таких ячеек есть Русь. Везде должно проходить одно начало. Вот что нам нужно.
Мы хотим, чтобы все граждане России пользовались одинаковыми правами, чтобы привилегированных сословий не существовало, чтобы право на высшую деятельность давали способности и образование, а не рождение, чтобы назначение в общественные должности шло из выборного начала. […] Мы хотим равенства всех пред законом, равенства всех в государственных тягостях, в податях и повинностях.
Мы хотим, чтобы денежные сборы со страны не шли неизвестно куда, чтобы их не крали, чтобы правительство давало народу отчет в собранных с него деньгах. Мы хотим открытого и словесного суда, уничтожения императорской полиции – явной и тайной, уничтожения телесного наказания.
Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране, чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель и капусту, чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться членом земледельческой общины, то есть или приписаться к общине существующей, или несколько граждан могли бы составить новую общину. Мы хотим сохранения общинного владения землей с переделами чрез большие сроки. Правительственная власть не должна касаться этого вопроса. Если идея общинного владения землей есть заблуждение, пусть она кончится сама собой, умрет вследствие собственной несостоятельности, а не под влиянием экономического учения Запада.
Мы хотим, чтобы девять миллионов десятин свободных земель Европейской России (оброчные статьи) были отданы дворовым людям, пущенным манифестом 19 февраля по миру.
Мы хотим уничтожения переходного состояния освобожденных крестьян, мы хотим, чтобы выкуп всей личной земельной собственности состоялся немедленно. Если операцию эту не в состоянии взять на себя правительство, пусть возьмут ее все сословия страны. Это путь мирный, и мы хотели бы, разумеется, чтобы дело не доходило до насильственного переворота. Но если нельзя иначе, мы не только не отказываемся от него, но мы зовем охотно революцию на помощь к народу. […]
Мы хотим полного уничтожения следов крепостного права, уничтожения развитого им неравенства в землевладении; мы хотим полного обновления страны. Мы хотим уничтожения мещанства, этой неудавшейся русской буржуазии, выдуманной Екатериной II. И какие они tiers-etat[27]? Те же крестьяне, как и все остальные, но без земли, бедствующие, гибнущие с голоду. Им должна быть дана земля. […]
Непохвальна роль, какую играло до сих пор русское войско. Оно рубило поляков, рубило венгерцев, оно участвовало во всех злодеяниях русских императоров. Для него не существовало родной земли, родного народа. Его кумиром был царь, и волю его оно исполняло свято: оно резало свой народ, когда того хотелось царю, оно было палачом и тюремщиком России. Солдат прикрывается присягой, которую он не понимает, и солдату это прощается, потому что он не понимает, что он делает. Но чем можете оправдывать себя вы, господа офицеры? Вы учились кое-чему, вы развитее рядовых солдат, вы понимаете смысл присяги, вы должны знать, что вас призвали на защиту страны своей, а не на ее угнетение. Вы говорите, что сердце у вас обливалось кровью, когда вам приходилось бить венгерцев – так зачем же вы их били! Вы не хотели дружиться с австрийцами. Зачем же вы с ними дружились? […] Пора кончить эту постыдную роль. Пора вспомнить о службе отечеству. […]
Уж если в вас не найдется силы сказать «нет», – идите, но первый залп, который вам велят сделать в своих, сделайте в тех, кто вам велит его сделать, – и уж за одно это благословит вас народ.
Мы хотим, чтобы срок службы солдату не была целая вечность, убивающая в нем все гражданские способности, все человеческие силы, делающая его никуда не годным в отставке. Мы хотим, чтобы солдат шел в службу охотой, чтобы она представляла ему выгоды, чтобы срок службы был три-пять лет, чтобы солдат не отрывался окончательно от своей родной избы, чтобы он уходил только на время и после службы возвращался в свою семью, чтобы после службы он оставался тем же селянином, как и до рекрутства, чтобы он получал жалованье, не только достаточное для его текущих потребностей, но чтобы он мог посылать кое-что и домой, а не тянуть из дому последнюю копейку. Пусть наше войско будет ополчением, пусть каждая губерния составляет свою дружину. Незачем солдату уходить в мирное время за тысячу верст от своего дома.
Мы хотим сокращения расходов на все управление, мы хотим уничтожения вредных для народа управлений, как министерство государственных имуществ, министерство двора, удельное управление. У народа есть и головы, и старшины, есть, наконец, здравый смысл, в который верует и само правительство. […]
Мы хотим сокращения расходов на царскую фамилию. Зачем какому-нибудь великому князю сто тридцать лошадей, когда люди не менее порядочные и, уж разумеется, более полезные довольствуются вполне парой? Зачем на двор тратится пятьдесят миллионов в год, когда за десятую часть этой суммы можно иметь людей, знающих лучше свое дело и действительно полезных стране? Крепостное право кончилось, а с ним должно кончиться и барство, и всякие помещичьи замашки – дворовые, дворцы и дворы.
Мы хотим освобождения из казематов и возвращения из ссылки всех осужденных за политические преступления, мы хотим возврата на родину всех политических выходцев.
Наконец, мы хотим совершенного изменения основных законов. Например: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти, не токмо за страх, но и за совесть сам бог повелевает». Что за клевета на Бога и совесть! В этом можно уверять только китайцев и турок, да и те едва ли верят подобной басне. Странно навязывать подобное верование народу, у которого девять миллионов сектантов, не признающих царя. […]
Но кому мы указываем эту программу? Кто станет ее выполнять? Где у нас люди, понимающие свои гражданские и человеческие права и способные предъявить свои требования? Дворянство? Нет, в дворянство мы не веруем, – оно показало уже свое бессилие, непонимание своих выгод и неуменье пользоваться обстоятельствами. Когда государь сказал им: «Я хочу, чтобы вы отказались от своих прав на крестьян», – им следовало ответить: «Государь, мы согласны, но и вы должны тоже отказаться от безусловной власти, вы ограничиваете нас, мы хотим ограничить вас». Это было бы последовательно, и в руках дворянства была бы конституция. Дворянство струсило, в нем недостало единодушия, и теперь очередь не за ним.
Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий; затем все угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола, – чиновники, эти несчастные фабричные канцелярий, обреченные на самое жалкое существование и зависящие вполне от личного произвола своих штатских генералов; войско, находящееся совершенно в таком же положении, и двадцать три миллиона освобожденного народа, которому 19 февраля 1861 года открыта широкая дорога к европейскому пролетариату.
Обращаемся еще раз ко всем, кому дорого счастие России, обращаемся еще раз к молодому поколению. Довольно дремать, довольно заниматься пустыми разговорами, довольно бранить правительство втихомолку или рассказывать все одни и те же рассказы об одних и тех же плутнях разных Муравьевых*. Довольно корчить либералов, наступила пора действовать. […]
Говорите чаще с народом и с солдатами, объясняйте все, чего мы хотим и как легко всего этого достигнуть; нас миллионы, а злодеев сотни. Стащите с пьедестала, в мнении народа, всех этих сильных земли, недостойных править нами, объясните народу всю незаконность и разврат власти, приучите солдат и народ понять ту простую вещь, что из разбитого генеральского носа течет такая же кровь, как и из носа мужицкого. Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам придется играть, зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря! Ведь в комнате или на войне, право, умирать не легче!
7. П. Г. Заичневский*
Прокламация «Молодая Россия» (1862 г.)
[…] Выход из […] гнетущего, страшного положения, губящего современного человека и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы, один – революция, революция кровавая и неумолимая, революция, которая должна изменить радикально все, все без исключения, основы современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка.
Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная!
Понимает необходимость революции инстинктивно и мacca народа, понимает и небольшой кружок наших действительно передовых людей […] и вот из среды их выходят один за другим эти предтечи революции и призывают народ на святое дело восстания, на расправу со своими притеснителями, на суд с императорской партией. Расстреливание за непонимание дурацких положений 19 февраля, работа в рудниках за указание безнадежности настоящего положения, ссылка в отдаленные губернии, ссылка гуртом в каторжные работы за публичное заявление своего мнения, за молитву в церквах по убитым – вот чем отвечает императорская партия им!
Императорская партия! Думаете ли вы остановить этим революцию, думаете ли запугать революционную партию? Или до сих пор вы не поняли, что все эти ссылки, аресты, расстреливания, засечения насмерть мужиков ведут к собственному же вашему вреду, усиливают ненависть к вам и заставляют теснее и теснее смыкаться революционную партию, что за всякого члена, выхваченного вами из ее среды, ответите вы своими головами? Мы предупреждаем и ставим на вид, это только вам, члены императорской партии, и ни слова не говорим о ваших начальниках, около которых вы группируетесь, о Романовых – с теми расчет другой! Своей кровью они заплатят за бедствия народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва, сложит головы весь дом Романовых!
Больше же ссылок, больше казней! – раздражайте, усиливайте негодование общественного мнения, заставляйте революционную партию опасаться каждую минуту за свою жизнь, но только помните, что всем этим ускорите революцию и что чем сильнее гнет теперь, тем беспощаднее будет месть.
Революции все способствует в настоящее время: волнение Польши и Литвы, финансовый кризис, увеличение налогов, окончательное разрешение крестьянского вопроса весной 1863 года[28], когда крестьяне увидят, что они кругом обмануты царем и дворянами, а тут еще носятся слухи о новой войне, поговаривают, что государь поздравил уже с ней гвардию. Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы, и Россия дойдет до банкротства. Тут-то и вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначительного повода. Но может случиться, что крестьяне восстанут не сразу в нескольких губерниях, а отдельными деревнями, что войско не успеет пристать к нам, что революционная партия не успеет сговориться, недостаточно централизуется и заявит свое существование нe общим бунтом, а частными вспышками, императорская партия подавит их, и дело революции снова остановится на несколько лет.
Для избежания этого Центральный Революционный комитет в полном своем собрании 7 апреля решил:
Начать издание журнала, который выяснил бы публике принципы, за которые он борется, и в то же время служил бы организатором революционной партии в России. В нем будут помещаться отчеты о заседаниях комитета, будут предлагаться вопросы на обсуждение провинциальным комитетам, будут заявляться публике мнения революционной партии о каждом важном событии. Комитет вынужден был приступить к изданию своего органа и тем, что еще ни один из издаваемых журналов не выяснил обществу революционной программы. Для доказательства этого мы обратимся к двум органам: «Колоколу» и «Великорусу»[29].
Несмотря на все наше глубокое уважение к А. И. Герцену* как публицисту, имевшему на развитие общества большое влияние, как человеку, принесшему России громадную пользу, мы должны сознаться, что «Колокол» не может служить не только полным выражением мнений революционной партии, но даже и отголоском их.
С 1849 года у Герцена начинается реакция: испуганный неудачной революцией 48 года, он теряет всякую веру в насильственные перевороты. […] Проходит еще год, и «Колокол», оказывая влияние на правительство, уже совсем становится конституционным. Увлечение им молодежи уменьшается, революционная партия ищет другого органа, и если он читается, то этому способствует еще прежняя слава Герцена, Герцена, приветствовавшего революцию, Герцена, упрекавшего Ледрю-Роллена[30] и Луи Блана[31] в непоследовательности, в том, что они, имея возможность, не захватили диктатуры в свои руки и не повели Францию по пути кровавых реформ для доставления торжества рабочим.
Наконец, его надежды на возможность принесения добра Александром или кем-нибудь из императорской фамилии; его близорукий ответ на письмо человека, говорившего, что пора начать бить в набат[32] и призвать народ к восстанию, а не либеральничать. Его совершенное незнание современного положения России, надежда на мирный переворот; его отвращение от кровавых действий, от крайних мер, которыми одними можно только что-нибудь сделать, окончательно уронили журнал в глазах республиканской партии.
Но нам могут возразить, что ошибаемся мы, а не Герцен, что отвращение его от насильственных переворотов проистекло из знакомства с историей Запада, от его уверенности, что каждая революция создает своего Наполеона.
Мы ответим на это, что и сам Герцен не разделяет этого мнения, да и революции кончились худо от непоследовательности людей, поставленных во главе ее. Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло для нас даром; мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах.
В июле прошлого года появился в России «Великорус».
Несмотря на всю ошибочность и отсталость его мнений, несмотря на радикальную противоположность их с нашими, мы все-таки должны заявить свое уважение к редакции его, выдавшей в России же протест против существующего порядка. Успех «Великоруса» был громадный, что и надо было предвидеть вначале. Удовлетворяя и как нельзя лучше совпадая с желаниями нашего либерального общества, т. е. массы помещиков, стремящихся хоть чем-нибудь нагадить правительству и опасающихся в то же время даже тени революции, грозящей поглотить их самих, кучки бездарных литераторов, сданных за ветхостью в архив, а во времена Николая считавшихся за прогрессистов, он все-таки не мог составить около себя партии. Его читали, о нем говорили, да и только. Он вызывал улыбку революционеров своим мнением о том, что государь побоится отдать приказ стрелять в собравшийся народ, своими невинными адресами, которыми думает спасти Россию. […] Не находя ни в одном органе полного выражения революционной программы, мы помещаем теперь главные основания, на которых должно построиться новое общество, а в следующих номерах постараемся развить подробнее каждое из этих положений.
Мы требуем изменения современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей, причем вся власть должна перейти в руки Национального и областных собраний. На сколько областей распадется земля русская, какая губерния войдет в состав какой области – этого мы не знаем; само народонаселение должно решить этот вопрос.
Каждая область должна состоять из земледельческих общин, все члены которой пользуются одинаковыми правами.
Всякий человек должен непременно приписаться к той или другой из общин; на его долю по распоряжению мира назначается известное количество земли, от которой он, впрочем, может отказаться или отдать ее в наем. Ему предоставляется также полная свобода жить вне общины и заниматься каким угодно ремеслом, только он обязан вносить за себя ту подать, какая назначается общиной.
Земля, отводимая каждому члену общины, отдается ему не на пожизненное пользование, а только на известное количество лет, по истечении которых мир производит передел земель. Все остальное имущество членов общины остается неприкосновенным в продолжение их жизни, но по смерти делается достоянием общины.
Мы требуем, чтобы все судебные власти выбирались самим народом; требуем, чтобы общинам было предоставлено право суда над своими членами во всех делах, касающихся их одних.
Мы требуем, чтобы, кроме Национального собрания, составленного из выборных всей земли русской, которое должно собираться в столице, были бы и другие областные собрания в главном городе каждой области, составленные только из одних представителей последней. Национальное собрание решает все вопросы иностранной политики, разбирает споры областей между собой, вотирует законы, наблюдает за исполнением прежде постановленных, назначает управителей по областям, определяет общую сумму налога. Областные собрания решают дела, касающиеся до одной только той области, в главном городе которой они собираются.
Мы требуем правильного распределения налогов, желаем, чтобы он падал всей своей тяжестью не на бедную часть обще ства, а на людей богатых. Для этого мы требуем, чтобы Национальное собрание, назначая общую сумму налога, распределило бы его только между областями. Уже областные собрания разделяют его между общинами, а сами общины в полном своем собрании решают, какую подать должен платить какой член ее, причем обращается особое внимание на состояние каждого, одним словом, вводится налог прогрессивный.
Мы требуем заведения общественных фабрик, управлять которыми должны лица, выбранные от общества, обязанные по истечении известного срока давать ему отчет, требуем заведения общественных лавок, в которых продавались бы товары по той цене, которой они действительно стоят, а не по той, которую заблагорассудится назначить торговцу для своего скорейшего обогащения.
Мы требуем общественного воспитания детей, требуем содержания их на счет общества до конца учения. Мы требуем также содержания на счет общества больных и стариков – одним словом, всех, кто не может работать для снискания себе пропитания.
Мы требуем полного освобождения женщины, дарования ей всех тех политических и гражданских прав, какими будут пользоваться мужчины, требуем уничтожения брака, как явления, в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов, а следовательно, и уничтожения семьи, препятствующей развитию человека, без которого немыслимо уничтожение наследства.
Мы требуем уничтожения главного притона разврата – монастырей, мужских и женских, тех мест, куда со всех концов государства стекаются бродяги, дармоеды, люди, ничего не делающие, которым приятен даровой хлеб и которые в то же время желают провести всю свою жизнь в пьянстве и разврате. Имущества как их, так и всех церквей должны быть отобраны в пользу государства и употреблены на уплату долга внутреннего и внешнего.
Мы требуем увеличения в больших размерах жалованья войску и уменьшения солдату срока службы. Требуем, чтобы по мере возможностей войско распускалось и заменялось национальной гвардией.
Мы требуем полной независимости Польши и Литвы как областей, заявивших свое нежелание оставаться соединенными с Россией.
Мы требуем доставления всем областям возможности решить по большинству голосов, желают ли они войти в состав Федеративной Республики Русской.
Без сомнения, мы знаем, что такое положение нашей программы, как федерация областей, не может быть приведено в исполнение тотчас же. Мы даже твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе правительства, если только движение будет удачно, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения, политическую, а не административную, чтобы при помощи ее ввести другие основания экономического и общественного быта в наивозможно скорейшем времени. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем. Выборы в Национальное собрание должны происходить под влиянием правительства, которое тотчас же и позаботится, чтобы в состав его не вошли сторонники современного порядка (если они только останутся живы). К чему приводит невмешательство революционного правительства в выборы, доказывает прошлое французское собрание 48 года, погубившее республику и приведшее Францию к необходимости выбора Луи Наполеона в императоры.
Теперь, когда мы выяснили свою программу, к нам обратятся с вопросом, на кого же мы надеемся, где те элементы, сгруппировать которые мы хотим, кто на нашей стороне.
Мы надеемся на народ: он будет с нами, в особенности старообрядцы, а ведь их несколько миллионов.
Забитый и ограбленный крестьянин станет вместе с нами за свои права, он решит дело, но не ему будет принадлежать инициатива, а войску и нашей молодежи.
Мы надеемся на войско, надеемся на офицеров, возмущенных деспотизмом двора, той презренной ролью, которую они играли и теперь еще играют, убивая своих братьев поляков и крестьян, повинуясь беспрекословно всем распоряжениям государя. […]
Но наша главная надежда на молодежь. […] Помни же, молодежь, что из тебя должны выйти вожаки народа, что ты должна стать во главе движения, что на тебя надеется революционная партия! Будь же готова к своей славной деятельности, смотри, чтобы тебя не застали врасплох! Готовься, а для этого собирайтесь почаще, заводите кружки, образуйте тайные общества, с которыми Центральный Революционный Комитет сам постарается войти в сообщение, рассуждайте больше о политике, уясняйте себе современное положение общества, а для большего успеха приглашайте к себе на собрания людей, действительно революционных и на которых вы можете вполне положиться.
Скоро, скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» двинемся на Зимний дворец истреблять живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, т. е. какой-нибудь сотни, другой людей, но может случиться – и это последнее вернее, – что вся императорская партия как один человек встанет за государя, потому что здесь будет идти вопрос о том, существовать ей самой или нет.
В этом последнем случае с полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народа, в славное будущее России, которой вышло на долю первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик: «В топоры!» – и тогда… тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам!
Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против, кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами.
Но не забывай при каждой новой победе во время каждого боя повторять: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!»
А если восстание не удастся, если придется нам поплатиться жизнью за дерзкую попытку дать человеку человеческие права, пойдем на эшафот нетрепетно, бесстрашно и, кладя голову на плаху или влагая ее в петлю, повторим тот же великий крик: «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!»
8. Прокламация «Предостережение»[33]
Правительство говорит, что революционеры жгут Петербург[34]. Установлен во всей России суд по полевым военным законам против злоумышленников, потому что правительство полагает, будто во всех провинциях революционные комитеты возбуждают к бунту и поджогу. Петербургское общество само дало правительству возможность принять подобные меры: оно дало эту возможность своими сплетнями и, читая повторение своих выдумок в официальных объявлениях, совершенно убедилось, что сплетни эти справедливы.
Мы достоверно знаем, что таких революционеров нет и не было. Несколько пылких людей написали и напечатали публикацию, резкие выражения которой послужили предлогом для нелепых обвинений. Довольно прочесть эту публикацию со вниманием, чтобы понять чувства ее издателей: эти люди экзальтированные и уже по тому самому неспособные иметь никаких низких намерений. Они сказали несколько опрометчивых слов, но, конечно, не придавали им того смысла, какой хочет в них видеть правительство и находит петербургская публика. Из их слов для нас ясно было их желание сказать только, что правительство ведет народ к восстанию и что они готовы стать в ряды народа при наступлении вооруженной борьбы. Но не отстать от народа, когда он поднимется, вовсе не то, что возбуждать его к резне. Думать, что облегченье судьбы простого народа не будет слишком дорого куплено ценою революции, – вовсе не то, что поджигать жилища и лавки бедняков. […]
Революционная партия никогда не бывает в силах сама по себе совершить государственный переворот. Пример тому – многочисленные попытки парижских республиканцев и коммунистов, которые всегда так легко подавлялись несколькими батальонами солдат. Перевороты совершаются народами.
Если бы начавшаяся теперь реакция ограничила свое влияние только преследованиями свободномыслящих людей, – из этого не вышло бы ничего важного для праздной толпы так называемого просвещенного общества. Но реакция отразится и на крестьянском вопросе, она окончательно отнимет у правительства всякую заботу об удовлетворении требований крепостных крестьян, а это уже плохая шутка для всего образованного общества. Крестьяне уже начинают готовиться к восстанию, и поднимутся, если не получат новой воли. Это уже решено между крестьянами во всех губерниях. Не верьте слухам, отрицающим этот факт, – они лживы. Они распространяются или малодушными людьми, зажмуривающими глаза от опасности, или правителями, обманывающими публику. Народное восстание близится. Пусть поймет это публика и пусть помнит. Пусть сообразит теперь, что реакция, порожденная ее же сплетнями, поддерживается ее легковерием, дает восстанию черного народа характер столь свирепый, что никакие усилия революционеров не будут в состоянии ни смягчить переворота, ни положить ему пределов.
Мы революционеры, т. е. люди, не производящие переворота, а только любящие народ настолько, чтобы не покинуть его, когда он сам без нашего возбужденья ринется в борьбу, мы умоляем публику, чтобы она помогла нам в наших заботах смягчить готовящееся в самом народе восстание. Нам жаль образованных классов; просим их уменьшить грозящую им опасность. Но для этого нужно, чтобы публика сделалась более хладнокровна и менее легкомысленна, чем какою выказала она себя в сплетнях о пожарах. Перестаньте поощрять правительство в его реакционных мерах.
Обращаемся с просьбою и к правительству. Пусть оно хорошенько поищет нас, пусть поищет получше, чем до сих пор искало. Как нам ни жалко несчастных страдальцев, которых оно мучит и судит за нас, как доходят до нас слухи, но мы все же не объявим себя, чтобы снять с этих людей ложное обвинение. И в этом мы всегда и перед всеми останемся правы: мы не посылали этих людей на опасность; мы, наши люди, целы и будут целы. Мы считали бы себя слишком слабыми, если бы могли попадаться. Нас узнают только тогда, когда мы явимся сами в рядах народа, открыто добывающего себе человеческие права.
9. Н. Г. Чернышевский*
Из романа «Что делать?»
[…] Ну, что же различного скажете вы о таких людях? Все резко выдающиеся черты их – черты не индивидуумов, а типа, типа до того разнящегося от привычных тебе, проницательный читатель, что его общими особенностями закрываются личные разности в нем. Эти люди среди других, будто среди китайцев несколько человек европейцев, которых не могут различить одного от другого китайцы: во всех видят одно, что они «красноволосые варвары, не знающие церемоний»; на их глаза, ведь и французы такие же «красноволосые», как англичане. Да китайцы и правы: в отношениях с ними все европейцы, как один европеец, не индивидуумы, а представители типа, больше ничего; одинаково не едят тараканов и мокриц, одинаково не режут людей в мелкие кусочки, одинаково пьют водку и виноградное вино, а не рисовое, и даже единственную вещь, которую видят свою родную в них китайцы, – питье чаю, делают вовсе не так, как китайцы: с сахаром, а не без сахару. Так и люди того типа, к которому принадлежали Лопухов и Кирсанов, кажутся одинаковы людям не того типа. Каждый из них – человек отважный, не колеблющийся, не отступающий, умеющийся взяться за дело, и если возьмется, то уже крепко хватающийся за него, так что оно не выскользнет из рук: это одна сторона их свойств, с другой стороны, каждый из них человек безукоризненной честности, такой, что даже и не приходит в голову вопрос: «можно ли положиться на этого человека во всем безусловно?» Это ясно, как то, что он дышит грудью; пока дышит эта грудь, она горяча и неизменна, – смело кладите на нее голову, на ней можно отдохнуть. Эти общие черты так резки, что за ними сглаживаются все личные особенности.
Недавно зародился у нас этот тип. Прежде были только отдельные личности, предвещавшие его; они были исключениями и, как исключения, чувствовали себя одинокими, бессильными, и от этого бездействовали, или унывали, или экзальтировались, романтизировали, фантазировали, то есть не могли иметь главной черты этого типа, не могли иметь хладнокровной практичности, ровной и расчетливой деятельности, деятельной рассудительности. То были люди, хоть и той же натуры, но еще не развившейся до этого типа, а он, этот тип, зародился недавно; в мое время его еще не было, хоть я не очень старый, даже вовсе не старый человек. Я и сам не мог вырасти таким, – рос не в такую эпоху; потому-то, что я сам не таков, я и могу, не совестясь, выражать свое уважение к нему; к сожалению, я не себя прославляю, когда говорю про этих людей: славные люди.
Недавно родился этот тип и быстро распложается. Он рожден временем, он знамение времени, и, сказать ли? – он исчезнет вместе с своим временем, недолгим временем. Его недавняя жизнь обречена быть и недолгою жизнью. Шесть лет тому назад этих людей не видели; три года тому назад презирали; теперь… но все равно, что думают о них теперь; через несколько лет, очень немного лет, к ним будут взывать: «спасите нас!», и что будут они говорить, будет исполняться всеми; еще немного лет, быть может, и не лет, а месяцев, и станут их проклинать, и они будут согнаны со сцены, ошиканные, страмимые. Так что же, шикайте и страмите, гоните и проклинайте, вы получили от них пользу, этого для них довольно, и под шумом шиканья, под громом проклятий, они сойдут со сцены гордые и скромные, суровые и добрые, как были. И не останется их на сцене? – Нет. Как же будет без них? – Плохо. Но после них все-таки будет лучше, чем до них. И пройдут года, и скажут люди: «после них стало лучше; но все-таки осталось плохо». И когда скажут это, значит, пришло время возродиться этому типу, и он возродится в более многочисленных людях, в лучших формах, потому что тогда всего хорошего будет больше, и все хорошее будет лучше; и опять та же история в новом виде. И так пойдет до тех пор, пока люди скажут: «ну, теперь нам хорошо», тогда уж не будет этого отдельного типа, потому что все люди будут этого типа, и с трудом будут понимать, как же это было время, когда он считался особенным типом, а не общею натурою всех людей?
10. Н. А. Серно-Соловьевич*
Из прошения на имя Александра II (26 января 1864 г.)
[…] Переворот в государстве неизбежен, потому что совершается переворот в понятиях.
Все действия Вашего Величества с первой минуты вступления на престол доказывают понимание этого. Ваше Величество делали и делаете все, что возможно сделать государю лично для мирного исхода. Но старые государственные формы, приспособленные не для движения, а для застоя, парализуют все благие желания Вашего Величества и способнейших правительственных лиц. Этого противодействия не осилит никакой гений, потому что реформы не могут поспевать за развитием понятий. Вот почему все лучшие меры нынешнего царствования при первом извещении о них встречались с восторгом, а при исполнении с холодностью, а иногда неудовольствием. Теперь наиболее образованная часть нации видимо опередила в своих стремлениях правительство. Если правительство не займет своего природного места, т. е. не встанет во главе всего умственного движения государства, насильственный переворот неизбежен, потому что все правительственные меры, и либеральные, и крутые, будут обращаться во вред ему, и помочь этому невозможно. Правительству, не стоящему в такую пору во главе умственного движения, нет иного пути, как путь уступок. А при неограниченном правительстве система уступок обнаруживает, что у правительства и народа различные интересы и что правительство начинает чувствовать затруднения. Потому всякая его уступка вызывает со стороны народа новые требования, а каждое требование естественно рождает в правительстве желание ограничить или обуздать его. Отсюда ряд беспрерывных колебаний и полумер со стороны правительства и быстро усиливающееся раздражение в публике. Доказательства налицо: отмена крепостного права – событие, которое должно было вызвать в целом мире бесконечный крик восторга, – привело к экзекуциям, развитие грамотности – к закрытию воскресных школ, временные цензурные облегчения – к небывалым карательным мерам против литературы, множество финансовых мep – к возрастающему расстройству финансов и кредита, отмена откупов – это можно смело предсказывать – к небывалому пьянству, а оно, в свою очередь, приведет к ограничениям торговли водкой. Отсюда очевидно, что даже безусловно полезные и необходимые начинания должны были рождать в конечном результате неудовольствие. Что же сказать о влиянии следовавших за ними стеснений или карательных мер? Знающий историю – знает, что вина всего этого не в людях, а в учреждениях, не соответствующих времени. Но все это ведет к страшным результатам. Следственная комиссия, однажды учрежденная, может сделаться постоянным учреждением и потому обратиться в действительный революционный комитет. Это очевидно, так как ее задача отыскивать злоумышленников, а каждый ее шаг должен создавать их сотнями. Этого нельзя не предвидеть, понимая характер времени. Не знаю, разъяснила ли следственная комиссия правительству историю распространения воззваний. Но если в ней есть сведущие и способные государственные люди, ей следовало сделать это при самом учреждении. Кто следит за cобытиями и знает общие исторические законы, тот не может сомневаться, что дело шло, идет, и верно, будет идти обычным путем, потому что те же причины всегда рождают те же следствия. Правительство разбудило своими мерами общество, но не дало ему свободы высказываться. А высказываться – такая же потребность развивающегося общества, как болтать – развивающегося ребенка, потому обществу ничего не оставалось, как высказываться помимо дозволения. Вся литература год твердила об этом. Потаенные рукописи появлялись с незапамятных времен. Прошло их время, – появилась свободная печать за границей. По времени и она сделалась недостаточной, и тогда неизбежно должна была появиться тайная печать в России. Так и случилось. Если бы государственные люди смотрели на события и управление государством со всемирно-исторической, а не канцелярской точки зрения, их первейшею обязанностью было бы представить Вашему Величеству, что пришло время дать свободу слову. Если бы это было сделано, против каждого человека, который отважился бы напечатать статью, похожую на воззвание, нашлись бы десятки оппонентов, и на этом пункте завязалась бы такая же журнальная полемика, какая ведется на всех других, и которую опытнейшие европейские правительства считают важнейшим пособием в управлении государством. К несчастию, правительство прибегло к карательным мерам. Это был капитальный государственный промах. Имя наказанного человека сделалось чуть не самым популярным именем[35]. Содержание воззвания, конечно, было через месяц забыто тремя четвертям читавших. Но для публики наказанный сделался страдальцем за принцип свободы печати. С этой минуты борьба была неизбежна, и она началась. Со стороны публики ее вела не шайка, а громадная мacca. Каждый напечатавший воззвание мог быть уверен, что оно разойдется, потому что все будут участниками в распространении, а люди особенно пылкие будут даже переписывать и перепечатывать. Доискиваться какого-нибудь центра распространителей было бесполезно, потому что его, очевидно, не было. Если бы были люди, управлявшие делом, все воззвания имели бы одно направление и составлялись бы, конечно, гораздо умнее. Такая нелепая бравада, как «Молодая Россия»[36], никогда не могла бы появиться, потому что ею доставлен был правительству незаменимый случай убить на несколько лет тайную печать, восстановив против нее всю массу публики, без содействия которой распространение немыслимо: этого бы никак не могли упустить из виду руководители дела. Их, очевидно, не было, и потому правительство, учредив следственную комиссию, потеряло все, что выиграло «Молодой Россией». Если бы каждый арестованный выдавал всех, кого мог, цифры вышли бы баснословные, потому что каждый мог бы выдать нескольких знакомых, те – своих знакомых и так до бесконечности. Все это были бы распространители, а составители или печатники, по всей вероятности, – никому неизвестные личности, из коих, может быть, одни это делают по убеждению, другие по злобе, третьи для препровождения времени. Если бы между ними была связь, дело, конечно, велось бы серьезнее. Потому, что в деле участвует публика, каждый арест, каждая ссылка должны волновать массу людей и ожесточать огромную часть молодежи. Все это неизбежно приведет к тому, что, вероятно, вся эта шальная пропаганда на время прекратится для того, чтобы обратиться в серьезную, организованную. Дело в том, что преследования в связи с общим ходом дел необходимо должны выработать большое количество личностей, страшных энергиею и непримиримостью убеждений. О таких личностях мы не имели понятия лет пять назад. Но уже в последние два-три года между самою юною молодежью стали проявляться характеры, пред силою которых самые крайние люди поколений, воспитанных в прошлое царствование, оказывались почти детьми. Это характеристический признак приближения грозы. Истребить этих людей нельзя, так как каждый десяток их обращается на следующий год в сотню, потому что в переходное время передовые личности каждого нового поколения становятся сильнее и сильнее. В настоящее время для правительства нет важнее вопроса, как тот: как привлечь к себе эти силы и направить их на практическую деятельность? Если оно не достигнет этого, ему придется начать с ними борьбу на смерть, результаты которой будут страшны, а исход во всяком случае тяжел для правительства, потому что ему будет приходиться все терять и ничего не выигрывать, а его противники – люди, которые будут по убеждению напрашиваться на страдания. Так же постепенно вырабатывались временем и французские террористы. Но во Франции переворот длился почти столетие, катастрофа последовала через 30 лет после смерти Людовика XIV, с которым умерла там старая система. У нас события должны идти гораздо быстрее, так как общая атмосфера в Европе теперь совсем другая; это видно, сличая явления, повторяющиеся в общих чертах с поразительным сходством.
Я считаю своею священнейшею обязанностью говорить все это, зная по собственному опыту, что в пылу деятельной жизни почти невозможно уяснить себе положение и заметить, с какою быстротою зреют обстоятельства. В такие критические эпохи единственное спасение правительства – как можно скорее и полнее слить свои интересы с народными. Восемь лет назад можно было пальцем перечесть людей, помышлявших о каких-либо представительных учреждениях; года три назад уже были люди, не сочувствующие монархическим началам, но самые крайние из них с ужасом бы отступили от роли террористов, а теперь, по всей вероятности, время уже вырабатывает таких людей, а сохранение старых форм будет быстро размножать их.
11. И. А. Худяков*
Из книги «Записки каракозовца»
[…] Говорят, характер есть признак силы ума. В отношении большинства это верное замечание: но иногда бывают такие личности, у которых характер далеко превосходит силу ума. К числу таких личностей принадлежал Каракозов*.
Каракозов, виновник события 4 апреля, был одним из тех редких людей, у которых дело заменяет слова. На сходках своего кружка он говорил меньше всех. Точно так же и в детстве он не был словоохотлив. Бывши учеником в пензенской гимназии, он никогда не высовывался и не участвовал в мелких стычках с надзирателями и учителями; зато, когда вышла крупная история с директором, он был в ней первым.
Однажды в Москве он шел вечером по улице и наткнулся на будочника, с ожесточением колотившего извозчика. Без всяких предварительных увещаний Каракозов немедленно ухватил будочника за шиворот, поднял его на воздух, потряс несколько раз и бросил в сторону со словами: «Всех бы вас перевешать!» Через несколько минут после подобных порывов волнующаяся страсть улегалась, и он, согнувшись шел, сидел или лежал неподвижно, думая какую-то думу. Товарищи еще в гимназии прозвали его Карлом XII.
Каракозов не был тщеславным человеком; он действовал под влиянием своей то неподвижной, то бурной натуры; он мало заботился о том, что о нем скажут, и делал только то, что по своим соображениям считал полезным. Еще менее, – в этом я уверен, – он думал о себе. Как известно, товарищи просили его не совершать до времени покушения – отсрочка очень приятная для человека, полного жизни… Он однако не послушался их, потому что, во-первых, он не знал того взаимного недоверия, которое Мотков* посеял между членами общества; во-вторых, он думал, что покушение даст им значительные денежные средства, а народ получит «уступочку», которой общество и воспользуется для пропаганды и для достижения своей цели – социальной республики… Однако, несмотря на силу своего характера, несмотря на предостережение своих товарищей, Каракозов не имел настолько ума, чтобы исполнить свое дело мастерски. Он как будто нарочно оставил все следы, чтобы открыть дело в случае неудачи. […]
При размышлении об этом нельзя, впрочем, упустить из виду того, что та неподвижность, которая отличала Каракозова в обыкновенное время, более всего вырабатывала эту неосторожность; незнакомый с мелкими житейскими неудачами, он не мог предугадать большую неудачу […]. Живя в тесном кружке молодых студентов, он, подобно Березовскому*, «в повстанье» без сомнения, действовал бы осторожнее…
Кроме того, Каракозов очень мог рассчитывать и на удачу своего покушения. Он был хороший стрелок, а промахнуться в упор было бы неслыханным делом… Тогда толпа растерзала бы его на месте, и едва ли бы тогда нашли какой-нибудь след его происхождения; даже если бы и нашли, то его неосторожность не повлекла бы за собой вредных последствий.
Некоторые словоохотливые господа обвиняют Каракозова в том, что немедленно после покушения он струсил и хотел было бежать. Конечно, эти господа сами никогда не были в подобном положении. Вспомните рассказы образованных военных: какой ужас страха чувствуют они перед началом сражения и ужас отвращения после него! Послушайте рассказы поляков, участвовавших в польском бунте 1863 года. Натыкаясь в одиночку на русского солдата, имея полную возможность повалить его выстрелом, многие не могли сделать это… Прицел сделан, а рука отказывается спустить курок… Так возмущается человеческое чувство против самого дозволительного убийства для защиты общественной свободы… Образованному человеку, как бы он ни был убежден в правоте своего поступка, чрезвычайно тяжело убить другого «человека». В то время как мозг его убежден в крайней правоте и необходимости известного поступка, нервы всего тела, непривычные к такому явлению, неожиданно протестуют… Повторяю, никто, кроме Каракозова, не может понимать, что Каракозов чувствовал в данную минуту.
Господа резонеры, которые, может быть, всю свою жизнь боятся какого-нибудь паука, должны помнить, что Каракозов чувствовал страх чуть ли не в первый раз в жизни именно в это мгновенье; вероятно, этот внезапный ужас, объявший его, был ужас громадной неудачи. Через минуту он владел уже полным присутствием духа, народ уже тормошил его, желая его раздавить…
– Дурачье! Ведь я для вас же! – сказал он. – А вы не понимаете.
– Ты поляк? – спросил его государь.
– Нет, чистый русский, – отвечал Каракозов спокойно.
– Почему же ты стрелял в меня?
– Потому что ты обещал народу землю, да не дал.
Затем девять дней Каракозов не открывал своей фамилии, пока не открыли ее обстоятельства, мало того, в начале следствия он сделал геройское усилие уморить себя голодом: несколько дней не принимал пищи, пока наконец он ослабел до такой степени, что ему силой вливали в рот пищу. […]
Самым неопровержимым доказательством его благородства служит глубокая степень ужасного раскаяния, сожаления о своем промахе, о гибели других, дело которых было для него делом жизни. Это нравственное страдание лишило его сна, не давало ему ни минуты покоя, ослабило его до такой степени, что под конец он сделался тенью прежнего человека, едва держался на ногах; самая голова даже стала склоняться на бок. А пять месяцев тому назад Боткин сравнивал его здоровье с быком. […]
12. Д. В. Каракозов*
Друзьям рабочим (1866 г.)
Братцы, долго меня мучила мысль и не давала мне покоя: отчего любимый мной простой народ русский, которым держится вся Россия, так бедствует? Отчего ему не идет впрок его безустанный тяжелый труд, его пот и кровь и весь-то свой век он работает задаром? Отчего рядом с нашим вечным тружеником – простым народом: крестьянами, фабричными и заводскими рабочими и другими ремесленниками – живут в роскошных домах-дворцах люди, ничего не делающие, тунеядцы-дворяне, чиновная орда и другие богатеи, – и живут они на счет простого народа, чужими руками жар загребают, сосут кровь мужицкую? Как же это, думалось мне, простой народ русский допустил у себя завестись таким порядкам? Ведь в нашей матушке России на каждую тысячу бедняков-рабочих едва ли придется десять человек праздных тунеядцев-богачей, которых содержит эта тысяча рабочих. Чего, наконец, смотрят наши цари, ведь они на то и поставлены от народа, чтобы зло уничтожать и заботиться о благе всего народа русского, народа рабочего, а не тунеядцев-богачей. Захотел я узнать, что умные люди насчет этого думают, стал читать книги разные, и много книг перечитал я о том, как люди жили в прежние, старинные времена. И что же, братцы, я узнал, что цари-то и есть настоящие виновники всех наших бед. […] Когда нынешний царь Александр Второй издал первый манифест о воле, не поверил я, друзья, в то время, чтобы это царь сделал от чистого сердца, добра только одному простому народу желаючи. С какой стати волк будет ублаготворять овец, когда он с них же шкуру дерет и мясо их жрет. А когда и самая воля вышла от царя, тут я увидел, что моя правда. Воля вот какая: что отрезали от помещичьих владений самый малый кус земли, да и за тот крестьянин должен выплатить большие деньги, а где взять и без того разоренному мужику денег, чтобы откупить себе землю, которую он испокон века обрабатывал? Не поверили в те поры и крестьяне, что царь их так ловко обманул: подумали, что это помещики скрывают от них настоящую волю, и стали они от нее отказываться да не слушаться помещиков, не верили и посредникам, которые тоже все были из помещиков. Прослышал об этом царь и посылает своих генералов с войсками наказать крестьян-ослушников, и стали эти генералы вешать крестьян да расстреливать. Присмирели мужички, приняли эту волю-неволю, и стало их житьишко еще хуже прежнего. Побывал я сам в разных местах нашей матушки России, нагляделся вдосталь на горемычное мужицкое житье. За неплатеж откупных денег в казну, за недоимки у крестьянина отымают последнюю лошаденку, последнюю корову, продают скот с аукциона и трудовыми мужицкими деньгами набивают царские карманы. Скоро, может статься, последнюю одежонку потащут с мужика. Грустно, тяжко мне стало, что так погибает мой любимый народ, и вот я решился уничтожить царя-злодея и самому умереть за мой любезный народ. Удастся мне мой замысел, я умру с мыслью, что смертью своей принес пользу дорогому своeмy другу русскому мужичку. А не удастся, так все же я верую, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Мне не удалось – им удастся. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их. Пусть узнает русский народ своего главного могучего врага, будь он Александр Второй или Александр Третий и т. д. – это все равно. Справится народ со своим главным врагом, остальные мелкие его враги – помещики, вельможи, чиновники и другие богатеи, струсят, потому, что число их вовсе незначительно. Тогда-то и будет настоящая воля. Земля будет принадлежать не тунеядцам, ничего не делающим, а артелям, обществам самих рабочих. И капиталы не будут проматываться царем, помещиками да сановниками царскими, а будут принадлежать тем артелям рабочих. Артели будут производить выгодные обороты этими капиталами и доход делить между всеми работниками артели поровну. А были бы лишь средства, русский народ сумеет и без царя управляться, сам собой. Будет у всех достаток, так не будет и зависти, потому что некому будет завидовать, все будут равны, и заживет счастливо и честно русский народ рабочий, работая только для себя, а не для ублаготворения ненасытной жадности русских царей, царских сановников, царской семьи, помещиков и других тунеядцев, падких на мужицкие трудовые гроши. Вот мое последнее слово друзьям рабочим. Пусть каждый из них, в руки которого попадется этот листок, перепишет его и даст читать своим знакомым, а те передадут в другие руки. Пусть узнают рабочие, что об их счастье думал человек, пишущий эти строки, и сами позаботятся, не надеясь ни на кого, кроме себя завоевать себе счастье и избавить всю Россию от ее грабителей и лиходеев.
13. Н. А. Ишутин[37]
Размышления по поводу смертной казни (написано в Петропавловской крепости, 1866)
Неужели придется умирать! умирать! Зачем, почему? Я хочу жить! Эх, брат Николай Андреевич! Горя ты, верно, мало видал …мало видал, черт возьми! Да кто больше меня-то его видел, кто больше меня испытал прелесть жизни? Нет, я хочу жить для блага отчизны, – родина, родина, так-то ты благодаришь! […] Я представляю себе картину. Все это кругом тебя генералы, стража с барабаном, народ толпится кругом, а ты идешь, как на званый пир, гордо смотришь кругом и около, ждешь, что-то будет! Вот тебя подводят к позорному столбу, ломают шпагу… Ах, черт возьми, у меня шпаги-то нет! Ах, зачем же почетным гражданам не дают шпаги! Господи, чем же счастливее дворяне со шпагой, что ж надо мною будут ломать? Вот штука-то, в 1-й раз пожалел, что я не дворянин. […] Великое дело это цивилизация. Все били, били по ланитам, да вдруг и так стали вешать. А почему? А потому все цивилизация. Итак, да здравствует цивилизация, многие лета ей! Ура! да здравствует вешание без оплеух, плод цивилизации! Удивительный у меня характер. Все смеялся да смеялся, вот и досмеялся. А ведь, право, много этим терял в прошлой жизни, бывало, страшная грусть, а ты смеешься, и говорят: какой хитрый, бесчувственный. А ведь в самом деле, чего не смеяться, ведь в каждой драме столько комизма, что ей-богу, нельзя и не смеяться. […] Принято все воспоминать, – воспомним. Где-то ты, царица души моей, что-то ты делаешь? Поди, сидишь себе, переводы переводишь и не вздумаешь, не погадаешь по мне. Да ведь ты ненавидишь меня. А за что? Бог весть! Эх, дорогая ты моя, души моей искушение! Не все то делается, что говорится, и не все то говорится, что делается. Был я искренен, любил тебя нежно, мой поцелуй, хотя и робкий, жгет мои уста до cиx пор, и что бы то ни было, как бы ни было, а все-таки я для тебя был когда-то дорогим человеком и, может, сладостным воспоминанием до завтрешнего дня, а, может быть, и навсегда. Последнее мое слово будет твое имя. И я, как рыцарь: последний мой вздох будет вздох по тебе, мое искушение, мое древо зла. Вкусил я от плода запрещенного и что же – только мучил тебя и себя. Благо, что ты скоро отвернулась от меня, а то замучил бы тебя. Прощай, мой демон-искуситель.
Постой, брат, ты в драматизм вдаешься! Нельзя – исключительный случай такой пришел. То-то брат: сейчас и исключение. Признайся, слаб есть. Грешен, слаб был и слаб теперь. А все-таки смеяться следует над драмой всякого рода. А не проанализировать ли тебе свою драму? Стой! стой! Молчи, пожалуйста, от излишества потехи – я умру со стыда. Самая печальная комедия, какая только может быть в глупом создании, именуемом царем природы. То-то же. – Ну, друг нежный, неизменный, прости меня – не сделал я тебе ничего хорошего, как принято делать брату, да ведь я и сам о себе ничего не заботился, жил, как пташка божия, нынче здесь, завтра там; помышлял я все о благе людей, помышлял я, как бы мир осчастливить, а об тебе-то и позабыл… Что-то теперь будешь делать? Э, сестра, сестра, кинь ты эту жизнь скучную, тебе что она дает? Я хоть жил-то надеждами, думал – […] Эх ты горе-богатырь, думал ты! Сестра, сестра, прости меня, друг ты мой родимый. Как-то ты, поди рыдаешь, как-то, я думаю, поникла своею головешкой. Ну, да простися с жизнью, жизнь тебе не даст ничего, не проклинай меня, тебя позабывшего, не суди ты меня, я уже осужден беспощадным судом. – Что, опять расчувствовался? – говорит мой Мефистофель. Ну, шалишь, брат, тут не поймаешь, там, брат, имел право, а тут другое дело, тут ты дурак. Эх! сколь ты глуп, не понимаешь. Замолк мой бес. Сердце! Сердце! Что ты так стучишь? Боже мой, что со мною делается… Горло мое сдавлено ровно клещами. Я весь не свой. Воспоминания нахлынули, и какие воспоминания. Я видел его в цепях, моего друга, милейшего друга, я рыдал… как рыдают черти, да и теперь рыдаю, бросаю…
14. М. А. Бакунин*
Из письма М.A. Бакунина А.И. Герцену* и Н.П. Огареву* (19 июля 1866 г.)
[…] Я разошелся с вами, если не в цели, так в методе, – а вы знаете: lа forme entraine toujours lе fond avec еllе[38] […] Ваш настоящий путь мне стал непонятен, полемизировать с вами мне не хотелось, а согласиться не мог. Я просто не понимаю ваших писем к государю, ни цели, ни пользы, – вижу в них, напротив, тот вред, что они могут породить в неопытных умах мысль, что от государства вообще, и особенно от всероссийского государства и от представляющего его правительства можно ожидать еще чего-нибудь доброго для народа. По моему убеждению, напротив, делая пакости, гадости, зло, они делают свое дело. Вы научились от английских вигов презирать логику, а я ее уважаю, – и позволю себе вам напомнить, что тут дело идет не о логике произвольной лица, но о логике фактов, самой действительности. Вы утверждаете, что правительство, так как оно было поставлено, могло сделать чудеса «по плюсу и по минусу» («Колокол» l5 дек. 65, стр. 1718), а я убежден, что оно сильно только в минусе и что никакой плюс для него недоступен. Вы упрекаете своих бывших друзей, нынешних государственных патриотов в том, что они сделались доносчиками и палачами. Мне же, напротив, кажется, что кто хочет сохранения всецелости империи, должен стать смело на сторону Муравьева*, который является мне доблестным представителем, Сен-Жюстом* и Робеспьером* всероссийской государственности, и что хотеть сохранения интегритета и не хотеть муравьевщины было бы непростительным слабодушием. У декабристов было в обеих разделявших их партиях более логики и более решимости: Якушкин* хотел зарезать Александра Павловича за то только, что тот смел подумать о воссоединении Литвы с Польшею, Пестель* же смело провозглашал разрушение империи, вольную федерацию и социальную революцию. Он был смелее вас, потому что не оробел перед яростными криками друзей и товарищей по заговору, благородных, но слепых членов северной организации. Вы же испугались и отступились перед искусственным, подкупленным воплем московских и петербургских журналистов, поддерживаемых гнусною массою плантаторов и нравственно обанкротившимся большинством учеников Белинского* и Грановского*, твоих учеников, Герцен*, большинством старой гуманно-эстетизирующей братии, книжный идеализм которой не выдержал, увы, напора грязной, казенной русской действительности. Ты оказался слаб, Герцен, перед этой изменой, которую твой светлый, проницательный, строго-логический ум непременно предвидел бы, если б не затемнила его сердечная слабость. […] Ты все говоришь с ними, усовещиваешь их, точно так же как усовещиваешь императора, вместо того, чтоб плюнуть один раз навсегда на всю свою старую публику и, обернувшись к ней спиною, обратиться к публике новой, молодой, единоспособной понять тебя искренно, широко и с волею дела.
[…] Массы иногда по близорукости и невежеству увлекаются в сторону от столбовой дороги, ведущей прямо к их цели, и нередко становятся в руках правительства и привилегированных классов орудием для достижения целей, решительно противных их существенным интересам. Что ж, неужели люди, знающие, в чем дело, знающие, куда надо и куда не надо идти, должны ради популярности увлекаться и врать вместе с ними? В этом ли состоит ваша пресловутая практичность? Не та ли самая практичность заставила Мацини[39] нейтрализировать республиканское знамя в 1859 г., писать послания к папе и к королю, искать сделок с Кавуром[40] и от уступки к уступке не она ли его довела до совершенного, собственноручного разрушения республиканской партии в Италии? Она же превратила народного героя Гарибальди* в бессловесного слугу Виктора Эмануила[41] и Наполеона III*. Говорят, Мацини и Гарибальди должны были уступить воле народной. В том-то и дело, что они уступили не воле народной, а небольшому буржуазному меньшинству, взявшему на себя право говорить во имя равнодушного ко всем этим политическим переменам народа. То же самое случилось и с вами. Вы приняли литературно-помещичий вопль за выражение народного чувства и оробели – оттуда перемена фронта, кокетничанье с лысыми друзьями-изменниками и новые послания к государю… и статьи в роде 1-го мая нынешнего года, – статьи, которой я ни за что в мире не согласился бы подписать; ни за что в мире я не бросил бы в Каракозова камня и не назвал бы его печатно «фанатиком или озлобленным человеком из дворян». […] Я, так же как и ты, не ожидаю ни малейшей пользы от цареубийства в России, готов даже согласиться, что оно положительно вредно, возбуждая в пользу царя временную реакцию, но не удивляюсь отнюдь, что не все разделяют это мнение, и что под тягостью настоящего, невыносимого, говорят, положения нашелся человек менее философски развитой, но зато и более энергичный, чем мы, который подумал, что гордиев узел можно разрезать одним ударом. Несмотря на теоретический промах его, мы не можем отказать ему в своем уважении и должны признать его «нашим» перед гнусной толпой лакействующих царепоклонников. В противность сему ты в той же статье восхваляешь «необыкновенное» присутствие духа молодого крестьянина, редкую быстроту соображения и ловкость его. Любезный Герцен, ведь это из рук вон плохо, на тебя непохоже, смешно и нелепо. Что ж необыкновенного и редкого в действии человека, который, видя, как другой человек подымает руку на третьего, хватает его за руку или ударяет по ней; ведь это сделал бы всякий, старик, так же, как и молодой, царененавистник, так же, как и самый ревностный царепоклонник. Это сделал бы всякий без мысли, без цели, а механически, инстинктивно, с быстротою и ловкостью всякого инстинктивного движения […] Ты в той же статье еще сердишься на царя, что он возведением Комисарова в дворянское достоинство будто бы исказил смысл урока, данного нам историею. В чем же состоит по-твоему смысл исторического урока? Догадаться не трудно: Рылеевы*, Трубецкие*, Волконские*, Петрашевские*, Каракозовы* – непримиримые враги императорства, – все из дворян. Сусанины[42], Мартьяновы, Комисаровы* – поборники и спасители самодержавия – все из народа. Ты же, продолжая свою роль непризванного и непризнанного советника и пестуна всего царского домa, не исключая даже и Лейхтенбергских, ты упрекаешь Александра Николаевича в том, что он унижает преданное ему крестьянство перед враждебным ему дворянством. А ведь, что ни говори, Герцен, Александр Николаевич, руководимый чувством самосохранения, лучше понимает смысл государственной русской истории, чем ты.
Пора резюмироваться: не подлежит сомнению, что ваша пропаганда в настоящее время не пользуется даже и десятою долею того влияния, которое она имела четыре года тому назад. Звоны вашего «Колокола» раздаются и теряются ныне в пустыне, не обращая на себя почти ничьего внимания […] Значит, что он звонит по пустому и благовестит не то, что следует. Вам остается два выхода: или его прекратить, или дать ему направление иное. […] Ищите публики новой, в молодежи, в недоученных учениках Чернышевского* и Добролюбова*, в Базаровых, нигилистах – в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля. Только не кормите их полусветом, полуистиною, недомолвками. Да, встаньте опять на кафедру и, отказавшись от мнимой и, право, бессмысленной тактичности, валяйте все, что сами думаете, сплеча и не заботьтесь больше о том, сколькими шагами вы опередили свою публику. Не бойтесь, она от вас не отстанет, и в случае нужды, когда вы будете уставать, подтолкнет вас вперед. Эта публика сильна, молода, энергична, – ей надо полного света и не испугаете вы ее никакою истиною. Проповедуйте вы ей практическую осмотрительность, осторожность, но давайте ей всю истину, дабы она при свете этой истины могла узнать, куда идти и куда вести народ. Развяжите себя, освободите себя от старческой боязни и от старческих соображений, от всех фланговых движений, от тактики и от практики, перестаньте быть Эразмами; станьте Лютерами[43] и возвратится к вам вместе с утраченной верою в дело и старое красноречие и старая сила, – и тогда, но только тогда ваши старые блудные дети-изменники, познав вновь в вашем голосе голос начальника, возвратятся к вам с покаянием, и горе вам, если вы согласитесь принять их.
15. П. А. Кропоткин*
Из книги «Записки революционера»
Различные писатели пробовали объяснить движение в народ влиянием извне. Влияние эмигрантов – любимое объяснение всех полиций всего мира. Нет никакого сомнения, что молодежь прислушивалась к мощному голосу Бакунина*; верно также и то, что деятельность Интернационала производила на нас чарующее впечатление. Но причины движения в народ лежали гораздо глубже. Оно началось раньше, чем «заграничные агитаторы» обратились к русской молодежи, и даже раньше возникновения Интернационала[44]. Оно обозначилось уже в каракозовских кружках в 1866 году. Его видел еще раньше Тургенев в 1859 году и отметил в общих чертах[45]. В кружке чайковцев[46] я всеми силами содействовал развитию этого уже наметившегося движения; но в этом отношении мне приходилось только плыть по течению, которое было гораздо сильнее, чем усилия отдельных личностей. […]
Наши старшие братья не признавали наших социалистических стремлений, а мы не могли поступиться ими. Впрочем, если бы некоторые из нас и отреклись от этих идеалов, то и то бы не помогло. Все молодое поколение огулом признавалось «неблагонадежным», и потому старшее поколение боялось иметь что-нибудь общее с ним. Каждый молодой человек, проявлявший демократические симпатии, всякая курсистка были под тайным надзором полиции и обличались Катковым как крамольники и внутренние враги государства. Обвинения в политической неблагонадежности строились на таких признаках, как синие очки, подстриженные волосы и плед. Если к студенту часто заходили товарищи, то полиция уже наверное производила обыск в его квартире. Обыски студенческих квартир производились так часто, что Клеменц*, со своим обычным добродушным юмором, раз заметил жандармскому офицеру, рывшемуся у него: «И зачем это вам перебирать все книги каждый раз, как вы у нас производите обыск? Завели бы вы себе список их, а потом приходили бы каждый месяц и проверяли, все ли на месте и не прибавилось ли новых». По малейшему подозрению в политической неблагонадежности студента забирали, держали его по году в тюрьме, а потом ссылали куда-нибудь подальше на «неопределенный срок», как выражалось начальство на своем бюрократическом жаргоне. Даже в то время, когда чайковцы занимались только распространением пропущенных цензурой книг, Чайковского дважды арестовывали[47] и продержали в тюрьме по пяти или шести месяцев; причем в последний раз арест произошел в критический для него момент. Только что перед тем появилась его работа по химии в «Бюллетене Академии Наук», а caм он готовился сдать последние экзамены на кандидата. В конце концов, его выпустили, так как жандармы не могли найти никаких поводов для ссылки его. «Но помните, – сказали ему, – если мы арестуем вас еще раз, вы будете сосланы в Сибирь». Заветной мечтой Александра II действительно было основать где-нибудь в степях отдельный город, зорко охраняемый казаками, и ссылать туда всех подозрительных молодых людей. Лишь опасность, которую представлял бы такой город с населением в двадцать-тридцать тысяч политически «неблагонадежных», помешала царю осуществить его поистине азиатский план. […]
Так как во время наших споров в кружке постоянно поднимался вопрос о необходимости агитации в пользу конституции, то я однажды предложил серьезно обсудить это дело и выработать план действия. Я всегда держался того мнения, что, если кружок что-нибудь решает единогласно, каждый должен отложить свое личное чувство и приложить все усилия для общей работы. «Если вы решите вести агитацию в пользу конституции, – говорил я, – то сделаем так: я отделюсь от кружка в видах конспирации и буду поддерживать сношения с ним через кого-нибудь одного, например, Чайковского. Через него вы будете сообщать мне о вашей деятельности, а я буду знакомить вас в общих чертах с моею. Я же поведу агитацию в высших придворных и высших служебных сферах. Там у меня много знакомых, и там я знаю немало таких, которые уже недовольны современным порядком. Я постараюсь объединить их вместе и, если удастся, объединю в какую-нибудь организацию. А впоследствии, наверное, выпадет случай двинуть все эти силы, с целью заставить Александра II дать России конституцию. Придет время, когда все эти люди, видя, что они скомпрометированы, в своих собственных же интересах вынуждены будут сделать решительный шаг. Те из нас, которые были офицерами, могли бы вести пропаганду в армии. Но вся эта деятельность должна вестись отдельно от вашей, хотя и параллельно с ней». […]
Кружок не принял этого предложения. Зная отлично друг друга, товарищи, вероятно, решили, что, вступив на этот путь, я не буду верен самому себе. В видах чисто личных я теперь в высшей степени рад, что мое предложение тогда не приняли. Я пошел бы по пути, к которому не лежало мое сердце, и не нашел бы лично счастья, которое встретил, пойдя по другому направлению. […]
Не раз обсуждали мы в нашем кружке необходимость политической борьбы, но не приходили ни к какому результату. Апатия и равнодушие богатых классов были безнадежны, а раздражение среди молодежи еще не достигло того напряжения, которое выразилось шесть или семь лет спустя борьбой террористов под руководством Исполнительного комитета. Мало того, – такова трагическая ирония истории – та самая молодежь, которую Александр II в слепом страхе и ярости отправлял сотнями в ссылку и в каторжные работы, охраняла его в 1871–1878 годы. Самые социалистические программы кружков мешали повторению нового покушения на царя. Лозунгом того времени было: «Подготовьте в России широкое социалистическое движение среди крестьян и рабочих. О царе же и его советниках не хлопочите. Если движение начнется, если крестьяне присоединятся массами и потребуют землю и отмену выкупных платежей, правительство прежде всего попробует опереться на богатые классы и на помещиков и созовет Земский Собор. Точно таким же образом крестьянские восстания во Франции в 1789 году принудили королевскую власть созвать Национальное собрание. То же самое будет и в России».
Но это было еще не все. Отдельные личности и кружки, видя, что царствование Александра II фатально все больше и больше погружается в реакционное болото, и питая в то же время смутные надежды на «либерализм» наследника (всех молодых наследников престола подозревают в либерализме), настаивали на необходимости повторить попытку Каракозова[48]. Но организованные кружки упорно были против этого и настойчиво отговаривали товарищей. Теперь я могу обнародовать факт, который до сих пор был неизвестен. Из южных губерний приехал однажды в Петербург молодой человек с твердым намерением убить Александра II. Узнав об этом, некоторые чайковцы долго убеждали юношу не делать этого; но так как они не могли переубедить его, то заявили, что помешают eмy силой. Зная, как слабо охранялся в ту пору Зимний дворец, я могу утвердительно сказать, что чайковцы тогда спасли Александра II. Так твердо была настроена тогда молодежь против той самой войны, в которую она бросилась потом с самоотвержением, когда чаша ее страданий переполнилась.
16. Д. М. Рогачев*
Исповедь (1877 г.)
Пишу к вам, друзья, потому, что чувствую сильнейшую потребность высказаться; высказываюсь же перед вами потому, что вас я считаю единственными людьми, близкими ко мне. Если, кроме народного дела, для меня существовало что-нибудь родное, то это вы, потому я вас и назвал друзьями. Я вас глубоко уважал; уважал за вашу преданность народу; уважал потому, что был с вами наиболее солидарен (это вы увидите ниже); уважал за вашу серьезность, уважал, наконец, за вашу высокую нравственность. Я начинаю свою исповедь.
Особенные обстоятельства воспитания, постоянное нахождение среди народа и т. д. воспитали во мне чувство, какое-то особенно теплое к народу (я не могу иначе выразиться). Но затем под влиянием чтения неопределенное чувство оформилось: я стал любить народ и его счастье. Таким я поступил в Технологический институт. Здесь я встретился со своими бывшими товарищами: Леонидом[49] и Сергеем[50]. Отчасти под влиянием их, отчасти под влиянием нового чтения мои убеждения сделались определеннее: я уже сознал, что только насильственный путь есть единственный для выхода народу из его положения; но у меня ничего не было определенного, как действовать среди фабричных рабочих и как среди сельских. В это время я сталкиваюсь с Низов[киным]* и его рабочим. Однажды мы с ним отправились к одному рабочему и затем все пошли пить чай в трактир. Рассказ этого рабочего об особенной жизни произвел на меня странное впечатление. Я вышел из трактира как угорелый. Казалось, я готов был в это время обнять весь свет. По улице я бежал; сбил с ног несколько человек. По дороге мне попался какой-то господин, обидевший женщину, я ему дал в ухо. С этого времени для меня не существовало более никаких заведений, я решил посвятить всего себя, все свое время деятельности среди народа. Под таким впечатлением я отправился на лето домой. Летом в Орле я ходил по трактирам, знакомился с кузнецами. Отправился к инспектору народных училищ с целью поступить в народные учителя; меня не приняли; я возвращался в Питер, проезжая через Москву. В Москве встретился с Долгуш[иным]*, который и стал меня убеждать присоединиться к его сообществу. Я спросил, в чем заключается их деятельность. «Ходить в народ и агитировать прямо, не скрываясь». Но разве народ готов? – спросил я его. Готов, – ответил он мне, – и коли не верите, отправьтесь и походите среди народа. Я задумался, хотел действительно отправиться пешком и пройти всю Волгу сверху донизу, чтобы воочию убедиться в справедливости его слов. Но явился Леонид, и я отправился с ним в Питер. Здесь я познакомился с очень многими из его товарищей, – познакомился и с Силычем[51]. Как я сказал выше, у меня не было определенного плана, как действовать среди народа. Я решился присмотреться к деятельности других и в то же время я хотел испытать на своей шкуре положение народа, хотел его узнать, хотел, чтоб он мне вполне доверял, чтоб он относился ко мне, как к равному; я поступил на Пут[иловский] завод рабочим. Отчасти трудность работы и мое плохое материальное положение (которое было хуже даже положения рабочего – я жил не в артели и питался селедкой да чаем), отчасти что был замечен – через месяц я принужден был бросить завод. Как действовать среди народа, для меня и тогда не выяснилось, я был и тогда еще невыработанною личностью. Я не знал, что с собою делать. Люди (это вы), которых я уважал – мне не доверяли (и имели полное право, потому что в серьезном деле могут участвовать только личности, вполне сложившиеся). Когда однажды пришел на вашу сходку (в казарму) – вы поспешили разойтись… Оправдывая вполне ваше поведение – мне было горько… Повторяю, я сам не знал, что с собою делать… Но является Сергей и говорит: «Хочешь, Дмитрий, отправимся в Тверскую губернию, выучимся пилить – какая пара из нас выйдет. А тогда пойдем на дело». Хоть на край света, – ответил я ему, – готов я сейчас же отправляться. Через месяц нас арестовали в Твер[ской] губ[ернии]. Сергей был в страшном волнении (он пользовался моим большим, чем кто-либо из вас, уважением) […] «Как скоро, как скоро…» – повторял он, ходя по волостному правлению. Я же был совершенно хладнокровен. Ночью из одного села мы бежали. Ночь была страшно темна, кругом болото, мы по колено в воде. Так мы добрались до лесу. «Ну, Митька, – сказал, обнимая и целуя меня, Сергей, – мы теперь с тобой полные отщепенцы – пусть же этот братский поцелуй служит нам вечною памятью, что отныне мы принадлежим народу и только народу». Я не умею в тех случаях говорить, но вся моя дальнейшая жизнь доказала, что сдержал это слово… Мы явились в Москве, потом в Пензе. В это время я страстно накинулся на чтение. В Пензе я провел около месяца в гостинице, совершенно один, погруженный в чтение. Я задумывался до самозабвения. В это время я почти сложился – мои убеждения определились. Я поступил к Войнар[альскому]*. Пробывши в качестве письмоводителя около 6 месяцев, я почувствовал страшно неловкое положение: в одно и то же время я проповедовал против существующего привилегированного строя и сам занимал привилегированное положение – такое нравственное раздвоение я не мог выдержать: отныне я решился занимать только положение рабочего. Из Пензы я отправился в Саратов; начались мои странствования. Саратов, Тамбов, Москва и т. д. Встретился с массой личностей; из разговора с ними увидел, что народ мало кто знает, что большинство бывавших в народе, как прекрасно выразилась Ободов[ская]*, только пропорхнули […] К тому же начались аресты. Я положил себе уйти в народ и не являться до тех пор на свет, пока не изучу все народные элементы. Под элементами же народными я понимал: сельский, городской, староверов и т. д. Я хотел себя бросить, так сказать, в море (житейское), с тем, что, если выплыву, буду человек, пропаду – туда и дорога. И вот я начинаю, с бурлака, рабочего на пристанях (где познакомился с знаменитыми волжскими артелями: дубовской, парамзинской, поимской), коробейника, рабочего на железных дорогах, рабочего ватажного, старовера (был, с месяц, начетником у странников или по-волжски подпольных – дальше не мог вытерпеть), беспаспортного рабочего, перепробовал все эти положения […] Я не прочел в это время ни строчки; но я чувствовал, что с каждым днем я становился все ближе и ближе к нapoдy. Я чувствовал, что я стал ненавидеть его ненавистью […] В артелях я был всегда одним из первых протестантов – что я называю быть народным реальным протестантом […] Сначала я учился у народа – в Астрахани я кончил народное образование свое – и онародился. Онародиться же значит понимать вполне народ – и говорить для него понятным языком. В Астрахани на меня повлияла одна личность из народа (я был вместе с ним в артели – катали селедки) […] Такой громадной силы воли, такого уменья овладевать массами – я еще никогда не встречал. Я встретился с ним при особенных условиях. Я шел по Астрахани, вдруг смотрю – около одного дома толпа, я подбегаю […] Смотрю, какой-то крик, разобрать ничего нельзя […] Но вот выделяется из толпы личность и кричит «(русское выражение) глядеть, валяй кирпичами». И масса кирпичей полетела в стекла дома. Оказалось, это рабочие в доме своего хозяина, их обсчитавшего. «Стой, – слышу я дальше, – за мной». И прежняя же личность ведет куда-то всю массу… кругом бегает полиция. Вся масса выходит на площадь в конце города, вдали острог… На площади войско… толпа останавливается… я очутился рядом с коноводом […] Подъезжает командир – как видно, человек бывалый. «Вы что это, ребята? Марш по домам!» И вся толпа стала расходиться […] Остался только коновод с опущенной головой, недалеко от него я […] Два полицейских хотели его схватить; но он со словом: «братцы, неужели ж выдадите» […] дал так сильно этим полицейским, что они повалились как снопы, и я не успел сделать прыжка, думая ему помочь […] На помощь этим полицейским бросились другие… Но бывалый командир крикнул: «оставить его». И его отпустили… Толпа разошлась… В каком-то чаду ходил я по городу, стараясь разыскать коновода […] Бродя по площади, я заметил у одного кабака стечение народа. Я вхожу в кабак и вижу след[ующую] сцену: около стойки множество народа; в одном углу за столом, в середине компании, сидит тот коновод с опущенной головой […] На столе водка, кругом компания, обращаясь к коноводу, говорит: «ах, дядя Василий, ну ж молодец, вот это так ухач. Пей, слышишь, сколько душе угодно; накачаем тебя во как…» Наконец, дядя Василий поднимает голову, вскакивает и кричит: «водки, дайте водки, залейте душу мне»; ему подают полуштоф […] он выпивает его весь через горлышко […] выскакивает на середну кабака и кричит: «братцы: кто желает со мною побиться полюбовно?» Никого не находится, он продолжает: «братцы, кто же полюбовно… хоть побейте меня, да только утешьте – внутри жгет». Из толпы выделяется здоровый парень, они бьются; по третьему разу дядя Василий падает: встает, обнимает своего противника и говорит: «ну, будь мне друг, ты старший мне брат, я младший». Они меняются крестами […] Здесь-то я сошелся с этим дядею Василием. Вам не понятно все это последнее. Он вел массу к острогу, – ему не удалось – вот это-то его и жгло… Я после с ним проработал около двух месяцев в разных артелях; бывали артели и по 300 человек и все под каким-то точно магическим обаянием этого человека находились. В восхищении я себе повторял: как бы мне сделаться таким, как бы мне сделаться таким […] Но в ответ от него получил: «работай всегда впереди всех и больше всех, да узнай побольше – и будешь таким»… Он стал моим идеалом. Это действительно замечательная личность. Такие личности во время народных движений становятся Разиными и Пугачевыми. Но в мирное время им нет деятельности: за исключением коноводов в артелях, они пьянствуют беспросыпно… Здесь-то я и покончил свое народное образование […] Я уехал отсюда в один из южных городов. Там я явился уже не учеником, а сам действующим в артелях. В одной артели я был избран артельщиком. Тогда я чувствовал высшее нравственное довольство. Но вдруг я слышу о турецкой войне, я бросаю народ и начинаю пробираться к интеллигентным центрам. Я не сдержал своего обещания: я не изучил вполне народных элементов… Мне рано еще было являться в интеллигенцию, с тем, чтобы, пристав к серьезной группе личностей, преследующих народные интересы, – начать серьезную деятельность среди народа. Но, признаться сказать, я стосковался и о вас, мне захотелось увидеться с вами; к тому более двух лет ни строчки не читал, – все это вместе с вышеупомянутыми причинами и толкнуло меня к интеллигентным центрам. Случайно я встретился со Львовной[52], а там очутился в Питере. Теперь я явился с совершенно готовою программою. Когда-то народ обладал землею и политическою самостоятельностью; со временем он потерял и то, и другое. Но вместо его политической самостоятельности явилась центральная власть, сумевшая сорганизовать его силы для отражения татар, и русский народ остался ей благодарен. Отсюда-то и его идеал: общая земля и его идеальный царь. Идеал вполне определенный и в то же время совершенно противоположный действительности. Понятно, что народ должен был бороться с действительною центральною силой и ее представителем – царем. Но борьба была еще возможна, пока у народа была организованная сила, около которой он мог группироваться, это – казачество; впоследствии же борьба становилась все более и более неравною… Но настала крестьянская реформа. Это был переход наш от рабского строя к капиталистическому. На первый раз, впрочем, оставили еще общину крестьянскую с землею, только все, что зарабатывалось с этой земли крестьянином, отбиралось в виде податей. Так было нужно для правительства; но теперь правительство быстро стремится к уничтожению общины, и я убежден, что в недалеком будущем община уничтожится, и у нас образуется пролетариат, одним словом – мы повторим то же, что совершается теперь в западноевропейских государствах. Но крестьянская реформа и все последующее повлияло хорошо на крестьянина: оторвало его от помещика, поставило лицом к лицу с центральной властью: народ теперь (разумеется, в лице лучших людей) понял, что ему не на кого надеяться; он только не додумался, что ему делать. Как выйти из своего положения? Отсюда-то и понятна наша задача: она подготовительная – организация народной партии. Я не согласен с теми, кто говорит, что теперь возможно какое-нибудь крупное движение среди народа, не согласен потому, что у народа нет такой силы, около которой он мог бы сгруппироваться. Я не согласен с теми, кто говорит: бунтуй от нуля до бесконечности, потому что подобное расшатывание государства, не основанное на умственной подкладке, ни к чему не поведет (тому множество примеров в истории и между прочим в русской: смутное время, движение Малороссии в половине XVII столетия[53] и т. д.). Итак, организация народной партии есть главная наша цель. Деятельность среди народа распадается на деятельность среди фабричных и среди сельских. Среди фабричных, кроме умственной подготовки, практическая деятельность есть стачки, а потом устройство касс и библиотек. Среди сельских – кроме, опять-таки, умственной подготовки, практическая деятельность должна состоять: в местной борьбе с местными эксплуататорами и в борьбе против правительства; последняя же должна состоять, – раз только составилась группа крестьян, могущая сознательно влиять на остальную массу окружающих местных крестьян, – в неплатеже податей. Это, по-моему, единственно целесообразная и единственно жизненная задача. Крестьяне теперь без того инстинктивно стремятся не платить податей (образованием разных обществ неплательщиков, лидальщиков[54] и т. д.); мы только должны это инстинктивное стремление оформить и сделать сознательным.
С такой-то программой я приехал в Питер. Признаться, я здесь разочаровался. Мне хотелось в соединении с несколькими личностями приступить к осуществлению моей программы. При этом мне хотелось, чтобы личности были вполне знакомы с народом: потому что я признаю, что каждый из нас не должен заикаться ни о какой пропаганде, пока не узнает народ. Далее, находя, что все народные книжки почти неудовлетворительны, потому что народу не нужны такие книжки, в которых говорилось бы неопределенно о восстании, ему нужны книжки, в которых, за выяснением современного строя, была бы предложена определенная программа, с чего начинать и чего требовать. Я думал с помощью других и этим заняться, повторяю – я несколько разочаровался. Некоторое время я ходил в Питере. Мне было решительно все равно, что со мною будет, в это время меня арестовали […] Я попал в крепость. Я с жаром бросился в чтение книг, но только и нашел, что истории: Костомарова*, Соловьева[55], Стасюлевича*, Шлецера* – все это уже давным-давно прочитанное и перечитанное, а потому неинтересное… А тут еще ни к кому нельзя ни строчки писать, ни от кого никаких известий получить. Мне пришла мысль испробовать себя: что будет, если я ни с кем не буду ни говорить, ни стучать. На воле мне никогда не приходилось встречать условий, которые бы придавили меня; мне захотелось посмотреть, не есть ли одиночество одно из таких условий. До пасхи я чувствовал себя хорошо. Вдруг заболеваю лихорадкою. Доктор лечит меня от простуды, но скоро понял, что у меня нервная лихорадка; после сильнейшего кризиса, у меня являлся сильнейший аппетит. Долго он ломал голову, отчего у меня про изошло это. И как вы думаете, что же оказалось? Он приходит ко мне однажды и спрашивает: не имею ли я сильной половой потребности. Это оказалось совершенно верно. На свободе у меня никогда ничего подобного не было. Но тут одиночество, сидячая жизнь (я буквально почти все время сидел на месте, по непривычке бесцельно ходить), да еще при моей конструкции, все это и повлияло на меня таким образом. В конце концов, я было с ума сошел. Я сделался чрезвычайно мрачным, иногда, сидя, я вдруг начинал истерически хохотать или, лучше сказать рыдать (плакать я не умею). В это-то время и получил обвинительный акт. Это меня как-то немножко растревожило, меня стали к тому же пускать гулять через два дня… В то же время меня чрезвычайно возмущало, что Низовкин приписал мне какую-то роль среди вас, – меня возмущало подобное самозванство с моей стороны; тем более, как я уже вам сказал, что я вас всех глубоко уважал и уважаю. Я эти два заседания все вас кого-нибудь искал, но не видел. Мне хотелось всем высказать о моем невольном самозванстве и посмотреть, как вы отнесетесь ко мне. Сегодня я вас увидел и бесконечно обрадовался. После моей одиночной жизни этот шум последнего времени, а к тому же сегодняшняя встреча с вами до такой степени настроили меня, что моя натура, так сказать, переполнилась чувством, и у меня явилась потребность высказаться перед вами. Когда я садился писать, я вспоминал, что я последний раз говорю с вами… Невольно опять я зарыдал истерически. Жандарм отворяет форточку и спрашивает, чего вы хохочете. Вам, быть может, покажется все это странным. Да, вы бы на свободе никогда и не услыхали от меня ничего подобного.
У меня часто, как говорится, внутри кошки скребутся, а наружно я хохочу, и завтра тоже буду хохотать… Напишите же хоть строчку мне. Ведь вы знаете, я пользуюсь популярностью у большинства подсудимых, а тем не менеe мнением дорожу только вашим, товарищи. Пусть прочтут это только одни ваши друзья.
Ваш Димитрий
17. Вопросы, разосланные перед съездом народников, и объяснительная записка к ним (осень 1875 г.)[56]
[…] Неустройство в делах социалистической партии, давшее почувствовать себя с особенною резкостью в последнее время, заставляет всякого искренне преданного делу человека серьезно задуматься над тем, какими причинами вызывается это явление. Первое объяснение, представляющееся уму при подобных обстоятельствах, – это недостаток сил и средств. Но, анализируя факты, нельзя не прийти к убеждению, что хотя социалистическая партия и не может похвалиться в настоящее время большим количеством сил и средств, но, несомненно, что и при существующих силах дела могли бы идти гораздо лучше, чем они идут теперь. Следовательно, причина рассматриваемого явления скорее заключается в том, что часть сил парализуется, что они неправильно распределены, чем в недостатке их. Действительно, если бросить хотя бы поверхностный взгляд на состояние нашей партии в последнее время для того, чтобы убедиться, что именно эти последние обстоятельства и служат главною причиною зла.
Что представляет из себя в настоящее время наша партия? Это несколько отдельных, ничем между собою не связанных, иногда даже враждебных друг другу кружков, из которых каждый старается сосредоточить в себе все функции, необходимые для практической деятельности социалистической партии. Каждый кружок действует так, как будто он только и есть единственный представитель социалистической деятельности; об остальных он не знает или знать не хочет. Понятно, что при таких обстоятельствах много сил пропадает совершенно напрасно, а дела все-таки идут отвратительно, так как силы и средства отдельного кружка весьма ограничены. С другой стороны, весьма естественно, что при таком положении дел интересы различных кружков сталкиваются и, таким образом, является настоящая конкуренция кружков между собою со всеми разлагающими последствиями, которые должны влечь за собою применение принципа соперничества. Дела кружка стали выше общего дела. Сплетни, иногда довольно грязного свойства, взаимное недоверие и даже открытая вражда сделались неизбежными последствиями положения дел, и очень часто люди, чрезвычайно преданные своим убеждениям, не могли отделаться от этого развращающего влияния окружающей атмосферы.
Конечно, эта система группировки наших сил, которую мы будем называть системой кружков, имела свое raison d'etre[57]. Когда возродившаяся социалистическая мысль начала волновать нашу молодежь, единственно возможным способом группировки сил была группировка по прежним личным отношениям, по личным симпатиям и антипатиям, так что случалось, что люди с мнениями, совершенно идентичными, находились в различных кружках, а люди, весьма разнящиеся между собою по оттенкам своих мнений, находились в одном и том же кружке. […] Поэтому нам кажется, что единственный исход из настоящего затруднительного положения заключается в том, что принцип личной симпатии и антипатии не будет служить больше руководящим принципом при группировке сил социалистической партии, а будет заменен принципом группировки для дела и на почве дела. Но если при прежних условиях наперед условленная, точно определенная программа не составляла крайней необходимости, то при предлагаемой реформе такая программа является условием, sine qua non[58], необходимым исходным пунктом деятельности. Вот почему прежде чем приступить к осуществлению какой бы то ни было реформы в группировке наших сил на основании нового принципа, необходимо сообща выработать вполне определенную программу социалистической партии в России. […]
Все вопросы, затрагивающие самые существенные пункты программы, естественным образом распадаются на вопросы о целях социалистической партии и вопросы о средствах к их осуществлению. Относительно целей социалистической партии желательно было бы, чтобы вы высказали свое мнение: во-первых, каковы должны быть те окончательные цели, к осуществлению которых должна стремиться социалистическая партия; во-вторых, если вы не думаете, что эти окончательные цели могут быть осуществлены первым удавшимся социалистическим движением в России, – понимая под этим выражением первое по времени народное движение, которое сделает народ распределителем своих судеб, – то что, по вашему мнению, может быть осуществлено после первого движения? Особенное внимание обращено на частный случай этого вопроса, именно – могут ли народные массы осуществить свои ближайшие социальные требования фактом революции или же это для них невозможно и они должны стремиться к приобретению политической власти и потом уже, при ее помощи, осуществить свои социальные требования, так как этот вопрос был предметом значительных разногласий среди социалистических партий Запада, разногласий, коснувшихся отчасти также и нас.
Относительно пропаганды в народе нам было бы интересно знать: во-первых, мнение ваше о содержании пропаганды, так как и по этому вопросу существуют некоторые разногласия во мнениях в среде русских социалистов, особенно по вопросу, должно ли с социалистической пропагандой соединять антирелигиозную или нет. Во-вторых, что вы думаете о высказываемом многими мнении, что литературная пропаганда в нашем народе не имеет никакого значения и есть только напрасная трата времени и труда. В-третьих, каково ваше мнение о вопросе, служащем до сих пор предметом бесконечных споров, именно о вопросе, имеет ли значение тот вид личной пропаганды, когда пропагандист действует в положении человека из привилегированных классов общества (медика, фельдшера, фельдшерицы, акушерки, учителя и т. п.) или даже в положении рабочего, но не скрывает своего происхождения из привилегированных классов. Четвертый вопрос относительно пропаганды касается весьма важного пункта – о значении пропаганды массам в момент их возбуждения против эксплуатирующих классов.
Важность этих моментов для пропаганды едва ли может подлежать сомнению для всякого, кто знает тот факт, что значительная часть сил западноевропейских социалистических партий приобретена именно этим путем. Известно, например, что громадное количество членов, которое насчитывал в своих рядах Интернацио нал в период своего наибольшего процветания, было приобретено главным образом посредством стачек. Вопрос заключается в том, чтобы указать, в каких явлениях выражается в нашей жизни борьба неимущих классов с имущими на социально-экономической, политической и религиозной почве! Каким из этих явлений возможно воспользоваться для целей пропаганды и какими невозможно? Наконец, какие из этих явлений такого рода, что ими можно воспользоваться, раз они существуют; но активно способствовать происхождению этих явлений, чтобы потом воспользоваться ими, значило бы принести больше вреда, чем пользы? К этой категории относится, между прочим, по мнению одной части наших социалистов, возбудивший наибольшие несогласия вопрос о том, следует ли возбуждать частные бунты или нет? […]