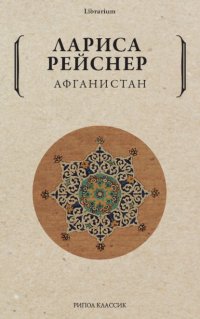
Читать онлайн Афганистан бесплатно
- Все книги автора: Лариса Рейснер
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2021
Революционный комиссариат авангарда: о прозе Ларисы Рейснер
Имя Ларисы Михайловны Рейснер (1895–1926) – легендарное без преувеличения, и не в размытом понимании расхожей славы, но в конкретном смысле: любой ее поступок требовал создания легенды, сопровождался легендами и рассказами. Легендарный человек в обыденном смысле – тот, о ком что-то придумывают, дополняют действительный облик яркими и запоминающимися подробностями. Но Рейснер была легендарным человеком в самом существенном смысле – достоверный рассказ о ней становился столь же необходим, как необходимы подарки на юбилей или почтительный поклон при встрече с давним знакомым. Ее легендарность – такая же дань социальной необходимости, как цветы или восторги перед ее современницами.
Блеск этой легенды не блекнет – вероятно, ее нужно назвать первой русской феминистской и постколониальной мыслительницей. Конечно, среди большевиков она не была единственной феминисткой – каждый начитанный человек вспомнит прославленную Александру Михайловну Коллонтай, тоже советского дипломата, полиглота, эрудита, тонкого знатока искусства, часами читавшую наизусть стихи той поры, обожаемую поэтами и политиками, вольную и неудержимую, комиссара и участницу самых опасных боевых революционных операций, амбициозную писательницу – казалось бы, всё то же самое. Но две красные богини всё же очень разные: трудно представить Рейснер совершающей налет на Александро-Невскую лавру, кокетливо фотографирующейся с новым мужем – матросом П. Е. Дыбенко или пишущей роман об общности жен и детей в будущем. Дело не в том, что Коллонтай «ошибалась», а Рейснер «не ошибалась», различие здесь примерно как между плакатом и картиной. Плакат может быть гораздо содержательнее картины, как мы знаем по «инфографике» и различным диаграммам, но он никогда не будет настолько непосредственно правдив, как картина, вдруг сказавшая что-то самое важное и спасительное. Мы смотрим на пейзаж и вдруг видим спасенный мир – мир, в котором хотя бы возможно внезапное спасение (напомню, что во многих культурах картины – это изначально «ретаблос», посвящения в честь состоявшегося спасения), тогда как плакат – это рассуждение о том, что кто-то или что-то непременно погибнет.
Лариса Рейснер происходила из династии будущих профессиональных востоковедов, училась в Петербурге в частном вузе – Психоневрологическом институте В. М. Бехтерева, одновременно слушая лекции в Университете, и начинала как писатель. В 1913 году она опубликовала свою первую пьесу «Атлантида», в которой романтик Леид, указывающий жителям Атлантиды путь спасения от природного катаклизма, противопоставлен жрецам, утверждающим, что и так всё знают; знание для них – это власть. Они решают, что Леида надо выбрать жертвой, не дав ему совершить самоотверженные поступки, – и превращают его из глашатая в участника их сценария. Очень мало в русской литературе произведений, с такой силой обличающих идолопоклонство; но критика не очень хорошо поняла смысл пьесы, увидев в ней не пламенный идеализм, а всего лишь социальную аллегорию. Рейснер, впрочем, осознавала, что прежде литературного триумфа нужно подробно объяснить свои теоретические позиции. Поэтому кроме пьесы она выпустила две брошюры о самых известных героинях Шекспира – Офелии и Клеопатре.
Споры о Шекспире были тогда приметой эпохи. Начало им положил датский критик Георг Брандес, в 1895 году назвавший Гамлета «первым современным человеком» – не зависящим от мнений семьи, свободным от многих сословных предрассудков, растерянным среди многих незнакомых и непонятных ему людей, – итак, Брандес увидел в Гамлете главного предшественника интеллигенции и вообще жителей современного мегаполиса. О книге Брандеса много спорили в начале ХХ века: русские мыслители Павел Флоренский, Лев Шестов, Лев Выготский предложили свои версии характера Гамлета. По мнению Флоренского, Гамлет был первым настоящим христианином в литературе, хотя и ошибавшимся, как многие первопроходцы, – он поставил правду выше обычая и веру выше подсказок характера. Шестов увидел в Гамлете человека, впервые понявшего, что готовое знание недостаточно для понимания перипетий жизни. Выготский глубже всех понял Гамлета, сказав, что Гамлет встречается с собственной совестью особым образом: что для других героев было лишь моментом, эпизодом жизни, то для Гамлета стало единственным содержанием его существования – и поэтому «Гамлет» есть настоящее произведение искусства, не поясняющее происходящее, но показывающее, как невозможное становится возможным, прежде немыслимое – реальным. Мысль Ларисы Рейснер двигалась в этом же направлении, только она сосредоточилась исключительно на женских персонажах.
Согласно Рейснер, Офелия, а не Гамлет, стоит в центре трагедии Шекспира – именно благодаря ей зрители открывают, что поступки героев никогда не правильны до конца, потому что и вина взаимна среди людей, и совесть. И Гамлет, и Полоний совершают свои ошибки в этом переплетении навязчивой вины, но в глазах Офелии Гамлет, а не Полоний, оправдан, потому что он оказался в петле собственной совести, не видя из нее выхода; его вина может быть искуплена только чистой и бескорыстной жертвой женщины.
Лучше всего эту мысль выразил Борис Пастернак, который был влюблен в Ларису Рейснер, посвятил ей одно из лучших своих стихотворений и назвал в честь нее главную героиню своего романа: его Лара Гишар – это та же Лариса Рейснер, может быть, только немного более хрупкая:
- Когда случилось петь Офелии, —
- А жить так мало оставалось, —
- Всю сушь души взмело и свеяло,
- Как в бурю стебли с сеновала.
Сухим и черствым душам не место в трагедии, но и в жизни тоже. Об этом Пастернак и писал в стихотворении «Памяти Рейснер»:
- Ты точно бурей грации дымилась.
- Чуть побывав в ее живом огне,
- Посредственность впадала вмиг в немилость,
- Несовершенство навлекало гнев.
О том, как посредственность впадает в немилость, Рейснер писала в брошюре о Клеопатре. Согласно Рейснер, пьеса Шекспира «Антоний и Клеопатра» открывает не столько современного человека, сколько современную публику. Антоний подкупает плебс, потом пытается, по сути, самим собой подкупить Клеопатру – ставя всего себя как ставку на клетку «любовь» ради политического брака, он предвосхищает логику обыденности, бульварного романа. Но жанровая логика пьесы скоро меняется от романа к высокой трагедии: совершается обожение и Антония, и Клеопатры, их введение в сан богов. И эта логика обожения, отличающаяся от любой логики расчета, обличает всю неправду массового взгляда на исторические события. Сама Рейснер, конечно, стала лучшей подражательницей подражанию – не заимствующей чужие черты характера, даже лучшие, такие как способность к самоотречению, но понимающей, сколько неправды обличается, когда мы подражаем правде. Как писала она в рецензии на стихотворную драму «Гондла» Н. С. Гумилева, одного из своих возлюбленных: «Так в самом конце почти неожиданно на чашу весов падает тяжелое и общее понятие – “христианство”, и кажется, что именно оно и перевешивает, поглотив маленький груз личного подвига и отречения».
В этом смысле она, конечно, очень похожа на Пастернака, на его революционное христианство, требовавшего негодовать на тех идолопоклонников, которые «обнесли стеной религий / отца и мастера тоски». Некоторые строки из писем Ларисы Рейснер могут быть вставлены в письма или прозу Пастернака, и мы не заметим разницы, например: «За Россию бояться не надо: в маленьких сторожевых будках, в торговых селах, по всем причалам этой великой реки – все уже бесповоротно решено. Здесь все знают, ничего не простят и никогда не забудут… Это различимо везде – за всеми желтеющими опушками, за островками и быстринами. Такие стихии не совершают ошибок». Такое резкое различение любой неправды и любой правды было для Пастернака велением жизни, у Рейснер – иногда просто наблюдением, следовавшим из ее революционных убеждений, но ей так же, как и влюбленному в нее поэту, пришлось сделать правду велением своей жизни и судьбы.
В своих выступлениях еще предреволюционного времени она отстаивала то, что мы сейчас называем социальным конструктивизмом, – знание, что все наши представления о «вечном», которые поддерживают лукавые жрецы, на самом деле были когда-то сконструированы в определенных целях и могут быть пересобраны иначе. В этом она следовала отцу, который создал понятие «интенциональное формативное право»; согласно Михаилу Рейснеру, право всегда отражает интересы отдельных социальных групп. Но из этого не следует, что право надо отменить, заменив революционной необходимостью, как считали многие большевики – просто формулируя новые правовые положения; требуется понимать, как именно они создают саму ситуацию справедливости, правильного распределения интересов и обязанностей, исключив злоупотребления на уровне не только опознаваемых действий, но и намерений. Разумеется, такой социальный конструктивизм прямо требует феминизма как гендерного равенства, при котором если и не достигается полная справедливость, то исключаются очень многие злоупотребления; Михаил Рейснер и Лариса Рейснер с 1915 года издавали журнал «Рудин», развивавший эту новую философию справедливости.
Многие очерки Ларисы Рейснер, по сути, иллюстрируют эту концепцию: в них показано, как несправедливость может порождаться теми законами, правилами и обычаями, которые каждый по отдельности кажется справедливым. Но когда в начале употребления права стоит предательство или лукавство, какой-то местный Каинов или Иудин грех, то сколько ни распределяй блага по справедливости, все равно самый невинный будет терпеть ущерб и приноситься в жертву, а большинство наблюдающих станут самоутверждаться в своем фарисействе. Именно в этом, говорила она постоянно в своей книге «Фронт», посвященной Гражданской войне, основополагающая неправда белого движения, несмотря на то, что в нем было много честных и благородных людей. Белое движение поддерживает инерцию несправедливости, позволяя арендодателю обманывать, купцу – наживаться, маркитанту – жиреть на чужом горе. Иначе говоря, при субъективной честности белых офицеров они создают мир, где степень нечестности никогда не пойдет на убыль, а значит, большинство населения будет заворожено этим недействительным и бездейственным обманом. Тогда как красные, утверждала Рейснер, могут ошибаться и даже совершать военные преступления, но они отменяют эту завороженность, эту зависимость от самозванных «пророков» и «гадалок», которым кажется, что у них власть над историей, и показывают, как и у самого незаметного человека есть та правда, которая когда-то была убита тяжелым молотом лицемерия и угнетения.
Вообще, революция для Ларисы Рейснер была самой иконой авангарда. В своей литературной критике она защищала Бабеля и Сейфуллину, натуралистически писавших об ужасах Гражданской войны, объясняя, что именно эта литература не прячется от мятежа, не подменяет мятеж набором формул, вроде бы эффектных, но ложных. Любая подделка для нее неприемлема, о чем говорит очерк об Эрмитаже, явно написанный в защиту большевиков от обвинений в разграблении и порче художественных ценностей. Согласно Рейснер, наибольший ущерб Эрмитажу нанесли вовсе не матросы, а Керенский, который, не будучи одарен достаточным воображением, населил обитель искусства пишущими машинками, выхолощенными телеграммами и никому не нужными охранниками, тушившими сигареты о картины. Большевики скорее, наоборот, защищали дворец, потому что не допускали полного одичания толпы. Именно как мир настоящего воображения молодая Лариса Рейснер и описывала Эрмитаж:
- В упругой грации жеманного Кановы,
- В жестокой наготе классических камей
- Недвижно-радостны, мучительны и новы
- Творящей красоты рельефные основы,
- Мечты, почившие в безмолвии камней.
Всего один лишний эпитет в этих стихах – и перед нами был бы пошлый эстетизм, но Рейснер не допускает тех эпитетов, которые не учат нас воображать лучше и качественнее. В этом состоит и упрек ее стилю времен Александра II, Александра III и Николая II в Эрмитаже – это невыносимый стиль, смесь ампира и бидермейера, в котором собирательская страсть, поспешная реакция на эмоции опережает воображение. По сути, ее очерки, открытые этим «В Зимнем дворце», рассказывают о различных формах одичания в предреволюционное и революционное время. Для противостояния этому одичанию недостаточно военных или полицейских мер, но нужна особая работа, которую можно сопоставить с трудом социолога наших дней – узнать, где именно возникают у человека мотивации или самоидентификация, и поставить их под вопрос в разговоре с ним или с ней. Поэтому очерки Рейснер о Германии и России, Афганистане и Персии, о рабочих кварталах и землянках, субботниках и спорах – один увлекательнее другого, потому что это опыты настоящей полевой социологии.
Помимо заслуг перед феминизмом и социологией Лариса Рейснер предвосхитила постколониальную мысль. Лариса Рейснер презирала журнал поздних символистов и акмеистов «Аполлон» как выставивший себя исключительно эстетическим вестником, презирающим ту правду жизни, от которой невозможно было отворачиваться. Но как часто бывает, самые заядлые спорщики оказывались близки друг другу: в 1913 году в «Аполлоне» Максимилиан Волошин приветствовал живопись Мартироса Сарьяна, противопоставляя его Верещагину: взгляд Верещагина всегда колониальный, это взгляд западного покорителя на экзотический и замерший Восток, тогда как Сарьян дает слово Востоку, показывает, как много может сказать Восток о том, о чем в суете забывают не «западные» люди, а вообще люди. Конечно, Волошин здесь слишком лиричен в противопоставлениях, Рейснер деловита, но вектор от колониализма к постколониализму уже был намечен.
Сама Рейснер немало делала для усиления влияния советского государства в Персии и Афганистане. Как и Велимир Хлебников и другие авангардисты, она восхищалась персидскими революционерами, во главе которых стоял Мирза Кучек, его Гилянской Советской Социалистической Республикой, и видела в Персии, как Наполеон в Египте, «ключ к Востоку». Со стороны Каспия государство Кучека в мае – июне 1920 г. поддерживала флотилия, которой командовал Федор Раскольников, муж Ларисы Рейснер, тогда Раскольниковой, а сама Лариса числилась комиссаром флота. Хлебников считал себя поэтом и дервишем нового государства и предрекал, что в нем воцаряется «Труд Первый»:
- В струны великих, поверьте,
- Ныне играет Восток.
Но советское государство, к сожалению, предало персидских коммунистов, пойдя на сделки с Англией и Турцией, и путь Федора Раскольникова и Ларисы Рейснер лежал в 1921 году уже в Афганистан, где нужно было убедить местного владыку и влиятельных людей в необходимости дружить с СССР. Но миссия Раскольникова и Рейснер завязла: ее подробные отчеты об Афганистане показывают страну как место ложного просвещения, где все убеждения в необходимости прогресса, книг, железных дорог и заводов обидно переходят в свою противоположность. Это место, где господствует плоская мораль, в свое время приносимая завоевателями, и не скинув оковы этих порабощающих формул, афганцы не станут настоящим государством. Поэтому завод или проспект становятся местом для «рвачей», в школах девочек учат покорности, а правители областей и послы быстро начинают принимать всё как должное.
При этом взгляд Рейснер на Афганистан – это взгляд не колониальный, а постколониальный. Она никогда не упрекает «Восток» ни в лени, ни в консерватизме, ни в инертности, ни в чем том, что Э.-В. Саид назвал в 1978 г. признаками ориентализма, закрепляющего символические привилегии Запада. Напротив, Афганистан не консервативен, а быстро ко всему приспосабливается, не ленив, а мещански-поспешен, и в этом сказывается не столько «влияние Запада», сколько последствия когда-то пережитых травм. Если завоевателям важно было отменить культурное многообразие, созданное Индией, заменив искусные изображения плоскими стишками Саади (так их слышит Рейснер), то затем любой царек и любой торговец начинает вести себя так же, воспроизводя всё то же мещанское предательство себя. В конце концов Лариса, не выдержав притворства дипломатической жизни, сбежала в Москву, развелась с Раскольниковым и сошлась с Карлом Радеком, секретарем Коминтерна и, возможно, последним, наравне с Троцким, романтиком мировой революции.
Книга об Афганистане вышла в 1925 году, тогда же Лариса Рейснер предприняла путешествие в Донбасс, итогом которого стала книга «Уголь, железо и живые люди», где были записаны и прежние впечатления от уральских заводов. Перед нами, по сути, евангелие промышленных районов – наверное, не найдешь в русской литературе книги, настолько наполненной чувством настоящего, ощущением, что важнейшие события в жизни мира происходят прямо сейчас. В этом Рейснер была не одинока – великий теоретик культуры Вальтер Беньямин объяснял суть революции как наступление «времени-прямо-сейчас», «уже времени», «мессианского времени», вершащего страшный суд над мещанством и фашизмом. Рассказы о жизни Урала и Донбасса – это рассказы не только о разрухе после Гражданской войны, но и о скором приходе совсем новой жизни, о котором непременно знают лучшие люди этих мест: будет протянуто электричество, но не только; будут полностью восстановлены заводы, но заработают они с новой силой. Домны погасли во время бедствий войны, не подлежат восстановлению, но люди верят, что они стоят рядом вместе с лучшими, вместе с Лениным и инженерами-созидателями – против всего худшего, что прежде обманывало их. Старый мир плох только одним – он заставляет путаться в себе, пока корыстные люди наживаются на чужих мертвящих убеждениях. У Рейснер нет того наивного пафоса электрификации, который имел место у Маяковского или молодого Платонова – скорее ее очерки иконописны, и, если их зарисовывать, это будет что-то вроде фрески, на которой рабочие оказываются заодно с воинством небесным, с ангелами в блестящих латах, против мещан, которые хоронят себя и других под тяжестью своих идолов.
Нелепая преждевременная смерть Ларисы Рейснер от стакана молока, заразившего ее брюшным тифом, поразила современников. Помогавшая многим, в том числе Блоку и Ахматовой, она должна быть признана, наверное, первым поэтом феминизма. Поэтому хочется закончить вступление словами из письма Рейснер к Ахматовой от 24 ноября 1921 г., которые равно справедливо отнести и к Ахматовой, и к Пастернаку, и к ней самой:
«Ваше искусство – смысл и оправдание всего. Черное становится белым, вода может брызнуть из камня, если жива поэзия. Вы – Радость, содержание и светлая душа всех, кто жил неправильно, захлебывался грязью, умирал от горя. Только не замолчите – не умирайте заживо.
Горы в белых шапках, теплое зимнее небо, ручьи, которые бегут вдоль озимых полей, деревья, уже думающие о будущих листьях и плодах под войлочной оберткой, все они кланяются на языке, который и ваш и их, и тоже просят стихи».
Ларисе Рейснер пришлось стать свидетельницей великого предательства, разгрома модернизма и авангарда. Николай Гумилев был расстрелян. Блок и Хлебников умерли от голода. Этот разгром набрал обороты после ее смерти. Бабель вынужденно выступил в «Правде» с обличением троцкистов «Ложь, предательство, смердяковщина», но и это его не спасло от расстрела. Карл Радек убит «блатными» в тюрьме. Федор Раскольников стал невозвращенцем. Ахматова и Пастернак – все знают, что с ними делали.
Плоская критика упрекала Рейснер в усложненности, метафоричности, множественности точек зрения, но мы сейчас знаем, что в таком монтаже вся суть авангарда. Вспоминая Ларису Рейснер, читая ее очерки, яркие, близкие экспрессионизму, мы не можем не вспоминать и другие судьбы. Лариса Рейснер была всегда со своими друзьями, и оставалась с ними, «с моим народом», в их несчастьях. Публиковали ее в советское время мало, первое настоящее «Избранное» вышло в 1965 году. Надеюсь, настоящее издание вызовет обсуждение заслуг великой женщины и в нынешних дискуссиях.
Александр Марков,
профессор РГГУ
Афганистан
Глава первая
Наша Азия и Азия по ту сторону границы
I. Первый день
На протяжении нескольких сот верст одно и то же: мир. Бледный дол едва отогревается, и от поля к полю, справа и слева до края неба, ходят медленные пахари.
За их плугом дымится легкое облако теплой земляной пыли. Вернувшийся домой кавалерист сидит на худой крестьянской лошади, и за ним, подпрыгивая, ползет борона, касаясь земли своей жесткой лаской. Как безумно далеко ушла война! Весенние реки заливают старые окопы – невозможно себе представить падение снаряда среди робкой зелени озимей, на опушках болотистых рощ.
Бесконечный покой.
II. Станция
Все торгуют: азиаты, и крестьяне, и проезжающие красноармейцы. Ничто не сравнится с лицами, составляющими «толчок». Это не люди, а лес. Около крестьянки, предлагающей полотенце, столпились рыжие дубы, несколько пней, сожженных грозой; ветки без листьев, покрытые отсырелой корой, гиблые, изогнутые ивы. И там, где кора лесных лиц нежна и красновата, живет их голос, и этот голос шелестит, поскрипывает или рокочет.
– Сколько? Десять? Даю пять косых.
И, смеясь, как у себя в чаще, великаны качают мохнатыми шапками. В пальцах, разгибающихся, как прутья, приготовленные для плетения корзин, у них зажаты бумажные деньги. Белки глаз из снега, не успевшего растаять на колючих хребтах этой страны. Зрачок – таинственно текущие вешние воды, невидимые, пока молодая луна в них не бросит кусок серебра.
Чистильщик сапог, азиат, сидит на голой коричневой земле и сжимает между колен свою подставку, точно ящик с драгоценностями. Эго пушкинский Черномор: это – его огненные глаза и мшистая волна волос на бороде. Равнодушный к судьбе волшебник сидит со своими глянцевитыми ваксами и красной бархатной тряпочкой, вырванной из плаща Людмилы, и бесстрастно наблюдает босые ноги прохожих, до колена выпачканные в грязи. Его лицо темно, а ремесло эфемерно.
III. Туркестан
Между совершенно плоским небом и плоской землей дым, уходящий в ничто. Белый лунный свет на мертвых полях, озера и холмы нетающего снега и замурованная тишина на протяжении сотен верст. Дороги, опустошенные копытами Тимура, сожженные зноем и стужей; пустыни, которые не спят и не грезят: они не существуют.
Читать невозможно: жгучие слезы Гейне всасываются черной рыхлой землей. Даже дебелая пышность Елизаветы Петровны, ленивые и грязные анекдоты ее царствования, даже холод Бестужева, мужицкая широта Разумовского, даже шуваловские кружева и ломоносовские оды блекнут в этой степи, где камни из лунного света и облака, окаменевшие в пустоте.
Здесь не может быть истории, этого искусства мертвых. Все относительно на куске земли, где песок смешан с солью и солнечным светом.
IV. Полустанок
Киргизка, поставив под овцу неопрятный глиняный сосуд, лениво выпрастывает ее продолговатые сосцы. Возле матери шелковистый ягненок на больших и слабых ногах. Его мордочка, которой он тыкается в подол дикарки и в пустое вымя матери, имеет чистый античный рисунок – тот беспомощный и порочный профиль, который так любил ампир. Пахнет азиатским жильем, горькими травами и мехом. В степи нежнейший звон ветра в сухих прошлогодних травах. Поют песчаные холмы, где согретые солнцем пески пересыпаются, как жемчуг, восходят волной, падают в мгновенные долины и опять ссыпаются в подвижный вал с серафической, непрестанной и сонливой музыкой.
Воздух полон степных жаворонков. Тысячи влюбленных крылий трепещут в синем и золотом и с легким стоном тают в ослепительном блеске неба, и небо ими полно, как ангелами.
Холмы золотого песку, с которого верблюды неторопливо снимают зеленоватый пушок.
Долины, точно янтарные чаши, поставленные рядом, полные запаха трав и, как пену, источающие червонный свет. Холм у холма – это сот возле сота, они медленно наполняются огненным медом дня.
V. Прошлое
…Как далеко мы уже уехали. Не на сотни и тысячи верст, а на много сот лет, на целую вечность в прошлое. Здесь ведь скалы, пески и ущелья – как вчерашний, едва истекший день – помнят Тамерлана; и скрип его диких повозок, иноходь его конницы еще живет там, где теперь лежит железная дорога.
Сколько солнца, меда и целебных запахов источает пустыня, каким темным изумрудом пылает Ташкент и наконец эта средневековая Бухара!
Здесь есть крытые базары, которые тянутся на две-три версты. Они прохладны, под крышей воркуют голуби, в щели льется золотой полуденный дождь, а справа и слева у порога крохотных лавок сидят пестрые халаты, чалмы белее снега, и старики с бородами пророков, высчитывая барыши и плутни, покоятся с видом богов и нюхают влажные розы.
Везде бегут крохотные ослики с вьюками свежего клевера и тростника, с женами в чадрах, бог знает с чем. Иногда среди этой толчеи проезжает наш кавалерист в высоком шлеме, и со спины он выглядит как победитель Иерусалима, паладин Красной Звезды.
И все-таки, несмотря на пестроту красок, блеск и внешнюю упоительную красоту этой жизни, меня обуревает ненависть к мертвому Востоку. Ни проблеска нового творческого начала, ни одной книги на тысячи верст. Упадок, прикрытый однообразным и великолепным течением обычаев. Ничего живого. И, в конце концов, эти города неумолимо идут к вымиранию, к праху, пыли – все к той же пустыне, из которой они возникли.
Лучше всего сады и гаремы. Сады полны винограда, низкорослых деревьев, озер, лебедей, вьющихся роз, палаток, граната, голубизны, пчелиного гуденья и старинных построек, да и аромата, конечно. Такого крепкого и густого, что хочется закрыть глаза, лечь на раскаленные плиты маленького раскаленного двора и быть легче ласточек, легче маленьких деревянных столбиков, на которых висят в густом воздуха старинные балюстрады. Под деревьями расстилают ковры, подают чай с пряными сластями. И тишина такая, что ручьи немеют и деревья перестают цвести.
А вот и гарем. Крохотный дворик, на который выходит много дверей. За каждой дверью – белая комната, расписанная павлиньими хвостами, убранная сотнями маленьких чайников, которые стоят в нишах парочками, один большой и один маленький, совсем как голубь с голубкой. И в каждой комнате живет женщина-ребенок, лет тринадцати-четырнадцати, низкорослая, как куст винограда.
Все они опускают глаза и улыбку прикрывают рукой. Их волосы заплетены в сотню длинных черных косичек. Они бегают по коврам босиком, и миниатюрные ногти их ног выкрашены в красный цвет. Лукавые и молчаливые, эти бесенята в желтых и розовых шальварах уселись вокруг меня, потом придвинулись, потрогали своими прохладными ручками, засмеялись и заболтали, как птицы. Кажется, мы очень друг другу понравились. В общем, они – очаровательнейшее вырождение из всех, какие мне пришлось видеть.
VI. Кушка
Кушка – пограничный пункт между Россией и Афганистаном. Вокруг его старинной крепости громоздятся пыльные песчаные горы. Ветер подымает на их склоне тучи желтого праха и разносит его, как пепел целого мира, сожженного неизвестным завоевателем.
Но улицы городка тенисты, вдоль тротуаров шумят ручьи, ленивые тутовые деревья, разомлев от жары, роняют переспелые ягоды на чистые дворы казарм, на крыши и пороги выбеленных домов, в которых расквартирован гарнизон. Словом, настоящий пограничный городок, белый, зеленый и крепкий, со своим военным населением и тревожной бдительностью, превозмогающий и жару, и лень, и лихорадку. Лихие, деловитые коменданты, седые трубачи и племена, угоняющие друг у друга еженощно стада жирных баранов; эти угоны и есть преткновение нашей восточной политики, знаменитый джемшидский вопрос.
От столба, вбитого в лысый затылок какой-то старой горы, начинается настоящая Азия, огороженная синеватыми линиями гор и золотым поясом пустыни. До самого Чильдухтерана, первого привала в Афганистане, нас провожает эскадрон кавалерии. До вечера звучит нам русская речь, и среди белых чалм мелькают красноармейские шлемы. Вечером они уходят; при свете фонаря над разгоряченной головой лошади наклоняется милое и взволнованное лицо кушкинского коменданта, и затем его руки, пожимавшие наши, и вся его славная фигура времен «Капитанской дочки», и глаза, в которых влажный блеск, – все исчезло, и мы остались одни.
VII. Из Кушки до Герата
Ночь – надо начать с нее.
После целого дня, проведенного в седле, после солнечного жара, медленно растущего от рассвета к белому полдню и, как река, разливающегося к вечеру, ночь – такое огромное счастье, награда за всю усталость, слабость и жажду.
Дорога, горячая и каменистая, идет из одной мертвой долины в другую, от песчаных гор к плоскогорьям, ровным, твердым, похожим на плиту необозримой могилы, с которой вечность давно стерла надписи.
Степь, только степь, и по краю ее плавные, убегающие друг от друга отроги Гиндукуша, над ними бледное, зноем истерзанное небо.
И все-таки жизнь не вся выпита солнцем. Она только пригнулась лицом на пески, затаила дыхание, бесконечно смирилась. Но в пыли, в увядшей листве – везде живое. Пепельные ящерицы оставляют на пути извилистые следы, упрямые скарабеи среди золота и янтаря раскаленной дороги скатывают свои навозные шарики. В колючих кустах шелестит саранча, кузнечики дождем сыплются из-под конских копыт, и воздух полон их сухой скрипичной музыкой.
Проходит час, другой, третий, время превращается в длинную, красную ленту, дорога – в содрогание и толчки сердца. Зной опьяняет, солнце нагибается так близко; оно обнимает голову, проникает в глубину мозга, осеняет его длинными и вместе мгновенными вспышками.
И тогда мне предстает Белая Азия, голая, горячая, на раскаленном железном щите.
VIII. Башни Тимура
Изредка в песках оазис: из-под камня выбегает ключ, и люди и животные жадно приникают к его певучей, прозрачной, целомудренной поверхности.
После короткого отдыха трубит гортанный рожок, дикая кавалерия афганцев обгоняет пурпурные носилки, которые медленно и ритмично покачиваются между двух лошадей. Вьючные кони, цепью скованные друг с другом, продолжают свой путь, и только изредка какой-нибудь горячий жеребец с нетерпеливым ржанием старается сбросить со спины гнетущие ящики. Постепенно долина сменяется холмами, и первые всадники вступают на горный перевал. Дикая и прелестная картина: горы как-то неожиданно, почти внезапно сменяют плоскогорье.
Лава, железо и коричневый мрамор висят зубчатыми глыбами над краями прохладных пропастей, вдоль которых солнце медленной золотой завесой опускается в неизмеримую глубину. Их непередаваемый беспорядок и великая стройность не изменялись со дня мироздания, они лежат здесь на краю мира, точно в никому неведомой мастерской, приготовленные для постройки, для творческого акта, который не совершился. Вот над пустотой, пронизанной полуденным жаром, прямые и мощные столпы: само небо могло бы покоиться на их несокрушимой вершине. Вот глыбы, положенные в основание дворца, вот башни, поднятые к солнцу и не знающие головокружения на своей орлиной высоте. В минуту самого жгучего желания жить, когда горы громоздились друг на друга, и среди ликований и каменного скрежета строилась новая вселенная, в пламени и кипящей крови металлов прошла охлаждающая смерть: все остановилось, застыло, уснуло. По лицу земли, искаженному творческой мукой, потекли ледяные ручьи.
Лошади, осторожно ступая сухими и крепкими ногами, спускаются наконец на дно новой долины, где по каменистому ложу бежит горная река. Вздрагивая ушами и глубоко дыша, они пьют чистую и холодную воду. Вокруг великая тишина, горные склоны снизу кажутся совсем отвесными, и на одном из них, блестя повязкой из голубой эмали того действительно неизъяснимого цвета, какой разучились приготовлять современники, высится конусообразная башня – сторожевой пост Тамерлана.
Дальше, уже на краю пустыни, лежит его дворец, преданный разрушению и шакалам. За квадратной высокой стеной – груды опавших кирпичей, но внутри еще цела прохладная сводчатая палата с широкими очагами, с уступами для приготовления пищи и удобными сиденьями. В потолке, среди запутанных граненых сводов, похожих на раковины, узкие отверстия, теперь пропускающие солнечный свет и диких голубей. Раньше через них выдыхался густой и пряный запах жареного мяса, заправленного шафраном и лимонными корками, может быть, меланхолически-воинственные песни Саади, бряцание кувшинов и оружия. По мановению руки, длинной и желтоватой, с ногтями, окрашенными хенной, спешили десятки слуг, белея чалмами, постукивая задками изношенных, когда-то серебром вышитых туфель. Несли воду для омовения, ковры для молитвы и сладострастных игр, горячий плов под червлеными шапками, прогуливали любимую лошадь под белым чапраком, с ожерельем бирюзы на молочной шее. И у низкой двери, ведущей на женскую половину, стоял рослый хазареец и бледнел, если за нею раздавался смех.
Издали трубит гортанный рожок, и наши лошади несколькими скачками выбираются из развалин на палящий простор. Высокая, пошатнувшаяся арка провожает нас молчаливым благословением, ее мягкие очертания – две сомкнутые руки, усталые, готовые опуститься.
Опять дорога по плоскогорью, ровному, безмолвному, горячему. Одинокая деревня без построек, даже без устоев из дерева. Глина, скомканная человеческими руками и высушенная солнцем. Шатры из черной прокопченной и промасленной ткани, низкие и широко разостланные по земле. Под их сенью, в грязи и полумраке, целые семьи: дети поразительной красоты, пастухи и их стройные жены, которых нищета и труд освободили от чадры. В широких тазах они подносят воду и кислый кумыс утомленным всадникам так же просто и величаво, как это делали библейские женщины.
Изредка колодезь, прячущий свои влажные ладони, полные утомления и прохлады, под остроконечной каменной шапкой.
Полдень, потом за полдень; весь мир охвачен торжествующим солнцем, погружен в голубые и белые бездны огня. Вся земля в сладостном, смертельном головокружении сползает в золотую пустоту.
Уже не помня себя, ничего не чувствуя от усталости, приближается караван к подножию гор, к расселине, где источник дает жизнь нескольким деревьям и пастбищам. И тут на голом месте возникает целое чудо: уже ждут палатки, устланные коврами, с накрытым столом посредине.
С ржаньем и щелканьем бичей останавливаются грузовые лошади. Конвоиры, сбросив винтовки и нелепый кавалерийский мундир, превращаются в толпу слуг, быстрых, бесшумных, как духи «Тысячи и одной ночи». Они несут кувшины с водой, ковры и веера и накрывают ужин прямо на траве; зажигаются ночные лампады, это – хрустальные тюльпаны на длинной серебряной ножке, и в матовом их пламени архаические персидские львы заносят над мягко тлеющим фитилем свою державную лапу. Лагерь кострами, лампами и палатками, как сновидение, белеет и блестит средь пустыни.
Падают крупные звезды, иные нисходят до темных ночных деревьев и в их дремучей листве теряются, как в распущенных волосах. Хорошо до сумасшествия!
IX. От Герата к Кабулу
Нигде мертвое так близко не прикасается к живому. Справа обрыв, и на дне его цветущая долина реки Герируд.
Она вся засеяна рожью, и тысячи мелких ручьев, направленных с гор, бегут прямо по хлебным полям. Ножка каждого колоса, стебель каждого цветка, примешавшего к хлебу свой пурпур или синеву, сосет прохладную струйку воды, опьянен едва слышной, только для него поющей струной жизни. У нас спелый урожай сух, как золото, а здесь над рожью вечная свежесть горной воды, воздух садов, звон жаворонков пополам с плеском водопадов – вино и вода в стакане солнечного цвета.
Среди безмятежных полей – частые кладбища: песчаные холмы, похожие на желтые пузыри от ожога, и на них – ломаные осколки камней над обломками жизней: следы старых и новых побоищ и усмирений хазарейцев.
Красные, фиолетовые, буро-желтые зубцы совершенно голых гор стоят над долиной двумя стенами. Обе в древних коронах, обе близкие небу, в порфире бессмертия. Но когда-нибудь эти два хребта обрушатся друг на друга, и тогда не станет голубой реки Гери, которая между ними лежит, как свистящий, стремительный, пенистый меч.
Тропинка бежит под нависшими валунами; они, как исполинские каменные жабы, прижались к краю обрыва, готовые прыгнуть. За ними множество мягкотелых туфов, добрых, застывших на своих местах, точно собрание. И вдруг – кровь. Где-то в глубине пластов лопнули гранитные жилы. Может быть, сердце, оживлявшее семью великанов, переполнилось огнем и лавой и разорвалось на каменные брызги. Или, утомленные вечным окостенением, горы захотели ожить и идти и, оторвав от земли уже мертвое тело, изошли кровью, пораженные новым, еще более немым покоем. Но все кругом – обрывы, скалы, пыль и щебень, – все пропитано пурпуром, все красно и розово, как предсмертная пена, и даже мазанки пастухов – из глины, смешанной с драгоценной металлической киноварью.
Из такой глины был вылеплен человек.
X. Вершины
Вершины. Их покатые плечи в цветах, едва видимых, но крепко и нежно пахнущих. Их скаты блестят слюдой, малахитом и мрамором. Ветер, пробегающий здесь, чист и холоден, как ключевая вода. Но сами они неописуемы. Нет на человеческом языке таких слов, чтобы показать, как они все сразу поднимаются к небу, более дерзкие, чем знамена, более спокойные, чем могилы, – громадные, каждая в отдельности, и больше, чем океан, больше всего, что есть на земле великого, когда они вместе.
Может быть, большой поэт, стоя на безоблачной высоте, над которой спокойно плавают орлы, увидел бы и выразил весь свет, пролитый на металлические латы камней, эти дымки опалового, жемчужного и пепельного цвета, из которых зной и солнце подымаются в вечность, как неслыханные цветы, и легче, чем медузы. Или дикарь, герой, победитель: он бы взглянул и издал свой бранный клич, это смеющееся рычание, бесплотное и сладострастное, в котором все упоение при виде земли, которой можно обладать, все ненасытное сожаление о том, что ею нельзя владеть вечно.
XI. Живое
Среди пологих холмов встретили большие стада овец – маленьких, на крепких игрушечных ногах, мохнатых. Встретили домовитых сусликов, вечно мучимых ненасытным любопытством, и ящериц с квадратной головой, и много птиц, почти синих. Встретили и семейство гвоздик, которые объединились, срослись в общий корень и покрылись колючками, но запах у них все тот же, полевой, как у девушки.
Были еще белый шиповник, мох в розовых цветах и бледное небо, как всегда на большой высоте. Все это почти невесомо, почти без запаха и плоти. Закутанные, как в легкий иней, в дуновение мяты и лаванды, горы все-таки бесплодны, наги и огромны.
Последние девять верст вдоль реки, имеющей зеленовато-мыльный цвет, летим, как безумные, по совершенно белым известковым скалам. Песок не может быть более желтым, скалы не бывают белее этих, камни – острее, и не может быть небо из лучшего золота, расплавленного до того, что оно стекает на горные кряжи ослепительными потоками, не имеющими окраски.
XII. Баран
На одном из поворотов тропы обгоняем барана, которого гератский генерал-губернатор посылает в подарок эмиру.
Животное едет в особой клетке, перекинутой через спину вьючной лошади. Между прутьев выставляется только его великолепная, обезображенная голова: вместо рогов костяная шапка – два шара, сросшихся над его желтыми глазами фавна. Шелковистые длинные уши и доброе вытянутое лицо совершенно не согласованы со шлемом.
Он в нем, как ребенок в шапке взрослого. Сознавая нелепость своего положения, баран не ест и худеет, и поэтому сегодня вечером пошлют в горы за веселой, разговорчивой козой: может быть, она поможет. Двадцать слуг дрожат за здоровье печального барана, перетирают его ячмень, чистят ошейник с бубенцами и убирают помет. Все они будут биты до полусмерти, если с ним что-нибудь случится. Так по дороге, проложенной Тимуром и Александром и ставшей кровеносным сосудом, в котором смешалась ненависть двадцати завоеваний, шествует больной и капризный баран, и встречные пастухи и крестьяне сгоняют своих ослов в арык, чтобы уступить ему дорогу.
И когда они стоят, униженно и подозрительно озирая наш караван, отчетливо видны их профили македонских всадников с примесью персидской и еврейской податливости.
XIII. Рабат
Теперь о рабате. По всему пути, на расстоянии тридцати – пятидесяти верст друг от друга, лежат старинные гостиницы, когда-то крепости. Да они и сейчас сохранили воинственный вид: расположенные на скалах в неприступных гнездах, узких и каменистых, как западни. Квадратная стена, ров, узкие ворота, в которые вместе с караваном вливается студеный ручей, – все это как тысячу лет назад.
Конный двор отделен внутренней стеной от жилых помещений. Словом, каждый квадрат земли, каждую сторожевую башню можно защищать отдельно. В дальнем углу, вокруг особого, тоже крепко огороженного двора, выведена сводчатая галерейка, и тут под арабскими нишами пять или шесть комнат, отводимых путешественникам. Стены келий еще темны от зимнего огня, и они слепые, без окон. В потолке круглое отверстие. Ночью сквозь него на пестрые ковры льется лунный свет и неопределенное сияние азиатского неба, утром – золотой столб света, пыли и розовых листьев зари.
Посредине ковра зеленый бархатный тюфяк. На нем одеяло синее, на нем – розовое, на грязно-розовом – грязно-фисташковое, а сверху «хануми сафир-саиб», снедаемая отвратительными «верблюжьими» клопами. Скинув туфли, входят черные добрые разбойники-слуги с чаем, и сквозь тонкие пестрые чашечки (летом у акаций бывает такой тонкий, ломкий и прозрачный стручок) просвечивает румянец и узор ковра.
Странные люди – эти афганские слуги.
Сами они лишены всяких потребностей, им ничего не надо, кроме куска сурьмы, чтобы подвести глаза, хорошей лошади и ружья, из которого можно было бы всласть подстреливать иностранцев, попавших на большие дороги Афганистана, – и вот каждый из этих пастухов, наездников и садоводов оторван от седла и оросительного канала и обучен нелепому, фантастическому ремеслу, не имеющему ничего общего со всей его жизнью. Например, Фаизмамед, великан и красавец, подает к столу солонки, только солонки, не больше и не меньше. Он за них отвечает, они въелись в его привычки и поведение – эти дешевые базарные штучки со своим никелем и мелкими дырочками.
Худодад – вообще уже не Худодад, он – тарелки, которых сам, правда, не употребляет, но которые зашлепали всю его жизнь, то сальные, то чистые, то сложенные дюжиной, то недостающие тарелки. И ничего, кроме тарелок, навязанных ему чуждой культурой и чужими удобствами, Худодад не может, не видит, не понимает. Вы можете со слезами на глазах просить у него стакан воды – он придет с лицом, сосредоточенным и пустым, как у загипнотизированного, и принесет свою проклятую тарелку. Вообще мы живем среди наших слуг и конвоиров, как личинки в муравейнике. Они схватывают нас и несут на солнце, когда надо, кормят с усиков, защищают и переносят с места на место, повинуясь инстинкту, бессмысленному относительно каждого муравья в отдельности, но охватывающему весь муравейник мудрыми узами привычки и единообразия.
И точно так же, как Худодад относительно своих солонок и тарелок, поступает со своим полем любой крестьянин, любой пастух долины Герируда. От дедов и прадедов ему достался клочок земли, орошаемый непостижимо мудрой канализацией с целой системой плотин, водопадов, устий и истоков. Он никогда не знал и не узнает смысла и божественного происхождения воды, дающей ему хлеб и виноград, но, как правоверный свою молитву, лениво и механически исполняет великий обряд орошения.
И земля родит, пока где-нибудь в горах не обрушится античный виадук и песок не засыплет последние остатки давно исчезнувшей высшей культуры. И никто не поймет смысла и причины бедствия, ни у кого нет ключа к старому знанию, и поля чернеют, и каналы сравниваются с землей пустыни и соседнего кладбища.
Худодад, у которого разбита тарелка или недостает солонки, перестает быть человеком.
Один рабат похож на другой, и каждый вечер после трудного дня как будто вступаешь в те же стены, в ту же глиняную коробочку-комнату. Одинаково картавят дикие голуби, звенят колокольца отдыхающих лошадей, трубит вечернюю зорю рожок кавалериста. Тихо бесконечно, горы висят над нашими стенами, и на лицах и во сне остается спокойный загар, отсвет их мощных, коричнево-лимонных склонов.
Вечер – время чая, походных дневников и писем.
Так как мы – «сафир-саиб» (послы), то всякая работа, по местным понятиям, для нас унизительна, кроме письма, конечно. И к моей рукописи солдаты-крестьяне питают такое же уважение, как к старым могилам, убранным обломками греческого мрамора и рогами горных коз, или тем неразгаданным глыбам, которые иногда срываются с горных карнизов и падают на дорогу, все в тонких рисунках и тонких письменах.
XIV. Водолей
Сквозь дремоту, усталость и лень проникает охлаждающая струя – пыль, смешанная с водяными брызгами.
Это водолей, комичным и несколько двусмысленным образом держа перед собой устье бурдюка, поливает наш двор. Его складчатые синие штаны завязаны у голых щиколоток. Свободный конец тюрбана, он же полотенце, обмотан вокруг сухой черной шеи, и на него спускаются концы длинных, грустных усов. Водолей получает четыре рупии в год, его кормят впроголодь, и ежедневные переходы впереди каравана он совершает верхом на осле, который пронзительно и похотливо визжит, показывая из-под вьюка черные уши на белой подкладке. Его путь украшают остовы лошадей, павших на крутом перевале, ободранных, красных и страшных, с уцелевшими копытами на красных голых ногах, и кучи лошадиного помета, уже снедаемого жуками и мухами, едва он коснулся пыльной тропы, – так жадно здесь мертвое проглатывает куски жизни, отставшие от длинного, бесконечно изнуренного каравана.
Водолей – самое низкое лицо на рабате, ему не делают селяма ни заведующий чаем, у которого за грязной пазухой хранится дюжина красных чашек, вложенных друг в друга розаном, ни конюх, намазывающий глиной рога эмирского барана, ни собиратель сухого помета, которым зимой топят очаги.
XV. Высоко
Альпийский холод. Дорога вьется по вершинам, соединенным высоким плоскогорьем, и по внешнему виду пологих пирамид нельзя угадать, что они – корона цепи 14 000 футов вышиной. Холодно. Суровая, металлическая трава шелестит, как венки на похоронах, и только кое-где на серых алтарях высоты тлеют желтые свечи со слабым, как бы выветрившимся дыханием – единственные цветы мертвых гор.
У ручьев, выложенных изумрудным бархатом, когтистые и седые развалины македонских крепостей, охранявших горные проходы и прохладные пастбища, так похожие на гористые луга Северной Греции.
Высоко в бледном небе дерутся белые, как метель, орлы.
XVI. Камни
Все тот же возвышенный холод.
Горы обрызганы темной росой редких трав, они пологи и песчаны. Но везде из-под зыбкой пыли выступают камни, и на них страшно смотреть, так они бесконечно стары, так разъедены и разрушены временем. Уцелело только то, что действительно вечно. И, обглоданные, источенные веками, они сами еще больше, еще сильнее хотят истлеть. Кряжи, острые, как нож, отделяют почти солнечную пыль, в течение столетий раздирают свои крохотные трещины, разверзают их немыми усилиями, крошат и сбрасывают пепел с зазубренных краев, как остатки иссохшей кожи. Точно эти валы окаменевшего океана бесконечно устали быть и, раздавленные собственной тяжестью, ищут соединения с легким прахом, мягко засыпающим их склоны. Нет молодых камней – нет новых громад. Нежнейший желтый мрамор, и розовый, и серый с черными венами – все они хранят и расточают блеск, приобретенный на заре мироздания, они вянут и потухают из века в век, эти гранитные цветы, эти букеты из мрамора.
И дни, бегущие на ровной, старой высоте, тоже не новые. Все они уже были – и облачные, и ясные; все они выходили из щелей и оврагов, из сырости бешеных горных рек и тысячи раз умирали на зубчатых, голых хребтах, и, уходя в вечность, каждый вечер говорил земле: «Я вернусь опять, пока ты не разрушишься до конца, пока последний из твоих камней с радостным вздохом не обратится в прах».
XVII. Смерч
Там, где стрела солнца крепко вонзила золотое острие в мягкую пыль, вон там, между кусками лавы и кустиком лаванды, курится легкая, седая струйка тепла. Песчинки пляшут и пляшут в напряженном воздухе, который на месте образует тонкую, вертящуюся воронку.
В нее вливается солнце, солнце ее переполняет и уже течет через бирюзовые края, как горячее вино из тесного и захмелевшего сосуда. Волчок из пыли вращается все быстрее, и вдруг это уже пляшущий костер, и костер продолжает неистовый, круговой, пылающий танец.
Он движется, бежит, из крутящегося огня подымается седая колонна, обезумевшая, наклоненная башня с дымными знаменами на воспаленной вершине. Основание ее скомкано. Серый колдун со связанными ногами несется в гору; дерево, растущее ежеминутно из огня в пустоту неба, в безветренной буре развевает свои ветви, согнутые в дымные хлещущие луки.
XVIII. Ночлег
Тени лежат на почернелом потолке, и свеча под желтым колпачком шевелит и двигает их по ветхому своду, как полководец свои полчища.
Одна доска двери выбита, и в эту дыру видно ночь и небо. Я лежу очень тихо и по замедленному сердцебиению, по странным спазмам чувствую, что жизнь мою сейчас переполнит то немое и безыменное чувство, блаженное страдание, у которого самые остро режущие, прозрачные и сладостные края.
XIX. Вниз
Взяв приступом последние перевалы – скалистые, цветущие самыми яркими и разнообразными породами камней, – дорога наконец спустилась на дно Кабульской долины. Это – самая цветущая и оживленная часть Афганистана, по крайней мере, его юго-восточной части. Шоссе покрыто тенью богатых садов, и скалы, ее обрамляющие, только своим багряным цветом напоминают дикие застенки горных перевалов.
Несчастные лошади, привыкшие переходить под палящим зноем тысячефутовые кручи, исхудалые, как скелеты, с опущенной головой и огромными натертыми ранами у передних ног, теперь оправились, пошли веселее, бодро покачивая пятипудовые яхтаны. Все чаще навстречу нам идут караваны верблюдов, груженных хлопком. За гладкими, как бы голыми матерями, у которых при каждом шаге мягко раздается широкая сильная ступня, похожая на исполинскую руку, бегут тонконогие верблюжата, мигая темно-голубыми влажными глазами новорожденных. Среди зелени высоких, узеньких тополей мелькают пестрые одежды купцов, свесив ноги, медленно едущих на сильных мулах или неторопливых лошадях под тенью старого, грозно растопыренного черного зонтика. Обгоняем несколько женщин, идущих с открытом лицом, – это крестьянки со смуглым, низким лбом, глазами и профилем античного еврейского типа. Круглые, костлявые головы горцев и узкие глаза цвета янтаря и заржавленного железа здесь, в Кабульской равнине, уступили место мягким овалам и бледности породистых хищников. Люди красивого, крупного сложения. Особенно хороши дети. Они, как темные птенцы, унизывают глиняные стены домов, блестя агатовыми глазами из-за их зубцов и башенок.
Возле горы, покрытой белыми обломками античной крепости и кубическими постройками афганской деревни, в роще из странных деревьев, покрытых узкими, тусклыми, как бы шелковыми листами, расположены священные пруды. Бассейны не особенно глубоки и наполнены холодной, прозрачной водой горного ручья, сохранившего голубоватый цвет снега.
К их поверхности ниспадают ветви пепельно-зеленой ивы, где покачивается клетка добродушной и крикливой перепелки – любимицы всех афганских садов и базаров. Она пронзительно и все же музыкально покрикивает, обчищая о прутья свой коралловый клюв. Изредка какое-нибудь зерно падает в воду, и тогда вся ее светлая поверхность вдруг оживает, темнеет и бросается к одному месту, отбрасывая на дно тысячи темных теней свинцово-синих стрел. Это – форели священных прудов. За каждой крошкой хлеба их неуловимые стада летят так стремительно, что вода кажется собранной и завязанной в кишащий переливчатый узел.
Свесив одну ногу к источнику и положив руку с серпом на согнутое колено другой, жнец, отдыхающий от работы, сидит совсем неподвижно. Он дремлет с открытыми глазами или погружен в напряженную мечтательность, для которой быстрые хищные рыбы в холодном зеркале чертят серебряные лезвия.
Женщина, оставив на верхней ступеньке свои туфли и отстранив от лица покрывало из синего полотна, моет круглый кувшин, потом наполняет его и, не спеша, удаляется. Все вместе – спокойствие, шелест, плеск и тепло, смягченные трепещущей тенью.
Жатва между тем уже достигла в долине того напряжения, которое делает ее похожей на старый языческий праздник. По межам, которых еще не коснулся серп, движутся все те же, собранные на затылке в тысячу плавных складок покрывала женщин. Занятые совершением неведомого нам обряда, они не опускают чадры, и в синеве одежды и золоте хлеба видны их сосредоточенные, темные и правильно архаические лица. Они идут, изредка нагибаясь, и каждая из этих матерей, освящающих поле, собирает в своей руке пучок самых крупных и червонных колосьев. Со снятых полей ветер доносит щекочущую пыль соломы и зерна. Здесь хлеб сложен огромным костром, на котором пылает весь огонь плодородного лета. Черные волы, заменяя собою цепы и подгоняемые всей семьей, медленно переступают круг за кругом и топчут снопы, из которых течет зернистый дождь. Жницы, отделяя солому, встряхивают ее высоко над головой, и сквозь янтарную и сияющую дымку сухой пыли и солнца просвечивают их синие холщаные покрывала и красные шаровары. Жар в зените. Утомленные стада прячутся в тени частых, но еще юных и пронизанных светом тополей, которые образуют аллею не вдоль дороги, а вдоль ручья, влагу которого они и пьют, и охраняют. На самом солнцепеке, среди местности совершенно пустынной, сереют прижатые к земле постройки. Ветер издали доносит их запах, запах нагретой глины и абрикосов. Старик, безразличный ко всему, разложил в пыли свои огненно-желтые товары.
Вот наконец и последний рабат. Лошади ускоряют шаг в виду его квадратных стен и равномерных, землистых башен, какие воздвигают термиты. В последний раз – рожок у ворот, ведущих отлого вниз, точно в глубину. Два солдата, приложившие руку к запыленным вискам. Пронзительный крик барана, которого режут на ужин, облако пыли, поднятое ветром из-под стреноженных, непрерывно жующих грузовых лошадей, – все, что составляет в пустыне покой, отдых, почти счастье.
XX. В Кабуле
Еще очень рано, очень тихо. Садовники поливают свои клумбы – тысячи пестрых, незатейливых, но очень душистых цветов, посеянных прямо среди дикой травы. Возле прудов моются усталые солдаты, караулившие нас ночью, и без меховых шапок и мундиров видна вся их старость, похожая на пепельное и голое разрушение камней: их служба обязательна и пожизненна. Еще молчит в своей клетке, подвешенной к яблоне, красноклювая перепелка. Ночью ей не дает покоя электрический фонарь, на который она смотрит бессонными, кровавыми глазками и, вероятно, проклинает цивилизацию своей дикой родины.
Среди зелени – крыши ближней деревни, но туда не стоит смотреть. Там начинается глиняная нора, полная первобытной нищеты и грязи, которой все равно нельзя коснуться. А вот тополь. Он здесь совсем близко, с белым стволом, почему-то раздвоившимся к верхушке, зеленый, полный движения и говора, – по ночам он притворяется белой худенькой березкой и тревожит и мучит знакомым трепетом листьев – течением лунного света вдоль узких ветвей. Но о России я не хочу, не смею думать. Голод! Радио уже принесло это проклятое слово, и среди сытости и рабьего услужения оно бьет нас по щекам. И каждый из нас берет свой кусок сладкой баранины, которую подает любимый камердинер эмира – старая, дрессированная обезьяна в белых перчатках.
Мы приехали…
Глава вторая
Об афганской женщине, о сборе винограда и о плясках племен
Не зная местного языка и не принадлежа к исламу, в такой замкнутой стране, как Афганистан, совершенно невозможно приблизиться к народным массам и тем более проникнуть в средневековую семью кабульца.
Здесь женщина больше, чем в других восточных странах, отделена от жизни складками своей чадры, едва просвечивающей на глазах, собранной в тысячу складок на затылке, ниспадающей до кончиков загнутых туфель без задка, еще больше связывающих ее слепую походку.
В пестрой толпе, следующей верхом на осле за длинным караваном кочевников, несущих за верблюдами колья палаток, оружие и загорелых детей, везде видно и не видно женскую тень. Ее лица не знают даже грудные дети, которых матери держат перед собой на седле из пестрых лохмотьев. Кажется, что этих здоровых ребят с обведенными сурьмой глазами, с медными колокольчиками на ногах и руках, с яркими бумажными цветами на шапочке держат не матери, а призраки с замуравленным лицом, неживые, немые, недоступные. Вы поравняетесь с одной или несколькими женщинами – они уступят вам дорогу и проводят долгим, скрытым взглядом. Что они думают? Завидуют, осуждают, смутно надеются? Всадники спешат мимо, обдавая пылью или брызгами грязи темно-синие покрывала, которые даже не защищаются. Пролетит автомобиль, пугая верблюдов, сгоняя в канавы ослов, груженных серебристыми кусками срубленных на дрова тополей, где-нибудь на повороте колесо зацепит чадру простолюдинки, подомнет ее под себя и выкинет помятой и стонущей из-под крыла. К упавшей подойдет прохожий, отнесет ее, не поднимая чадры, на край ближнего поля и оставит там в обмороке, пораненной или просто оглушенной – не все ли равно? Это только женщина.