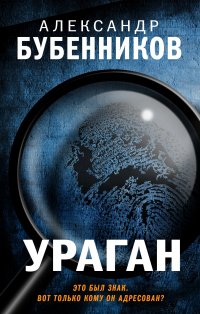Читать онлайн Вызовы Тишайшего бесплатно
- Все книги автора: Александр Бубенников
1. Мистика перед походом на Смоленск
18 мая 1654 года второй царь новой династии Романовых на московском троне Алексей Михайлович «Тишайший» во главе многотысячного войска выступил в поход на Смоленск, съездив помолиться перед этим в Саввино-Сторожевский монастырь.
Свидетель сих тожественных событий так описал богобоязненного государя, решившегося на такой решительный и небезопасный шаг: «Ехал сам царь, окруженный 24 алебардистами, из коих два предшествующие несли два палаша. Царь в богатой броне, сверх которой была у него короткая одежда, украшенная золотыми позументами, на груди открытая, чтобы можно было видеть броню. Поверх этой одежды, у него было другое одеяние, чрезвычайно длинное, отовсюду висячее, с одной только стороны закрытое, шитое золотом: на этом одеянии были видны три большие выпуклости, усаженные драгоценными камнями и жемчугом. На голове у него был шлем, вверху, по старинной форме, заостренный, а на нем было царское золотое яблоко с крестом, усаженным также драгоценными камнями. Спереди каски был солитер, вправленный крупный драгоценный камень, ценимый в несколько тысяч».
За три дня до своего выхода из Московского Кремля царь Тишайший отпустил в Вязьму чудотворную икону пресвятой Богородицы Иверской с митрополитом Казанским Корнилием. Вместе с духовенством в свите Корнилия Казанского царь Тишайший отправил в Вязьму воевод передового полка с войском: Одоевского, Хворостинина, Львова, Шереметева, Щербатова. Через день, 16 мая выступили большой полк с воеводами Черкасским, Прозоровским и Мосальским, а также сторожевой полк с воеводами Ростовским и Стрешневым.
С Тишайшим царём кроме Дворовых воевод Бориса Морозова и Ильи Милославского в поход на Смоленск пошли два Сибирских царевича и один Грузинский, а также бояре Никита Романов, Иван и Глеб Морозовы, Гаврила Пушкин, Репнин, Бутурлин, Хованский, Долгоруков, Львов, Хитрово, Стрешнев, Салтыков, Ртищев и многие думные и дворовые дьяки.
Но не спокойно было на сердце у Тишайшего. Перед походом в Смоленские земли и другие польские королевские земли были посланы царские грамоты, где Тишайший объявлял, что идёт освободить православную церковь от насилия и воздать врагам православного христианства месть за чинимые ими неправды и угнетения, и приглашал русское население присоединиться к нему, обещая сохранить дома от воинского разрушения. Но среди окружения Тишайшего, причем ближайшего, находились люди малодушные, даже двоедушные, открыто и тайно не одобрявшие Смоленского похода и предрекавшие прежние неудачи, как это было в 1630-х годах при его отце Михаиле и деде Филарете Романовых. Об этом Тишайший с горечью писал своим сестрам, признаваясь, что это сильно и жестоко сокрушало царское сердце…
Но тайное осознание своей «русской божией правды» и редкое одушевление великим религиозным чувством было так сильно у Тишайшего, что он смело и необычайно твердо продвигался вперед к Смоленску, веря в небесное знамение, что обещает ему воинскую удачу победу в сложном и опасном военном предприятии. И это мистическим образом произошло майской ночью 1654 года, когда Тишайшему, двигающемуся на Смоленск и остановившемуся на ночлег в деревне Наре, во сне привиделся святой старец Савва Сторожевский, который поведал ему о грядущих воинских победах над поляками и литовцами и долгожданном освобождении от них Смоленска.
Поутру по повелению Тишайшего, одухотворенного видением святого преподобного старца, за образом Саввы в Саввино-Сторожевский монастырь будут снаряжены государевы люди. И скоро икона св. Саввы заняла самое почетное место среди православных святынь, сопровождающих московское войско Тишайшего в знаковом походе московского воинства на многострадальный Смоленск, потерянный в лихое Смутное время начала 17 века, когда на троне после трагического смещения последних царей Рюриковичей воцарилась новая династия Романовых.
Следует отметить, что обретение мощей святого преподобного Саввы произошло всего два года назад. В начале 1652 года, когда в Саввино-Сторожевскую обитель, основанную Саввой, прибыл царь Тишайший вместе с патриархом Иосифом, митрополитом Никоном, царицей, боярами и духовенством, 19 января мощи святого, хранившиеся под спудом, были открыты, обретены и положены в новую дубовую гробницу.
Почему святой старец Савва так воодушевил Тишайшего в самом начале Смоленского похода? Потому что произошли любопытные мистические события в конце декабря 1651 года с заядлым охотником «с младых ногтей» Алексеем Михайловичем, случившиеся в окрестностях Саввино-Сторожевской обители на царской охоте. В отличие от своего болезненного слабосильного батюшки Михаила Тишайший был с детства силен, ловок и пластичен в матушку Евдокию. Вот и пристрастился он к охоте: сначала без помощи «царских соколов» на зайцев, лосей, волков, медведей, а потом к соколиной охоте на лесного зверя. Смолоду у Тишайшего любимым местом охоты был подмосковный Лосиный остров. После одного знаменательного привала на одной из солнечных полян Лосиного острова (под влиянием удачной охоты на лосей) вырос летний дворец, названный царём Преображенским.
Но наслышавшись от бывалых охотников, ходивших на медведя с рогатиной, о знатной медвежьей охоте в окрестностях Сторожевской обители и о прелестной дороге туда с чудными, старинными дубами, липами, мачтовыми елями, Тишайший вознамерился поохотиться и там. Случилось так, что на декабрьской медвежьей охоте 22-летний царь, в пылу охотничьего азарта, отделился от отставшей свиты и вышел в одиночку на проснувшегося огромного медведя. Тишайший, несмотря на своё прозвание, был не робкого десятка, только здесь царю не помогли бы ни рогатина, ни нож: силы были не равны, вылезший из своей берлоги медведь встал на задние лапы и, оскалившись в ярости, решительно пошел на потревожившего его охотника. Потом царь Тишайший неоднократно рассказывал своему окружению, что у него от ужаса отнялись ноги, из онемевших рук вывалились рогатина и нож, бежать от разъяренного зверя было некуда и незачем. Когда огромного медведя от застывшего Тишайшего, мысленно прощающегося с жизнью, отделяло всего несколько шагов, неожиданно перед зверем возник седобородый сухощавый старец в монашеском одеянии и со светоносным нимбом вокруг головы и резким жестом отогнал зверя назад в берлогу.
Лязгая зубами, Алексей Михайлович, нарушая своё общепринятое народное прозвище «Тишайший», обратился к своему спасителю:
– Кто ты старче? Как московскому православному царю называть тебя, спасшего меня от верной погибели?
Старец усмехнулся и, как в тумане, представился потрясенному царю:
– Зовут меня Саввой. Я – смиренный инок Сторожевской обители. Игуменом называть себя не могу, нескромно это. Пусть другие так меня назовут, если вспомнят…
– А откуда нимб у тебя над головой?..
– Не замечал ничего подобного при жизни… А по смерти, тем более, хоть и признали меня местно чтимым святителем, нечего и незачем нимбом святого кичиться перед…
– Но ведь ты, инок Савва спас от смерти русского православного царя… – перебил старца приходящий в себя царь Алексей Михайлович Тишайший. – Значит, неспроста спас меня для дела богоугодного – не так ли, мой спаситель?
– Вот и ты, царь Тишайший, спасай православное Отечество, по мере своих сил…
– А с чего начать-то, преподобный инок-спаситель Савва?..
– Да хоть с возвращения под руку православных царей утерянного в Смуту Смоленска и других плененных латинянами городов русских…
– Со Смоленска, – переспросил Тишайший, – а когда?
– Когда сам решишь, как управишься с моими открытыми мощами для укрепления своего царства. Латинянке Марине я запретил прикасаться к моим мощам – нечего… А тебе, православному царю разрешаю открыть мои мощи под спудом и перенести, куда надо и как положено …
Тишайший хотел сказать: «Понял» и ещё раз поблагодарить за спасение старца, протер глаза и с изумлением отметил, что никого не видит пред собой. С кем же он говорил? Кто же ему ответствовал и давал ценные советы по спасению Русского Отечества? Может, все Тишайшему привиделось, как во сне, и послышалось там же? Конечно, таинственный диалог состоялся в мысленном воображении, ведь его уста не разверзались в силу того, что онемели и обледенели в мгновенья до гибели и сразу же после чудотворного спасения.
Тишайший поспешил в обитель и, первым делом припал на коленях к иконе основателя обители Саввы Сторожевского, к чудотворной иконе, написанной, согласно старинному преданию, одним из первых учеников святого Саввы, игуменом Дионисием. Положа руку на сердце, не мог достоверно признаться Тишайший, кто его спас – Савва, или какой другой призрак из поднебесья или преисподней?
Глянул зорко Тишайший на лик преподобного Саввы на чудотворной иконе – он ли, святой? – так и пал на лицо свое. Мгновенно понял, кто был его спасителем от верной погибели в недружеских объятьях медвежьих. Признал Тишайший по иконному образу святого в своём чудотворном спасителе преподобного старца Савву. Вспомнил их разговор после спасения, прокрутил ещё раз мысленно в своем мозгу, – не раз и не два, а многажды. За что зацепилась мысль Тишайшего царя? А за то, что идея открытия мощей святого Саввы не была так уж оригинальна и нова. Вспомнил слухи о том, что первой хотела вскрыть мощи Саввы царица Марина Мнишек, так ее надоумил первый Самозванец, Лжедмитрий I, чтобы поднять авторитет самодержца на московском престоле среди православных верующих московской царицы-латинянки.
Вспомнил царь Тишайший рассказы своего отца Михаила о том, что патриарха-государя Филарета, возвращающегося из польского плена, также торжественно встречали в Саввино-Сторожевском монастыре. И все предки Тишайшего, соправители Руси Московской Филарет Никитич и Михаил Федорович надеялись на помощь святого Саввы в укреплении порушенного в Смутное время государства. А тут не иносказания и надежды, а реальные таинственные события вмешательства Саввы Сторожевского в правление второго царя династии Романовых, несшей через Филарета прямую ответственность за Смуту в Русском государстве, появление корыстных, амбициозных иноземных претендентов на трон и Лжедмитрия I, (назначившего Филарета митрополитом) и Лжедмитрия II (назначившего Филарета патриархом).
Тишайший царь, потрясенный своим чудотворным спасением, и поразительным сходством иконного образа святого Саввы и старца в монашеском одеянии, отогнавшим назад в берлогу разъяренного медведя-великана, тотчас отправил гонца к митрополиту Никону, с приказом тому срочно приехать в Саввино-Сторожевский монастырь. Уже 14 декабря Никон покинул Новгород, около Торжка его встретил второй царский гонец с новым наказом: спешить в обитель для вскрытия мощей святого Саввы, умершего в 1407 году, лежащего под спудом почти 250 лет. Ведь преподобный Савва Сторожевский, которого как чудотворца почитали местно, был канонизирован по почину и инициативе монастырской братии и митрополита Макария на церковном соборе 1547 года.
Тишайший подробно рассказал о случившемся на охоте и своем чудотворном спасении святым Саввой прибывшему из Новгорода к нему митрополиту Никону. Тот вскинулся:
– Этого не может быть…
– Может быть, владыка…
– Неужто сам святой преподобный Савва Сторожевский тебя спас от медведя, государь?
– Да, Сам Савва Сторожевский, инок и основатель этого чудного монастыря… Я сам припал к иконе Саввы… Иконный образ и тот лик спасителя, что у меня в мозгу сохранился, совпали…
– Совпали?..
– Совпали, владыка…
Тишайший царь хотел тут же рассказать Никону о совете святого идти на Смоленск. Но благоразумно решил идею «торжества православия» после губительного для него Смутного времени не мешать в кучу со «Смоленским вызовом».
– Значит, пора заняться открытием и освидетельствованием мощей святого, государь…
– Пора, владыка… Мощи должны быть нетленными, потому что я лично видел нимб святого над головой преподобного старца-спасителя…
– Обретение мощей всё покажет, государь…
Мощи святого Саввы, лежащие под спудом более 250 лет, оказались нетленными. Тишайшего больше всего поразил факт, что святой Савва, почивший в декабре 1407 года спас его в те же самый декабрьский дни декабря, через 244 года. «Надо же в один и тот же месяц, – размышлял Тишайший, – к чему бы это, может быть, я тоже к чему-то призван Провидением для великих дел Отечества, начиная со Смоленска?»
19 (29 по новому стилю) января 1652 года по инициативе царя Алексея Михайловича Тишайшего, придавшего особое государево значение Саввино-Сторожевского монастырю, состоялось обретение нетленных мощей первого инока и первого игумена обители святого Саввы Сторожевского. Тишайший поручил митрополиту Никону и патриарху Иосифу переустройство обители с построением палаты своего имени. С того знаменательного времени правления Алексея Михайловича Тишайшего обитель получила статус Лавры, то есть крупнейшего мужского монастыря, обнесённого высокими толстыми «непробиваемыми» стенами, имеющего особенное историческое и духовное значение для православного Отечества.
2. Обретение и перенос мощей страстотерпцев
Духовно-нравственную атмосферу русского общества середины 17 века так или иначе определяло лихолетье Смутного времени с его поголовным предательством верхов и низов, многочисленным изменам присягам разным властителям от царей Годунова и Шуйского, до королевича Владислава и двум Лжедмитриям. Русские православные люди отлично в глубинах памяти осознали, что за совершенные грехи, изменам присяге и страшные шатания в христианской вере они свыше были наказаны Смутой. А очиститься от Смуты в государстве и в каждой русской душе совсем не просто и даже опасно, болезненно, ибо Господь Бог наказует всех и каждого за попустительство злодеяниям Смуты, от неумения сплотиться в православной вере и действовать дружно ради победы над злом, изгнания из русской души дьявольщины.
Но церковные пастыри и книжники напоминали верующим, что в русской душе за время Смуты грехов накопилось столь много, что они «аки волны морские: едва погибнет одна, другая встаёт, неся также наши новые беды и греховные напасти». Раны русской души, полученные в Смутное время, ещё сильно кровоточили. Даже при случившемся вовремя всенародном покаянии и завершении русско-польского противостояния в начале 17 века Деулинским перемирием 1619 года было еще далеко от спасительного благочестия и благочиния Московского государства царя Тишайшего. Многие тайны предательской и разрушительной деятельности патриарха Филарета Никитича и партии Романовых в разжигании Смуты и поддержки польской короны всплыли так или иначе ко времени кончины первого царя династии, Михаила Федоровича Романова и воцарения второго царя 16-летнего Алексея Михайловича Романова, который сам себе придумал прозвание Тишайший, эквивалентному «Всемилостивейшему».
Богобоязненный и религиозный с раннего детства Тишайший царь, благодаря своим благочестивым учителям, в первую очередь боярина Бориса Морозова, жил идеей возрождения порушенного Смутой «последнего и единственного православного царства». Да, бури лихолетья Смуты к воцарению Тишайшего улеглись, – только где зарок, что в правление Тишайшего грешное безверие и не менее грешное поголовное предательство в пользу Польши не подымет новые опасные и смутные волны?.. И религиозный Тишайший принял самое живое и непосредственное участие в возрождении православия, которому был придан государственный политический смысл: требовалось возрождение Православного царства под скипетром Романовых при походе русского войска в Смоленские и Литовские земли и взятие утерянного при царе Шуйском старинного Смоленска – западного форпоста.
И здесь главную роль сыграли приязнь Тишайшего к Саввино-Сторожевской обители первого инока-игумена Саввы и мистическая встреча царя со своим спасителем от медведя-великана святым Саввой. Ведь здесь важен не сам факт чудотворного спасения Тишайшего Саввой, а то, что в многочисленных рассказах царя всегда фигурировало слетевшее с его слов призывное напоминание: «На Смоленск, царь Тишайший». Как тут не поверить молодому, полному сил и амбиционных устремлений царю слушавшим его вельможам и воеводам? Своими рассказами о завете святого Саввы отвоевать у поляков Смоленска, взять его назло всем внутренним и внешним негативным обстоятельствам, Тишайший руководствовался амбиционным целям придать общегосударственное значение обретению и поклонении мощам святого – до и после взятия Смоленска. Таким образом, новая царская династия Романовых через богобоязненного Тишайшего, почитая старых, любимых народом святых, стремилась поставить на службу государству «своего, Романовского» святого.
Но царь Тишайший, успешно завершив процедуру обретения мощей святого Саввы в любимой обители, вместе с Никоном, возжелал по-своему замолить грехи своих предков, деда Филарета и отца Михаила. Через своего рода процедуру покаяния перед страстотерпцами, загубленными во время Смуты начала 17 века, с перенесением их мощей в кремлевский Успенский собор из мест кончины и заточения мучеников.
После обретения 19 января мощей святого Саввы, возложения их в новую дубовую гробницу Тишайший, находясь возвышенно-эмоциональном состоянии, вдохновившись призывом «на Смоленск!», царь высказался в присутствии Никона за продолжение церковных торжеств в целях возрождения православия под скипетром Романовых. Царь и митрополит благоразумно пришли к консенсусу: было решено перенести в Успенский собор прах трех выдающихся московских архипастырей-страстотерпцев – патриархов Иова и Гермогена и митрополита Филиппа (Колычева). Подбор имен выдает грандиозный замысел устроителей церемонии. То были иерархи-страстотерпцы, принявшие мучения и смерть в Смутное время за православную веру и церковь.
Иов был первым патриархом в истории Руси и России, тесно связанным с первым, выбранным на земском соборе царем Борисом Годуновым. Естественно, что восторжествовавшему Лжедмитрию Первому, возведенному на трон, благодаря, партии Романовых и, в первую очередь, лично Филарету Никитичу Романову, Иов оказался неугоден Самозванцу. По приказу Лжедмитрия и при содействии бояр предателей патриарх Иов был сведен с патриаршего престола и отправлен в заключение в родной Старицкий монастырь, где быстро скончался в забвении в 1607 году.
Другим страстотерпцем, выделенным Царем и Никоном, стал московский патриарх Гермоген, отличавшийся необычайной твердостью и силой духа. Будучи казанским митрополитом, он осмелился требовать перекрещивания из латинской в православную веру супруги Лжедмитрия, царицы Марины Мнишек, венчанной на царство, за что поплатился унизительной ссылкой и заточением. Возведенный при Василии Шуйском в патриархи, Гермоген оказался чуть ли не единственным, кто осудил низложение царя-неудачника Шуйского. Не потому, что питал слабость к «боярскому царю», а потому что предугадывал пагубные последствия подобного царствования «полу-царя», правившего страной «на равных» вместе с боярской думой.
Когда настал черед избрания на московское царство польского королевича Владислава, то Гермоген выставил непременным условием принятие королевичем православной веры. Нарушение польской стороной этой статьи позволило патриарху освободить русских людей от крестоцелования Владиславу. Тогда же Гермоген призвал всех православных к защите их святой веры и к борьбе с польскими интервентами, введенными предателями-боярами из Семибоярщины в Кремль. Призыв не остался не услышанным народом: ранней весной 1611 года под Москвой появилось Первое ополчение Ляпунова. Позднее, после распада Первого ополчения, когда для очищения столицы в Нижнем Новгороде было создано новое Второе ополчение Минина-Пожарского, то польские воеводы, и их сторонники из числа русских «бояр-доброхотов» стали понуждать патриарха отказать ополченцам в церковном благословении. Гермоген в ответ пригрозил анафемой противникам войска под началом Пожарского. Дело дошло даже до обнаженного ножа в руках предателя Михаила Салтыкова, с которым тот бросился на патриарха, – но тот не дрогнул, оборонился животворящим крестом и проклял своих мучителей-предателей. Тогда предатели православия, «бесчестно связавши столпа веры», сволокли с патриаршего двора пассионарного Гермогена в Чудов монастырь, уморили голодом. Непокоренный и не смирившийся с боярской изменой он умер в феврале 1612 года, не дождавшись победы Второго ополчения.
Митрополит Филипп Колычев был едва ли не единственным иерархом церкви, который осмелился публично выступить против бессудных опал и казней царя Ивана Грозного. Непокорный митрополит Филипп исполнил свой христианский долг, осудив неблагочестивые деяния Грозного царя. Это потребовало немалого человеческого мужества. По приказу царя послушные иерархи низвергли Филиппа. Бывший митрополит был сослан в Тверской Отрочь монастырь. Но мстительный царь и здесь не оставил строптивого старца в покое. В декабре 1569 года царский любимец Малюта Скуратов явился в келью Филиппа и, исполняя волю главного опричника страны, задушил его подушкой. В 1591 году по челобитью Соловецкой монастырской братии останки Филиппа, бывшего некогда игуменом северной обители, перевезли из Отрочь монастыря на Соловки, в церковь Зосимы и Савватия.
Имея в сонме своих святых таких святителей-страстотерпцев, православная церковь превращалась в национальный символ, в твердого охранителя истинного христианства и Правды, причем не только от иноверцев, но и от собственных предателей и мучителей, преступавших божественные заповеди. Последнее почему-то особенно привлекало честолюбивого митрополита Никона, отстаивавшего априорное право церкви на религиозно-нравственную оценку деяний светской власти и даже деяний самого государя Тишайшего. Канонически само это право не ставилось под сомнение. Другой вопрос, что в конкретной политической практике оно давно было вытеснено раболепием церковных иерархов. Опальный и загубленный страстотерпец Филипп тем и привлекал Никона, что не побоялся воспротивиться Грозному царю, который считал себя исполнителем божественной воли. Митрополит же Никон, видя, что он в фаворе у Тишайшего царя, вдохновленного призывом святого Саввы «на Смоленск», готов был идти даже дальше после взятия царем Смоленска.
Митрополит Никон, с видами на патриарший престол, занимаемый пока болезненным недеятельным Иосифом, напомнил Тишайшему царю: через перенесение в Успенский кафедральный собор мощей Филиппа из Соловков о праве церкви (под надзором патриарха) оценивать и выносить приговор светским правителям не только в условиях чрезвычайных, опричных, но и повседневной жизни. Это, конечно, насторожило Тишайшего, но ему до похода на Смоленск необходимо было установить доверительные отношения с высшими иерархами церкви, прежде всего, с Иосифом и Никоном. Смоленск вместе с отбитыми у Польши исконными русскими землями, находившихся под литовским и польским правлением латинян, должен стоять во главе возрождения православия царя Тишайшего.
В то же время из вышесказанного понятно, почему честолюбивый и амбициозный Никон, мечтающий о восшествии на патриарший престол, приложил столько усилий, чтобы придать культу святого страстотерпца Филиппа общерусское всенародное звучание и поставить его в ряд особо чтимых святых владык при великих князьях, московских Рюриковичах – митрополитов Петра, Алексея и Ионы. До почина Никона имя страстотерпца Филиппа хотя и упоминалось в церковных службах, но по своей чести нисколько не приравнивалось к трем московским митрополитам-чудотворцам. Чтобы добиться своего, Никону пришлось убеждать царя Алексея Михайловича в особом величии страстотерпца-митрополита Филиппа, указующего и совестившего Ивана Грозного. С признанием факта канонизации страстотерпца Филиппа, выдвижения его в первый ряд почитания московских святых, дальнейший порядок действий определялся автоматически. Когда в канун окончания рождественского мясопуста наступали поминальные дни и во всех церквях служили панихиды по прежним государям и митрополитам, царь Алексей Михайлович Тишайший имел обычай прощаться с «предками» и первосвятителями на их гробницах. Но гробница такого великого святителя, как митрополит Филипп, за дальностью раньше была недоступна для моления и поклонения Тишайшего. Это следовало исправить – и Никон это оперативно исправил. Так уж получилось в возрождающемся православном царстве Тишайшего царя, что того в походе на литовско-польский Смоленск теперь призывал не только святой Савва Сторожевский, спасший царя от физической погибели, но и страстотерпец святой Филипп вместе со святыми страстотерпцами Иовой, Гермогеном, постоянно взывавшими к совести богобоязненного Алексея Михайловича Романова.
Высокий, стройный и румяный царь Тишайший опасливо и внимательно с высоты своего роста поглядел сверху вниз на Никона и меланхолично подумал: «Сейчас до Смоленского похода мы с ним союзники, а что будет после: будет совестить царя за нерасторопность при осаде Смоленска, при неудачах военных, а то и при победах, напоминая о своих жалобах и печалях – и все это не вовремя и, наверняка, против шерсти, не так ли?»
Никон выдержал прямой пронизывающий взгляд Тишайшего царя, покачал головой и свистящим шепотом начал свои таинственные нравоучительные речи:
– И так без новых церковных хлопот тяжко болел владыка Иосиф… Совсем невмоготу стало патриарху нашему, государь, после встречи мощей святителя Иова, любимца Годунова, первым на московском престоле удостоившегося сана патриарха всея Руси… К чему это я, государь завел свои речи?
– Да, к чему? – невольно еле слышно повторил Тишайший.
– А к тому, что двум патриархам тесно оказалось в Москве, даже если от одного патриарха Иова остались одни нетленные косточки… Заболел владыка Иосиф, лихорадка трясла его сильно. Но к Вербному Воскресению полегчало ему…
– Я знаю.
– Не жилец он, – констатировал Никон.
– Может быть, выкарабкается?..
– Вряд ли… А ведь ещё мощи святого Филиппа надо будет встречать в Успенском соборе… Новое потрясение… Может не вынести владыка нового душевного потрясения… Но всё же тебе, государь надо приготовиться вести осла патриарха на праздник Входа Господня в Иерусалим… Только сдаётся мне, что отдаст Богу душу наш любимый владыка Иосиф на Страстную неделю…
– Типун тебе на язык!
– И будет печалиться и гадать наш православный люд – к чему это, к худу или добру смерть патриарха в Страстную Седмицу…
Как накаркал Никон: «на злую силу поехал Иосиф на осляти» на праздник Входа Господня. Причем сам царь Тишайший «вел осла Патриарха Иосифа». Во вторник Страстной недели Иосиф владыка Иосиф отпевал жену вельможи Плещеева, только «отпевал на злую силу, весь черен в лице», как заметил присутствовавший на отпевании Тишайший. В среду Страстной недели в апреле 1652 года Алексей Михайлович сам навестил патриарха в его патриарших покоях и пожелал скорейшего выздоровления, чтобы тот самолично благословил его перед Смоленским походом…
Да какой там благословить на «Смоленский вызов»… Силы жизненные покидали патриарха всея Руси Иосифа, правившего церковными делами на патриаршем престоле 10 лет с 1642 по 1652 года. В Великий Четверг 15 апреля беспамятного и онемевшего патриарха исповедовал его духовник, Иосифа причастили и соборовали.
Когда началась вечерняя служба в Успенском соборе, тогда во время пения «Вечере Твоей Тайне» патриарх Иосиф тихо почил. И его смертельный сон уже не разбудил ударивший трижды Царь-колокол Кремля. Москвичей обуял великий ужас почему-то, поскольку патриарх покинул свою паству в знаковые последние дни Страстной Седмицы. На следующий день в Великую Христову Пятницу ещё до «Царских часов» тело патриарха Иосифа было перенесено в храм Ризоположения. А в Великую Субботу он был погребен в Успенском соборе после литургии – причем похоронили Иосифа рядом с первым Русским Патриархом Иовом, мощи которого скоро будут перенесены сюда из Соловецкой обители…
Ревнители церковного благочестия предложили сан патриарха Стефану Вонифатьеву, но тот благоразумно отказался, догадываясь, кого хочет видеть на патриаршем престоле царь Тишайший. И уже 25 июля 1652 года митрополит Никон был торжественно возведён на патриарший престол после того как Тишайший сделал предложение Никону о восшествии на патриарший престол перед гробницей патриарха Иова. Самое интригующее в интронизации нового патриарха было то, что Никон вынудил Тишайшего царя дать обещание не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ православный поклялись «послушати его во всем, яко начальника и пастыря и отца краснейшого».
Но ходили по Москве опасные народные слухи, что недаром случился ужас смерти патриарха Иосифа в Великий Четверг Тайной Вечери и предательского поцелуя Христа Иудой – а вдруг этот Иуда и есть новый патриарх Никон? – тем более странный срок смерти Иосифа, когда неожиданно и зловеще ударил трижды Царь-колокол, до этого долго и бестрепетно молчавший… К чему бы все это?..
3. Смоленские поражения воеводы Шеина
В Можайск Тишайший прибыл 26 мая, там же перед иконой святого Саввы Сторожевского написал короткое письмо сёстрам: «Из Можайска пойдём 28 числа: спешу, государыни мои, для того, что, сказывают, людей в Смоленске и около Смоленска нет никого, чтобы поскорей захватить город». Написав это и задумчиво глядя на икону Саввы перед собой, Алексей Михайлович загадал: если знамение святого и предсказание святого «на Смоленск» сбудется – русские царские полки войдут в Смоленскую крепость! – то он пожалует деревню Нару с прилегающими землями Саввино-Сторожевской обители.
Но для этого всего-то надо сделать ерунду – ничего! – захватить крепость Смоленска, которую выстроил Годунов, в стенах и под стенами которой дважды потерпел поражение сильный и смелый воевода Михаил Борисович Шеин, любимец деда патриарха и соправителя государства Филарета, казненный отцом царём Михаилом 15 февраля 1634 году.
«Всего двадцать лет назад казнили Шеина, когда мне было всего пять лет, деда Филарета к тому времени не было на белом свете уже три месяца. – Так думал Алексей Михайлович, глядя на икону Саввы. – Но ведь моему отцу Михаилу близкие бояре-интриганы вывернули руки, заставив того казнить Шеина, патриарх Филарет, будь он жив, не допустил бы казни своего любимца, с которым 8 лет был вместе в польском плену. Мало ли, сколько русских воевод терпели жестокие поражения, но ведь их властители не лишали жизни, прощали, а Шеину двойного поражения в Смоленске, за стенами обороняемой крепости и под стенами осаждаемой крепости не простили… Значит, непросты жестокие отметины Смуты и не менее жестокие уроки её в русских душах, в памяти о героях и предателях, поддавшихся польским завоевателям-победителям, Смутного времени. Только теперь в Смоленских и Литовских землях надобно брать реванш за пошлые поражения Руси, в частности, за поражения Шеина».
В размышлениях: почему отец Михаил казнил любимца деда Филарета Шеина, Тишайший, глядя на икону Саввы, задался мучавшим его уже полтора года вопросом: почему медведь – Миша, Михаил – проснулся в берлоге, вышел на меня, напугал, заставил онеметь до спасения меня святым Саввой? И ответил на поставленный свой вопрос утверждением в странной вопросительной форме, зная, что в лесных зверей иногда перетекают души умерших людей: а вдруг это отец благочестивый, но болезненный при жизни батюшка Михаил в образе медведя на задних лапах захотел напомнить о себе, зная свою вину с казнью Смоленского пораженца Шеина. Недаром спасший меня преподобный старец в монашеской одежде, назвавшийся иноком Саввой, призвал идти на Смоленск, брать реванш за двойное поражение Шеина в стенах и под стенами крепости…
Не отлегло на сердце у Тишайшего… Он стал вспоминать, что ему известно о пораженце Шеине, его Смоленских баталиях по рассказам отца, наставника Морозова, других свидетелей печальных событий Смутного времени… В начале 1607 года Шеин стал боярином. В конце 1607 года он был назначен воеводой Смоленска и возглавлял Смоленскую оборону (1609–1611). При взятии польско-литовскими войсками Смоленска (3 июня 1611) раненый Шеин попал в плен, был увезен с семьей в Польшу, там сблизился с уважающим его Филаретом. Вернувшись в Россию в 1619 году, стал одним из ближайших к патриарху Филарету лиц. В 1620–1621 и 1625–1628 годах Михаил Шеин возглавлял один из сыскных приказов, в 1628–1632 годах – Пушкарский приказ. В конце 1620-х и начале 1630-х годов Шеин участвовал во многих дипломатических переговорах по поручению царя.
В июне 1632 года истекал срок Деулинского перемирия, и Россия готовилась к реваншу, чтобы вернуть Смоленскую и Северскую земли. Как по заказу, в апреле 1632 года умер король Сигизмунд III, и в Речи Посполитой наступило бескоролевье. Царь Михаил Фёдорович и Боярская Дума решили не терять время и приговорили начать войну. Главным воеводой назначили боярина Михаила Шеина. Предполагалось, что он вместе с Пожарским будет командующим русской армией в Смоленской войне. Но Пожарский заболел, и единоличное командование русской армией в Смоленском походе взял на себя Шеин. В августе 1632 года русское войско перешло границу Речи Посполитой и в октябре-декабре овладело многими городами Смоленщины и Северщины. Из-за распутицы и медленного подвоза припасов 32-тысячное войско Шеина подошло к Смоленску только в конце января 1633 года Промедление позволило полякам подготовить крепость к осаде. Осада Смоленска русскими во многом повторяла его осаду поляками в 1609–1611 годах. Осажденные держались стойко и два приступа (в мае и июне) были отбиты. Между тем в феврале 1633 года закончилось бескоролевье в Речи Посполитой, королем был выбран сын Сигизмунда III Владислав IV. Король спешно собирал армию и, чтобы выиграть время, подговорил запорожцев и крымского хана совершить в июле набег на Южную Россию. Обеспокоенные дворяне южных земель тысячами покидали войско Шеина и возвращались охранять родных и близких. Собрав армию в 23 тыс. человек, Владислав в августе 1633 года блокировал русские полки под Смоленском. Воевода обратился в Москву за помощью: царь и бояре помощь обещали, но так ничего не сделали. Шеин дал несколько решительных сражений Владиславу, но не смог снять блокаду.
Наступила зима. Голод и холода расшатали мораль московского войска, особенно немецких наёмников; начались болезни и неповиновения воеводе. Зная о бедственном положении русских, Владислав послал Шеину грамоту, с увещанием обратиться к его милости, а не гибнуть от меча и болезни. Шеин возвратил грамоту без ответа, указав, что в ней «непригожие речи». Шеин написал царю о возможности заключения перемирия, на что царь Михаил согласился. 1 февраля 1634 года царь получил от Шеина последнюю отписку, что ему и ратным людям от польского короля утеснение и в хлебных запасах и в соли оскуденье большое. На этот раз царские войска в Можайске и Калуге получили приказ о выступлении под Смоленск. Но было поздно: 16 февраля 1634 года Шеин заключил с королем Владиславом невыгодный Москве договор о сдаче своего войска.
Условия договора о сдаче войска были весьма мягкие. Ратные люди, московские и иноземные воины могли по собственному добровольному усмотрению перейти на службу к королю польскому или вернуться домой. Те, кто идут домой, должны целовать крест, обязуясь четыре месяца не служить в русской армии и выступать против короля. Пушки (а их было всего 107 штук) с припасами и оружие убитых должны были достаться полякам. Войско Шеина должно было выйти из Смоленской крепости с опущенными знаменами, с погашенными фитилями, без барабанного боя. При этом знаменосцы обязаны были дойти до места, где находится король Владислав, положить знамена у ног короля и отступить на три шага. По знаку польского гетмана русские воины могли забрать свои знамена, потом зажечь фитили, бить в барабаны, чтобы отправиться в путь восвояси. С собой дозволено взять только двенадцать пушек из 107. 19 февраля 1634 г. Шеин с остатками войска выступил в путь. С ним шло 8056 человек, 2004 больных остались под Смоленском; для их пропитания передано 60 четвертей муки, сухарей и круп. Из русских королю Владиславу согласились служить только восемь человек, из них шестеро казаков, зато королю присягнула почти половина из 2140 немецких наемников.
В Москве воевод побеждённого русского войска Михаила Шеина и Артемия Измайлова уже ждали для допроса с пристрастием. На беду воеводы покровитель Шеина патриарх Филарет к тому времени недавно умер (1 октября 1633 года) и заступиться за него было уже некому. Бояре люто ненавидели Шеина за его высокомерие и презрение к тем, кто прятался с поляками в Кремле от ополчения Пожарского. Но особенно за то, что не прочь был напомнить их трусость, измены и нерадение во время Смуты. 18 апреля 1634 года царь Михаил с думскими боярами слушал «дело о Шеине и его товарищах». Шеина обвинили в неудачном переходе к Смоленску, что он потерял лучшую пору и позволил литовским людям укрепить крепость, а также был небрежен при нападениях неприятеля. А именно, государю всю правду не писал; приступы проводил не ночью, а днем, не слушал советы своих полковников, обесчестил имя государя тем, что положил перед королем царские знамена. Припомнили Шеину, что утаил от царя, как 15 лет назад, в плену, целовал крест королю не воевать против Литвы.
Первое и самое главное обвинение Шеину было в том, что он, отправляясь на службу, пред государем «вычитал прежние свои службы с большой гордостью», а о боярах говорил, что пока он служил, «многие за печью сидели и сыскать их было нельзя». Обвинили Шеина и в том, что тот выдал врагу литовских перебежчиков. Сходные обвинения выдвинули против воеводы Измайлова. Сын его, Василий, «больше всех воровал» – на пиру с поляками говорил поносные слова: «Как может наше московское плюгавство воевать против такого польского монарха Владислава?»
Было поставлено: Шеина и Арсения Измайлова с сыном Василием казнить, а поместья их, вотчины и все имущество взять на государя; семейство Шеина сослать в понизовые города. 28 апреля осужденных отвезли за город «на пожар», место казни преступников, и там перед плахою дьяк прочитал обвинения. Царь для государева и земского дела не хотел его оскорбить и смолчал, зато злокозненные бояре «не хотя государя тем кручинить, также… смолчали».
По зачтении обвинений всем троим, Шеину и Измайловым отцу и сыну моментально отрубили головы. Палач, подойдя к краю помоста, поднял обе головы над толпой, чтобы хорошо видели все: пусть замолчат те, кто толкует о том, что московскому люду не под силу стоять против польского короля; пусть Польша полюбуется на плоды своего рыцарского великодушия. «Пусть польско-литовский Смоленск ждет новую рать и пусть знает, что, если даже вся Смоленская дорога превратится в сплошное кладбище, Смоленск всё же будет русским» – вот об этом народном мнении во время казни Шеина и Измайловых почему-то вспомнил Тишайший царь, глядя на икону святого Саввы в Можайске.
И ещё как-то горестно и зябко вспомнилось Тишайшему замечание его отца Михаила, что казнь Шеина в московском народе встретили без всякого воодушевления, мол, снова когда-то придется идти на Смоленск отбивать его у польских и литовских воинов. Многие помнили о подвигах Шеина во время Смутного времени. Царю Михаилу доложили его разведчики в Литве, что некий московский сын боярский Иван рассказывал гетману литовскому Радзивиллу, что «на Москве Шеина и Измайлова казнили, и за это учинилась в людях рознь великая». Об этом отец Михаил рассказывал сыну-царевичу Алексею, и ещё без всякого нравоучения, но с горестью. Мол, бояре выговорили изменникам: «А когда вы шли сквозь польские полки, то свернутые знамена положили перед королем и кланялись королю в землю, чем сделали большое бесчестие честному государеву имени».
– Это говорили о бесчестии имени царя, запомни сын, не должно быть бесчестие русского царя. Бесчестие надо смывать воинской и даже царской кровью. И непременно надо отбить у короля Смоленск, что не удалось сделать дважды пораженцу, несчастному Шеину. Понял, сын?
– Понял, отец, – еле слышно прошелестел губами тогда царевич Алексей. – Надо взять Смоленск и смыть бесчестие с царского имени…
А ещё в Можайске, любимом Николином граде царя Ивана Грозного перед вдохновившей царя Тишайшего иконой святого Саввы на новый Смоленский поход 1654 года, через десять лет после неудачного похода Шеина, думал о судьбе казненного. Справедливо или несправедливо казнил отец Михаил своего преданного воеводу. «За измену царю» – звучит хлёстко и жутко, но неверно, по сути. В святой Руси практически не казнили воевод за неудачу в битве и даже за сдачу в плен. Казни Ивана Грозного составляли скорее исключение из правил, но, опять же, он обвинял бояр в заговорах и чернокнижии, а не в проигранных сражениях. Тем более не казнили воевод при следующих царях. Первый избранный царь Борис Годунов даже наградил боярина Мстиславского, позорно разбитого под Новгородом-Северским малым войском самозванца. Дмитрия и Ивана Шуйских, бросавших вверенные им войска во время боя при Клушино и других битвах, казнили бы в любой европейской стране, однако они избежали и казни, и даже какой-либо опалы…
Алексей Михайлович никогда бы не поступил так жестоко с воеводой Шеиным: и не судил бы, тем более, не казнил бы под давлением бояр. История подтвердить добрый нрав Тишайшего в этом отношении к любимым его воеводам. Всего через шесть лет после их совместного Смоленского похода, воеводе Василию Шереметеву в 1660-м году придётся сдаться в плен полякам и татарам со всей 17-тысячной русской армией. И не на почетных условиях, как Шеину, а обещав отдать врагам завоеванные ранее Киев, Переяслав-Хмельницкий и Чернигов и заплатить дополнительно 300 тыс. рублей золотом. При этом татары, тут же нарушив договор, перебили всех безоружных русских, а Шереметева взяли надолго в «почетный плен». И что же Алексей Михайлович? Он попытается выкупить за огромные деньги у крымского хана воеводу и будет всячески его ободрять в письмах, мол, выкупим всё равно. Уже после смерти царя Тишайшего воеводу Шереметева всё же выкупят по завету царя Тишайшего. При этом никто из вельмож, по воле Тишайшего, не сказал ни единого плохого слова воеводе «про измену» государю…
А несчастного Шеина судили и казнили не за измену, не за поклон знаменам королю и сдачу врагу около 100 пушек не для укоризны полякам, а за «кровные обиды» боярам смелым независимым воеводой. Хотя тот сказал им чистую правду, ведь бояре во время Смуты на самом деле бегали из лагеря в лагерь и «кривили», а за Россию сражались немногие и лучшим из них (вровень со Скопиным и Пожарским) был смелый Михаил Борисович. На его беду, после смерти Филарета царь Михаил вновь попал под влияние Салтыковых (родичей по матери Евдокии) по роду Романовых, известному главным образом предательствами во время Смуты. Тут же были и ненавидящие Шеина и другие родичи Романовых Лыковы. Царь Михаил, не слишком самостоятельный, пошел на поводу у бояр, нагородивших два лишних трупа, отца и сына Измайловых, лишь бы уничтожить Шеина.
«Казнь воеводы Шеина, пусть и дважды пораженца в Смоленске ложится несмываемое пятно на память о добродушном, но слабом моем батюшке Михаиле Фёдоровиче. – Так размышлял в Можайске Тишайший у иконы Саввы, вдохновившей его на новый Смоленский поход. – Надо и за честь Романовых постоять и смыть клеймо изменника со смелого, но неудачливого воеводы-пораженца Шеина».
И сразу по выезде из Можайска написал в письме к князю Трубецкому о своих огорчениях по поводу своих высокопоставленных подданных, которых он лишил покоя своим новым Смоленским походом, памятуя о Шеине и имени царском – почившего отца и о своем имени:
«У нас едут на Смоленск с нами не единодушием, наипаче двоедушием, как есть облака: иногда благопотребным воздухом и благонадежным и уповательным явятся. Иногда зноем и яростью, и ненастьем всяким злохитренным и обычаем московским явятся, иногда злым отчаянием и погибель прорицают, иногда тихостью и бледностью лица своего отходят, лукавым сердцем. Коротко вам пишу, потому что неколи писать, спешу в Вязьму. И мне уже Бог свидетель, какого становиться от двоедушия того, отнюдь упования нет. А потом здравствуйте и творите всякое дело с упованием к творцу своему и будете любовны между собою, ей Бог с вами, а ко мне, если не его светлая милость, ей сокрушение бы моему сердцу малодушие оных».
4. До Земского собора и Переяславской рады 1654 г.
Первую приятную весть Тишайший получил на пути из Царева-Займища к Вязьме 4 июня. Заслышав о приближении царского войска, толпы вяземских охочих людей пошли силой на Дорогобуж. И вынудили бежать оттуда без боя струхнувших польских ратников в Смоленск, а посадские местные жители вынужденно сдали Дорогобуж под власть сильного и справедливого по народным слухам царя Московского.
Приятная весть навела Тишайшего на любопытные размышления. Ведь сразу после смерти отца Михаила 13 июля 1645 года и его восшествия на престол летом этого года до царя Тишайшего дошли от его московских послов и разведчиков в Польше о сильном казацком полководце Богдане Хмельницком в стане короля Владислава. В 1646 году король без согласия на то сейма решил развязать войну с Турцией руками казацких старшин, одним из которых был Хмельницкий. Казацкое войско должно было развязать войну с Османской империей, якобы по своей собственной воле, а за это получало охранную грамоту, восстанавливающую их ущемлённые сеймом права и привилегии. Узнав о тайных переговорах короля с казаками, сейм воспротивился осуществлению тайных планов короля начать войну с турецким султаном казацким войском. Но охранная грамота короля каким-то таинственным образом оказалась в руках Хмельницкого, причем некоторые противники Хмельницкого из польского окружения короля, в оправдание его перед сеймом, даже утверждали, что эту грамоту писарь Богдан подделал, чтобы придать законность скорым казацким восстаниям за их права и привилегии казаков.
По дороге из Вязьмы в «свой» Дорогобуж Тишайший получил новую приятную весть о сдаче царским войскам Невля 11 июня. А уже в Дорогобуже 14 июня Тишайший получил радостное известие о сдаче Белой. До первой сшибки передового полка царских войск с поляками на реке Колодне под Смоленском 26 июня у Тишайшего было время продолжить размышления о «казацком факторе Хмельницкого», позволившим царю начать Смоленский поход без формального объявления войны Польше с нарушением перемирия.
Во время отсутствия Хмельницкого дома, его ненавистник польский ротмистр и чигиринский подстароста Даниэль Чаплинский весной 1647 года напал на домашний хутор Богдана Суботов, захватил там всё имущество, скот и хлебные запасы Богдана. Слуги Чаплинского избили до полусмерти младшего сына Хмельницкого, десятилетнего Остапа, а прислуживающую заболевшей первой жене Богдана Анне православную сироту Гелену (ставшую после смерти Анны любовницей Богдана) Чаплинский увёз с собой, чтобы венчаться с ней по католическому обряду. А причина вражды Даниэля Чаплинского к Хмельницкому была анекдотичной: несколько лет назад Чаплинскому был поручен надзор за крепостью Кодаком, возведенной французскими инженерами на Днепре близ Запорожья. На вопрос Даниэля случайно там находившемуся Богдану: «Точно ли крепость Кодак неприступна?», тот пошутил на публике: «Всё, созданное руками человеческими, может быть ими же и разрушено, ибо одно Божие творение прочно». За этот ответ Чаплинский попытался арестовать Богдана, но тот в первый раз вывернулся и пожаловался королю, и тот повелел за своеволие с королевским офицером отрезать Чаплинскому один ус. Тот затаил обиду на Хмельницкого, но вызверился на сыне малом «батьки Хмеля» и Гелене.
Узнав о надругательстве над сыном и Геленой, о разорении дома, Хмельницкий подал в суд на Чаплинского, но власти отклонили на этот раз вторую судебную жалобу. А самого Хмельницкого Чаплинский бросил в тюрьму по голословному подозрению в подготовке казацкого бунта в его землях. Только благодаря заступничеству Гелены Чаплинской перед ее свирепым супругом Богдан был временно отпущен из тюрьмы на волю, чем и воспользовался для своего побега в Запорожскую Сечь – без всякого желания больше жаловаться королю на своего ненавистника.
Не было бы гетмана Богдана Хмельницкого и его неоценимой помощи Москве и Тишайшему царю, решившегося на Смоленский вызов королю, если бы не его Величество Случай в любовном треугольнике «Богдан-Гелена-Даниэль». Заступничество Гелены подвигло будущего гетмана на редкие комплименты своей будущей второй супруге Гелене: «И если бы не помогла своим участием и просьбой Гелена Чаплинская, эта рассудительная невинных людей жалобница – Есфирь, то не знаю, что бы случилось от вражеского навета с моей головой потом – убили бы или сгноили бы в тюрьме». Но не убили и не сгноили Хмельницкого его ненавистники: после смерти первой жены Анны, Хмельницкий стал жить с Геленой невенчанными. Гелена происходила из православного шляхетского рода и звалась Мотроной. Когда выходила замуж за похитителя Чаплинского, перейдя в католичество, то приняла имя Гелена. В феврале 1649 года в Переяславе Гелена и Богдан, Гетман Войска Запорожского, повенчались, причем на православный брак дал личное специальное разрешение иерусалимский патриарх Паисий. Участие Паисия было необходимым по ряду причин: Гелена была католичкой, её первый муж Даниэль был жив, Гелена и Даниэль были обвенчаны по римскому католическому обряду. Истории неизвестно, получила ли Гелена развод от Даниэля Чаплинского, но после брака она, будучи женой гетмана Богдана Хмельницкого, снова именовалась Мотроной.
А Тишайший царь, предавшись своим семейным воспоминанием, заметил, как много в жизни его и гетмана совпадало по времени. Задумав жениться, он в 1647 году выбрал на смотре невест себе в жены Евфимию, но та на глазах царя неожиданно упала в обморок от туго заплетенных на затылке волос. И Тишайший был вынужден отказаться от своего выбора по велению сердца благодаря интригам, в которые замешан был его наставник Борис Морозов. 16 января 1648 года Тишайший царь с подачи Морозова заключил брак с Марией Милославской, которая была старше царя на пять лет. А интриган Морозов вскоре женился на сестре царицы Марии, Анне. Таким образом, Морозов и его тесть Иван Милославский приобрели главенствующее значение при дворе. К этому времени, однако, уже ясно обнаружились результаты плохого внутреннего управления доверенным лицом царя Морозова. Царским указом Тишайшего и боярским приговором 7 февраля 1646 года была вынужденно установлена новая пошлина на соль. Эта пошлина заменила не только прежнюю соляную пошлину, но и ямские и стрелецкие деньги; она превосходила рыночную цену соли, главнейшего предмета потребления в стране примерно на 130 процентов и вызвала сильнейшее недовольство со стороны населения. К этому присоединились злоупотребления правителя Ивана Милославского и молва о пристрастии царя и правителя к иностранным обычаям. Все эти причины вызвали народный «Соляной бунт» в Москве и беспорядки в других городах.
В этом месте своих размышлений Тишайший грустно усмехнулся: надо ж у польского короля в одном и том же году возникло восстание казаков Сечи под началом Хмельницкого. А у него в Москве своя «замять с солью» вышла. Первого июня 1648 года московская чернь стала требовать у Тишайшего царя выдачи Морозова, а затем разграбила его дом и убила окольничего Плещеева и думного дьяка Чистого. Тишайший вынужден был поспешно и тайно отправить своего любимого наставника Морозова в Кириллово-Белозерскую обитель, а взбунтовавшемуся народу выдал окольничего Таханиотова. Новая пошлина на соль была отменена царем в том же году. После того, как народное волнение стихло, Морозов вернулся ко двору, пользовался царским расположением, но не имел главенствующего значения во дворе и в управлении государством.
И неожиданно для себя заулыбавшийся Тишайший помянул мысленно добрым словом супругу Марию, которая оказалась доброго тихого нрава и необычайно плодовитой. Все сложности правления и бунты не влияли на деторождение царевичей и царевен: первенец Дмитрий, родившись 22 октября 1648 года, не прожил и года, скончавшись 6 октября 1649-го. Но скоро родилась царевна Евдокия, 17 февраля 1650 года. В августе 1652 года родилась царевна Марфа, а 5 февраля 1654 года родился царевич Иван. Да и во время этого Смоленского похода Тишайшего царица Мария уже носила под сердцем царевну Анну, которой придет время родиться в начале 1655-го, но пожить всего четыре года…
Наконец, 28 июня Тишайший стал под самим Смоленском в Богдановой околице, и его тут же поздравили со сдачей Полоцка, когда-то с необычайным трудом взятым Иваном Грозным. Буквально через день-другой Тишайшему сообщили о падении Рославля. И повеселевший государь радостно и непринужденно сообщил своему ближайшему окружению о текущем положении дел:
– Знать, удачное я место выбрал для своей остановки в околице, носящей имя Богдана… Удачное и успешное…
Царедворцы послушно закивали головами.
– Удачное место, государь…
– Успешное, государь…
– Только бы не сглазить начальный успех и первую удачу, – осторожно намекнул Тишайший, чтобы остановить бурное поддакивание.
– Не сглазим, государь… Нет средь нас чернокнижников… Перевелись в Смуту и после неё трудами подвижника благочестия, патриарха Филарета… – сказал князь-боярин Василий Шереметев и тут же осекся.
Хотел предаться своим воспоминаниям и размышлениям вслух на знаковом месте Богдановой околицы о помощи Москве гетмана Богдана Хмельницкой, но тут же остановил свой порыв. Такие вещи наедине с собой надо мысленно проговаривать, прежде чем выносить на суд своих близких самолюбивых, сами себе на уме, подданных. А размышления-то были весьма интересными, имеющими прямое отношение к нынешнему походу на Смоленск по призыву святого Саввы, да и ко всему философскому «Смоленскому вызову» польскому королю и существующему мировому порядку.
А суть размышлений Тишайшего царя была такова: уже 8 июня 1648 года избранный в гетманы казацкой радой Богдан Хмельницкий направил 19-летнему Московскому царю письмо с нижайшей просьбой принять в свое подданство запорожских казаков. Тишайший навел справки о гетмане у дьяков посольского приказа и выяснил весьма любопытные данные о гетмане Богдане-Зиновии Хмельницком. Тот, будучи простым казацким сотником, ещё в конце 1647 года после нанесенного ему оскорбления Чаплинским, счастливого временного тюремного освобождения бежал в Запорожскую Сечь и оттуда в Крым под руку к хану. Вернувшись из Крыма с сильной татарской конницей, он поднял восстание, охватившее все украинские земли. Под началом успешного полководца-гетмана объединенное войско запорожских казаков и крымских татар легко разгромило польские полки под Корсунью, при Жёлтых Водах и Пиляве. Затем осадил польскую крепость Замостье и под Зборовом заключил выгодный казакам мир. Осторожный царь Тишайший занял выжидательную позицию, приняв казацкое посольство от гетмана, не вынося свое решение по приему казаков Запорожья в свое подданство.
Дальше дело у гетмана немного застопорилось, его войско даже с татарской подмогой под началом хана Исляма Гирея потерпело досадное жестокое поражение под Берестечком в июне 1651 года от поляков под началом нового короля с 1649 года Яна Казимира, занявшего трон почившего в 1648 году брата Владислава IV. Этого неожиданного поражения Хмельницкого могло бы и не быть, не обнаружь гетман при подготовке похода к Берестечку «потери» огромной суммы денег «казацкого общака». Поначалу отец-гетман грешил на сына Тимоша, но проведенное расследование показало непричастность 18-летнего наследника гетмана. Но дотошный Тимош провел свой розыск и вскоре сообщил, что Гелена завела любовный роман с казначеем и украла казацкие деньги на свои развлечения и наряды. Не дождавшись ответа отца, Тимош казнил и любовника казначея-казнокрада, и красавицу-мачеху в конце мая 1651 года, повесив ее голой на въезде в их семейный хутор Суботов. Хмельницкий настолько был подавлен первым известием о краже денег венчанной женой и вторым известием о ее позорной казни сыном-наследником, что не смог собраться перед решающей битвой с королем. После бегства в последний день этой битвы казаков и татар Исляма Гирея, захватившего с собой в плен самого Хмельницкого, гетману пришлось пойти на менее выгодный казакам Белоцерковский мир, по сравнению с о Зборовским миром.
После измены и казни Мотроны-Гелены последней третьей женой Богдана Хмельницкого стала 34-летняя вдова полковника Пилипа, Анна Золотаренко, сестра выдающегося казацкого нежинского полковника Ивана Золотаренко. Эта мудрая и добрая женщина в корне отличалась от предыдущих жен «батьки Хмеля» прежде всего тем, что стала принимать активное участие в государственных делах своего супруга-гетмана. Именно благодаря Анне Чигиринский двор гетмана стал намного представительней и солиднее, нежели ранее. Попойки, пьяные оргии и потасовки были решительно пресечены благочестивой супругой гетмана, а вместо традиционной горилки Анна велела подавать сухие и крепленые марочные вина и редкий венгерский токай, разливались дорогие марочные вина в красивые серебряные сосуды. Приемы иностранных послов, включая московских, проводились на самом высоком уровне. Стоит ли говорить, что на дипломатическую стезю был поставлен и воинственный брат-полковник Иван, что только усилило позиции переговоров гетмана. Сама же гетманша была образцом благочестия и благородной тактичности, гетман ей доверял безгранично, к тому же сделал ее брата Ивана своей правой рукой, возвысив над другими полковниками казацкими, назначив скоро наказным гетманом Войска во главе 20-тысячного отборного корпуса для завоевания литовских земель и городов, в усиление Смоленской осады царя Московского.
Ещё до поражения гетмана под Берестечком Тишайший принял посольство казаков, где его внимание привлек высокий статный, красивый полковник-златоуст Иван Золотаренко. Дьяки посольского приказа шепнули государю, что это любимый брат гетманши, доверенное лицо гетмана Богдана, всеобщий любимец-полковник казацкого войска, не знающий неудач в боях. Именно из уст Ивана Золотаренко вторую просьбу запорожцев перейти под руку Московского государя царь вынес на обсуждение Земского Собора в феврале 1551 года. Но собор чувствовал колебания царя, не встающего однозначно ни на сторону гетмана Богдана, ни на сторону короля Яна Казимира, с которым был заключен выгодный пока Москве мир. Только шаткий Белоцерковский мир сентября 1651-го, ограничивающий число реестровых казаков до 20 тысяч, то есть до половины числа, определенного Зборовским трактатом, стал причиной новых сильных волнений на Украине. Гетман Хмельницкий, набравший почти 70-тысячное войско казаков и нарушивший все условия Белоцерковского мира, вынужден в этих обстоятельствах в третий раз обратиться о военной помощи, защите от короля к «царю восточному, православному».
На расширенном Земском Соборе, созванном по этому поводу 1 октября 1653 года, было решено удовлетворить третью просьбу из уст посла-полковника Ивана Золотаренко: принять запорожских казаков и объявить войну Польше сразу после начала Смоленского похода до начала битвы под стенами Смоленска. Узнав об утвердительном решении Земского Собора, Хмельницкий 8 января в Переяславле собрал казацкую раду, на которой после речи гетмана, убедившего воинственный народ, что с поляками Гетманщина не может успешно бороться одними своими силами, был задан главный вопрос.
– Под чьё начало идти нам – султана турецкого, хана крымского, короля польского или царя московского? – Хмельницкий сделал лёгкую паузу и затем возвысил свой голос. – Под чьё подданство пойдём, братья?
И народ в едином порыве, единодушно закричал:
– Волим под царя московского, православного!
Царский посол, боярин Бутурлин принял торжественную присягу от гетмана Хмельницкого на подданство царю Московскому Алексею Михайловичу Романову, и передал гетману почётную одежду (ферезию), отметив знаковый символизм царского пожалования:
– В знамение таковой своей царской милости одежду сию дарует, сею показу я, яко всегда непременно своею государскою милостью тебе же и всех православных под его пресветлую царскую державу поклоняющихся изволь покрывать.
5. Начало осады Смоленской крепости
В солнечный день 5 июля царь со своим двором пришел под Смоленск и стал за две версты от стен его крепости на Девичьей горе в шатровом городке. Через три дня Тишайший послал под Оршу на гетмана Литовского Родзивилла воевод Черкасского, Одоевского и Темкина-Ростовского с 40-тысячным войском. Но 30-тысячное войско царь оставил при себе, приступив с ними к новому этапу осады Смоленской крепости, которая началась раньше ещё в июне, до подхода основных московских войск.
В один день 20 июля Тишайший получил два известия: одно радостное о сдаче его войску Мстиславля, а другое печальное из-под Орши, где его полки потерпели жестокое поражения от хитрых литовских воинов, напавших на спавших русских. Но эта неудача не могла перевесить успехи московских войск в западных землях Великого Княжества Литовского, часто занимающих города и села в этих землях не боями, а милостью и жалованью от царского имени Алексея Михайловича. Эта снисходительность царя Тишайшего приводила к тому, что сдавшаяся православная шляхта охотно присягала московскому государю. Среди присягавших много было бедной шляхты и даже служилых иноземцев, которые не могли рассчитывать на жалованье от короля Речи Посполитой, в состав которой влилось Литовское Княжество. Польские летописцы писали на этот счет в хрониках того времени: «Мужики очень нам враждебны, везде на царское имя сдаются и делают больше вреда, чем делает нам сама Москва. Это зло будет и дальше распространяться, надобно опасаться чего-нибудь вроде казацкой войны».
Положение Смоленска в это время было довольно тяжелое: город совершенно не был подготовлен к перенесению осады войсками Тишайшего царя. Крепость его, хотя построенная 52 года назад волей и усилиями Бориса Годунова, много пострадала во время осады ее Сигизмундом в 1609–1611 г. и Шеином в 1633–1634 г. Из 38 башен оставалось 34, которые делили стену на 38 участков, или «кватер». Не все участки были исправлены, а из башен в полной исправности были только 10. В стене и в башнях были трещины, гнилые полы и крыша, дырявые помосты. «Большой вал» или Королевская крепость, были либо практически уничтожены, либо требовали кардинальной громадной реставрации.
Даже на Королевском дворе (на Вознесенской улице) сгнили въездные ворота во двор, который не имел уже никакой ограды. Постройки стояли без дверей, без окон, даже без печей. Стоят две дымовые трубы, да и те полуразбиты. «Решительно все опустошено. Крайнее запустение, – писал современник-очевидец. – Эта пограничная крепость почти в течение 20 лет оставалась без всякого досмотра. Оба вала, или иначе пролома, были совершенно срыты, стена во многих местах до земли была в трещинах столь великих, что через некоторые хлоп мог свободно пролезть. Два же участка стены были забиты глиной, залеплены грязью и сверху выбелены. Замок, словом, был настолько забыт и опущен, как будто на веки вечные не имел возможности подвергаться неприятельскому штурму».
Причина такого состояния Смоленской крепости лежала в нерадении и корыстолюбии польских высших и местных властей. Еще в 1633 году, во время осады Смоленска воеводой-боярином Шеином, Ян Москоржовский, секретарь гетмана Радзивилла, изображая печальное состояние его крепости, горько жаловался на нерадение властей, которые заботились лишь о собирании себе больших доходов с волостей, вследствие чего погибли многие замки Смоленские и Северские. Но до 1633 года состояние крепости было еще сносное, даже по некоторым польским известиям: воеводой Смоленским с 1625 по 1639-й года был Гонсевский, и он поддерживал замок в порядке. После же его до 1654 г. в Смоленске сменилось два воеводы: его сын Криштоф (1639–1643) и Георгий Глебович (1643–1653). Они-то и довели его замок до полуразрушенного состояния.
На деле, ко времени осады царским войском Смоленск оказался совершенно беззащитным. Смоленские власти не заботились о крепости, ссорились между собою, своевольничали. Более того, власти не хотели исполнять королевских указов по поддержанию крепости в надлежащем состоянии. Только 25 Сентября 1648 г. воеводою в Смоленск был назначен писарь Литовского княжества Обухович, деятель ответственный, даровитый и энергичный. Но метивший на эту должность, подвоевода Смоленский Вяжевич запер все ворота крепости, чтобы не впустить в город нового воеводу. Когда тот все-таки въехал 21-го декабря, Вяжевич отдал ключи и знамя не ему, а полковнику Смоленскому Корфу. Дворянин же скарбовый Храповицкий не хотел сдавать Обуховичу ни хозяйства замкового, ни цейхгауза. Несмотря на королевские грамоты, подчиненные Обуховича держали своего воеводу вдали от текущих хозяйственных дел и даже возбудили против него бунт среди шляхты и бедных вдов. Были даже покушения на его жизнь. К тому же гетман литовский не принял жалоб Обуховича, а поддерживал его противников-своевольников. Только во время осады гетман Радзивилл прислал приказ на имя Корфа, «чтобы то во всем подчинялся воеводе Обуховичу».
Положение Обуховича отягощалось неустройством Смоленского замка и необходимостью готовиться к осаде от царских войск. В январе 1654 года он пишет гетману, что, по всем данным, Москва собирается воевать, в Вязьму уже пушки доставлены, по дороге для царя готовят места остановок и погреба с напитками. Между тем Смоленский замок имеет много дефектов: выдачи на пехоту не было в течение 16 лет; разрушения в стене и валах не исправлены, пороху и фитилей очень мало, провианта практически нет. Гетман обещал обеспечить Смоленск всем недостающим и необходимым для обороны города. Но дело ограничилось одними обещаниями на бумаге, ибо, по его же словам, во всей Литве нет и 50 «лишних» бочек пороху, а в Виленском цейхгаузе нет совсем зерна. В июне 1654 года литовский гетман еще утешал Обуховича шутливо-злой прибауткой: «Москва едет в Смоленск на черепахе, есть надежда, что пойдёт быстрей от Смоленска по-рачьи».
Когда царь был уже под Смоленском, гетман искал его за Вязьмой и убеждал Смоленск, что «царь и не мыслит о войне с Литвой». Приходилось Обуховичу защищаться с тем, что было в крепости, а там было очень немного. По описи 1654 года в январе, на башнях и валах Смоленских стояли 41 пушка, да в цейхгаузе хранилось 14 пушек. Калибр этих пушек был самый разнообразный, только количества пороха было далеко не достаточно для защиты крепости. А между тем для Смоленского замка предписано было ежегодное заготовление пороха, для чего были устроены пороховые мельницы, которые прежними легкомысленными властителями замка обращены были на размол муки.
Съестных припасов в крепости также было мало, а скота и вовсе не было. Некоторые из обывателей привели в Смоленск для себя штук мелкую скотину, но когда важные особы уверили их, что Москва и не думает воевать в этом году с Польшей, большинство жителей тут же отпустили скот. Немецкие полки запаслись для себя только незначительным количеством провианта «на всякий случай», который вскоре после начала осады был быстро исчерпан. Что же касается польской пехоты, то для нее не было поставлено в крепость провианта. К этому нужно прибавить, что в крепость набралось много пострадавших обывателей из деревень и поместий, только они не захватили с собой никаких запасов «едва только души свои до стен унесли».
Наиболее богатые шляхтичи, получавшие со своих Смоленских земель по несколько десятков тысяч доходу, поспешили уехать на запад под защиту короля и коронного войска, оставивши для борьбы с неприятелем незначительное количество своих слуг. Сам хорунжий Смоленский, Ян Храповицкий, обязанный по закону оставаться во время осады в крепости и поднять там поветовое знамя, ничего этого не сделавши, не составивши списков обывателей и защитников города, бросил в своем доме знамя и уехал в Варшаву под тем предлогом, что ему, депутату, необходимо срочно явиться на сейм. За ним быстро тронулась из Смоленска шляхта, одни якобы для закупки на время осады скота, а другие без всякого предлога, переодевшись в сермяги, уехали тайком в закрытых экипажах. Сильно обеспокоенный тревожной ситуацией воевода Обухович написал о бегстве шляхты в Литву и Польшу гетману.
В ответном своем письме 21 июня гетман, выражая свое негодование по поводу поведения шляхты, сообщает, что он отказывается принимать беглецов и будет высылать против них татар. Но, несомненно, беглецы имели основание не оставаться в Смоленске, где не было никаких запасов и средств обороны, да и в будущем их не предвиделось. Тот же гетман писал Обуховичу 21 июня в ответ на его просьбу о присылке войска и запасов: «Удивляюсь, как ты это не можешь понять, что еще не придумано способа из ничего сделать что-нибудь».
Осада Смоленска началась неожиданно для его обывателей, веривших больше беспечному гетману, чем своему воеводе. За три дня до начала осады, Обухович распорядился поджечь городские посады, лежавшие вне стен. Это вызвало среди обывателей сильный ропот, и даже дерзкий бунт против него. И только тогда, когда все лично убедились в приближении к Смоленску царского войска Тишайшего, ропот утих и сменился полной покорностью городским властям.
Однажды воевода Обухович узнал от первых русских пленников, что неприятель подвел мины уже близко к стенам. В тот же вечер, собрав сколько можно было народа, воевода велел копать возле стен ров до самого фундамента, а на утро инженер Беноллиг разделил на сажени все пространство от Малого вала до Великого и распределил наблюдение за ними между городскими обывателями. Ров был выкопан до фундамента в 1,5 сажени ширины. В этой работе не различали ни возраста, ни состояния. Под самый фундамент были подкопаны ямы и там поставлены люди подслушивать, не делаются ли где неприятелем подкопы. Но и таким способом не удалось напасть на неприятельские мины, которые, по рассказам русским пленников, проведены были в разных местах. По приказанию воеводы, в семи местах, под стенами проведены были с великим трудом подкопы к неприятельским шанцам, но вследствие частой непогоды, подкопы каждый раз обрушивались.
Явилось подозрение, что неприятель ведет подкоп в ров, что был посреди замка, поэтому воевода велел наложить по берегам его бревен и приказал страже денно и нощно наблюдать за рвом, и как только неприятель покажется из подкопа, завалить его сверху бревнами. Словом, воевода старался всеми мерами предупредить замыслы неприятеля, трудясь сам до кровавого пота, собирая людей, распределяя работы, обходя ночью стены, за всем наблюдая, стараясь исправить все недочеты крепости. Но трудно было в один или два месяца исправить то, что запущено было в течение многих лет.
Артиллерийский огонь поддерживался с обеих сторон каждый день, но в некоторые дни он особенно был силен. Так 26 июля целую ночь с обеих сторон была сильная пальба из пушек и ручного оружия. В эту ночь воевода, собравши несколько сот охотников, хотел произвести вылазку на неприятельские окопы. Но перед рассветом полил такой сильный дождь, что стрельба стала невозможна, и вылазку пришлось отложить до другого раза. 28-го июля московские полки снова открыл сильную пальбу по городу. На Малом валу туры были сбиты, так что воевода должен был свезти с вала пушки и наскоро поставить на валу, на месте туров, избицы (то есть вышки, «избушки»), наполненные камнями. Днем 29-го июля была страшная пальба русских по стенам и сбиты некоторые башни.
Осажденные, ожидая штурма, стояли ночью наизготовку на стенах и валах. Штурм не состоялся, но на утро в неурочный час, неприятель снова поднял стрельбу из пушек и ружей со всех сторон, так что мушкетные пули, словно град, сыпались в крепость и редкий дом остался неповрежденным от ядер.
Особенно была сильна стрельба 7-го августа, когда московские воины попытались устроить окоп на берегу Днепра. Осажденные орудийным огнем со всех башен заставили их отступить назад. В полночь неприятель, придвинув близко к стенам полевые пушки, стал было штурмовать город, но Смоленская пехота, стоявшая наготове и подкрепленная быстро людьми со всех приднепровских кватер, сильным огнем отразила штурм, продолжавшийся около часу. После этого, разрушивши часть Днепровского моста, московские воины 10-го августа поставили новый Гуляй-город за Еленскими воротами. Целый день, с 7 часов утра до самого вечера осажденные били сюда из пушек, и все время осаждаемый неприятель отвечал им интенсивным огнём.
В следующие дни от беспрерывной пальбы по городу, одна башня была разбита ядрами, другая сама развалилась на несколько частей и в ней уже никто не осмеливался стоять, были разбиты, также две соседние кватеры пана Оникеевича, который своей храбростью воодушевлял малодушных. На других кватерах и башнях были посбиты зубцы, и разрушены стоявшие на стенах избицы. Сильна была стрельба и 7-го августа, когда московские воины попытались устроить окоп на берегу Днепра. Осажденные орудийным огнем со всех башен заставили их отступить назад. В полночь неприятель, придвинув близко к стенам полевые пушки, стал было штурмовать город, но Смоленская пехота, стоявшая наготове и подкрепленная быстро людьми со всех приднепровских кватер, сильным огнем отразила штурм, продолжавшийся около часу. После этого, разрушивши часть Днепровского моста, московские воины 10-го августа поставили новый Гуляй-город за Еленскими воротами. Целый день, с раннего утра до самого вечера осажденные били сюда из пушек, и все время неприятель им отвечал.
Царем Тишайшим 2-го августа было получено долгожданное известие из Орши, что крепость Орши, наконец, взята, гетман Радзивилл из Орши побежал, и литовские воеводы спешно бежали за гетманом. 7-го августа пришла весть, что гетмана и его литовских людей побили и «языки многие взяли» воины боярина Василия Шереметева. Им же 9-го августа было сообщено о взятии города Глубокого. Обрадовали Тишайшего сообщения его воевод, что православная литовская шляхта сдавшихся городов была благоразумно отправляема воеводами-победителями под Смоленск к царю за «жалованьем» и принятием царской присяги. Та же часть шляхты, которая не хотела сдаваться, отпускалась беспрепятственно «на все четыре стороны, хоть к черту на куличики». Это располагало население Литвы к Москве и ее Тишайшему милостивому царю, поэтому многие литовские (белорусские) города охотно сдавались на милость царским воеводам.
До полной победы под Смоленском было ещё далеко, но 15 августа у царя был собран стол на Девичьей горе, где присутствовали духовенство и бояре московские, и наказной гетман войска Запорожского Иван Золотаренко с товарищами. Прежде чем отрядить бравого нежинского полковника в чине наказного гетмана Запорожского войска Иван Золотаренко в западные литовские (белорусские) земли Тишайший царь после знатного обеда удостоил лихого красавца-силача Ивана беседы с глазу на глаз. Начал Тишайший издалека:
– Правда ли, что сын гетмана Богдана Хмельницкого Тимош повесил в своем семейном хуторе на воротах усадьбы свою мачеху Гелену, к тому же без одежды, голой?
– Правда, государь, – потупив взор, тихо ответил Иван, – только теперь у Тимоша новая мачеха, моя сестра…
– Это я знаю… А почему Тимош повесил мачеху в таком позорном для женщины виде – голой?
– Потому что Тимош собрал доказательства, что мачеха через казначея, с которым вступила в любовную связь, украла казну казацкую…
– И это всё?.. За это не всегда казнят у нас в Москве… Чаще заставляют казнокрадов отдать украденное, и их сажают в тюрьму…
– Нет, государь, не всё… Помимо этого, были перехвачены письма к ней ее прежнего мужа Даниэля Чарплинского…
– Вот как? Послы мне не говорили об этом.
– В посланиях Чаплинского было требование, чтобы она похищенные у казначея ценности закопала в землю, а самого гетмана Богдана Хмельницкого отравила… Тогда Чаплинский мог бы снова жениться на своей возлюбленной богатой вдове Гелене, отказавшейся от православного имени Мотрона…
– Но ведь гетман Богдан Хмельницкий, насколько мне известно, расценил казнь мачехи своим сыном «излишней самовольностью».
– Многим нашим казакам тоже не понравилось, что Тимош повесил мачеху голой… Опытные старые казаки открыто намекали, что бесстыдная похотливая Гелена сама разделась перед юным Тимошем, чтобы заслужить таким образом прощение его, вступив и с пасынком в плотскую преступную связь…
Царь сокрушенно покачал головой и спросил, глядя прямо в глаза наказного гетмана Ивана:
– Кто престолонаследник гетмана Богдана на казацком троне – его сын Юрий?
– Да, Юрий. Хотя Богдан всегда видел Тимоша своим наследником, государь. Но Тимощ погиб в Молдавии при осаде города Сучава. Может, повешенная им голой Гелена-Мотрона ему с того света отмстила, кто знает…
– А кто правая рука гетмана Богдана в воинском деле?
– Наверное, пока я, государь, – выдохнул, как на духу, Иван Золотаренко, – только о гетманстве моем помышлять пока не стоит, мешает это в боях… Гетманство потом, кровью и воинскими победами заслуживают герои… Вижу, что совсем малой Юрий тебе не по душе, государь…
– Есть такое, скрывать не буду. Но разбирать право гетмана Богдана видеть преемником малого сына не дело царя. Главное, сам гетман Богдан и его правая рука, ты, Иван верны мне и данной присяге…
– Да, я верен присяге тебе, государь, в этом можешь не сомневаться, до смерти буду верен… – Пылко произнес Иван и подумал скорбно, играя желваками: «А за присягу Юрия я не ответчик… Время покажет, насколько он будет верен государю московскому».
6. Осада Смоленска
И случился особо радостный для царя Тишайшего день 20 августа 1654 года. В этот день князь Трубецкой дал знать о взятии Озерища и полной победе над гетманом Радзивиллом, одержанной в 15 верстах от Борисова на речке Шкловке, где сдались на милость царя 12 полковников, около 300 воинов литовских, среди трофеев оказались гетманское знамя и литавры. Сам раненый гетман Радзивилл спасся позорным бегством с немногими людьми. В тот же день прискакал гонец от Золотаренко с вестью о победе наказного гетмана, которому сдался крупный город Гомель с сильным гарнизоном, не ожидавшего лихого удара наказного гетмана в непогоду ночью.
А ещё через 4 дня войску православного шляхтича Поклонского сдался Могилев. Август закончился удачными воинскими действиями Золотаренко, который 29 августа дал знать царю о взятии Чечерска, Нового Быхова и Пропойска и о своих ближайших планах покорения многих других белорусских городов… Между тем Смоленск был уже два месяца в осаде, и жертв этой осады было предостаточно с той и другой стороны…
В июле, в ночь на 17-е был решительный приступ к городу Смоленску. А на приступе во главе царского войска были воеводы: у «Государевого пролома» боярин-воевода, князь Иван Хованский, Иван Волконский (его на приступе убили) и два Толочановых. У «Наугольной» башни у «Веселухи» с лестницами был окольничий-воевода, князь Долгоруков, а с ними полковник Грановский с драгунами. К Молоховским воротам и к Шеинову пролому пошли князь Долгоруков, а с ним полковник Трафорт с солдатами. К башне Веселухе пошли приступом воевода Хитрово, а с ним полковник Гипсон с солдатами. К Днепровым воротам и к Наугольной башне пошли приступом воевода Матвееву. К Пятницким воротам пошел воевода Богданов-Милославский, а с ним дворяне Федоровы. К Королевскому пролому приступал отчаянный голова стрелецкой Дмитрий Зубов, но и его на приступе убили.
В письме к сестрам царь сообщал о приступе: «Наши ратные люди зело храбро приступали и на башню, и на стену взошли, и бой был великий. И по грехам, под башню Польские люди подкатили порох, и наши ратные люди сошли со стен многие, а иных порохом опалило. Литовских людей убито больше двухсот человек, а наших ратных людей убито с триста человек да ранено с тысячу».
Этот приступ царю Тишайшему не удался: по польским источникам русских погибло около семи тысяч, и ранено было около пятнадцати тысяч. Гораздо подробнее описывает этот штурм Обухович пред Сеймом. По его словам, во втором часу по полуночи, давши сигнал из трех гортонов, неприятель ударил со всех сторон на крепость и, приставивши широкие лестницы, полез по ним на стены. Таких лестниц насчитывали до четырёх тысяч. Сначала московиты вскочили на Большой вал (Королевскую крепость), но здесь их быстро отразили, положивши несколько сот человек и убив самого решительного их полковника (Зубова). Не меньше пало московитов и при штурме Угловой башни, где солдаты уже вскочили на стену, но должны были отступить перед немецкой дружиной, пришедшей на помощь с Большого вала. С особенной силой обрушились московиты на Королевские (Днепровские) ворота, желая через них ворваться в город с Покровской горы, откуда Обухович смотрел на штурм. Несколько тысяч людей с петардами устремились сюда, но встретив перед воротами преграды, качали рубить палисад. Осажденные били их сверху, сбрасывали на них бревна, стреляли залпами, бросали камнями, кирпичами; к тому же с соседних башен помогали им выстрелами из пушек. Но отважные московиты по трупам своих товарищей смело лезли вперед, вырубили палисад и разбросали избицу.
Пан Остик со своей пехотой защищался здесь храбро, насколько было силы, упорно бились здесь и смоленские мещане. К ним на помощь прибежали жены даже жены их; они лили на осаждающих сверху кипяток, сыпали золу; в конце концов неприятель должен был уступить. Такая же участь постигла его и на соседних кватерах. Много здесь своей крови московиты пролили и отступили, побросав лестницы. Особенно сильный натиск был произведен на участок от «Веселухи» до сбитых кватер. Когда у поляков кончились заряды у пушек и ружей, и не стало камней под руками, они сбросили на осаждавших два улья с пчелами, которые быстро прогнали московитов назад в окопы. Но наибольшее внимание московиты обратили на сбитые кватеры и башни близ Шеина пролома. С 12-ю знаменами московские солдаты взобрались по щебню на башню и уже торжествовали победу. Поляки бились на стене в рукопашную, но должны были, наконец, уступить.
Услышав об этом, воевода Обухович прискакал сюда и велел казацкому ротмистру Овруцкому снова идти в бой. В тот же момент Овруцкий был ранее пулей, а копьем пробили ему руку, и он, видя свою беспомощность пред натиском неприятеля, повернул назад. Воевода послал к Корфу и на прочие кватеры, чтобы как можно скорее спешили сюда на помощь. Московиты между тем с башни перебрался на стены, а со стен проник и вовнутрь города. Пришедшая на помощь польская подмога схватились с ними в рукопашную. Но все осажденные были давно и сильно изнурены, раскаленные от беспрерывной стрельбы оружия не годилось больше для ратного дела. Осажденные видели уже, что настал последний час их и крепости; причем многие горожане побежали с места битвы по домам и по избам, и напрасно воевода гнал их в бой, а Корф заклинал их именем Бога и отчизны не уступать врагу. Густой стрельбой московиты со стен поражали поляков. Здесь пало много разной шляхты, немецкой и польской пехоты пана Мадакаского и Дятковского и других, которые отважно громили неприятеля, висевшего уже над ними. Тогда же убито было и несколько лучших смоленских пушкарей, защищавших подступ к пушкам, против башни. Царские воины уже встащил на эту башню по груде развалин два орудия, и если бы им удалось их там установит и стрелять прямой наводкой, то все защитники были бы перебиты и замок взят. Но дивным промыслом Божиим, когда от польского пушечного выстрела помост с неприятелями на башне обвалился, произошел взрыв пороха, который они притащили с собой в башню. Пушки и солдаты, бывшие при них, моментально взлетели на воздух. Видя в этом помощь свыше, поляки воспрянули духом и снова вскочили на кватеры, занятые врагом. Особенно отличились здесь инженер подсудок Униховский, и Парчевский, писарь земский, которые прогнали со стен оставшихся солдат царя. Тот штурм продолжался в течение семи часов.
Не меньший натиск неприятель произвел и на малый (Шеин) пролом. Здесь царские воины разрушили все преграды, вырубили несколько рядов палисаду, оттеснили с нижнего валу немецкую пехоту и уже стали взбираться на верх, где стояли пушки. Но в тот момент, когда польских воинов охватило уже отчаяние, бердышники с ближайших кватер пана подсудка Униховского, вышедши потайным ходом, напали из-за валу на неприятеля. Много погибло защитников вала, когда военачальник Тизенгауз с полком подскарбия и с другими людьми мужественно оборонял его, пока пехота уже потеряла возможность стрелять из накалившегося оружия. Сам Бог спас Смоленск в ту ночь: если бы неприятель еще на полчаса продлил штурм, он ворвался бы через этот вал в крепость, ибо поляки, прекратив стрельбу, опустили руки, а помочь им было некому. По подсчетам двух сторон, московской и смоленской, царских воинов пало в этом штурме Смоленска до семи тысяч, а ранено 15,000 человек». Так докладывал о битве ночи на стенах смоленской крепости воевода Обухович.
По словам царя Тишайшего, вышеприведенные потери русских были несколько меньше. Несомненно, однако, что они были значительные, так как после штурма вокруг города наступило временное затишье. Как бы то ни было, и осажденные понесли сильнейший урон и поняли, что держаться дальше возможности не было. Укрепления были сильно повреждены, всех активных не раненных защитников крепости оставалось не более двух тысяч, к тому же пороха уже явно недоставало. Царь собирался с силами для другого штурма, а между тем со всех сторон продолжали приходить радостные вести. После того, как царю донесли о взятия Озерища и о разгроме у Борисова гетмана Радзивилла, знамена и пленники были поставлены на русских окопах на виду у осажденных смолян, и в то же время со всех батарей была поднята пушечная и ружейная стрельба по крепости. Так русские торжествовали свою победу.
Чтобы окончательно сразить мужество осажденных, московские воеводы прислали в крепость для вручения воеводе Обуховичу копию письма его к гетману, где он, подробно описав все дефекты замка и разрушения, причиненные осадой, просил у гетмана немедленной помощи. Это письмо было найдено русскими в шкатулке жены гетмана в лагере под Шепелевым после поражения гетмана. Подлинник его был написан секретным шифром, но русским досталась его расшифрованная копия.
Наконец, после взятия Могилева, и успехов наказного гетмана Золотаренко в Гомеле, Чечерске, Новом Быхове и Пропойске последовала сдача Усвята и Шклова. Между 5 и 10-м сентября из Смоленска воевода Обухович и полковник Корф прислали государю просьбу выслать к ним, к городу, на договор «своих думных людей». Наконец 10-го сентября съехались под стенами Смоленска стольники Иван и Семен Милославские да с ними голова стрелецкий Матвеев, да дьяк Лихачев, съехались с литовскими людьми. И воевода Смоленский Обухович, полковник Корф и литовские люди договорились с ними, «что город Смоленск сдать великому государю, а их бы, воеводу, и полковника, и шляхту, и мещан пожаловал государь, велел бы отпустить в Литву, а которые шляхта и мещане похотят служить государю, и тем остаться в Смоленску». После заключения договора Обухович и Крофт с вельможами приезжали к московскому государю в стан, на Девичью гору, и «были у государя в шатрах». Так было дело по официальной записи в Дворцовых разрядах.
7. Конец осады Смоленска
По словам же сына Обуховича, событие имело несколько иной характер. Воевода Обухович не думал так скоро сдаваться, сдача произошла помимо его воли. Положение осажденных после большого штурма 16 августа сделалось весьма тяжелым. Защитников крепости, по заявлению самих обывателей, оставалось менее двух тысяч. Многие были убиты во время штурмов и вылазок, многие взяты в плен, иные ранены пулями, кирпичами и осколками от зубцов и стен. Одни из раненых умерли, еще больше лежало по домам больных, нередко неизлечимых вследствие поранения пулями. Наконец немало умерло от сопутствующих недомоганий и болезней. Между тем, только на оборону двух валов, Большого и Малого, требовалось не менее 1500 человек. За вычетом их, оставалось всего несколько сот человек для обороны большого пространства из 38 кватер стены и 34 башен. Для резервов же: куда необходимо было не менее 1000 человек, и для обороны укрепления, выстроенного за Будовничим (т. е. за нынешним Аврамиевским монастырем), в распоряжении воеводы не оставалось ни одного человека. С такими силами невозможно было бороться против многотысячного царского войска. Самое печальное, что к защитников Смоленска пороха оставалось меньше 230 пудов. В случае нового штурма этого количества пороха при усиленной стрельбе хватило бы на 4 часа, не более.
Крепость сильно пострадала от ядер: в стенах и башнях пробиты бреши, пушки попорчены, избицы разрушены, палисады вырублены, Малый вал разрушен почти до невозможности его исправить. Особенно же сильно разбиты были две кватеры между Антипинской башней и Малым валом и стоявшая здесь Малая башня. На оборону их солдаты и горожане не могли да и не хотели становиться, с ропотом заявляя, что их, словно преступников посылают на верную неминучую смерть. Воевода Обухович просил Корфа, чтобы он, хотя силой поставил бы сюда польскую шляхту, но все меры были напрасны. Корф заявил, что он, потерявши большую часть своих солдат, не может ничего сделать с чужими ему горожанами. И едва ли будет в силах защищать вал при таком вопиющем безлюдье. Пришлось две кватеры на протяжении более 150 сажен бросить без всякой обороны, и неприятель, если бы захотел, мог бы свободно, как через широкие ворота, въехать через них в Смоленск.
Провианта в крепости практически не было. Сначала осажденные рассчитывали питаться лошадиным мясом; но когда не стало уже травы на стенах и соломы на крышах, когда должны были обрезать ветви с деревьев, пришлось уже в июле выпроводить лошадей за стену, оставивши в крепости только 30 коней. В городе начался голод, особенно страдали обыватели, укрывшиеся здесь и сбежавшие в крепость из окрестных деревень. От заразных болезней и антисанитарии, при отсутствии врачей и санитаров, умирало в день по несколько человек. В то же время начались ежедневные грабежи и разбои: голодные озверевшие люди вламывались в чуланы и амбары более состоятельных людей, чтобы достать хоть чего-нибудь съестного.
Воеводе ясно было, что нового штурма крепость не может выдержать. А царь к нему усиленно готовился: из Белорусских земель под Смоленск собраны были все войска и бесчисленное множество безземельных холопов, которым было обещано царское вознаграждение за принятие присяги московскому государю. За Еленскими воротами поставлена новая батарея в 19 осадных орудий, а под стены подведены мины, которых воевода Обухович с инженером никаким способом, отыскать не могли. Все недостатки крепости неприятелю были известны из письма воеводы гетману.
После поражения гетмана Радзивилла от Шереметева, Золотаренко и Поклонского, осажденные потеряли всякую надежду получить откуда-либо помощь, ибо со всех сторон замок был окружен неприятелем, войска которого захватили все города в Белоруссии вплоть до Березины и отрезали полностью Смоленск от Литвы и Польши. Дальше дело обороны в ожидании нового войска царских войск к началу сентября принимало совсем зудой оборот.
Отчаявшись, в ожидании новых штурмов, шляхта в замке взбунтовалась. Никто уже не оказывал повиновения командирам и воеводе Обуховичу, редко кто шел на стены, работать над исправлением разрушений отказывались. Казаки чуть не убили королевского инженера, когда он стал их принуждать к работам. Обнаружилось много перебежчиков в стан противника, особенно из тех полков, которым не было уплачено обещанное жалованье за 5 четвертей. Они, соединившись с голодной чернью, убежали в царский стан. Ввиду таких обстоятельств, воевода Обухович, пользуясь тем, что московские воеводы предложили перемирие для уборки трупов, решил вступить с царем в переговоры.
Именно 10-го сентября воевода Обухович с несколькими смоленскими горожанами составил и подписал манифестацию следующего «дипломатического содержания. Мол, «осажденные, будучи не в состоянии более выдерживать неприятельских штурмов и нападения, решили вступить с неприятелем в переговоры, но не для того, чтобы так скоро сдаться ему, а для того чтобы затягивая переговоры, могли дождаться хоть какой-нибудь помощи и обороны». Воевода рассчитывал, что таким способом можно еще будет продержаться в замке, в течение всего октября, дожидаясь обещанной помощи от короля Речи Посполитой.
Но большинство обывателей были настроены иначе. Они еще раньше стали собираться у отцов Доминиканов на частные сеймики, и здесь было принято окончательное решение сдать город царю. Во главе этих людей стояли пан Голимонт и его приспешники, двое Соколинских. Они вошли в тайные сношения с царем Алексеем Михайловичем и выработали «свои особые» условия сдачи Смоленска. Голимонту и Соколинским царь обещал различные награды и жалованье. В удостоверение чего 8-го сентября дал им такую грамоту:
«Пожаловали есьми города Смоленска судью Галимонта и шляхту, и мещан, и казаков, и пушкарей, и пехоту, которые били челом нам на вечную службу и веру дали и видели наши царские пресветлые очи, велели их ведать и оберегать от всяких обид и расправу меж ими чинить судье Галимонту… Также мы, Великий Государь, пожаловал есьми его, судью Галимонта и шляхту, прежними их маетностями велел им владеть по-прежнему. А как мы, Великий Государь, за милостью Божьею войдем в город Смоленск, пожалуем и велим им дать каждому особо их маетности, и с нашей Царского Величества жалованной грамоты по их привилегиям, кто и чем владел. А мещан, и казаков и пушкарей, за которыми земли потому ж жалуем, велим дать ваши жалованные грамоты; а пехоту мы Великий Государь пожалуем нашим Царского Величества жалованьем. Дана в стану под Смоленском 8 сентября 7163 года (1654 г.). У подлинной грамоты печать большая и рука пресветлого Царского Величества».
Когда воевода Обухович и его сторонники узнали о вероломном поступке своих сотоварищей Галимонта и Соколовских, они составили протест против него и подписали его. Но это не помогло. Противная сторона взбунтовала шляхту, мещан, крепостную пехоту, которая охраняла ворота, также польскую пехоту, казаков и других обывателей крепости. Под предводительством Галимонта и Соколинских бунтовщики собрались огромной толпой к дому воеводы, силою взяли оттуда его знамя, отворили городские ворота, пошли к царю в лагерь, присягнули ему на подданство, и впустили в город несколько тысяч московского войска, не дождавшись даже того срока, который был назначен им самой Москвой.
Таким образом, по рассказу Обуховича-сына, его отец, смоленский воевода Обухович, не участвовал в сдаче крепости. Но, в тоже время, он сам на сейме не отрицал обвинения покойного в том, что он вошел в переговоры с царем, и в оправдание отца приводил вышеуказанные мотивы. Чтобы примирить это противоречие, необходимо, кажется, дело представлять так. Около 10-го сентября воевода прислал царю предложение о начатии переговоров. 10-го сентября, как записано в Дворцовых Разрядах, эти переговоры начались. Но так как в тот же день обывателями была объявлена манифестация воеводы и его партия, о том, что переговоры ведутся лишь для проволочки времени, то противная партия, раньше уже условившаяся тайно с царем о сдаче, вмешалась в дело и решительными мерами привела его к желанному концу. Воеводе пришлось примириться с фактом и подписать сдачу крепости.
Самое интересное в Смоленской эпопее, что 23-го сентября под стенами Смоленска происходило явление обратное тому, какое видели здесь в 1634 году, при капитуляции Шеина. Царь Алексей Михайлович «пошел со своего государева стану, с Девичьей горы, к Смоленску со всеми полками. А перед государем были два знамени. У большого знамени стольник и воевода, князь Андрей Иванов сын Хилков, а с ним головы у знамени: Гаврило Федоров сын Самарин, Астафий Семенов сын Сытин; у другого знамени стольник и воевода, Данило Семенов сын Яковлев, а с ним головы у знамени: Владимир Федоров сын Скрябин, Матвей Захарьин сын Шишкин. И пришел государь к Смоленску, и стал против Молоховских ворот со всеми полками».
Без сомнения, царь был окружен той же обстановкой, как и при выезде из Москвы. Перед ним несли знамя с изображением золотого орла, царские лошади были великолепно украшены, даже ноги их были унизаны жемчугом. Сам царь был окружен 24 гусарами. Одеяние его унизано жемчугом; на голове он имел остроконечную шапку, а в руках крест и золотую державу, покрытую жемчугом.
«Смоленский воевода Обухович и полковник Корф и литовские люди, которые хотели идти в Литву, вышли из Смоленска через Молоховские ворота и, поравнявшись на поле с государем, слезли с коней и ударили ему челом». Все войсковые польские знамена были положены как трофеи у ног государя. Затем, по данному знаку, воеводы сели на коней и литовские люди «пошли в Литву». Это был первый воинский триумф Тишайшего царя, и Алексей Михайлович знал, что триумфатор должен быть всегда милосердным к побежденным. И «с радостью отпустив литовских людей, вошел государь в Смоленск».
Здесь он торжественно встречен был оставшимися в Смоленске властями, войсками и жителями. В царской грамоте от 4-го октября перечисляются смоляне, присягнувшие царю и оставшиеся на Московской службе. Это «подкоморий Смоленский, князь Самуил Друцкой-Соколинский, королевский секретарь Ян Кременевский; городской судья Голимонт; будовничий Якуб Ульнер, ротмистры Денисович, Станкевич, Бака, Воронец» и иные шляхта знатные и рядовые многие люди. Да на наше ж Царское Величество имя остались в Смоленске немцы, начальные многие люди и гайдуки, и всякие служилые люди мало не все; также и пушкари, и Смоленские казаки, и мещане все остались в Смоленске».
Побыв в городе, государь в тот же день вышел из Смоленска и стал против Молоховских ворот, в шатрах, на прежнем месте, а в Москву послал князя Юрия Ромодановского с радостной вестью. С той же вестью были разосланы гонцы во все полки, воевавшие Литву. 24 сентября, перед царским станом, против Молоховских ворот была устроена тафтяная походная церковь во имя Воскресения Христова. 25-го сентября митрополит Корнилий освятил ее и отслужил благодарственный молебен, после чего бояре, окольничие стольники, стряпчие и дворяне московские вместе с представителями Смоленска поздравляли Государя и подносили ему хлеб-соль и соболей.
8. Смоленская победа
На другой день после выхода Тишайшего из ворот покоренного им Смоленска многие бояре и воеводы, окольничие, стольники, стряпчие и дворяне приходили поздравить государя с великой Смоленской победой, приносили с собой хлеб и соболей. В столовом шатре государь угощал обедом Грузинских и Сибирских Царевичей, бояр и окольничих, сотенных голов Государева полка, и непобедимого наказного гетмана Ивана Золотаренко, и православного шляхтича-атамана Поклонского с их товарищами. Победное пиршество царь решил разделить на две части: сначала пировать со своими особо отличившимися полководцами, боярами и духовенством, а после этого устроить второй царский стол 28-го сентября, угощать есаулов своего полка и смоленскую шляхту.