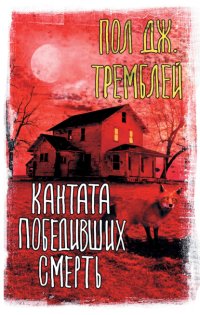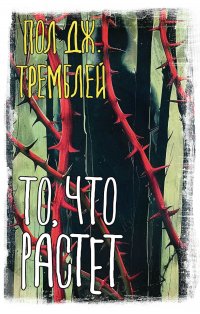
Читать онлайн То, что растет бесплатно
- Все книги автора: Пол Дж. Тремблей
Paul TremblayGROWING THINGS
Печатается с разрешения InkWell Management LLC и Synopsis Literary Agency.
© Paul Tremblay, 2019
© Перевод. Н. Нестерова, 2020
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
* * *
Пол Дж. Тремблей – американский писатель, работающий в жанрах хоррора, черного фэнтези и научной фантастики, произведения которого были отмечены тремя премиями Брэма Стокера, премией «Локус» и Британской премией фэнтези.
* * *
Посвящается (не таким уж и) малышам
* * *
Следующие рассказы изначально выходили в других изданиях
и публикуются здесь при наличии соответствующего разрешения.
«То, что растет». Сборник «Тем временем», Chizine Publications, 2010.
«Некто хочет знать, так ли все плохо, как он думает». Журнал «Бурбон Пенн», выпуск 8, 2013; а также антология «Лучшие странные истории года», том 1, 2014.
«Кое-что о птицах». «Черные перья» (антология), ред. – Эллен Дятлоу, Pegasus Books, 2017.
«Побег». «Сверхъестественный нуар» (антология), ред. – Эллен Дятлоу, Dark Horse, 2011.
«Девятнадцать снимков, сделанных в Денниспорте». «Кейпкодский нуар» (антология), ред. – Эллен Дятлоу, Akashic, 2011.
«Где все мы будем». «Марионетки Гримскрайба» (антология), ред. – Джозеф Палвер, Miskatonic River Press, 2013.
«Учитель». ChiZine Publications, также публиковался в антологии «Тем временем». Номинирован на премию Брэма Стокера.
«Заметки к ”Амбару в лесу“». «Дети старой пиявки» (антология), ред.: Росс Локхарт и Джастин Стил, Word Horde, 2014.
«___________». «Письма Лавкрафту» (антология), ред. – Джесс Буллингтон, Stone Skin Press, 2014.
«Монстр нашего города». ChiZine Publications, 2010.
«Дом с привидениями – это колесо, в котором что-то сломалось». «Выпотрошенный. Прекрасные истории ужаса», ред.: Даг Мурано и Д. Александр Уорд, Crystal Lake Publishing, 2016.
«Она не покинет меня». Журнал «Темные открытия», выпуск 37, 2016.
«Дальнейшие вопросы к сомнамбуле». «Безумие доктора Калигари» (антология), ред. – Джозеф Палвер, Fedogan and Bremer Publishing, 2016.
«Ледяная башня». «Горящая дева», том 2 (антология), ред. – Кристофер Гольден, «Titan Books», 2017.
«Ее красная правая рука». «Хеллбой. Коллекция историй ужасов» (антология), ред. – Кристофер Голден, Dark Horse, 2017.
«Кормить уток запрещено законом». «Фантастический журнал», выпуск 2, 2004; также входил в сборник «Тем временем».
* * *
Слезы поливают землю, на которой мы растем.
Уильям Шекспир
То, что пугает меня, напугает и остальных.
Мэри Шелли
Папа покажет мне чудищ,
Мама покажет мне уродцев.
Из песни «Секс-подземелья и драконы»группы «The St. Pierre Snake Invasion»
То, что растет
1.
Отец почти два дня просидел заперевшись в своей комнате. Теперь он бродит по прихожей и останавливается только для того, чтобы поковырять почерневшим ногтем потрескавшийся дверной косяк. Он что-то бормочет себе под нос, делится секретами с видавшей виды дверью.
Отец всегда вел себя с ними очень сдержанно, а его серьезность граничила с угрюмостью, но они все равно любили его и не только потому, что он был для них единственной живой душой, к которой они могли обратиться за помощью. С недавнего времени он перестал есть и отдавал свою долю дочерям: Марджори и Мерри. Из-за отсутствия еды он как будто помешался и стал вести себя «как чокнутая белка в колесе» – именно так часто называла его мать, сбежавшая больше четырех лет назад. Дочери напуганы его теперешним непредсказуемым поведением, их мучает чувство вины, словно в них заключена причина его страданий, поэтому они договорились вести себя тихо и держаться подальше от него. В углу гостиной между кушеткой и телевизором с запыленным экраном они устроили себе гнездышко из одеял и подушек и играют в карты. Вчера Мерри нарисовала на пыльном экране улыбающуюся рожицу, но Марджори быстро стерла ее ладонью, которая тут же стала черной. В доме нет водопроводной воды, чтобы она могла помыть руки.
Марджори – четырнадцать, но она лишь чуть-чуть выше ростом своей восьмилетней сестры. «Пора рассказывать истории», – произносит она. Марджори часто говорила Мерри, что их мать любила рассказывать им разные истории. Некоторые были забавными, другие – грустными и даже страшными. Эти истории были обо всем на свете, но Мерри не помнит их.
Мерри отвечает:
– Не хочу сейчас слушать твои истории.
Ей интереснее наблюдать за отцом. Мерри представляет себе отца с пушистым хвостом и надутыми щеками, за которыми спрятаны желуди. И эта ассоциация с белкой будит в ней одно из немногих сохранившихся у нее воспоминаний о матери.
– Она будет совсем коротенькой, честное слово. – На Марджори все те же шорты не по размеру и футболка, которые она носит всю неделю. Ее каштановые волосы такие сальные, что кажутся черными, а светлая кожа вся покрыта веснушками и прыщами. У Марджори на коленях лежит книга «Вокруг света».
– Ну ладно, – говорит Мерри, но на самом деле не слушает сестру. Она продолжает следить за отцом, который роется в шкафу с зимней одеждой, выбрасывает оттуда куртки, колючие шерстяные свитера и зимние штаны. Насколько она может судить, на дворе все еще лето.
Яркие краски на обложке книги Марджори кажутся приглушенными в полутемной гостиной. На каминной полке мерцают и медленно оплывают свечи. Но их света недостаточно для чтения. Впрочем, сестры к этому уже привыкли. Марджори закрывает глаза и наугад открывает книгу. Она начинает листать ее, пока не останавливается на странице с нарисованным карикатурным Нью-Йорком. Здания из красного кирпича и синее море заполняют всю страницу и словно пытаются вытеснить друг друга, сражаясь за драгоценное свободное место. Мерри уже раскрасила улицы в зеленый цвет мелком, от которого остался огрызок размером меньше ее ногтя на большом пальце руки.
Они давно привыкли, что отца нельзя беспокоить, поэтому Марджори говорит шепотом:
– Правда ведь, Нью-Йорк – самый большой город на свете? И когда они стали расти там, это значило, что они смогут разрастись во все стороны. Они захватили Центральный парк. Стали быстро подниматься вверх, вытеснили траву, деревья, проглотили все цветочные клумбы. За каждый час они вырастали на целый фут, и так было повсюду.
Вчера она рассказывала о фермах на Среднем Западе и о том, как поля кукурузы, пшеницы и сои захватили сорняки. Люди не могли остановить их рост, и поэтому не стало еды. Мерри уже не в первый раз слышала эту историю.
Марджори продолжает:
– Они пробивались сквозь асфальт, поглотили всю воду в прудах и фонтанах Центрального парка и стали захватывать близлежащие улицы. – Марджори вещает как священник в церкви, куда их водила мама, когда они все вместе ездили в город на горе. Мерри испытывает смешанные чувства грусти и злости из-за того, что так хорошо запомнила старого морщинистого священника – особенно как странно от него пахло детской присыпкой и еще чем-то землистым, – но почти не помнит свою мать.
Марджори говорит:
– Люди в городе не могли помешать их росту. Когда их побеги срезали, те вырастали снова и еще быстрее. Никто не знал, как и почему они растут. Видишь ли, под асфальтом нет почвы, там только канализация, и все равно они росли. Побеги и корни разбивали окна в домах, а некоторые люди взбирались вверх по растениям и воровали еду, деньги и телевизоры. Но скоро они так разрослись, что людям стало слишком тесно в их домах, растения всех вытеснили, и гигантские здания стали трескаться и рушиться. А они росли быстро, быстрее, чем где бы то ни было, и ничто не могло им помешать.
Мерри, слушая сестру вполуха, достает из кармана своей пижамы обломок зеленого мелка. Она меняет свою пижаму каждое утро в отличие от сестры, которая вообще не переодевается. Мерри начинает рисовать мелком на паркете, ей хочется, чтобы отец пришел в комнату, застал ее за этим делом и начал кричать. Возможно, тогда он прекратит надевать на себя всю зимнюю одежду, перестанет вести себя как чокнутая белка.
Отец, переваливаясь с ноги на ногу, входит в гостиную. Он тяжело дышит, дыхание его несвежее, лицо кажется осунувшимся, постаревшим и посеревшим, его покрывают капли пота. Он говорит:
– У нас кончились все запасы. Я должен пойти на поиски еды и воды.
Он не обнимает и не целует дочерей, только гладит их по головам. Мерри роняет кусочек мелка к его ногам, и тот катится по полу. Отец отворачивается, и они понимают, что сейчас он уйдет и уже может не вернуться. У двери он останавливается, складывает руки в перчатках и варежках в трубочку около рта и кричит, повернувшись влево, в сторону кухни, как будто не оставил только что своих дочерей на груде одеял в гостиной:
– Никому не открывайте дверь! Никому! Стук будет означать, что этому миру пришел конец! – С этими словами он открывает дверь, но совсем чуть-чуть, так, чтобы удалось протиснуться через образовавшийся проем. Дочери не видят внешнего мира, только вспышку яркого солнечного света. Легкий ветерок врывается в их дом, а вместе с ним – шелест листьев, напоминающий звук бензопилы.
2.
Мерри сидит, скрестив ноги, рядом с входной дверью. Марджори вернулась в свое гнездо из одеял и теперь спит. Мерри рисует на двери зеленые линии. Они длинные и толстые, а на их концах она изображает маленькие листики. Она никогда не видела тех растений, но именно так себе их представляет.
Жалюзи на окнах опущены и падают на подоконники, словно обвисшие паруса, а занавески задернуты. Они перестали выглядывать в окна после того, как отец взмолился, чтобы они этого не делали. И даже теперь, когда он ушел, они не будут смотреть в окна. Когда все только началось, в тот день, когда отец вернулся домой и весь его пикап был набит едой и другими запасами, он заикался, а его ответы на многочисленные вопросы дочерей были непонятными, путаными и противоречивыми. Его узловатые руки двигались чаще, чем губы, он постоянно снимал и снова надевал перепачканную сажей бейсболку. Мерри особенно врезалось в память, как он сказал, что растения напоминали нечто среднее между бамбуком и кудзу. Мерри дернула его за рукав фланелевой рубашки и спросила, что такое бамбук и кудзу. Отец улыбнулся, но тут же отвел взгляд, словно понял, что сболтнул лишнего.
При резких порывах ветра за окнами старого скрипучего домишки слышится свист. В прихожей и гостиной окна похожи на черные прямоугольники, по краям которых пробивается желтый свет, и стекла дрожат в рамах. Мерри смотрит на деревянную дверь и прислушивается – не раздастся ли звук, который она никогда прежде не слышала: стук в дверь. Она сидит и слушает, но в конце концов ее терпению приходит конец. Она бегом поднимается по лестнице наверх в свою спальню, достает чистую пижаму, снова переодевается в темноте, аккуратно сворачивает грязную пижаму и убирает ее в комод. Затем Мерри бежит в их гнездышко и будит старшую сестру.
– Он вернется? Или он тоже сбежал?
Марджори просыпается и медленно поднимается. Она берет книгу, лежащую у нее на коленях, и прижимает ее к груди. Ее пальцы сгибают края страниц и теребят картонные уголки обложки. Несмотря на прыщи, она выглядит младше своих четырнадцати лет.
Марджори качает головой и отвечает на другой вопрос, который даже не был задан:
– Пора рассказывать историю.
Раньше Мерри нравилось слушать истории, до того, как все они стали о растениях. Теперь ей хочется, чтобы Марджори перестала их рассказывать, чтобы она превратилась обратно в старшую сестру, прекратив играть роль матери.
– Больше никаких историй. Пожалуйста. Просто ответь на мой вопрос.
Марджори возражает:
– Сначала история.
Мерри сжимает руки в кулаки и изо всех сил старается не расплакаться. Сейчас она так же зла, как в тот день, когда Марджори рассказала всем детям на игровой площадке в городе, что Мерри любит ловить пауков, а потом пинцетом по очереди отрывать им ноги. И что она хранит у себя в комоде банку с их плоскими безногими телами.
– Я не хочу слушать истории!
– Мне плевать. Сначала история.
Марджори всегда удается настоять на своем, даже теперь, когда она замкнулась в себе и начала чахнуть. Из своего гнезда она выбирается только в туалет. И ходит как старушка – суставы и мышцы ее ног задеревенели из-за того, что она почти не двигается.
– Ты даешь слово, что ответишь на мой вопрос, если я послушаю твою историю? – спрашивает Мерри.
Марджори отвечает только:
– Сначала история. Сначала история.
Мерри не понимает, что может значить такой ответ: «да» или «может быть».
Марджори рассказывает о пригородах – местах, которые окружают большие города. О том, как растения уничтожили красивые газоны и сады у частных домов, а затем стали пускать корни и разрушать тротуары и дороги. Люди выливали на них миллионы галлонов гербицида, средства для очистки труб, щелочи и отбеливателя. Но растения ничто не брало, а химикаты просочились в подземные воды, которые стекали в хранилища питьевой воды, и все отравили.
Как и в большинстве историй Марджори, Мерри понимает не все. Например, она не знает, что такое подземные воды. Однако смысл истории ей ясен. И в голове у нее рождается крик, но она прикладывает все силы, чтобы не выпустить его наружу.
Она говорит:
– Я выслушала твою историю, теперь ты ответишь на мой вопрос, идет?
Мерри забирает у Марджори книжку, и та, как ни странно, без сопротивления отдает ее.
– Я устала. – Марджори облизывает сухие потрескавшиеся губы.
– Ты же обещала. Когда он вернется?
– Мерри, я не знаю. Правда, не знаю. – Вокруг ее рук и ног обвито одеяло, и кажется, что ее разрезали на части и разбросали по их гнезду.
Мерри хочется стать совсем маленькой и заползти в карман своей сестры. Она спрашивает ее совсем тихо:
– В прошлый раз все так же случилось?
– В какой прошлый раз? О чем ты?
– Когда мамочка сбежала от нас. Именно так все и было, когда она от нас убежала?
– Нет. Она была несчастна и ушла. А он пошел раздобыть нам еды и воды.
– Он счастлив? Когда он уходил, он не показался мне счастливым.
– Он счастлив. С ним все хорошо. Он нас не бросит.
– Так, значит, он вернется к нам?
– Да. Конечно, вернется.
– Ты обещаешь?
– Я обещаю.
– Хорошо.
Мерри верит старшей сестре, которая однажды разбила нос третьекласснице по имени Элизабет за то, что та посадила Мерри на спину паука-косиножку.
Мерри покидает гнездо и возвращается на свой пост – садится, скрестив ноги, в прихожей. В тени у входной двери. Ветер продолжает усиливаться. Дом растягивается, сжимается и стонет, звуки используют малейшую возможность заполнить собой пустоту. Затем с внешней стороны двери доносится тихий, едва различимый стук, похожий на легкие прикосновения к дереву. Впрочем, если это действительно стук, то постучать так может только кукольная ручка с кукольными пальчиками, такими малюсенькими, что они способны найти на двери трещинки, не видные обычному глазу, проникнуть в них и вылезти с противоположной стороны. Внутри дома.
Мерри остается сидеть, но выгибается и кричит:
– Марджори! Кажется, я слышала, как кто-то постучал в дверь!
Мерри закрывает ладонью рот, испугавшись, что тот, кто постучал, наверняка услышит. Несмотря на свой страх, она понимает, что этот тихий звук был таким легким, неуловимым, едва слышным, что, возможно, он ей просто почудился. Вероятно, она просто выдумала его, сочинила свою собственную историю.
Марджори говорит:
– Я ничего не слышала.
– Кто-то тихо постучал. Я слышала. – Мерри прижимается ухом к дереву, закрывает глаза и пытается придумать конец истории про стук. Один-единственный стук превращается в целый шквал, созданный тысячами маленьких кукольных ручек этих безликих игрушек, которые, возможно, приползли сюда из Нью-Йорка, и они карабкаются, взбираются друг на друга, чтобы только постучать в дверь. Мерри обхватывает себя руками в ужасе оттого, что дверь может сорваться с петель и упасть на нее. Стук продолжает нарастать, а затем стихает вместе с умирающим ветром.
Мерри прижимает руки к двери и говорит:
– Прекратилось.
Марджори отвечает:
– Там никого нет. Не открывай дверь.
3.
Марджори ничего не ела уже несколько дней. Из еды у них остается только несколько упаковок вяленого мяса и полпачки готовых завтраков «Чериос». В подвале – всего две бутылки с питьевой водой, по галлону каждая. Они стоят в углу под лестницей. С фонариком в руках Мерри садится на сырые доски рядом с лестницей, пластиковые бутыли прижимаются к ее бедру. Здесь прохладнее, но ее ноги в резиновых сапогах все равно потеют. Сапоги она надела на всякий случай, если вдруг решит пойти к дальней стене, поискать банки с соленьями или консервами, которыми мог запастись отец.
Мерри сидит здесь уже больше двух часов и светит фонариком в земляной пол. Когда она спустилась сюда в первый раз, кончики побегов растений лишь чуть-чуть торчали из-под изголодавшейся по солнцу земли. Теперь самые высокие из них вымахали больше фута высотой и напоминают копья. На концах они покрыты листьями, которые наверняка будут задевать ее коленки, если она захочет пройтись по подвалу. Она думает, что, скорее всего, на ощупь листья шершавые. Возможно, они даже ядовитые, хотя сестра никогда не говорила ничего подобного.
Рано утром Мерри решила, что хватит ей сидеть у входной двери и ждать, пока в нее постучат, нужно заняться чем-нибудь еще. Она занялась делом: переставила свечи на каминной полке и зажгла несколько новых, хотя отец говорил, что она еще слишком маленькая, чтобы пользоваться спичками. Она обожгла кончики большого и указательного пальцев, когда зажгла первую спичку и наблюдала за тем, как синее пламя извивалось на ее конце. Разобравшись со свечами, она приготовила для Марджори сменную одежду и оставила на диване небольшой плотный сверток. Она выбрала для нее зеленое платье, которое Марджори никогда не надевала и которое сама Мерри с удовольствием бы стала носить. Затем она подмела пол в гостиной и кухне. Обломки соломинок от веника вызвали у нее тревогу.
Марджори почти весь день спала и проснулась только для того, чтобы быстро рассказать историю о том, как растения разбивали склоны гор, словно яичную скорлупу, заполняли каньоны и долины буйством зелено-коричневых цветов и выпивали все пруды, озера и реки.
Мерри освещает фонариком известняковые стены фундамента дома, но не замечает никаких трещин или повреждений, как в недавних историях про растения. В своих рассказах Марджори любит преувеличивать. Например, Мерри действительно выискивала пауков и убивала их, это правда, она поступала так из-за их дергающихся ножек. Просто когда она наблюдала за тем, как пауки каким-то невероятным образом взбираются по стенам или ползают по потолку и при этом двигаются так, словно исполняют заранее поставленный кем-то танец, в голове у нее начинало твориться нечто невообразимое. Это было похоже на землетрясение. Но она никогда не была настолько жестокой, чтобы отрывать им ножки пинцетом и коллекционировать их безногие тела. Мерри не могла понять, почему Марджори рассказывала про нее такую ужасную неправду.
И все же вначале Мерри верила в истории Марджори о растениях, верила, что растения были даже хуже, чем их описывала сестра, и это пугало Мерри больше всего. Но теперь, когда она стала наблюдать за поселившимися в их подвале ростками и черенками, они кажутся ей не такими ужасными. Да, они настоящие, но совсем не похожи на чудовищ, которые поглощают города и разрушают горы.
Мерри хочет провести эксперимент, поставить опыт, поэтому выключает фонарик. Она слышит только свое дыхание, этот звук похож на барабанный бой: такой сильный и громкий, что он полностью наполняет голову, и в кромешной темноте голова становится средоточием всего. Понимая, что ее собственное тело является источником этих ужасных звуков, она впадает в панику, но тут же успокаивается, воображая, будто на самом деле эти звуки издают побеги, которые растут, вылезают из-под земли и тянутся вверх. Мерри снова включает фонарик и смотрит на пол в подвале – она уверена, что за это время появились новые ростки. Вытянутые и заостренные кончики самых высоких побегов украшают поразительно зеленые листья, каждый – размером с игральную карту, и на конце они тоже вытянутые и заостренные. Стебли растут ровными аккуратными рядами, хотя со временем эти ряды становятся все более тесными, а расположение побегов – более сложным. Мерри снова выключает фонарик, сидит одна в темноте, дышит, прислушивается, а когда включает его, то смеется и хлопает себя по ноге свободной рукой, заметив прогресс в росте побегов.
Мерри начинает фантазировать, что ее отец вернется домой невредимым, принесет продукты, на его землистом лице будет сиять счастливая улыбка, и он больше не станет вести себя как чокнутая белка.
Но ее мечты резко обрываются. За прошедшие дни их отец стал чем-то непостижимым, недосягаемым, как дерево, затерявшееся в огромном лесу, или история, которую она слышала давным-давно и совсем забыла. Возможно, то же самое пережила когда-то Марджори по отношению к своей матери? Когда их мать убежала, ее сестре было примерно столько же лет, сколько сейчас Мерри. Для Мерри их мать – скорее, какой-то смутный образ, а не живой человек. Неужели и отец станет для них таким же чужим, если не вернется? Мерри боится, что воспоминания о нем, в том числе и самые незначительные, улетучатся и вернуть их никогда больше не удастся. Она уже пытается с жадностью цепляться за спрятанные глубоко в памяти сцены из прошлого: как прошлой весной и летом, пока Марджори гостила у подруги, они с отцом раз в неделю ездили за покупками. Как на каждом светофоре его рука начинала осторожно подкрадываться к ней по сиденью грузовика, чтобы хлопнуть ее по коленке, если только она не успевала первой шлепнуть по его сухой шершавой руке. Как они все вместе ехали домой, и он разрешил дочерям отстегнуть ремни безопасности, пока они поднимались по извилистой дороге в гору. Мерри сидела посередине, и на каждом повороте девочки скользили по длинному сиденью. Возможно, тогда отец просто терпел их дикий смех и наигранные крики, пока они соскальзывали друг на друга или на него, и скрывал свое раздражение? Или же он с удовольствием принимал участие в их игре и сам наклонялся то влево, то вправо вместе со своим грузовиком, из-за чего его дочери кричали еще громче? Она этого уже не помнит. Мерри не может подобрать слов, но мысль о том, что в этом мире люди исчезают, как дни на календаре, пугает ее, она желает только одного: чтобы она сама и те, кто ей дорог, могли укорениться на одном месте и никогда это место не покидать.
Мерри хочется расспросить Марджори о родителях и не только о них, но она сильно переживает за сестру. Марджори явно не в себе. Сегодня утром, рассказывая историю, она даже не открыла свою книгу. А когда Мерри уходила из гостиной в подвал, Марджори опять спала, и ее веки были фиолетовыми, как сливы. Что, если Марджори тоже убежит и оставит ее совсем одну?
Мерри кладет включенный фонарик на пол лестничной площадки и пытается выровнять его желтый луч так, чтобы он осветил как можно больший участок пола в подвале. Она поднимает одну из бутылей воды и отдирает пластиковое кольцо, закрепленное вокруг крышки, затем идет в центр подвала. Она не видит, что находится ниже ее лодыжек – именно на этом уровне располагается луч фонаря. Земля под ногами рыхлая, комковатая, местами даже кажется твердой. Она словно послание, написанное шрифтом Брайля, которое она не в силах расшифровать. Мерри надеется только, что не наступит на один из новых побегов.
Она снимает крышку, пытаясь удержать бутыль, и выплескивает воду себе на руки и на пижамные штаны. Ее плечи дрожат, пока она держит тяжелую бутыль на сгибе своих острых локтей. Вода продолжает вытекать и собираться каплями на листьях. Она знает, что воду нужно беречь, поэтому выливает совсем чуть-чуть, а потом – еще немножко, надеясь, что вода доберется до корней.
Мерри закрывает крышку на бутыли и возвращается на лестничную площадку. Сейчас она поднимется наверх, нальет две чашки воды и заставит сестру выпить одну из них. А потом заберется в гнездо вместе с Марджори и уснет, думая о своих растениях в подвале. Она сделает все это и не только, но сначала посидит немного у лестницы с выключенным фонарем и будет слушать в темноте песню растений. Она послушает немного и снова включит фонарик.
4.
Она не задула свечи перед тем, как лечь и уснуть в их гнезде из одеял. Почти все свечи полностью догорели и оплавились. Осталось только три. Восковые сталактиты свисают с каминной полки. Мерри просыпается на левом боку нос к носу со своей сестрой. Уже много дней у них нет возможности принять ванну или просто умыться, и прыщей у Марджори стало больше, они буквально захватили все ее лицо. Твердые с белой головкой эти нездорового вида красные бугорки испещрили ее кожу, и кажется, будто ее лицо покрыто трещинами, словно это и не лицо вовсе, а сальная маска, которая вот-вот отпадет. Мерри задумывается о том, не случится ли с ней то же самое.
Марджори открывает глаза: ее зрачки почти полностью сливаются с темно-карей радужной оболочкой. Она говорит:
– Растения продолжат расти до тех пор, пока все истории не закончатся. – Ее скрипучий, старческий голос доносится откуда-то из самой глубины груди, где был скрыт, как припрятанный кем-то из забытых родственников праздничный свитер.
Мерри отвечает:
– Пожалуйста, не надо так. Будут и другие истории, и ты мне их расскажешь. – Она протягивает руки, чтобы обнять сестру, но Марджори зарывается лицом в одеяло и вся сжимается в комок.
Мерри спрашивает:
– Марджори, как ты себя чувствуешь сегодня? Ты пила воду? – Ответ на ее вопрос находится на краю стола, расположенного между ними и диваном: стакан, в который она вчера вечером налила воды, по-прежнему полон. – Марджори, что ты творишь? Ты должна пить воду! – внезапно Мерри захлестывает волна гнева. Она начинает бить свою сестру и выбрасывать из их гнезда все одеяла и простыни. Его, оказывается, так просто разворошить. Она выкидывает «Вокруг света». Книга пролетает у Марджори над головой и падает где-то позади нее. Марджори не шевелится. Она продолжает лежать, сжавшись в комок, даже после того, как Мерри выливает воду из стакана ей на голову.
Мерри садится на колени перед своей лежащей ничком сестрой и закрывает ладонями лицо, пытаясь спрятать от самой себя то, что натворила. Наконец она набирается мужества, чтобы открыть глаза, и говорит:
– Марджори, расскажи мне историю о нашем отце. О том, как он вернется. Пожалуйста!
– Больше никаких историй.
Мерри стучит по мокрому плечу Марджори и говорит:
– Нет. Ничего страшного. Прости. Я все уберу, Марджори. Я все исправлю. – Она соберет одеяла и простыни и опять сделает из них гнездо, вытрет Марджори насухо, заставит снять мокрую одежду и надеть зеленое платье, а потом они поговорят о том, что делать дальше и куда они пойдут, если их отец вернется.
Мерри встает и оборачивается. Выброшенные из гнезда одеяла лежат посередине гостиной, превратившись в три маленькие палатки, каждая – высотой по колено, и у каждой откуда-то появились острые короткие колышки, которые поднимают одеяла над полом. Колышки не качаются и выглядят необычайно крепкими. Кажется, что они будут стоять, невзирая ни на что, даже если мир вокруг них начнет рушиться.
Мерри прижимает пальцы к губам. В гостиной совсем тихо. Она шепотом обращается к палаткам, произнеся имя Марджори, словно они – ее сестра. Медленно наклонившись, она хватает одеяла за их плюшевые края и быстрым широким жестом, словно фокусник, отдергивает их в сторону. Из пола гостиной торчат три полых стебля, а также кончики других стеблей. Деревянный пол – это оплавившийся воск свечей. Деревянный пол – это болезненная, пораженная прыщами кожа на лице Марджори. Мерри больше не узнает этот потрескавшийся, измятый, вздувшийся и покореженный пол.
С детской непоколебимой уверенностью она винит во всем себя, ведь это она поливала растения в подвале. Мерри пытается поднять Марджори с пола, но не может. Она говорит:
– Нам нельзя здесь оставаться. Ты должна подняться наверх. В нашу комнату. Марджори, пойдем наверх! Я принесу оставшуюся воду! – она хочет признаться, что потратила почти половину бутыли, чтобы полить растения, но вместо этого говорит: – Наверху нам понадобится вода, Марджори. Нам очень, очень сильно захочется пить.
Мерри обдумывает свои дальнейшие действия. Половицы, которые еще совсем недавно не были деформированы, жалобно скрипят под ее осторожными шагами. Зеленые листья и побеги на концах появившихся из-под пола стеблей что-то тихо шепчут, прикасаясь к ее коже, когда она очень медленно крадется по гостиной. Ей кажется, будто она идет так медленно, что стебли продолжат расти прямо под ней, подхватят ее как нежеланную попутчицу и поднимут наверх через потолок в их комнату на втором этаже, потом – на крышу, затем – на облака и дальше, мимо луны и солнца туда, куда они сами стремятся.
Мерри останавливается у двери, ведущей из гостиной в кухню, прихожая находится рядом, и кто-то снова стучится во входную дверь. Стук легкий, едва слышный, но настойчивый, исступленный. Она не должна открывать дверь, но, невзирая на беспредельный ужас, испытывает сильнейшее желание, граничащее с острой необходимостью, открыть дверь и посмотреть, кто или что находится по другую сторону от нее. Однако вместо этого Мерри поворачивается и зовет Марджори, которая все еще лежит не шелохнувшись. Мерри хочет, чтобы она проснулась и поднялась наверх, где будет в безопасности. Теперь рядом с их гнездом из-под пола начинают появляться кончики стеблей и побегов.
Мерри бежит на кухню, там под линолеумом тоже видны кончики стеблей, но повреждения еще не такие значительные, как в гостиной. Она берет с кухонного стола фонарик и открывает дверь на лестницу, ведущую в подвал. Мерри ожидает увидеть за дверью буйный непроходимый лес, но лестница по-прежнему на месте, и она может спуститься вниз, в свой сад. Она нагибается, проходя под толстым стеблем, который словно балка тянется вдоль потолка, и спускается вниз, на лестничную площадку, где стоят нетронутые бутыли с водой.
На лестничной площадке, которая немного выдается вперед, словно язык, пытающийся поймать капли дождя или снежинки, Мерри резко останавливается, слегка покачнувшись, а затем нащупывает бутыли. Она пытается поднять их обе, но сил у нее хватает только на то, чтобы нести одновременно одну полную бутыль и фонарик. Она думает о том, чтобы спуститься в подвал во второй раз, но не хочет этого делать. Второй, полупустой бутылью придется пожертвовать.
Прежде чем взобраться по лестнице, она светит фонариком в глубь подвала. Сначала на пол, который стал весь зеленый от новых побегов. Затем направляет фонарик вверх и насчитывает двенадцать стеблей, достигших потолка, после чего ведет по ним фонариком вниз. На самых высоких стеблях виднеются большие комки грязи, которые местами прилипли к ним или были проткнуты насквозь. Всего таких комков шесть, она пересчитывает их три раза. Один комок большой, как футбольный мяч, но овальной формы. Четыре других – вытянутые, тонкие, перевитые и свисают со стеблей как странные перезревшие и почерневшие овощи. В центре подвала три стебля держат на себе самый большой ком грязи, он имеет прямоугольную форму и размером – почти с саму Мерри. Этот ком прижат стеблями к самому потолку.
Мерри наводит луч фонаря на самый большой ком. Что-то свисает с него, словно вытекая тонкой струйкой из плотно утрамбованной земли. Она смотрит на него так долго, насколько хватает сил, в то время как дом у нее над головой продолжает разрушаться, и вдруг понимает, что перед ней кусок ткани, возможно, подол платья. Она почти может различить его цвет. Кажется, зеленый.
Прошлой ночью она слишком переволновалась, когда обнаружила растения в подвале, а потом играла с фонариком, но теперь, осмотрев подвал и обнаружив все это, особенно кусок ткани, Мерри вспоминает, как ходила по подвалу в резиновых сапогах, наступая на нечто такое, чего не могла увидеть, на неожиданно твердую и комковатую землю. Она понимает, что ходила по костям той, которая исчезла, беглянки.
Мерри выключает фонарик и швыряет его в подвал. Листья шелестят, и слышится глухой тихий удар. Она взбирается по лестнице в темноте, думая обо всех тех костях у нее под ногами. Мерри злится на себя за то, что не распознала кости ночью, но как можно ее в этом винить? Ведь она толком не знала свою мать.
Мерри взбегает по лестнице на кухню, спотыкается и несется мимо продолжающих расти стеблей. Стук в дверь уже не тихий и больше не похож на таинственный оркестр кукольных ручек. Теперь он – само воплощение силы. Его источником является один настойчивый кулак, огромный, как ее скукоживающийся старый мир, и, возможно, такой же большой, как и разрастающийся новый. Дверь дрожит на петлях, и Мерри вскрикивает при каждом ударе.
Она бредет из прихожей в гостиную. Марджори все еще там, но она уже встала и покинула гнездо. Она сидит на корточках между стеблями, которые торчат из пола. Марджори сжимает пальцами побеги и листья, отрывает их и кладет себе в рот.
Стук во входную дверь становится все громче. Отец сказал, что если в дверь постучат, то миру придет конец. Вместе с неумолимыми ударами в дверь слышится голос:
– Впустите меня!
И этот голос такой же надорванный и надтреснутый, как и пол в гостиной.
Мерри кричит:
– Марджори, нам нужно подняться наверх! Скорее, скорее, скорее!
Снова стук. Снова крик:
– Впустите меня!
Мерри представляет, как растения собрались у ее двери и сплелись в кулак, огромный, как их дом. Листья начинают дрожать в определенном ритме, и этот коллективный шелест порождает их голос.
Мерри представляет, что у двери отец. Тот, которого она никогда не знала. С выпученными глазами, белой пеной на губах, он брызжет слюной и требует впустить его в собственный дом, который он построил, который создал из камней, дерева и земли – из всех этих мертвых предметов. Этот приказ из двух слов служит предвестником конца всего. Она представляет себе, как отец выламывает дверь, видит, что его старшая дочь ест листья растений. Видит, о чем узнала его младшая дочь – ведь это написано у нее на лице крупными буквами, как в книжке сказок.
Марджори не смотрит на сестру, которая жадно поглощает листья и побеги. Потом внезапно Марджори перестает есть, ее голова запрокидывается назад, веки начинают дрожать, и она падает на пол.
Мерри бросает бутыль с водой, закрывает ладонями уши и идет к Марджори. Марджори была неправа, когда говорила, что не будет больше никаких историй.
Мерри расскажет Марджори еще одну. Мерри заставит ее подняться и отведет наверх, в их спальню. Она позволит Марджори выбрать самой, что ей носить, и не заставит ее надевать зеленое платье. Они не станут обращать внимания на стук в дверь, а когда им ничего больше не будет угрожать, когда все наладится, Мерри задаст Марджори два вопроса: «Что, если за дверью не он?» и «Что, если это все-таки он?».
Некто хочет знать, так ли все плохо, как он думает
В тот день я запомнила только дорогу. Она тянулась бесконечно далеко и уходила в никуда. Деревья по обе стороны от нее были похожи на башни, которые поднимались в самое небо и держали нас, как в тисках, не позволяя выбрать другое направление. Когда мы только отправлялись в путь, листья на деревьях были оранжевыми, а когда все закончилось – зелеными. Пунктирные линии разметки посреди дороги все время оставались белыми. Я аккуратно ехала по ним, словно от них зависела наша жизнь. Я думала, что так и было.
Нас показали в теленовостях. О нас написали в нескольких газетах. Одну из статей я вырезала и храню у себя в заднем кармане. Последняя строчка в ней подчеркнута.
«В полиции заявили, что не знают, почему мать семейства поехала на юг».
Мне срочно нужен перекур. При одной мысли об этом начинают зудеть кончики пальцев. Сейчас понедельник, время – после полудня, и я работаю на кассе «не больше 12 товаров», это дерьмовая работа, потому что у меня нет упаковщика, который помогал бы мне. Впрочем, от сегодняшних упаковщиков толку не много. Я нехочу, чтобы Дарлин работала на моей кассе.
С тренером Джули по юношеской футбольной команде я никогда не встречалась, но прекрасно знаю, как он выглядит. Брайан Дженкинс – городской нищеброд вроде меня, на пять лет старше, но выглядит на пять лет моложе; внешне – один из тех тощих парней, что так похожи на школьных учителей, даже если работают они не в школе, а в местном Департаменте общественных работ, вечно носит хипстерские очки, которые ему вовсе не нужны, а джинсам предпочитает штаны цвета хаки. Без проблем может поболтать с любым местным жителем, но только не со мной. Брайан полностью погружен в свои мысли, как и остальные люди в очереди, и действует машинально, выгружает перед моей кассой бутылки изотоника, коробку с хлопьями, упаковку печенья, зубную пасту и еще целую корзину дерьма, без которого жить не может. И пакет апельсинов. Он наверняка порежет их на дольки. Все тренеры по футболу так делают. Мне сказали не ходить на игры Джули, я и не хожу. Но могу иногда встать на противоположной стороне улицы и смотреть на поле, пытаясь разглядеть Джули, только это непросто, ведь я даже не знаю, какого цвета форма у ее команды. Брайан видит, что я сижу за кассой и подношу его апельсины к сканеру, размышляя о том, какой из них будет есть Джули; когда он видит, что я спрашиваю у него карту магазина и делаю это с улыбкой, надувая и схлопывая пузырь жвачки, провоцируя его ответить мне хоть чем-нибудь, чем угодно, он даже в глаза мне посмотреть не может. Что, тренер, язык проглотил, пока стоял в моей очереди?
Меня все время узнают, и я уже привыкла к тому, что у них не хватает мужества посмотреть на меня, хотя как к такому можно привыкнуть? Я не подписывалась играть для них роль пугала. Да, я совершала ошибки, но это не делает их лучше меня, не дает им права вечно меня осуждать. Это несправедливо. Когда у меня еще была возможность встречаться с доктором Келлегером, которого мне назначил суд, он говорил, что я должна вырваться из порочного круга негативных мыслей, в который меня засосало. Этот шарлатан во время сеансов так и норовил заглянуть в вырез моей блузки, но, думаю, он был прав, надо что-то менять. Когда я начинаю об этом размышлять, в голове у меня звучит старая мелодия Джона Леннона, та самая, которую напевала моя мама, пока расхаживала по дому. Она усаживала меня перед телевизором, а сама занималась своими «упражнениями». Надевала наушники от плеера, которые закрывали почти всю ее голову, и музыка играла так громко, что она не слышала, как я плакала или звала ее. Она говорила мне: «Прости, солнышко, мамочка тебя сейчас не слышит» – и ходила кругами по первому этажу дома, ходила целую вечность, ритмично покачивала головой и напевала одну и ту же мелодию из песни Леннона снова и снова. И вот сейчас я ловлю себя на мысли, что напеваю ее про себя. Иногда песня помогает отвлечься от всех проблем. А иногда – нет.
Я напеваю ее сейчас. От этих нот у меня начинают болеть зубы, и, черт возьми, как же хочется на перекур! Надо бы еще раз словить кайф, а то действие прошлой дозы почти закончилось. Я чешу обе руки одновременно. Возможно, со стороны это выглядит так, словно я обхватываю себя руками, пытаясь согреться. Здесь холодно, но я не замерзла.
Обычно по понедельникам в магазине немного народа, но северо-восток накрыло циклоном, и мамаши-домохозяйки, приехавшие на своих внедорожниках, а также всякие старушенции шляются по залу, сгребая с полок молоко, соки, хлеб, крупы и сигареты. Открыто еще три кассы, и в каждую – длиннющая очередь, поэтому менеджер Тони бегает туда-сюда, суетится, приглаживает пальцами свой отвратительный сальный зачес на лысине и направляет покупателей в мою кассу. Метель, скорее всего, будет не сильная, но все живо обсуждают ее, размахивают руками, проверяют свои телефоны. Я не слушаю их, мне все равно, о чем они там говорят. Я продолжаю напевать про себя мелодию Леннона и расчесывать руки, на которых уже появились красные полосы.
Дарлин порхает вокруг касс, задает вопросы остальным кассирам, пучит глаза, широко раскрывает рот и прижимает руку к груди, словно плохая актриса. Время от времени она смотрит в свой телефон. Понятия не имею, что она там разглядывает и умеет ли вообще им пользоваться. Телефоны есть у всех, кроме меня. Как и доктор Келлегер, смартфон больше не вписывается в мой стиль жизни. В финансовом плане.
Тони отправляет Дарлин ко мне. Чудесно. Не хочу показаться вредной, но она вечно тормозит всю работу. Обычно все кончается тем, что я начинаю упаковывать товары вместо нее, потому что она не видит одним глазом, у нее дрожат руки, и выглядит она, мягко говоря, не ахти. Не нужно ставить ее на упаковку, так как никто из покупателей, даже те, кто притворяется дружелюбным, не хочет, чтобы она трогала руками их покупки, особенно когда у нее течет из носа, а течет у нее постоянно. Они вообще не желают иметь с ней дела. Это становится особенно заметно, когда Дарлин околачивается около моей кассы, и ко мне никто не идет, даже если в других кассах длинные очереди, и это такой отстой, потому что мне приходится с ней общаться, а она вечно расспрашивает меня о моих парнях и о том, есть ли у меня дети. Я не такой человек, чтобы просто послать ее, сказать, чтобы она заткнулась и больше не задавала вопросов о детях. Наверное, она единственная в городе не знает, кто я.
Женщина в мешковатом сером свитере и легинсах перестает перешептываться со своей соседкой по очереди сзади, когда понимает, что я могу ее услышать. Меня тут же захлестывает глупое чувство вины. Я здесь пока что никому не сделала ничего плохого, и я ненавижу их и ненавижу себя за это чувство, потому что, разумеется, все дело во мне, а не в этой глупой снежной буре, из-за которой все в супермаркете «Биг Уай» так всполошились. Ничего мне не сказав, женщина начинает самостоятельно складывать в пакеты свои покупки. Еще чуть-чуть, и она оттолкнет локтем Дарлин, которая в кои-то веки не спешит заняться упаковкой.
Я не могу удержаться, мне нужно что-нибудь сказать.
– Спешите? Уезжаете из города? – Фразу «уезжаете из города» я говорю почти шепотом. Словно это какой-нибудь грязный секрет, известный всем.
– О. Да. Нет. Простите. Извините, – говорит она Дарлин, продолжая складывать покупки. Ее руки дрожат. Я знаю это чувство. Краем глаза смотрю на кредитную карту женщины и пытаюсь запомнить все шестнадцать цифр ее номера. Так, просто для развлечения.
Дарлин особенно не переживает, если ее отталкивают в сторону. Она смотрит на экран телефона, охает и кряхтит, как будто ей больно от того, что она там видит. Песня не помогает. Встреча с тренером Джули прямо выбила меня из колеи.
Тони по-прежнему пытается регулировать поток покупателей, но безуспешно. В каждой кассе – длинная очередь, и покупатели недовольно ворчат и оглядываются по сторонам в надежде, что откроются еще кассы. Самое подходящее время крикнуть Тони, что мне нужен перерыв.
Он открывает рот, чтобы возразить, сказать «нет, только не сейчас», но я взглядом заставляю его заткнуться. Он знает, что не может мне отказать. Он проходит сквозь толпу и садится за мою кассу.
– Только по-быстрому, – говорит он.
– Постараюсь. – Я беру свое пальто. Оно совсем тоненькое.
Он что-то бормочет себе под нос, возмущается, как же я не понимаю, что тут сейчас творится, но я его больше не слушаю.
Дарлин продолжает возиться у кассы, покупатели мечутся между полками с товаром и теснятся в длинных очередях, я уже собираюсь выскочить из магазина, как вдруг меня накрывает, на мгновение мне кажется, что сейчас случится опять как прежде: перед глазами все потемнеет, а потом я приду в себя и не буду знать, в какое дерьмо вляпалась, потому что я была уже не я и в этом состоянии сделала что-то очень плохое, но даже не знаю, что именно. Как в тот раз, который описывается в моей газетной вырезке – я, как и полицейские, не могла понять, почему та чокнутая баба, которая не была мной, решила вдруг поехать на юг вместе с моей дочкой.
Я говорю Дарлин:
– Дай взглянуть, что ты там рассматриваешь, дорогуша, – и пытаюсь забрать у нее телефон. Но не тут-то было! Дарлин мертвой хваткой вцепляется в него и три раза шлепает меня по руке. У нее обсессивно-компульсивное расстройство личности. Она точно так же хлопает покупателей. Иногда она хлопает по коробке с сухим завтраком, прежде чем положить его в бумажный или пластиковый пакет, или по пластиковым картам, если я кладу их рядом с платежным терминалом, а не возвращаю покупателям в руки.
Она отвечает:
– Это видео из новостей. Там творится что-то ужасное. Какая-то жуть вылезла из океана. Похоже на гигантского монстра! – шепчет она.
– Знаешь, я тоже хочу это увидеть. Покажи. Не бойся, я больше не буду отнимать у тебя телефон. Просто держи его передо мной, а я посмотрю.
Я пытаюсь подойти к Дарлин поближе, только она не может стоять на месте неподвижно, вечно болтается из стороны в сторону, как китайские колокольчики в грозу. На телефоне воспроизводится видео, но она с маниакальной одержимостью отдаляет от меня экран телефона, а когда я заставляю ее стоять смирно, чтобы не дергалась, Дарлин принимается кудахтать и хлопать меня по руке, так что я почти ничего не могу разглядеть. Мне удается только увидеть небольшой репортаж, снятый для кабельного телевидения. Внизу по экрану ползет строка. Но слов не разобрать. Кажется, я вижу, как нечто, напоминающее огромную волну, обрушивается на стоящие на берегу дома, а затем какая-то темная фигура, похожая на кляксу или тень, поднимается над водой, и, возможно, у нее есть руки, которые она вытягивает вперед, пытаясь что-нибудь схватить.
– О боже, вот оно! – верещит Дарлин и начинает наворачивать круги на пустом месте.
– Слушай, дорогуша, я не думаю, что это был настоящий репортаж. Какой-то фейк. Понимаешь, это вымысел? Наверняка трейлер к новому фильму. Скоро ведь должен выйти фильм про какого-то монстра, верно? Летом. Летом всегда выходят фильмы про больших монстров.
– Нет. Нет, нет, нет! Это настоящие новости! Это правда случилось! Все об этом только и говорят. Разве с тобой никто об этом не говорил?
– Что ты там делаешь? – кричит мне Тони.
Этого достаточно, чтобы сдвинуть меня с места. Я машу ему пачкой сигарет, в которой спрятана небольшая доза ябы[1].
– Не ждите меня! – говорю я достаточно громко и выхожу на улицу через раздвижные двери. До конца смены еще четыре часа. Когда я закончу, уже стемнеет. Ну и что с того? Я по-прежнему напеваю мелодию.
Идет снег, он заметает парковку. Я достаю таблетку ябы, завернутую в клочок туалетной бумаги, и глотаю ее без воды, представляю себе, как она падает в желудок, словно астероид. Потом закуриваю сигарету. Вдыхаю запах паленой бумаги. Закрываю глаза, просто потому что мне так хочется, а когда открываю их, то боюсь увидеть тренера Джули, ожидающего меня на заснеженной парковке. Боюсь, как бы он не сказал мне, чтобы я держалась подальше от футбольного поля. Боюсь, что ему и всему городу известно о запрете приближаться к дому Джули на расстояние меньше двухсот ярдов, запрете, который я постоянно нарушаю. Я не боюсь монстров Дарлин. По крайней мере, пока. Я боюсь, что буду вечно стоять перед «Биг Уай», но и уйти я тоже боюсь. Я боюсь, что остановку уже всю замело. Я боюсь, что надела неподходящую обувь. Боюсь, что не знаю, поедет ли Джули из школы домой на автобусе. Я боюсь дома. Моего и ее. Теперь это разные дома. Но когда-то ее дом был и моим тоже. Джули называет мою мать «Бабуля». Бабуля больше не отоваривается в «Биг Уай».
Я все еще напеваю про себя песню, теперь она звучит через окурок сигареты.
Боже, ты ведь знаешь, как это нелегко.
Пой песню, девочка.
После «Биг Уай» я не еду домой. Вместо этого сажусь в автобус и отправляюсь к Тони. Этот тупица дал мне ключи. Я надеваю его ботинки, но они мне слишком велики. Выпиваю пиво из его холодильника и пробую кое-что из его еды. Захожу в его спальню и ищу в тумбочке наличку. Нахожу пистолет размером с кулак, которым он мне не раз тыкал в лицо, и скомканные тридцать шесть долларов, но этого недостаточно.
Долго я тут не задержусь. Сегодня вечером я должна вернуться домой. У меня нет выбора. Жить, когда у тебя нет выбора, намного проще.
Сперва я сажусь за компьютер Тони и захожу на «Форум пользователей». Есть такой форум. Анонимный и бесплатный. Знаете, и то и другое – очень здорово, там я чувствую себя в безопасности, он помогает мне не сдохнуть. У меня там ник – «несовсемздесь», и вчера я запостила вопрос.
несовсемздесь
употребление мета
некто хочет знать: если проглотить ябу, не навредит ли это желудку? Некто и его знакомые иногда глотают ее, в том числе на голодный желудок, и это, наверное, нехорошо. или просто некто так считает, поэтому и хочет выяснить, так ли это плохо, как он думает. помогает ли использование туалетной бумаги? вызывает ли это боли?
Я называла себя «некто», хотя это и было запрещено правилами форума. Но другие тоже пользовались этим словом, оно стало чем-то вроде местной шутки. Первый же ответ сбил меня с толку.
ДокБраунстоун
Re: употребление мета
НЕКТО пробовал так делать и туалетную бумагу тоже использовал. От малых доз особого вреда не будет, разве что может случиться небольшой запор. А вот от больших будет совсем хреново… НЕКТО как-то проблевал так несколько часов, а его приятелю даже промывали желудок. Так и до передоза недалеко. Жестокая штука, особенно для желудка. Ты ешь ее, она ест тебя. Так что играй с метом аккуратно. Лучше не глотать его и не засовывать себе в задницу. В любом случае, результат можеттебе не понравиться.
Я не могу понять, из-за чего именно, по мнению пользователя «ДокБраунстоун», у меня может возникнуть запор: из-за небольшого количества мета или туалетной бумаги? Запоры меня не пугают. Если такая проблема возникнет, решу ее с помощью слабительного. Все равно питаюсь я плохо. Меня волнует только боль в животе, из-за которой ты сгибаешься пополам, как лист бумаги. Тут еще три ответа.
черепнаякоробка
Re: употребление мета
В интересах здоровья лучше принимать перорально, в таком случае уровень сыворотки крови и нейротоксичности будет невысоким. О да, некто именно этого недостает. Добавь немного кокса в апельсиновый сок или кофе утром и весь день будешь как заведенный. Друзья не говорили некто, что эффект будет не таким убойным?
усовершенствовательб9
Re: употребление мета
Некто слышал, что если глотать мет, то кайф будет просто сногсшибательным. Некто глотает его, и даже при маленьких дозах кайф сильный и длится долго.
снитидикал
Re: употребление мета
эй вы, маленькие нектоши, вылезайте. вам ясно? похоже, тут небезопасно.
Ответ «черепнойкоробки» меня особенно задевает. Он много писал на форуме и постоянно выводил меня из себя, я психовала из-за него, и мой желудок болел еще сильнее. Он ведь понятия не имеет, о чем говорит, но делает вид, будто такой всезнайка, притворяется, что ему все известно. Что он может взять и измерить сыворотку крови или нейротоксичность так же легко, как взвесить ингредиенты для приготовления капкейков. Сквозь боль я вдруг чувствую легкий приступ голода. Может, все-таки стоит что-нибудь съесть? Или просто представить себе, как ем капкейки, и тогда мне станет легче? Затем на смену мукам голода, порожденным старыми рождественскими воспоминаниями, приходит резкая боль, словно мачете врезается мне в кишки, я вскакиваю и кричу: «Да пошел ты!», обращаясь к монитору компьютера и к пользователю «черепнаякоробка». Я оступаюсь и переворачиваю дурацкое компьютерное кресло Тони, топчу его ботинками Тони, чтобы доломать окончательно, сбрасываю на пол клавиатуру, мышку и все эти дурацкие дерьмовые безделушки, которыми заставлен его системный блок, и топчу их тоже. Я никогда еще не была такой худой, но я все равно давлю и ломаю все своим могучим весом, и предметы хрустят у меня под подошвами, и вдруг весь мир вокруг меня погружается в темноту.
Я говорю Джули, что сломался трансформатор, поэтому в городе отключилось электричество и я приехала к ней.
Я говорю Джули, что ей нечего бояться.
Я спрашиваю у Джули, помнит ли она Юингов и их крошечный красный домик. Он был даже меньше, чем дом Бабули, но более ухоженный. Он стоял на том самом месте, где мы сейчас находимся. Их дом располагался посередине большого холмистого, покрытого лесом участка, как раз напротив дома Бабули. Мистер Юинг умер лет шесть назад, может, семь. А миссис Юинг отправили в дом престарелых. У нее была болезнь Альцгеймера. Их дети продали дом и участок местному подрядчику. Он снес маленький красный домик, выкорчевал все деревья, выровнял землю на участке и сделал террасы, а на вершине холма строит теперь здоровенный особняк в колониальном стиле. Я уже несколько месяцев слежу, как продвигается стройка. Мне так жаль Юингов. Подрядчик прячет ключи от дома рядом с гаражом в пластиковой коробке, за которой находятся уличные розетки. Я показываю Джули ярко-голубой футляр для ключей.
Я говорю Джули, что, когда была в ее возрасте, вечно сбегала из дома Бабули. Я просто переходила через дорогу, сворачивала за угол на Пайнвуд-роуд и шла к дому Юингов. У Юингов было пятеро детей, но они все уже выросли и жили отдельно. Я толком и не видела их. Я пряталась от Бабули, забравшись на одно из деревьев в саду Юингов, сидела там, пока миссис Юинг не приглашала меня в дом, и играла с их кошкой по кличке Булавка. Дом был совсем маленьким: один этаж и всего три спальни. Детские двухъярусные кровати вдоль стен, напоминающие полки в купе. Простыни были туго натянуты на взбитые подушки. У меня там возникало такое чувство, будто я очутилась в огромном кукольном доме.
Я говорю Джули, что кошка Булавка любила, когда я бегала за ней из комнаты в комнату, а она взбиралась по стенам и спрыгивала вниз. У нее была черно-белая шерстка, а из-под верхней губы торчал один зуб. Булавка позволяла мне трогать этот зуб, он был острым, но не таким острым, как иголка, понимаешь? Я рассказываю ей, как иногда нажимала на зуб слишком сильно, и мы обе кричали, а потом я извинялась, пыталась успокоить себя и ее и говорила, что все будет хорошо.
Я рассказываю Джули, что мне кажется, будто мистер Юинг не доверял мне и подозревал в том, что я украла его копилку с мелочью, которая стояла на комоде, и при первой же возможности старался отослать меня домой, но миссис Юинг была такой милой и говорила ему певучим голосом: «Билл». И она так говорила «Билл», что у меня краснели уши и щеки, ведь на самом деле она говорила что-то обо мне, или обо мне и твоей Бабуле. Тогда я не понимала, что именно. Затем миссис Юинг готовила мне сэндвичи с арахисовой пастой и джемом. Вероятно, она покупала яблочный джем специально для меня, ведь ее дети давно уехали.
Я говорю Джули, что мы потом раздобудем немного еды. Миссис Юинг всегда повторяла, что я должна чаще улыбаться, потому что я такая хорошенькая, и ее голос звучал так же напевно, как и при обращении к мужу, хотя я опять-таки не понимала скрытого смысла в ее словах. У меня хватает ума не говорить Джули, чтобы она сейчас улыбнулась. Ей уже восемь лет, и она слишком большая, чтобы слушать такую ерунду, правда ведь?
Не удивлюсь, если мои слова кажутся Джули полной бессмыслицей. Но я просто счастлива быть вместе с ней. Вот недостроенный дом. Стены и окна уже на месте. На полу пока еще нет паркета, только листы фанеры, а повсюду – опилки и штукатурка. Мы находимся в огромной комнате, которую построили над гаражом на две машины. На потолке в двадцать футов высотой столько углов, что в них можно заблудиться. Шорох наших ног отдается глухим эхом. Такое чувство, словно мы вдвоем – последние люди, уцелевшие на Земле.
За окном – сильная метель. Здесь слишком темно и холодно, поэтому остается только закутаться в одеяло, говорить, смотреть и слушать. Мои руки чешутся и дрожат, но не от холода. Джули уже достаточно большая, чтобы расположиться на мне, как на старом скрипучем кресле. Вместо того, чтобы почесать руки, я обнимаю ее. Я напеваю знакомую песню, пока она не засыпает. Но я не могу уснуть. Я больше не могу уснуть.
Налетает сильный ветер, и каркас дома стонет и трещит. Сквозь завывания ветра слышится грохот такой сильный, что у меня дрожат замерзшие пальцы на ногах. Я прижимаюсь спиной к стене, обхватываю Джули руками и ногами. Я говорю Джули, что это вовсе не взрывы, что иногда и зимой бывают грозы. Я несу всякую чушь, но что еще может сказать мама своей дочери?
Мы поднимаемся с пола. Джули делает это быстрее меня. Мои кости словно окаменели, а суставы проржавели, мне опять ужасно хочется курить. А может быть, и не только курить. Впрочем, какое там «может быть»?
Джули стоит у окна, прижавшись носом к стеклу. Мы находимся выше остальных домов в округе и видим дом Бабули внизу, у холма. Он кажется таким маленьким и как будто сделанным из мятого картона, скрепленного скотчем. Дом исчезает из вида, когда Джули дышит на стекло, и все покрывается туманом, пеленой, за которой исчезают снег и тьма за окном.
Грохот становится все сильнее, и по звучанию он ниже, чем гром. То есть кажется, что он ближе к земле. И он не прекращается, не исчезает, не становится эхом или воспоминанием. Он превращает фанерный пол в поверхность барабана. Электропила с острыми злобными зубьями вибрирует и гремит на самодельном рабочем столе посреди комнаты. Потом что-то с шумом ударяется в окно позади нас, Джули кричит и ныряет в одеяла. Я прошу ее успокоиться и посидеть там, а я сейчас вернусь.
Я медленно иду по темному дому. Мне уже много раз приходилось здесь бывать, и я хорошо запомнила расположение комнат. Практика, детка, практика. Тренер Джули по футболу тоже, наверное, поощряет практику? Надо пройти через большую комнату, спуститься на десять ступеней вниз, затем – через столовую, там свернуть на кухню. Здесь нет еще никаких мраморных столешниц, но этот идиот оставил медные трубы, которые я могу забрать и продать. Потом я быстро сворачиваю направо, спускаюсь на одиннадцать ступенек вниз, в подвал, поворачиваю налево, прохожу через дверь в гараж, рассчитанный на две машины, снова налево и через боковую дверь выхожу навстречу ревущему ветру, от которого у меня перехватывает дыхание.
На земле – снег глубиной около четырех или пяти дюймов, этого достаточно, чтобы закрыть носки ботинок Тони. Мои ноги тонут в ботинках, и я не могу согреться. Неудачница. Дрожащими руками я вытаскиваю пачку сигарет. У меня осталась только одна, только одна. Мир вздыхает и дышит громко, как кит у меня над головой. Вокруг скрипят и падают деревья, такое чувство, словно над нашим новым домом на холме разверзлись небеса. Вдали, возможно, в городе, слышен вой сирен. Снова грохот, опять что-то падает, все дрожит, и земля точно раскалывается. И мир опять вздыхает, и нет, мне это не кажется. Вдохи, а затем шумные выдохи становятся все громче. И такое чувство, будто дышит не один кит. У него есть компания. Высоко-высоко над домом Бабули, почти растворяясь во мраке, виднеются густые облака белого цвета, и появляются они в такт дыханию. Три, нет, четыре отдельных облачка, которые выпускают эти ходячие дымовые трубы. Господи Иисусе! Видео Дарлин! Они были там, они ходили и дышали высоко над всем. У дома Бабули спереди исчез кусок крыши. Большая часть крыши покрыта белым, но один из ее фрагментов превратился в черную дыру. Затем те ходячие дымовые трубы начинают двигаться и продолжают разламывать крышу дома Бабули, куски кровли разлетаются по двору, как мертвые черные дрозды, которые всегда падают с неба где-то на юге, но это происходит на юге, и, кажется, я понимаю, что чувствуют люди, когда видят это. Монстры – гигантские тени с огромными булыжниками на концах огромных рук и ног, хотя я не уверена, где у них руки, а где – ноги. Они начинают громить дом, ломать трубу и стены. Звенит разбитое стекло, трещит дерево, и надо всем повисают белые клубы пара – они дышат медленно, но громко и непрерывно, не останавливаясь ни на минуту.
Джули открывает окно надо мной и начинает кричать, звать Бабулю. Я просовываю голову в темный гараж и кричу ей как можно громче, чтобы не слышать это чертово дыхание и шум от разрушаемого дома Бабули. Я кричу, ору ей, чтобы она замолчала, чтобы перестала вести себя, как маленькая. Почему ты такая дурочка, они же тебя услышат!
Некто хочет знать, так ли все плохо, как он думает.
Земля дрожит еще сильнее, потому что они вокруг нас.
Мой желудок умер, мне больно разговаривать, но я все равно прошу Джули не смотреть больше в окно. Я говорю ей, что они ее увидят. Я умоляю ее тихим виноватым голосом.
Я говорю Джули, что в последнее время часто ходила мимо дома Бабули и слышала, как та кричала на нее, называя дурной, плохой девчонкой, и что она точно так же кричала на меня, поэтому я и убегала к Юингам – помнишь Юингов? – но теперь их здесь больше нет, поэтому я и забрала ее сегодня из дома, от Бабули.
С тех пор, как мы сюда пришли, Джули мне ничего не говорила, но теперь из-под одеяла и груды костей моих рук и ног она спрашивает, по-прежнему ли у меня есть пистолет.
Я отвечаю ей, что моя мама превратилась в Бабулю в тот день, когда ей позволили забрать тебя у меня.
А потом рассказываю о том, как это случилось в первый раз, немногим больше семи лет назад, ей в то время было всего восемь месяцев, и я тогда пришла и забрала ее. Я жила отдельно, в центре города, и этот ублюдок Джои с вечно кровоточащими деснами и сигаретными ожогами… Его так долго не было, что я думала, он уже не вернется, а я помню, что совсем не могла видеться с Джули, не могла просто взять и посмотреть на нее, и что хуже всего, я начала забывать, как она выглядит, и каково это, когда меня трогают ее маленькие пухленькие ручки, это, наверное, самое мучительное, что может быть на свете, правда ведь? Да и что еще могло меня тогда волновать? Так вот, из-за того, что эта боль все никак не стихала, я пошла в мамин дом, точнее, в дом Бабули, и я даже не могу сказать, действительно ли осознаю, что тогда происходило, или же просто в памяти осталось объяснение судьи и то, что рассказывали обо мне адвокаты: что я делала перед тем, как мы с Джули отправились на юг, где все утопало в зелени. Я помню, они говорили, что я вошла в мой старый дом, спокойная, как летний день (именно так выразился адвокат, кто-то еще высказал возражение на этот счет), а в руке у меня был большой нож, я вытащила Джули из ее кроватки, хотя не представляю, как бы я могла одновременно держать ее и большой нож. Мне это казалось бессмысленным. Я бы вела себя гораздо осторожнее. И да, после этого мама перестала быть моей мамой и стала твоей Бабулей, это значит, она стала кем-то другим, а этот ее тупой сожитель, с которым только по пьяни можно было связаться – не знаю, кем он там был, он еще ездил на старом красном грузовике, у которого с радиатора почти до земли свешивался ржавый ковш для уборки снега, – так вот, этот мужик был из тех, кто любит распускать руки, кто может вломиться к тебе в ванную, но его там не было, там была я, и, значит, там еще был нож, и эта новоявленная Бабуля… У нее был такой взбешенный вид, толстокожая, как крокодил, руки сжаты в кулаки, волосы пострижены так коротко, что напоминают шлем, но нет, постойте, она выглядела так, словно ее все достало, она была такой старой, худой, высохшей, но она так сильно на меня орала, как будто все у нее было в порядке, просто замечательно, кричала, что она нормальная, или нет, это не так, потому что затем она стала плакать, жаловаться, что больше не может это выносить, вообще ничего не может, говорила, что у нее нашли рак печени, и она сказала, давай, действуй, и я спрашиваю Джули, помнит ли она, как Бабуля все это говорила, и, черт возьми, у меня, кажется, все перепуталось: то, что происходило, когда Джули была маленькой, и события сегодняшней ночи. Можно ли упорядочить все, что происходило? Хотя, мне кажется, порядок теперь не имеет значения, потому что он все равно не изменит того, что происходит.
Я говорю Джули: некто не думает, что ничего такого не случится.
Мы слышим приближающийся вой сирен и слышим дыхание, тяжелый топот и все другие звуки за окном. Они такие громкие, словно мы уже находимся у них в животе.
Я говорю Джули, что бояться нечего. Я говорю ей, что к утру все закончится. Я говорю ей, что все дома вокруг нас и в остальном мире будут уничтожены, растоптаны, их сровняют с землей, но с нами все будет хорошо. Я говорю ей, что мы прокатимся на спине одного из монстров. Их черные чешуйки будут мягче, чем кажутся. Мы возвысимся над всем и почувствуем, как под нами дрожит земля. Я говорю ей, что монстр знает, куда идти, куда отвезти нас, и он унесет нас туда, где мы будем в безопасности, где все некто будут в безопасности. Я говорю ей, что она не помнит, как мы сбежали в первый раз, но мы сбежим снова. Монстр проследует по пунктирным линиям, и вместо деревьев вдоль дороги будут бродить другие монстры, крушить все вокруг и смотреть на нас, как мы едем на юг, не знаю почему именно на юг, почему некто стремится на юг, а может быть, все по-глупому просто – потому что там все утопает в зелени, потому что юг – это не здесь, потому что на юге все так же хорошо и плохо, как в любом другом месте.
За окном мелькают огни, слышится вой сирен, кто-то стучит в двери, по стенам, по крыше. Штукатурка и кусочки пластика сыплются нам на головы, мы падаем и откатываемся на середину комнаты. Джули кричит и плачет. Одной рукой я отвожу волосы с ее уха, чтобы прошептать прямо ей в голову. В другой руке у меня – пистолет Тони.
Я говорю Джули: «Тише, малышка. Тебе не о чем волноваться. Твоя мамочка с тобой».
Кое-что о птицах
«Нью дарк ревью» представляет: «Кое-что об Уильяме Уитли». Интервью с Уильямом Уитли Бенджамина Д. Пиотровски
«Творческий голод» Уильяма Уитли – сборник из пяти повестей и новелл, которые связаны между собой какой-то, на первый взгляд, невидимой нитью, – был опубликован в 1971 году издательством Массачусетского университета. Книга получила университетскую премию в области художественной литературы. Она вышла в ту пору, когда еще не было такой маркетинговой категории, как янг-эдалт литература; истории в ней рассказываются от лица молодых людей, начиная с четырнадцатилетней Мэгги Хольц, которая убегает из дома в лес и берет с собой своего шестилетнего брата Томаса – и все это происходит в течение двадцати дней Карибского кризиса, – и заканчивая последней повестью, чье действие переносится в недалекое будущее – в 1980 год: Вьетнамская война продолжается, призывной возраст снижен до шестнадцати лет, и отряд уставших, подвергшихся воздействию радиации подростков устраивает заговор с целью убить постепенно теряющего рассудок сержанта Томаса Хольца. «Творческий голод» – пророческая и глубокая (но при этом достаточно увлекательная) книга, отразившая тот хаос, который царил в мировой политике и социальной сфере в начале 1970-х. Сборник имел неожиданный успех у критиков и читателей, особенно среди студентов, поэтому «Творческий голод» стал одной из трех книг, выдвинутых на соискание Пулитцеровской премии, однако в 1971 году устроители премии решили не вручать ее. Так случилось, что сейчас «Творческий голод» практически забыт, между тем как последний, написанный Уитли рассказ «Кое-что о птицах», который был впервые опубликован в самиздатовском журнале «Пар» в 1977 году, до сих пор часто переиздается, вызывая споры и завоевывая сердца поклонников литературы ужасов и странной фантастики, и этот весьма ироничный факт не ускользнул от внимания добродушного семидесятипятилетнего Уитли.
Б.П.: Спасибо, что согласились на интервью, мистер Уитли.
У.У.: Я тоже рад встрече, Бенджамин.
Б.П.: Прежде чем мы приступим к обсуждению рассказа «Кое-что о птицах», кстати, замечу, что это мой самый любимый рассказ…
У.У.: Вы очень добры. Спасибо.
Б.П.: Я хотел спросить, не будет ли переиздаваться «Творческий голод»? До меня доходили кое-какие слухи.
У.У.: Правда? Для меня это новость. Конечно, было бы замечательно, если бы с книгой ознакомилось новое поколение читателей, но я не особенно на это рассчитываю да и не предпринимаю активных действий для ее переиздания. Поставленные цели она уже выполнила. Думаю, для своего времени это была важная книга, но сейчас устарела. Настолько сильно, что, боюсь, ее содержание плохо согласуется с современностью.
Б.П.: Между сборником «Творческий голод» и рассказом «Кое-что о птицах» у вас был довольно внушительный перерыв – целых шесть лет. Чем вы занимались в это время: писали что-нибудь или у вас были другие проекты, не связанные с литературной деятельностью?
УУ: Когда вы доживете до моих лет… я понимаю, это звучит как ужасное клише, не так ли? Поэтому позвольте переформулировать: когда вы сможете разделить мою точку зрения, шесть лет покажутся вам не таким уж и долгим сроком. Но я понял суть вашего вопроса. И постараюсь быть кратким. Признаюсь, я был тогда грубым и дерзким, после успеха первой книги я рассчитывал, что издательский мир расстелет передо мной красную дорожку и с восторгом будет принимать все, что я нацарапаю на салфетке. Возможно, так бы и случилось, если бы я получил Пулитцеровскую премию. Поэтому я воспринял решение никому не вручать ее как ужасный приговор всему моему творчеству. Соглашусь, глупый поступок, и, может быть, я рискую прослыть параноиком, однако отказ присваивать премию свел на нет дальнейший интерес к моей книге. Примерно год я пытался залечить мое уязвленное самолюбие, общался с коллегами из различных университетов и какое-то время даже не помышлял о том, чтобы написать еще что-нибудь. Затем более двух лет я изучал проблему все усугубляющегося топливного кризиса и перенаселения Земли. Я также много путешествовал: в Эквадор, Перу, Японию, Индию, Южную Африку. Именно во время этих поездок я и начал наблюдать за птицами. Я был полным профаном в этой области и до сих пор им остаюсь. Как бы там ни было, но я планировал написать роман на основе моих наблюдений. Только эта книга так и не появилась на свет. Я не написал ни одного абзаца. Я не романист. И никогда им не был. Когда путешествия утомили меня и я вернулся домой, я стал интересоваться антиквариатом и в 1976 году купил тот самый антикварный магазин, который располагается сейчас под нами, это и дало мне стимул превратить длинную и не особенно захватывающую историю в короткий рассказ. Я написал «Кое-что о птицах» вскоре после того, как открыл магазин, предполагая, что этот рассказ станет первым в еще одном цикле, посвященном, в той или иной степени, птицам. Эта история была непохожа на все, что я писал прежде: многие могут счесть ее непонятной, экстравагантной, но, тем не менее, она оказалась ближе всего к невысказанной правде, чем остальное мое творчество. К моему величайшему разочарованию, все глянцевые журналы скопом отказались публиковать рассказ, рынок жанровой литературы был мне совершенно неизвестен, поэтому я разрешил моей подруге, игравшей тогда в местной панк-группе, напечатать его в журнале, который она издавала своими силами. Я благодарен судьбе за то, что с тех пор рассказ так часто переиздавали.
Б.П.: От лица всех читателей, обожающих «Кое-что о птицах», позвольте заявить вам, что мы бы многое отдали за цикл рассказов, построенных вокруг этой истории.
У.У.: О, я бросил писательское ремесло. «Кое-что о птицах» стал логическим завершением моей недолгой писательской карьеры и прекрасно справляется с этой задачей до сих пор, Бенджамин.
Мистер Уитли говорит:
– Ну что, вам понравилось интервью?
Уитли ниже ростом, чем Бен, но его не назовешь маленьким человеком: у него широкие, как у борца, плечи и грудь. Кожа бледная, а взгляд карих глаз сосредоточенный, внимательный и полный решимости. Темные, практически черные волосы изрядно поредели, но явных залысин не заметно. На нем твидовый пиджак, шерстяные брюки, вязаный жилет сливового цвета, белая рубашка и серо-голубой галстук-бабочка, который так плотно прижат к шее, словно это бинт, закрывающий рану. Во время интервью он улыбался. Улыбается и сейчас.
– Мистер Уитли, все было отлично. Я безмерно благодарен вам за возможность поговорить с автором моего любимого рассказа.
– Вы очень добры. – Уитли барабанит пальцами по обеденному столу, за которым они сидят, и, прищурившись, смотрит на Бена, словно пытается лучше разглядеть его. – Бенджамин, пока вы не ушли, я хочу вам кое-что дать.
Бен болтает в чашке остатки остывшего чая «Эрл Грей» и решает все же не допивать его. Бен встает одновременно с Уитли, проверяет в кармане телефон и диктофон.
– Ну что вы, мистер Уитли, вы и так были невероятно добры ко мне.
– Ерунда. Вы оказываете мне большую услугу вашим интервью. Я отниму у вас совсем немного времени. И не приму отказа. – Уитли продолжает что-то говорить и исчезает в одной из трех комнат, закрытые двери которых ведут в ярко освещенную и безупречно чистую столовую, являющуюся также и гостиной. В центре комнаты находится обеденный стол из темного мореного дерева, крышка стола держится на одной-единственной ножке, толстой, как телефонный столб. У общей с кухней стены – встроенный книжный шкаф, его полки заполнены до отказа, наверху на шкафу стоят вазы и канделябры. В дальней стене – прямоугольное панорамное окно, синие шторы раскрыты и поднимаются до самой кромки высокого потолка, где лепнина мешает их дальнейшему продвижению. С третьего этажа открывается вид на Данхэм-стрит, а когда Бен подходит к окну, он видит внизу красный свет от вывески антикварного магазина Уитли. Комната красиво и элегантно обставлена, в ней много антиквариата, но Бен этого не понимает, так как его представление о мебели и декоре ограничивается «Икеей», к тому же он отличается патологической неспособностью собрать что-либо сложнее тумбочки.
Дверь открывается, и появляется Уитли. В одной руке он держит конверт, а в другой зажат какой-то маленький, ярко-красный предмет.
– Надеюсь, вы будете снисходительны к чудачествам старика. – Он замолкает и обводит взглядом комнату. – Я был уверен, что купил упаковку маленьких бумажных пакетов. Но, наверное, ошибся. Бенджамин, вы уж простите, что у меня такая дырявая память. Мы можем купить пакет по пути отсюда. Как бы там ни было, я хочу дать вам это. Пожалуйста, вытяните руку.
– Что это?
Уитли осторожно кладет на ладонь Бена птичью голову. Голова маленькая, размером с полдолларовую монетку. Бен никогда в жизни не видел таких ярких красных перьев – только у живого существа оперение может быть таким блестящим, и на мгновение он ловит себя на мысли, что ему хочется либо погладить голову птицы и приласкать ее, либо выбросить, пока она его не клюнула. У головы вытянутый толстый желто-коричневый клюв. Длиной он как вся голова птицы от макушки до основания. По краю клюва растут короткие темные перья, точно такие же окружают глаза. Непроглядно черные зрачки птицы утопают в красных радужных оболочках, но не таких ярких, как перья.
– Спасибо вам, мистер Уитли. Даже не знаю, что и сказать. Она… она настоящая?
– Это голова андского эубукко, обитающего в северной части Южной Америки. Прелестное создание. В описании указывается, что его клюв имеет цвет слоновой кости. Кстати, он похож на рог, вам не кажется? Они питаются фруктами, но также поедают насекомых. Мне кажется, эта неистовая маленькая птичка лучше всего вам подходит, Бенджамин.
– Ничего себе. Спасибо. Но я не могу взять ее. Это уж слишком…
– Ерунда. Я настаиваю. – Он протягивает Бену конверт. – Приглашение на один из тех вечеров, которые я время от времени устраиваю здесь. Всего будет шестеро, включая нас с вами. Мероприятие состоится… ой, да… уже через три дня. Знаю, такие приглашения лучше вручать заранее. Дата, время, а также дополнительные инструкции – все в конверте. Вы должны принести с собой голову андского эубукко, Бенджамин. Она – ваш входной билет, без которого вас не пустят. – Уитли тихо посмеивается, и Бен не знает, шутит он или говорит серьезно.
Б.П.: В этом рассказе столько неопределенных моментов, оставляющих простор для различных трактовок. Давайте начнем с самого начала, со странной похоронной процессии в «Кое-что о птицах». Взрослый персонаж, мистер Х______, вероятно, отец одного из ребят, который не выдерживает и называет его «Папой».
У.У.: Да, конечно. «Папа, тут слишком жарко, чтобы надевать костюмы».
Б.П.: Эта реплика спрятана посреди целого абзаца, представляющего собой поток сознания, в котором дети с восторгом описывают прекрасный день и высохшее, изъеденное насекомыми тело мертвой птицы. Это очень сильное сопоставление, к тому же нас умело вводят в заблуждение. Мы не понимаем, от чьего лица ведется повествование: всевидящего автора или кого-то из героев. Честно признаюсь, когда я читал рассказ в первый раз, я не заметил там слова «Папа». Я удивился, обнаружив его при втором прочтении. Многие читатели говорили, что с ними происходило нечто подобное. Вы так и задумывали это изначально?
У.У.: Мне нравится, когда важные для сюжета детали подаются в непринужденной манере, без нагнетания драматизма. То, что он отец одного, а возможно, и нескольких детей, и что он просто организует похороны этой птицы – домашнего любимца или праздник в честь нее, а вся эта странность и мрачность, окружающие данное событие, существуют лишь в воображении детей – только одна из возможных трактовок. Может быть, все это лишь притворство, часть игры, и мистер Х______ – кто-то совсем другой. Простите, я не смогу дать вам однозначного ответа, и, если вы не возражаете, я сейчас намеренно буду сбивать вас с толку.
Б.П.: Приму к сведению. Мистер Х______ ведет детей в лес, находящийся за старой заброшенной школой…
У.У.: А может быть, школа просто закрыта на лето, Бенджамин?
Б.П.: Ух ты! Ну, хорошо. Кстати, я оставлю это «ух ты!» в интервью. Мне хотелось бы обсудить имена детей. Точнее имена, которые они получают, когда добираются до поляны: Адмирал, Ворона, Полицейский, Контролер и, конечно же, бедняжка Кошачьи штанишки.
У.У.: А может, Кошачьи штанишки – не такой уж и бедный?
В 00:35 ночи раздается громкий стук в дверь Бена.
Бен живет один в маленькой квартире с одной спальней в подвале аварийного дома из красного кирпича, расположенного в районе, который изначально задумывался как престижный. В квартире почти нет мебели, но его это устраивает, единственное, чего ему недостает, – это естественного освещения. Бывают дни, особенно зимой, когда он подолгу стоит, прижавшись лицом к окошку, спрятанному за черной решеткой из кованого железа, около входной двери.
Кто бы там ни был за дверью, он продолжает настойчиво стучать. Бен неуклюже натягивает джинсы, берет металлическую трубу, которая стоит около прикроватной тумбочки (не то чтобы он когда-нибудь пользовался ею, он вообще не дрался с пятого класса школы), и направляется в комнату, которая служит ему одновременно гостиной и кухней. Он не включает свет и размышляет, проигнорировать ли стук или позвонить в полицию.
Из-за массивной деревянной двери слышится голос:
– Бенджамин Пиотровски? Я прошу вас, мистер Пиотровски. Я знаю, уже поздно, но нам нужно поговорить.
Шаркая, Бен идет через комнату и включает свет в прихожей. Он выглядывает в окошко у двери. На ступенях стоит женщина, на ней джинсы и черная толстовка с капюшоном. Бену она незнакома, и он не знает, что ему делать. Он включает верхний свет в гостиной и кричит через дверь:
– Мы знакомы? Кто вы?
– Меня зовут Марни. Я подруга мистера Уитли и пришла по его просьбе. Пожалуйста, откройте дверь.
Теперь, когда она представилась и сказала, что находится здесь по просьбе мистера Уитли, все начинает обретать смысл. Бен никогда не теряет бдительности. Но, несмотря на голос разума, он отпирает замок и открывает дверь.
Марни проходит внутрь, закрывает дверь и говорит:
– Не волнуйтесь, я ненадолго. – Она идет, положив руки на бедра, ее движения легкие, уверенные, как у спортсменки. Она выше Бена и совсем немного не достает до шести футов. У нее темные волосы до плеч, а глаза расположены как-то несимметрично: левый – немного меньше и находится чуть ниже правого. Ее возраст сложно определить – где-то между тридцатью и сорока с небольшим. Как и многим людям, уверенным в своей моложавости (на его румяных щеках до сих пор не растет даже легкая щетина), Бену кажется, что она выглядит моложе своих лет.
Бен спрашивает:
– Не хотите стакан воды или еще чего-нибудь… Марни, верно ведь?
– Нет, спасибо. Собрались чинить водопровод на ночь глядя?
– Что? Ой. – Бен прячет трубу за спину. – Нет. Это… кхм… эта штука для самообороны. Я подумал, что ко мне хотят забраться воры.
– Стук в дверь для вас приравнивается к краже со взломом? – Марни улыбается, но это фальшивая улыбка, такая обычно бывает у политиков. – Простите, если разбудила вас, поэтому сразу перейду к делу. Мистеру Уитли не понравилось, что вы разместили на своей страничке в Фейсбуке фотографию вашего входного билета.
Бен яростно заморгал, как взятый в плен шпион, в глаза которого направили свет яркой лампы.
– Что, простите?
– Вы опубликовали фотографию входного билета сегодня вечером в девять сорок шесть. На данный момент у нее уже триста десять лайков, восемьдесят два комментария и тридцать репостов.
Голова птицы. В перерывах между расшифровкой интервью и настойчивым игнорированием звонков из ресторана (этот засранец Ши опять звонил, чтобы поменяться сменами) Бен с восхищением рассматривал птичью голову. Его поразило, какой она была одновременно легкой и тяжелой на его ладони. Он потратил целый час на то, чтобы сделать постановочные снимки головы, и решил использовать одну из фотографий при публикации интервью. Сначала Бен положил птичью голову на корешок раскрытого блокнота, в котором он делал заметки по ходу интервью. Чуть-чуть повернул голову, чтобы была видна длина ее клюва. Фотография получилась слишком банальной и недостаточно загадочной. На следующих снимках он стал упражняться в несоответствии образов: голова посреди белой тарелки; голова в большой ложке; голова, обвитая синими шнурками от его кедов; голова на холодильнике или на подоконнике в обрамлении черных решеток за окном. Он снял голову крупным планом на потрескавшемся паркете так, чтобы черные глаза, красные перья и клюв цвета слоновой кости заполняли собой весь кадр. Зрители не смогли бы определить настоящий размер головы ввиду отсутствия фона или предметов для сравнения масштабов. Это был самый удачный кадр. Он опубликовал его с подписью: «Читайте скоро в «Нью дарк ревью»: «Кое-что об Уильяме Уитли» (ему показалось, что он придумал нечто невероятно умное). Разумеется, многие его друзья (ведь они были его друзьями, правда же? Можно ли считать полноценными знакомыми кучку аватарок и покрытых пикселями фоток, а также суждения, высказанные людьми, которых никогда не встречал лично?) по онлайн-сообществу любителей литературы ужасов с энтузиазмом комментировали фото. Бен сидел перед ноутбуком и наблюдал, как растет число лайков, комментариев и репостов. Каждый комментарий и репост вызывал у него неподдельный интерес, и он представлял себе, сколько просмотров может быть у его «Нью дарк ревью» благодаря этой фотографии. Он понимал, насколько глупой была эта мысль, но все равно никогда еще не испытывал такого предвкушения успеха и радости.
– Ну да, – говорит Бен. – Фотография с головой птицы. Черт возьми, извините. Я не знал, что этого нельзя делать. То есть я даже не догадывался…
– Мы понимаем ваш энтузиазм относительно мистера Уитли и его творчества, но неужели перед тем, как выложить в открытый доступ фото входного билета на закрытое мероприятие, проводимое человеком, который явно дорожит своей конфиденциальностью, вам даже не пришло это в голову?
– Честно говоря, нет. Но, поверьте мне, я ничего не писал про тот вечер, хотя сейчас я все равно чувствую себя полным идиотом. – Он говорил искренне. Нет, полным идиотом он себя не ощущал, но прекрасно понимал, что Марни сейчас попросит удалить его самый популярный пост на Фейсбуке. – Я прошу прощения.
– Вы всегда реагируете подобным образом, когда вам вручают приглашение на частную вечеринку? Когда вам делают столь личный подарок?
– Нет. Боже, нет, конечно. Вы не так поняли. Я опубликовал этот пост, чтобы… ну, знаете, чтобы подогреть интерес, создать небольшую шумиху вокруг интервью, которое выйдет завтра. Чтобы привлечь читателей. Я не думаю, что мистер Уитли осознает, сколько людей в сообществе любителей литературы ужасов обожает его «Кое-что о птицах» и как сильно им хочется узнать о нем больше, почитать его рассуждения.
– Надеюсь, больше никаких проблем не будет?
– Проблем?
– Недопониманий.
– Нет. Не думаю.
– Вы не думаете?
– Нет. Никаких проблем и недопониманий, обещаю. – Бен невольно пятится назад и натыкается на свой маленький кухонный уголок. Он роняет трубу, и та со стуком падает на пол.
– Вы больше не станете размещать фотографии в соцсетях? И не включите эту фотографию или упоминание о приглашении на встречу в публикацию интервью?
– Нет. Честное слово.
– Нам бы хотелось, чтобы вы удалили фотографию. Будьте так любезны.
В душе у него все кричит от возмущения, ему хочется возразить, что они ничего не понимают, что эта фотография может привлечь внимание читателей к интервью, что все от этого только выиграют. Вместо этого Бен говорит:
– Да, разумеется.
– Тогда, пожалуйста, удалите ее. И я хотела бы увидеть, как вы это делаете.
– Да, хорошо. – Он достает из кармана телефон и подходит к Марни. Она следит за его пальцами, пока он удаляет пост.
Марни говорит:
– Спасибо. Прошу прощения, если испортила вам вечер. – Она подходит к двери. Останавливается, поворачивается и говорит: – Бенджамин, вы точно хотите принять приглашение?
– Что вы имеете в виду?
– Вы можете отдать пригласительный билет мне, если не уверены, что справитесь с ответственностью. Мистер Уитли поймет.
Ему и в голову не приходило отдавать ей подарок писателя.
– Нет, все в порядке. Я оставлю голову у себя. То есть мне бы очень хотелось ее оставить. Пожалуйста. Я понимаю, почему он расстроился, и я больше не предам его доверия, обещаю.
Марни продолжает говорить, неожиданно переходит на личные темы, и происходит все это словно во сне.
У.У.: Мне хорошо известно о том, какую важную роль играют птицы в языческом фольклоре, а также о том, что они являются как бы ключом к пониманию свободы и способности отказаться от всего бренного.
Б.П.: Я думаю, это очень точное определение фантастической литературы, мистер Уитли. Мне хотелось бы, чтобы вы немного рассказали о странных именах детей. Иногда мне кажется, что дети играют роль фамильяров[2] мистера Х______. Безусловно, они его сопровождают и помогают в некоторых делах… возможно, даже лечат, ведь в самом начале книги упоминается, что у мистера Х______ была сильная хромота, но когда он идет за детьми в лес, то, судя по всему, уже не хромает.
У.У. (смеется): Как же мне нравится выслушивать различные теории по поводу моего рассказа!
Б.П.: Вы смеетесь, потому что я заблуждаюсь?
У.У.: Нет, вовсе нет. Когда я писал рассказ, я хотел, чтобы у него возникло как можно больше разных толкований, поэтому мне приятно узнавать новые интерпретации, о которых я даже не догадывался. По крайней мере, осознанно, если вы меня понимаете. Я буду честным с вами до конца, Бенджамин, и впервые публично признаюсь, откуда я взял имена детей. Из песен, которые исполняла малоизвестная панк-группа моей подруги Лиз. Надеюсь, вы не разочарованы?
Б.П.: Нет, что вы. Мне кажется, это нереально круто.
У.У.: Да, это была такая шутка, понятная только своим. Но эти, казалось бы, выбранные наугад имена тоже обрели особый смысл. По крайней мере, для меня.
Б.П.: А как вам такое аллегорическое прочтение – я читал статью одного моего знакомого критика, который считает, что за всеми этими странными и таинственными событиями кроется классическая история. Что Адмирал, Ворона и Кошачьи штанишки – это, своего рода, синкретические воплощения Гора, Осириса и Сета из египетской мифологии, а мистер Х______ не кто иной, как Уицилопочтли – мексиканский бог войны с головой птицы. Насколько близка ее трактовка к реальности?
У.У.: Я не пытался делать конкретных отсылок ко всем этим мифам о богах с телами людей и головами птиц. Но это не значит, что они не повлияли на мое творчество. В детстве я читал мифы о древних богах, и они остаются со мной, как и со всеми нами, даже если мы и не осознаем этого. В этом и заключается истинная сила литературы. И писатель, и читатель могут быть кладезями секретов, о существовании которых они не догадываются.
Бен просыпается только в час дня. Во сне ему снился долгий полуночный разговор с Марни. Они стояли в гостиной и даже не пытались сесть и расположиться поудобнее. Ему запомнилась часть этого разговора, она была следующей:
«Когда вы впервые прочитали «Кое-что о птицах»?» – «Лет пять назад» – «Когда вы переехали в город?» – «Наверное, года три назад» – «Наверное?» – «Простите, это было два года назад, в прошлом сентябре. Мне кажется, что я прожил здесь дольше. Не знаю, почему этот вопрос вызвал у меня замешательство». – «Взрослым вы всегда жили один?» – «Да». – «Как далеко вы находитесь от вашей матери? Можете сказать точно в милях?» – «Про мили я не уверен, но она живет в другом часовом поясе». – «Скажите, почему вам так не нравится ваша работа в ресторане?» – «Приходится изображать любезность. Из-за этого я чувствую себя никчемным и одиноким». – «У вас было много любовниц?» – «Всего две. И оба раза отношения продлились меньше двух месяцев. К сожалению, это было давно». – «Что было давно?» – «Когда у меня последний раз была, как вы выразились, любовница». – «Вы когда-нибудь держали в ладонях живую птичку и чувствовали, какая она хрупкая? Или, может, большая птица сидела у вас на руке или на плече, и вы ощущали, какая сила переполняет ее?» – «Нет. Никогда». – «Что вы выберете: когти или клюв?» – «Я бы предпочел крылья». – «Вы не можете выбрать крылья, Бенджамин. Когти или клюв?» – «Ни то, ни другое? И то, и это?» И так далее и тому подобное.
Бен не вышел на работу и не позвонил. Его телефон вибрирует от бесконечного потока сообщений с вопросами вроде: «Где ты?», «Ты придешь?». Он надеется, что вместо него вызвали этого засранца Ши. «Теперь я буду работать только над „Нью дарк ревью”», – говорит он звонящему телефону. Бен решает, что если избавится от и без того весьма хрупкой финансовой поддержки, то сможет наконец преуспеть на своем любимом поприще. Он говорит: «Тони или плыви», а затем упрекает себя за то, что не смог подобрать более подходящей ассоциации, связанной с птицами. Ведь именно птицы откладывают яйца на скалах где-то у берегов Ирландии, а потом матери выбрасывают своих птенцов из гнезд, и те падают к подножию утеса, чтобы либо взлететь, либо погибнуть. Бен полон решимости превратить свой любительский журнал со статьями о необычной современной литературе ужасов и странной фантастике в дело жизни. Он не настолько наивен, чтобы полагать, будто журнал сможет поддерживать его финансово, но, возможно, благодаря ему он сделает себе имя и обретет авторитет в данной сфере, и это поможет ему добиться большего. Он сможет размещать за деньги рекламные материалы различных издательств, а также запустить подписной сервис электронных книг. Невольно он начинает мечтать о том, как «Нью дарк ревью» выиграет премию в издательской индустрии. После такого успеха он выпустит антологию рассказов, посвященных Уитли, – цикл историй, написанных другими знаменитыми писателями и сосредоточенных вокруг рассказа «Кое-что о птицах». Как жаль, что его заставили удалить фото из Фейсбука! Он боится, что упустил возможность. Сообщения и электронные письма с вопросами, почему он удалил сообщение, только усугубляли ситуацию.
Вместо того, чтобы приступить к работе, реализовать свои идеи по продвижению журнала «Нью дарк ревью» и попытаться заработать на нем, Бен ищет в интернете информацию об ирландских птицах, живущих на скалах, и находит статью о кайрах. Они не выбрасывают своих птенцов из гнезд, птенцы следуют на зов своего отца, находящегося у подножия скалы. И они не летят. Птенцы пикируют вниз, отскакивают от склонов скал, и, если им удается уцелеть, они плывут по морю вместе с родителями.
Бен расшифровывает оставшуюся часть интервью и публикует его. Он размещает ссылки на него на разных платформах, однако интервью не вызывает такой же бурной реакции, как фотография с головой птицы. Он решает продумать долгосрочную рекламную кампанию для продвижения интервью, чтобы оно еще долго вызывало интерес, использовать, так сказать, концепцию «длинного хвоста» (популярный в маркетинге и издательском деле термин, куда же без него). После интервью Бен хочет опубликовать большое критическое эссе о творчестве Уитли. Он перечитывает «Кое-что о птицах» еще восемь раз. В гостиной вешает на стену картонную доску. Расписывает на ней основные события рассказа и чертит карту местности, где разворачивается действие, составляет список всех персонажей и для каждого создает досье, использует отрезки веревок и ниток, чтобы установить связи между ними. Он прикрепляет к доске карточки, на которых выписаны цитаты Уитли. Птичью голову он тоже рисует.
В ту ночь в дверь снова стучат. Но Бен не знает, реальный ли это стук, или он ему только снится. На этот раз звук совсем легкий, похожий на едва слышные прикосновения к двери, а не на стук. В то время, когда Бен писал эссе, он, может быть, и обрадовался бы еще одному визиту Марни, но сейчас натягивает одеяло на голову. В конце концов, стук стихает.
Позже на улице усиливается ветер, начинается дождь, и квартира наполняется разнообразными звуками, чем-то напоминающими хлопанье тысяч крыльев.
У.У.: В этом ведь и заключается вопрос, не так ли? Тот самый вопрос, который фактически задает заглавие истории. Меня всегда восхищали птицы, это началось задолго до написания рассказа. Я никогда не мог сформулировать почему. Да, рассказ странный, ироничный, возможно жутковатый, но на самом деле он о моей любви – другого слова я не способен подобрать, – любви к птицам. Простите, что никак не могу толком ответить на вопрос. Попробую еще раз. Наше восхищение птицами продиктовано не только этой пошлой эзотерической душевной тоской, многие из нас, причем не самые дурные люди, считают, что эти чудесные животные служат олицетворением наших озлобленных, близоруких душ, если у нас вообще есть души. Есть в птицах нечто необычное, как будто они не из этого мира, не так ли? И хвала за это небесам! Кажется, что они обладают знаниями, которые нам абсолютно неведомы. Я не уверен, что могу хорошо объяснить, но именно поэтому я и написал рассказ. В нем мне удалось рассказать о птицах намного лучше, чем я это делаю сейчас. Я, скромный наблюдатель, всегда считал, что наиболее подходящая эмоция, которую мы должны испытывать в присутствии птиц, – это благоговение. Благоговение – смесь страха и даже ужаса с неистовым исступлением.
Бен просыпается оттого, что телефон снова вибрирует – опять звонят из ресторана. В его спальне темно. И, насколько он может судить из своего похожего на пещеру жилища, на улице тоже еще не рассвело. Бен шарит по прикроватной тумбочке рукой и включает лампу, но свет только ухудшает его состояние. В изножье его кровати стоит комод. Он с ним с самого детства, его деревянная поверхность покрыта неосторожными сколами и белыми обрывками бумаги, оставшимися от наклеек с Покемонами. Наверху комода – птичья голова, и она стала такой же большой, как и его собственная. Даже больше. Но окрас оперения все тот же, как у андского эубукко. Красный цвет больших перьев кажется еще более невероятным, как будто прежде и не существовало настоящего красного цвета и впервые он появился на этом гротескном и прекрасном оперении. Бен понимает, что цвет служит для передачи определенной информации. Это предупреждение. Угроза. Как и коричневато-желтый клюв, толстый и выдающийся вперед, словно рог у носорога, – он сурово впивается в его спальню. Глаза у птицы больше, чем его кулаки, и черные зрачки также утопают в красном цвете.
Бен вскакивает, ищет металлическую трубу, сжимает ее обеими руками, как до нелепого короткую и абсолютно бесполезную бейсбольную биту. Он выкрикивает «Кто здесь?» несколько раз подряд, как будто, если станет многократно повторять этот вопрос, на него последует точный ответ. Но ответа нет. Он вбегает в гостиную с криком: «Марни?», открывает дверь в ванную и в кладовку – но там никого нет. Проверяет входную дверь. Она не заперта. Мог ли он сам не закрыть ее на ночь? С чувством глубокого сожаления он открывает ее и выходит на пустое крыльцо. За пределами его квартиры – другой мир из нагромождения кирпичных зданий, нескончаемого потока транспорта, машин, тесно припаркованных друг к другу, насколько хватает взгляда, и тротуаров – этих рек для пешеходов, которые понятия не имеют, кто он такой и что с ним происходит, и которым на это в общем-то наплевать. Бен понимает, что зря он вышел на улицу, поэтому возвращается в квартиру и снова кричит: «Кто здесь?»
В конце концов, Бен прекращает кричать и возвращается в спальню. Он ходит кругами перед комодом так, чтобы видеть птичью голову анфас, а не в профиль. Бен фотографирует ее на телефон и делает групповую рассылку (прикрепив фото) некоторым своим знакомым из сообщества любителей литературы ужасов и вирда. Он пишет им, что это новое фото, но его нельзя публиковать в открытом доступе. Через тридцать минут он получает самые разные ответы: от «Завидую!» и «Да, видел вчерашнюю фотку, но круто» до «Вчерашнее фото было лучше. Можешь прислать мне его?». Никто не пишет, что голова нереально большая, хотя это должно быть заметно, ведь она занимает значительную часть комода. Возможно, все решили, что это фотомонтаж? Или подумали, что птичья голова на вчерашнем фото (снятая крупным планом на полу) была такого же размера? А может бить, увидев это новое фото, они пришли к выводу, что на самом деле голова не того размера, что показался им в прошлый раз? Он пишет ответ: «Вчера голова была не такой большой», но вместо того, чтобы отправить сообщение, стирает его. Бен подумывает о том, чтобы разместить фото с головой на комоде в разных соцсетях, чтобы Марни могла вернуться и снова сделать ему выговор, и вот тогда он ее спросит, почему она вломилась к нему в квартиру и оставила здесь эту чудовищную голову. Ведь это наверняка ее рук дело.
После продолжительного внутреннего диалога Бен набирается мужества и берет голову в руки. Он очень осторожен, старается не дотрагиваться до клюва. Прикасаться к нему – неправильно, неуважительно. Опасно. Он готовится к тому, чтобы поднять тяжелый груз, сгибает колени, но голова на удивление легкая. Однако это не значит, что она хрупкая. Он предполагает, что она и должна быть такой легкой, чтобы большая птица, несмотря на свои размеры, могла быстро летать и охотиться. Взяв голову, он осматривает верх комода, пытаясь найти маленькую голову, которую дал ему мистер Уитли. Но не может ее отыскать. Вероятно, Марни заменила маленькую голову на эту, но его не покидает иррациональный страх, опасение, что за ночь голова просто выросла.
Перья немного маслянистые на ощупь, и Бен старается, чтобы они случайно не застряли между пальцами, пока он осматривает голову и переворачивает ее. Он не может рассмотреть, что находится внутри головы, хотя она явно пустая. Густые заросли красных перьев скрывают отверстие у основания шеи, и, когда он пытается отогнуть их или отодвинуть в сторону, другие перья тут же закрывают обзор. Тьма под перьями словно дразнит его, и кажется, что там – бездна.
Он засовывает в голову правую руку, ожидая нащупать гипс, или пластмассу, или, возможно, проволочный каркас, изнанку затейливой маски, или, возможно, хоть это и кажется невероятным, твердые кости черепа. Его пальцы осторожно исследуют внутреннее содержимое, оно теплое на ощупь, влажное, как мягкая глина, или мастика, или плоть. Он выдергивает руку и трет друг о друга пальцы, а потом рассматривает оставшуюся на них влагу. Он говорит сам с собой, спрашивая, действительно ли его пальцы влажные, он вытирает их о свои шорты. Его начинает мутить (но, как ни странно, это приятное ощущение), когда он думает о том, что мгновение назад его пальцы исследовали содержимое открытой раны. Осмелев, он снова засовывает руку в голову птицы. Бен прижимает пальцы к внутренним стенкам головы, и они проваливаются, как будто он прикасается к коже перезрелого фрукта или овоща. Он погружает пальцы в плоть головы, его рука дрожит, а запястье начинает ныть от напряжения.
С влажным хлюпающим звуком Бен вытаскивает руку. Он грубо переворачивает голову, на мгновение забыв о размерах огромного клюва, и его изогнутый кончик оставляет красную борозду на его руке. Он держит клюв рукой у самого основания, у него не хватает длины пальцев, чтобы полностью обхватить его. Бен пытается раздвинуть половинки клюва, подобно тому как неумелый укротитель львов раздвигает ужасные челюсти, но клюв не поддается, он крепко сжат, будто стиснутые зубы.
Бен относит голову в гостиную и аккуратно кладет ее на пол. Сам ложится рядом, осторожно гладит перья, стараясь не дотрагиваться больше до клюва. Если он будет долго и пристально смотреть на голову, то сможет увидеть свое отражение, крошечное и сжавшееся в комочек, как мышь-полевка, в черных омутах птичьих глаз.
Б.П.: И давайте кратко подытожим. Пожалуйста, остановите меня, если я где-то ошибусь или допущу неточность. Дети во главе с Вороной и Адмиралом выходят из леса, в который мистер Х______ запретил им ходить, и вы чудесно описываете диссоциативную фугу – психическое расстройство Адмирала: «Его новая сущность отделилась от старой, словно он сбросил прежнее оперение». Когда кто-то спрашивает (и мы не знаем, кто это говорит, не так ли?), куда подевался Кошачьи штанишки, Ворона отвечает, что он все еще в лесу, ждет, когда его найдут и заберут, что он не улетел. Кто-то (опять же говорящий не указан) хихикает и заявляет, что его крылья сломаны. Другие дети начинают шуметь, кричать и петь, они хотят пойти за Кошачьими штанишками. Мертвая птица, которую они принесли с собой, забыта. Мне нравится, что до конца остается неясно, надели ли дети маски по ходу истории или они были на них все это время. А может быть, на них вовсе не было масок. Мистер Х______ заявляет, что они смогут уйти от него только после того, как выкопают достаточно большую яму, чтобы малыша можно было уложить в нее, не помяв его перьев. Читатели не знают, говорит ли мистер Х______ о мертвой птице или же это зловещий намек на то, что могло случиться с Кошачьими штанишками – самым маленьким в их компании. Дети тут же уходят, и неясно, выкопали они яму или нет. Мистер Х______ направляется в лес вслед за ними и находит ватагу ребятишек на поляне, солнце клонится к закату, отбрасывая тени, создавая «живые барельефы». Дети высоко подпрыгивают, широко раскинув руки, словно хотят обхватить весь мир, а потом опускаются на то, что издали кажется кучей листвы размером с маленького, свернувшегося калачиком спящего ребенка. Мистер Уитли, это чудесный образ, он невольно навевает воспоминания о веселой, безалаберной, шумной детской игре, и вместе с тем дети похожи на стаю стервятников, исступленно клюющих тушу мертвого животного. Я хочу спросить, куча листьев – действительно просто куча листьев или под ними находится Кошачьи штанишки?
У.У.: Мне нравится, что в этой сцене вы увидели такие причудливые образы, Бенджамин. Но нет, я не стану прямо отвечать на ваш вопрос. Вместо этого я предлагаю вам небольшую игру. Позвольте спросить у вас вот что: вы хотели бы, чтобы Кошачьи штанишки оказался под кучей листьев? И если да, то почему?
В конверте, который вручил ему мистер Уитли, находится список требований. Бенджамин надевает черные носки, рубашку и темные брюки, в пару к которым когда-то шел двубортный пиджак. Он направляется на северо-запад и пешком проходит двадцать три квартала. Он входит в темный антикварный магазин через черный ход, протискивается между узкими полками, заполненными различным инвентарем и чучелами, к лестнице, которая ведет к квартирам на верхних этажах. Он никого не зовет и не называет ничьих имен. Все согласно инструкции.
Дверь в квартиру мистера Уитли закрыта. Бен прижимается ухом к двери, надеясь услышать голоса людей или еще какие-нибудь звуки. Но не слышит ничего. Он держит птичью голову в левой руке, слегка прижимая ее к боку так, что клюв упирается ему в ребра. Голова плотно замотана в белую бумагу, а изогнутый кончик клюва, кажется, в любую минуту может порвать обертку.
Бен открывает дверь, входит в квартиру и осторожно закрывает дверь за собой – так он выполняет последнюю из инструкций списка, который был в конверте. Бенджамин снимает обертку и прижимает голову к груди, словно щит.
В гостиной никого нет. Шторы задернуты, а между окнами висят три настенных светильника с одной лампочкой в каждом, свет от них слабый и тусклый. Он подходит к овальному обеденному столу, за которым они с мистером Уитли сидели три дня назад.
Бен не знает, что ему делать дальше. Во рту у него пересохло, губы потрескались, он боится, что, если сейчас откроет рот, чтобы заговорить, его вырвет. Наконец он выкрикивает:
– Мистер Уитли? Это Бен Пиотровски.
Ему никто не отвечает. Во всей квартире не слышно ни шороха, который выдавал бы чье-либо присутствие.
– Я опубликовал в интернете наше интервью. Не знаю, видели ли вы его, но надеюсь, оно вам понравится. И реакция читателей пока очень позитивная.
Бен медленно идет в глубь комнаты и вдруг ловит себя на мысли, что он мог бы зафиксировать все, что с ним происходит (в том числе и то, что произойдет с ним этим вечером дальше), а потом рассказать о своих переживаниях в необычном и забавном послесловии к интервью. Это отличная идея, которая только укрепит его и мистера Уитли репутацию в сообществе любителей вирда. Да, именно так он и сделает. Бен уже представляет себе реакцию в Сети, она будет еще безумнее, чем реакция на фотографию с птичьей головой. Начнутся споры и обсуждения по поводу того, является ли это загадочное послесловие вымыслом или все произошло в действительности, и не написал ли его сам Уильям Уитли. Интервью и послесловие станут идеальным дополнением к рассказу «Кое-что о птицах». Возможно, Бену даже удастся уговорить мистера Уитли написать послесловие совместно с ним. Или он предложит свою идею мистеру Уитли, чтобы он сам написал, но не послесловие, а рассказ, тогда интервью стало бы частью этого рассказа. А возможно, это положит начало новому циклу рассказов, и Бен примет участие в его создании.
Бен говорит:
– Кстати, эта птичья голова очень симпатичная. Вы, наверное, сами ее сделали. Я не специалист, но работа выполнена мастерски. Наверняка с этим связана какая-нибудь интересная история, и потом вы могли бы рассказать ее. – Ответом служит тишина, Бен добавляет: – Наверное, голову принесла мне ваша подруга Марни. Как вы знаете, мы разговаривали с ней позапрошлой ночью.
Воодушевление Бена по поводу нового цикла рассказов и его уверенность начинают таять в абсолютной, ничем не нарушаемой тишине. Возможно, он приехал раньше остальных, или это какая-то игра, и вечеринка не начнется до тех пор, пока он не решит, какую дверь ему открыть, и вот тогда… а что случится тогда? Это какой-то обряд посвящения? Он станет членом их маленького тайного общества? Бен, разумеется, надеется на это. Какую из трех дверей ему открыть в первую очередь?
Бен спрашивает:
– Мистер Уитли, мне нужно надеть птичью голову? Я прав?
Одна только мысль о том, что он окажется в темной птичьей голове, а его щеки, губы и веки будут прижиматься к тому, что находится у нее внутри, повергает его в ужас. Но сейчас ему больше всего хочется надеть птичью голову, чтобы огромный клюв возник у него перед глазами, как дирижерская палочка, с помощью которой он будет управлять волей других. Вот только он не наденет ее до тех пор, пока не убедится, что должен сделать это.
– Мистер Уитли, что мне сейчас делать?
Дверь слева от Бена открывается, и из нее выходят четверо: двое мужчин и две женщины, все в птичьих масках. Они обнажены, а их тела гладкие, тщательно выбритые. В тусклом свете их возраст невозможно определить. Здесь есть ворона с настолько черными перьями, что кажется, будто ее клюв растет из пустоты; сова с перьями медного цвета и желтыми глазами, такими большими, что в них может утонуть вся комната; элегантный сокол, чей клюв полуоткрыт в птичьей улыбке; и четвертая птичья голова, представляющая собой нечто среднее между павлином и попугаем, с яркими синими, желтыми и зелеными перьями, торчащими над глазами, словно древние зловещие башни.
Они разделяются и идут навстречу Бену, молча, непринужденно. Пятки их босых ног тихо шлепают по паркету. Мужчина в самой яркой птичьей маске, вероятно, мистер Уитли (или мистер Х______), на его коже видны пигментные пятна, морщины и другие признаки почтенного возраста, но мускулы на удивление тугие и рельефные.
Мистер Уитли берет из рук Бена птичью голову и надевает ему на голову. Бен часто дышит, словно готовится погрузиться на глубину, перья проносятся у него перед глазами, всеобъемлющая тьма окружает его, и в этой тьме заключено тепло, которое одновременно удушает и ласкает, а потом он понимает, что может видеть, но не так, как видел прежде. В ультрафиолетовом негативном спектре вся квартира кажется погруженной во мрак, но перья птиц превращаются в потрясающий фейерверк цветов; перед ним возникают потаенные цвета, которых еще мгновение назад не воспринимали его глаза, и эти цвета не поддаются описанию. Мысль о том, что он может никогда больше не увидеть таких цветов, наполняет сердце Бена внезапной тоской. Но насколько прекрасны птичьи головы, настолько же человеческие тела их владельцев с болтающимися, раскачивающимися руками и ногами кажутся уродливыми, слабыми, ущербными и невразумительными, и Бен невольно думает о том, что мог бы оторвать своим клювом эти нежные огрызки.
Двое мужчин и две женщины быстро снимают с Бена одежду. Ворона говорит:
– Кошачьи штанишки ждет, когда его найдут и заберут. Он не улетел. – И они ведут его через гостиную к двери, из которой они появились. Бен напуган мыслью, что она говорит о нем. Он сам не знает, кто он, кем он должен быть.
Они проходят в комнату, большую часть которой занимает огромный матрас. Кровати нет, матрас лежит прямо на полу. Он не застелен, нет даже покрывала. Посреди него – куча сухих листьев. Бен внимательно смотрит на листья, и ему кажется, что он видит очертания того, кто спрятан под ними.
Бен стоит в изножье матраса, пока остальные выстраиваются в ряд с противоположной стороны. Освещение в комнате не такое, как в гостиной. Здесь темно, но видно больше деталей. Маски не кажутся больше масками. Нет явных границ между головой и телом, между перьями и кожей. Неужели перед ним боги? Цвет перьев тоже стал темнее, словно они и не перья вовсе, а кожа хамелеона. Бен испытывает облегчение, потому что не он окажется тем персонажем под кучей листьев, но вместе с тем, ему страшно оттого, что он не сможет снять с себя птичью голову.
Остальные перешептываются, хихикают, ерзают, словно чувствуют его слабость и недостаточную серьезность намерений.
Ворона спрашивает:
– Что ты выберешь: когти или клюв? – Ее клюв почти весь черный, но по краям и на кончике проступает коричневый цвет, будто черная краска начала стираться от частого использования.
Бен отвечает:
– Я все еще предпочитаю крылья.
На матрасе что-то шевелится. Что-то шелестит.
Голос мистера Уитли говорит:
– Ты не можешь выбрать крылья.
Побег
В жизни в Вормтауне есть свои особенности, которых мой старший брат Джо либо не понимает, либо, напротив, понимает хорошо, но не хочет в этом признаваться. Мы живем в Вустере, который, словно дротик, застрял прямо посреди штата Массачусетс. Это вам не Бостон. Никакого океана, только река. Никакой старомодной исторической хрени, привлекающей туристов. Сплошь холмы, колледжи, больницы и церкви, благодаря которым этот загнивающий городишко не выглядит совсем уж неказистым. Что и говорить, место здесь не самое приятное. Но Джо и другие местные богемные типы, жаждущие признания, которого им все равно век не видать, активно стараются рекламировать погонялово «Вормтаун», или «Червегород», словно это придает Вустеру значимость, и как будто от смены гребаного названия жить тут станет хоть немного легче. Они называют себя вормтаунцами, как будто они, в отличие от нас, не обречены на вечное прозябание. Вот и я тоже использую это их забавное словечко, но только потому, что оно ржачное.
Сейчас пять утра. Я сижу на водительском месте ржавого «форда эксплорера» Генри, припаркованного позади ломбарда Эйс на углу Мейн и Веллингтон-стрит. Двигатель работает, багажник открыт, свет в салоне погашен. Сижу, значит, и жду, что будет дальше.
Джо вечно жалуется, что я никогда ничего не продумываю заранее, что действую машинально и вообще у меня куриные мозги. Ну конечно. Он – художник и за свои тридцать лет жизни не продал ни одной картины. Работает посудомойкой в каком-то ресторанчике рядом с Университетом Кларка. Местечко модное, открылось совсем недавно, к концу года, наверное, закроется. Он убирает со столов посуду и не получает чаевых от богатых студентов и их преподов-яппи. У Джо перерасход на двух кредитках, и он живет у своей вечно безработной девушки вместе с ее пятилетним ребенком в квартире с одной спальней. Да уж, Джо, ты все зашибись как продумал. Я хотя бы знаю, куда двигаться, и крепко держусь обеими руками за чертов руль.
Окно в машине опущено, хотя никакой надобности в этом нет. Через стекло я все прекрасно вижу. Это из-за Майка. Он просил меня так сделать перед тем, как отправиться в ломбард.
Черт, как же холодно. Я слишком легко оделся. На мне только коричневая фланелевая рубашка, черные джинсы и ботинки, зашнурованные на лодыжках. Я не взял куртку, а черное худи оставил в своей квартире. Если это мой единственный косяк, то еще ничего. Зима в этом году пришла рано. Черные перчатки совсем не греют руки. Я убираю руки с руля и тру ладони друг о друга, затем откидываюсь на спинку сиденья.
Выстрелы. Кажется, два подряд. Затем после долгого перерыва еще один, и от этого становится немного не по себе. Выстрелы глухие, они доносятся из ломбарда, но все равно звучат так, словно на пол с огромной высоты рухнули здоровенные телефонные книги. Зачем они стреляют? Теперь жди беды. А все должно было пройти более-менее гладко.
Внезапно мне хочется в туалет, хотя я послушался Генри и не стал пить кофе с утра. Я стараюсь дышать тише. Сквозь зарешеченные окна ломбарда ничегошеньки не видно. Я по-прежнему сижу один во внедорожнике на пустой парковке. Я переключаюсь с паркинга на нейтральную скорость, нога тяжело давит на педаль тормоза, я снова кладу руки на руль, туда, где они должны быть: на десять и на два часа.
Дверь черного входа распахивается, они выбегают все разом, кучка темных силуэтов, вижу, как мелькают их руки и ноги. Никто не кричит, они же не кретины, чтобы всполошить всю округу, шипящим шепотом они отдают приказы мне, их скромному водителю. Какое-то невнятное дерьмо вроде: «Поехали, поехали, поехали» и «Валим скорее отсюда».
Будет сделано. Я спокойно поднимаю стекло и слежу за ними в зеркало заднего вида: все происходит как-то одновременно и медленно, и быстро. Эти клоуны усаживаются в машину вместо того, чтобы поскорее запрыгнуть в нее. Тяжелая задница Майка опускается на сиденье позади меня, автомобиль качается. Грег проскальзывает на соседнее сиденье, стаскивая с себя лыжную маску с таким видом, словно она обжигает лицо, и бросает ее на пол автомобиля. Хорошо бы он потом не забыл подобрать ее и выбросить. Грег ужасно рассеянный, не может ни на чем сосредоточиться. Его вообще не стоило брать в дело, тем более уж пускать внутрь. Да, он рос с нами на одной улице, но знаете, он такой недотепа. Господи, его же уволили из бара «Айриш Таймс», где он работал барменом, когда поймали на том, что он воровал деньги у клиентов во время вечерних концертов. Генри идиот, раз решил позвать его, но ему не стоит все это высказывать. Это его шоу. Кстати о Генри, лыжная маска по-прежнему на его мясистом, как окорок, лице. Он бросает брезентовый мешок в багажник и сам запрыгивает внутрь. Я снимаю ногу с тормоза и медленно трогаюсь с места, продолжая наблюдать за Генри, который то появляется, то исчезает в темноте, как мерцающий огонек. Он дергает за шнурок и закрывает за собой дверь багажника.
Я выезжаю с парковки позади ломбарда, и они начинают кричать на меня. А Майк говорит: «Дэнни, дави на газ!» Боже ты мой. Я поворачиваюсь, чтобы ответить какой-нибудь хохмой и успокоить остальных, потому что все эти понукания начинают меня бесить. От страха у меня дрожат пальцы рук и ног, дыхание перехватывает. Майк шлепает меня открытой ладонью по уху, чтобы я смотрел на дорогу. В голове звенит, и на секунду все перед глазами становится белым. Удар Майка не облегчает моего положения, но мне удается свернуть налево на Мейл-стрит и ни в кого не въехать.
Они продолжают переговариваться сзади. Ухо горит, я стараюсь смотреть на синие и белые огни Мейн-стрит, пытаюсь сосредоточиться и придумать, что делать дальше. Я кричу через плечо два раза подряд:
– Засранцы, вы не хотите рассказать мне, что случилось?
Майк отвечает:
– Все шло как по маслу, кассу открыли без проблем, а потом этот громила решил врезать старику за прилавком. – Майк сделал паузу, ожидая, что Грег попытается ему возразить. Но у Грега хватает ума промолчать.
Хоть меня там не было, я могу себе представить, как все произошло. Эти трое набросились на старика у черного входа, так ведь? Генри знал, что старик будет там. Он заранее выяснял такие вещи. Значит, они на него набросились, вошли внутрь и заставили его открыть кассу за прилавком. Генри говорил с ним медленно, спокойно, словно гипнотизируя, убеждая, что все будет хорошо. Генри это умеет. Когда мы были детьми он подговаривал нас воровать сигареты и порножурналы. В общем, Генри убеждал старика, что ничего страшного не произойдет, никто не пострадает, что он пройдет к нему за прилавок, заберет деньги из кассы, а потом – украшения и часы, которые хранились в сейфовых ячейках. Вероятно, в тот момент старик и сказал нечто такое, что не понравилось Грегу, или как-то не так посмотрел на него – Грег часто ловил на себе косые взгляды: у него были слишком маленькие для его лица глазки, а рот напоминал прорезь. Или, может, у Грега просто чесались руки набить кому-нибудь морду, или он пытался доказать Генри, какой он крутой и чокнутый. Я сейчас не буду говорить это Майку, но все равно Генри виноват в том, что позвал Грега, он же знал, на что Грег способен. В данном случае он одним ударом перекинул того дряхлого старикашку через прилавок.
Майк говорит:
– А когда старик поднялся, в руке у него…
Грег прерывает рассказ Майка криками:
– Эй! Эй!
Я снова смотрю в маленькое зеркало заднего вида и вижу только, что Грег обернулся, встал коленями на сиденье, схватился руками за спинку сверху и заглядывает в багажник. Он раскачивается из стороны в сторону, пританцовывая, как собака, радующаяся предстоящей поездке. Может, ему, как и мне, хочется в туалет?
Грег говорит:
– Куда, черт побери, делся Генри?
Здорово. Парень совсем рехнулся? Почему бы Генри не сказать ему что-нибудь? Может, он ждет, когда Грег свесит голову вниз, и тогда внезапно стукнет его так, что у того искры из глаз посыплются?
Грег начинает выговаривать мне, что мы бросили Генри, что я все просрал, раскачивается, ударяется о стены машины и о сиденье, отталкиваясь от них, как резиновый мячик вроде тех, что можно купить в магазине за четвертак. Я тоже кричу ему в ответ:
– Ты вообще о чем?
Я говорю ему, чтобы он заткнулся, прошу Майка заткнуть его. Ноль реакции. Лучше бы ответили. Затем Майк поворачивается, но он слишком громоздкий, чтобы полностью развернуться на своем сиденье. Поэтому он просто выгибается и свешивает голову через сиденье в багажное отделение.
Майк говорит:
– Его тут нет.
И он произносит слова так, словно это реплика в фильме.
– Его здесь нет, – повторят Майк самому себе.
– Подождите, подождите. – Меня все это достало. – Генри? Генри, хватит придуриваться! – Мне никто не отвечает. Он ведь просто придуривается, правда? Прячется сзади за сиденьем, прикрывшись брезентовым мешком.
Но он не отвечает.
– Что ты наделал?
Я говорю:
– Я видел, как Генри бросил в машину мешок, а потом забрался сам. Я видел его. Клянусь, вашу мать! Он убрал шнурок и закрыл дверь багажника.
Грег просовывает голову между передними сиденьями и кричит мне в ухо, по которому ударили:
– Ни хрена ты не видел! Его там нет.
– Хватит, – возмущается Майк и дергает его назад, заставляя сесть на место. – Нам нужно подумать.
О, супер! Я, конечно, ценю Майка, но он – типичный громила, из тех, кто может дать тебе по уху, а вовсе не мыслитель. Когда ему приходится думать, он начинает злиться и может наворотить дел.
– Поворачивай, Дэнни. Мы не можем бросить его, – говорит Грег.
Внутри у меня все переворачивается. Чертов Генри! Теперь я понимаю, что его действительно нет в машине с нами. Генри не с нами, и это моя вина. Но мы не можем повернуть.
– Вы думаете, это отличная идея, да? Сейчас развернемся и подберем его на ближайшем углу, какие проблемы! – Затем я обращаюсь к Майку: – Назад мы не поедем. Но я сейчас остановлюсь.
– Зачем?
– Хочу посмотреть, что у нас в багажнике.
– Приятель, мы не можем бросить Генри, – говорит Грег.
Майк смотрит на меня. Точнее, на мое отражение в зеркале заднего вида. Возможно, там я выгляжу иначе.
– Мы не поедем назад. Мы не будем останавливаться. Нам сейчас нельзя останавливаться. Поезжай дальше.
Я киваю. Может, я неправ, и мозгом всегда был Майк, а вовсе не Генри. Майк прав. Насчет всего. Но если бы Майк сказал мне повернуть, я сделал бы это. Он знает Генри так же давно, как и я, мы оба ему всем обязаны.
Мы проезжаем мимо отелей, местного стадиона и медицинского центра. Нам часто попадаются съезды на трассу. Возможно, стоит воспользоваться одним из них и уехать прочь из Вормтауна. Вместо этого я включаю свет в салоне.
– Мешок на месте?
Грег поворачивается и смотрит в багажное отделение:
– Ружье и мешок там. – Он поднимает мешок, и там что-то звенит, словно он набит мелочью. – Тут столько крови. Господи, что за хрень?
– Генри ранили? – Я так и не дослушал историю о том, что случилось в ломбарде после того, как старик упал за прилавок, а потом прозвучали три выстрела.
Майк говорит:
– Старик достал пушку – какое-то полуавтоматическое дерьмо. Но я не думаю, что он попал в Генри. Я стоял рядом с ним, и он не сказал, что его ранили.
Я не спрашиваю насчет выстрелов, которые слышал. Теперь до меня начинает кое-что доходить. Я спрашиваю:
– Ладно, а как тогда закрылась дверь багажника?
– Что? – Майк снимает лыжную маску. Он трет ладонью свою бритую налысо голову и густую щетину вокруг эспаньолки. Закрывает глаза и складывает руки на груди. Грег садится на свое место и поднимает руки, показывая свои мокрые брюки. Они перепачканы чем-то красным.
Я говорю:
– Задняя дверь. Как она закрылась? Пока я вас ждал, ребята, она была открыта. Мы так договаривались. По-вашему, мне все это привиделось? И на самом деле Генри был ранен, он забрался в машину сзади, но у него не хватило сил закрыть багажник, а я, вероятно, тронулся с места, прежде чем дверь все-таки захлопнулась, и он выпал на парковку? Но что-то здесь не сходится. Как тогда закрылся багажник? Или вы хотите сказать, что Генри потом поднялся, закрыл багажник, постучал по нему два раза и пожелал нам счастливого пути?
Грег говорит:
– Вот блин. Нет, все было не так. Генри решил прикрыть свою задницу и подставить нас, повесить на нас и ограбление, и стрельбу. Мужики, эта кровь была на мешке. Его самого не подстрелили. Мешок лежал в крови старика после того, как Генри с ним разделался. Так ведь, Майк?
Майк отвечает:
– Я не помню. Я не знаю.
Грег продолжает:
– Да, так все, наверное, и было. Он бросил здесь мешок и свой обрез, чтобы повесить все на нас, а сам смылся. Ублюдок.
Майк поворачивается к Грегу и смотрит на него, как ребенок на большого страшного жука, которого собирается раздавить.
– Если даже он так и сделал, я его не виню. Мы все влипли в дерьмо из-за тебя.
Грег не отвечает ему, он боится Майка. Как и я. Я сворачиваю в жилой квартал, на дорогах уже появляются первые местные жители, спешащие на работу. Может, оно и к лучшему. Мы сможем затеряться среди будничного движения.
Грег спрашивает:
– Что будем теперь делать, ребята? Куда поедем?
Изначально мы собиралась проехать через весь Вормтаун, а затем направиться в Оберн, где у девушки Генри был старый фермерский дом. Тогда этот план казался нам хорошим. Сейчас я вижу, что в нем полно дыр, похожих на мультяшные мышиные норки. Может, мой брат Джо был прав. Я ничего не продумываю заранее.
Майк говорит:
– Мы не поедем к ней домой. Раз Генри решил нас сдать, ему это будет только на руку.
– А если это не так? – спрашиваю я совершенно искренне. Потому что мне кажется это неправдой. Это так не похоже на Генри. Он не устроил бы нам подставу даже после того, как у Грега сорвало башню и он натворил дел. Генри всегда о нас заботился. Он был на пятнадцать лет старше меня и работал на заправочной «Мобил» в нескольких кварталах от того места, где прошло мое детство. Он рано начал седеть и был похож на чьего-нибудь папашу. Пару раз он спасал нас с Майком, когда по дороге из школы на нас нападали другие мальчишки. Во второй раз, он проломил им головы велосипедной цепью. Так что Генри защищал нас. Он возил нас по Вустеру, сидел и смотрел, как мы гнули автомобильные антенны и били стекла рядом со студенческими общежитиями Холи-Кросс и Кларк. Генри продавал нам травку и помогал сбывать ее нашим друзьям. Под «нами» я имею в виду меня и Майка. Мой брат Джо не любил Генри, не доверял ему и никогда не ходил с нами. Я пытался убедить его, что Генри – хороший парень, что он прикольный, что он один из нас, но Джо это не волновало, он меня просто не слушал. Он никогда меня не слушал. Упрямый говнюк играл роль старшего в семье и нес бред о том, что знает, как лучше всего. Поэтому я общался с Майком и Генри, а Джо оставался дома с бабушкой и писал свои чертовы картины, пока она смотрела телик.
Майк говорит:
– Даже если это не так, мы все равно не можем приехать в тот дом без него.
Грег начинает причитать и плакать, закрыв лицо руками. Час от часу не легче. Затем он заводит старую песню:
– Твою мать. А если мы его бросили? Мы не можем его там оставить. Может, он сейчас прячется в мусорном баке или еще где-нибудь рядом с ломбардом и ждет, пока мы вернемся? Давайте позвоним ему? Майк, позвони.
– Мы не можем. Никаких звонков.
Майк опять прав. Особенно если мы оставили истекающего кровью Генри на парковке. Копы или скорая наверняка уже нашли его. Нельзя допустить, чтобы нас отследили по звонку.
И вдруг меня осеняет. Куда мы можем поехать. Отличное место, где можно укрыться, если ты решил податься в бега.
Я говорю:
– Ребята, я знаю, куда можно поехать.
Ехать придется дольше, чем мы планировали. Нужно избегать Массачусетской автомагистрали с ее пунктами оплаты проезда и камерами. Поэтому мы отправимся на север по трассе 190, потом свернем на запад по трассе 2, потом – снова на север по трассе 91, переедем через реку и лес и двинемся прямиком к старому бабушкиному дому у озера в штате Вермонт, в маленьком провинциальном городке Хинсдейл неподалеку от Братлборо. Этот дом ей больше не принадлежит, впрочем, он вообще никому больше не принадлежит. Моя прабабка построила этот маленький одноэтажный дом с двумя спальнями около озера, которое находилось в частном владении. Я даже не помню, как это озеро называется. Но название длинное с большим количеством согласных.
А моей бабушке дом больше не принадлежит, потому что ее семья никогда и не владела этой землей. Они взяли ее в аренду на девяносто лет. Бабушка умерла два года назад, в том же году истек срок договора. Штат забрал себе землю, даже не предложив новой аренды, ходили разговоры, что озеро и дом перейдут в пользование какой-то электроэнергетической компании и здесь будут строить станцию или еще какое-то дерьмо. На встрече по поводу прав на недвижимость я чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому оставил Джо разбираться с юристами. Два года назад мы с Джо были там в последний раз. Мы двое и большой мусорный бак. Даже ничего себе на память не оставили.
Насколько я знаю, этот ветхий домишко никуда не делся. Я также не могу себе представить, чтобы кому-нибудь пришло в голову им воспользоваться: он находится в ужасном захолустье, и к нему ведет однополосная грунтовая дорога в пять миль длиной. Впрочем, сейчас мы всё проверим.
Мы едем по трассе 190 уже почти полчаса. Наконец, сворачиваем на трассу 2. Телефоны выключать не стали на случай, если Генри позвонит нам или напишет сообщение. Но он так и не вышел на связь. По радио тоже никаких новостей.
Я вытаскиваю мобильный из кармана и смотрю на экран. А еще мне хочется, чтобы позвонил Джо. Я знаю, что не могу ответить на его звонок. Мы уже месяц с ним не разговаривали, после того как я позвонил ему, а он принялся отчитывать меня за то, что я не могу найти нормальной работы и по-прежнему тусуюсь с Генри.
Грег не способен долго молчать и, как всегда, принимается нести себе под нос всякую чепуху. Хорошо бы Майк оторвал ему башку, как одуванчику, если он не заткнется. Грег говорит:
– Это большая ошибка. Мы едем в какое-то место и даже не знаем, сможем ли там остановиться. Просто охренительный план!
Майк успокаивает:
– Все будет в порядке.
Грег трет затылок и лицо.
– Я и так дерьмово себя чувствую, а вы, идиоты, делаете только хуже. – Его лицо мокрое от пота, он тяжело дышит и часто моргает, словно его веки превратились в пару колибри – совершенно безумное зрелище. Грег говорит: – Может, остановимся и немного передохнем? Выбросим ружье и мешок, чтобы не таскать это дерьмо с собой? С тем же успехом мы могли бы написать на стеклах машины: «Это сделали мы».
Нам нужно подумать о том, как избавиться от улик. Майк не согласится с предложением Грега, он никогда не признает, что тот способен сказать что-то дельное.
Майк отвечает:
– Мы не остановимся. Мы выбросим всё, когда приедем на место.
Грег закрывает глаза и подносит руку ко рту. Как будто его сейчас вырвет.
– Выбросите рядом с домом на озере? Вы гребаные недоумки!
Я говорю:
– Грег, успокойся.
– Даже если мы доберемся туда, а скорее всего, у нас ничего не выйдет, даже если в доме никого не будет, а там наверняка кто-то есть, что мы будем делать? Устроим там себе уютное гнездышко, а потом сбросим это дерьмо в озеро? В то самое озеро, рядом с которым мы остановимся? Мило. И никто никогда это дерьмо не найдет, верно? – Голос Грега становится все выше и громче, срываясь на визг, его лицо краснеет.
Я поворачиваюсь, потому что хочу своими глазами, а не в зеркало заднего вида увидеть, как Майк ему врежет. И тут голос Грега резко обрывается. Он смотрит на нас, открыв рот и выпучив глаза, а его лицо начинает трескаться, расползаться, разваливаться на части, я быстро отворачиваюсь, потому что не могу видеть выражение его лица в этот момент, не могу смотреть и на то, что произойдет дальше, лучше уж наблюдать за этим через зеркало заднего вида.
И вот я смотрю в зеркало и не вижу Грега. Он будто пропал. Затем он снова появляется и начинает мерцать. В зеркале то появляется, то исчезает его отражение. Он не двигается. Он мигает, как чертова лампочка.
Я оборачиваюсь. У Грега больше нет горла. Только красное месиво. Кровь течет у Грега из глаз, носа, ушей, его рот открыт и не закрывается, словно в немом крике, – и почему он так держит рот? Глаза тоже открыты, белки стали красными, а потом раздается нечто, похуже крика – из его растерзанного горла вырывается жуткий шепот, шипение, с которым обычно выходит воздух, и он начинает меркнуть. Снова эффект мигающей лампочки. Брызги крови покрывают окно пассажирского места сзади и сиденье Грега, но он там больше не сидит. Его там нет. Он исчез.
Майк зовет Грега по имени и начинает колотить по моему сиденью, по двери и потолку. Я поворачиваюсь, давлю на педаль газа, сам того не сознавая, и едва не въезжаю в движущуюся перед нами фуру. Жму на тормоз и резко сворачиваю на обочину, под колесами – ребристые полосы на краю дороги, затем – трава и земля, наконец, мне удается остановить внедорожник. Майк по-прежнему кричит. Я смотрю на приборную панель, на спидометре – ноль, потом гляжу на дорогу, но перед глазами – только лицо Грега перед… перед чем?
Я кричу Майку:
– Что? Что с ним случилось?
– Я не знаю, Дэнни. Поехали. Поехали дальше.
– Что?
– Поехали дальше, твою мать! Поезжай, поезжай… – Майк все повторяет и повторяет эту фразу, словно разговаривает сам с собой.
Мне хочется выскочить из машины и бежать сломя голову. Но я этого не делаю. Я слушаю Майка. Завожу мотор. Выезжаю с обочины на шоссе. Я еду дальше и стараюсь не смотреть в зеркало заднего вида.
Облачно. Тучи повисли совсем низко и продолжают сгущаться. Мы едем на север по магистрали 91. Майк расположился посередине заднего сиденья и занимает собой все зеркало заднего вида. Он смотрит на свое отражение. Возможно, старается удостовериться, что он все еще здесь. Я тоже смотрю на него и на то, как он сжимает обрез Генри. Каждые пять минут его руки начинают трястись. И ружье тоже дрожит в его руках.
Я пытался сбросить скорость и свернуть с трассы на какой-нибудь пустынный участок, но Майк мне не позволил. Он грозится отстрелить мне голову, если я остановлюсь. Говорит, чтобы я ехал дальше. Не останавливался. И я еду, потому что мне страшно и я не знаю, что мне еще делать. Я уверен, что Майк меня не пристрелит, он на такое не способен. И тем не менее.
– Майк, послушай.
– Я еще здесь.
– Нам все нужно обдумать. Вспомни, что случилось в ломбарде. Старик стрелял в Генри?
– Все произошло так быстро. Он вскочил и наставил на нас ружье и… я не помню, Дэнни.
– В Грега он тоже стрелял?
Майк качает головой, затем пожимает плечами, а потом его руки снова начинают дрожать.
Я не спрашиваю Майка, не кажется ли ему, что с Генри случилось то же самое, что и с Грегом. Я не спрашиваю Майка о тех трех выстрелах, которые слышал. Я не спрашиваю Майка, не боится ли он, что с ним может произойти то же самое, что и с Генри. Я знаю, что ответит Майк на все эти вопросы. И я знаю, что бы ответил я сам.
Мы пересекаем границу штата Вермонт. В машине какая-то странная атмосфера. С воздухом что-то не то. Он слишком разреженный. Или наоборот, слишком плотный.
Майк говорит:
– Помнишь, как однажды летом твоя бабушка разрешила мне поехать в дом на озере?
– Что? Да, конечно, помню. Бабушка не предупредила твою маму, и ты тоже не сказал ей, куда уезжаешь, и, когда мы вернулись, копы оклеили половину телефонных столбов в Вормтауне твоими фотографиями.
Майк шумно шмыгает носом. Этот звук похож на смешок. Он говорит:
– Тогда я в первый раз оказался в Вермонте. Сегодня я тут во второй.
Я смотрю в зеркало заднего вида на говорящего Майка. Возможно, если я буду очень внимательно наблюдать за ним, он не исчезнет.
– Нам нужно почаще куда-нибудь выбираться.
– Генри и Грег когда-нибудь были у тебя?
– Нет, блин. Грег спалил бы весь дом, пытаясь приготовить тосты. Как, впрочем, и ты, приятель. А про Генри бабушка ничего не знала.
– Знала. Она говорила мне, что мы не должны шляться с непонятным типом, который намного старше нас. Она считала, что это неправильно.
– Когда она тебе это сказала?
– В доме на озере. Это был единственный раз за всю неделю, когда она общалась со мной. – Теперь Майк действительно смеется. – Мне там понравилось, Дэнни. Очень. Но знаешь, это было так странно. Твоя бабушка готовила нам еду, убирала за нами постели, но я не помню, чтобы она с нами много разговаривала. Она почти все время сидела на мостках у озера, курила сигареты «Лаки страйк» или гуляла в одиночестве, предоставив нас самим себе.
Я говорю:
– Дома она вела себя точно так же.
Бабушка кормила нас с Джо, но старалась выпроводить из квартиры, куда мы возвращались только с наступлением темноты. Джо предпочитал гулять самостоятельно и не разрешал мне ходить с ним. Если же на улице шел дождь или по какой-то другой причине мы не могли пойти гулять, она сидела в своей комнате, читала книгу или смотрела свой старенький черно-белый телевизор. И с нами не общалась.
– Дэнни, мне нехорошо. – Майк трет рукой лоб, но по-прежнему крепко сжимает ружье. Его голос звучит тише, как будто доносится из другой комнаты.
– Майк, мы почти приехали, – машинально говорю я. Ума не приложу, что мне делать.
– Знаю, твоя бабушка не обращала на нас внимания, когда мы бывали у тебя дома. Но тогда, вдали от города и всего остального, все было иначе. Там мне показалось это странным. Пару раз утром я просыпался раньше вас с братом и следил за ней. Она долго смотрела на горы или в пустоту. Как будто нас там вовсе не было, Дэнни. И мне, блин, становится страшно, может, нас и впрямь там не было. Вот черт, Дэнни, что-то мне совсем нехорошо.
– Майк, я сейчас остановлюсь. А ты расслабься и продолжай разговаривать со мной. – До съезда с трассы всего миль десять, впрочем, какое это теперь имеет значение? Я медленно съезжаю на обочину. Мне хочется верить, что если мы выйдем из машины, то с нами все будет хорошо, с ним все будет хорошо. Но я слышал три выстрела.
Глаза Майка закрыты, и он явно на чем-то сосредоточен. Лоб покрывается складками и словно живет своей жизнью, губы сильно дрожат. Он говорит:
– Не понимаю, как она могла не обращать внимания на ваши с Джо постоянные стычки. Вы спорили из-за всего. Если честно, мне было не по себе. Может, мне и не стоит об этом говорить. Но не знаю, чувак, как-то это было неправильно. К концу каникул мне вас обоих хотелось избить.
– Это в благодарность за все хорошее, так? Майк, послушай, машина остановилась. Сейчас мы выйдем, прогуляемся. Подышим свежим воздухом, идет? – говорю я, а потом лгу ему: – Это поможет.
– Как называлась та карточная игра, в которую вы, ребята, все время играли?
– Криббедж. Джо постоянно пытался мухлевать.
– Нет, ты был слишком тупым, чтобы правильно сосчитать очки, а Джо ругал тебя за это и… – Майк замолкает и начинает медленно исчезать.
Я кричу его имя, и он возвращается. Он выглядит так же, как Грег. Отовсюду сочится кровь. Во лбу у него дырка размером с монету, и она продолжает разрастаться. Он открывает рот, но ничего не может сказать.
Я снова называю его имя, но имя больше не помогает, так ведь? Я спрашиваю, здесь ли он, со мной. Прошу сказать хоть что-нибудь.
Майк скулит, как чертова собака, которой наступили на лапу, и соскальзывает из своего сиденья, вываливается из двери на обочину дороги, продолжая сжимать в руках ружье.
Я выбираюсь из машины, обегаю ее спереди, в ушах звенит, но не от затрещины, которую он мне отвесил когда-то. Майк спотыкается, бесцельно вертится на месте, его ноги подкашиваются. Глаза закатываются. Он вставляет дуло обреза себе в рот. Нажимает на спусковой крючок и исчезает. Он исчезает и нажимает на спусковой крючок. Что он сделал в первую очередь? Да откуда я, блин, знаю? Но от него не остается ничего, кроме облака из мелких брызг крови, а ружье невероятным образом повисает в воздухе на несколько секунд, после чего падает на асфальт.
Когда я только рассказал Грегу и Майку план побега, я немного переживал, что забыл дорогу к дому на озере. Но теперь все вспомнил. Каждый поворот.
Мне нехорошо. Возможно, из-за того, что случилось у меня на глазах с Грегом и Майком (и с Генри, черт бы его побрал, я же помню, как мерцало в темноте его отражение в зеркале заднего вида, точно помню), я только боюсь, как бы со мной не случилось того же, что и с ними. Джо всегда говорил, что я способен лишь следовать за остальными. Иди ты на хрен, Джо.
Вот как-то так, и сейчас я думаю о выстрелах, которые слышал. Было ли их три? Или четыре? Два первых прозвучали друг за другом, одной очередью. Потом был перерыв. После него – третий выстрел. Но не могло ли выйти так, что в той очереди было три выстрела? И как долго продлилась пауза? Этого я уже не помню.
Я еду по длинной грунтовой дороге. Я здесь один. Вдали уже виднеется озеро и дом, но дорогу перегораживает невысокий проволочный забор. Я тараню его и останавливаюсь около дома. Белая кровля стала зеленой от плесени. Кое-где черепица отлетела, и вместо нее виднеются заплатки из толя. На крытой веранде в окнах пропали все стекла. Если дом развалится на части, пока тут никого нет, станет ли кто-нибудь сожалеть о нем?
Я провел здесь так много тихих, одиноких летних недель вместе с бабушкой и Джо, хотя трудно сказать, что мы были вместе. Джо писал картины, бабушка курила и гуляла. Именно здесь я научился их ненавидеть.
В Вормтауне все обстояло иначе. Там у меня были Майк и Генри. Я был занят, и не оставалось времени подумать о том, какая все это лажа. Я скучаю по Майку. Уже скучаю по нему, как будто с момента его исчезновения прошло несколько лет, а не несколько минут.
Теперь дом пугает меня. Как будто, если я буду слишком долго смотреть на крыльцо, то смогу увидеть там бабушку, которая сидит в кресле и смотрит на озеро, разглядывает там что-то и курит «Лаки страйк». И вдруг прямо сейчас, в этот момент, она повернется и посмотрит на меня?
Я разворачиваю машину и паркую ее так, чтобы видеть озеро, а не дом. Это не помогает. Я чувствую, что дом и бабушка где-то позади меня.
Я не уверен, есть ли здесь связь, но все равно достаю телефон и набираю Джо. Звонок проходит. Он отвечает:
– Привет.
– Привет.
Больше мы ничего не говорим. Сидим и маринуем друг друга в тишине. Я чувствую себя – даже не знаю – как-то по-дурацки. Так всегда было. Возможно, Джо разделяет мои чувства. Как там сказал Майк? Рядом со мной и Джо ему было не по себе. Да, так и есть.
Он говорит:
– Дэнни, что тебе нужно? Хочешь попросить взаймы денег, которых у меня нет? Или тебя опять нужно вытащить из тюрьмы? Обратись за этим к Генри.
– Джо, – говорю я. – Послушай, Джо, мне нужно тебе кое о чем сказать. Это важно.
Я делаю паузу, представляю, что чувствовали Генри, Грег и Майк после того, как в них выстрелили, и до того момента, пока они не исчезли. – Джо, послушай, – повторяю я. – Послушай внимательно. Я сейчас в Вермонте. В нашем старом доме.
Я опускаю окно. Черт, как же здесь холодно! Я уже говорил, что оделся не по погоде. На мне только коричневая фланелевая рубашка, черные джинсы и ботинки со шнуровкой на лодыжках. Я так и не взял куртку и оставил черное худи у себя в квартире. Все, что остается после меня, к сожалению, не исчезает так же, как они. Как могу исчезнуть и я. Так все-таки три было выстрела или четыре?
– Что?
– Да, Джо, я здесь. Один. Дом выглядит совсем хреново. Почти весь сгнил.
– Что ты там делаешь?
– Не знаю. Наверное, пытаюсь убежать. Но не получается. Неважно. Я здесь и решил тебе позвонить. Потому что, мне кажется, я давно должен был тебе кое-что сказать. Ты меня слышишь? Так вот: иди ты на х… Джо.
Я бросаю телефон. Он исчезает где-то внизу. Черные перчатки, которые по-прежнему на мне, не греют руки. Я тру ладони друг о друга и откидываюсь на спинку сиденья. Как же мне плохо. И становится все хуже. Озеро расплывается перед глазами.
Обрез лежит на сиденье рядом со мной. Я могу взять его, а потом… исчезнуть.
Девятнадцать снимков, сделанных в Денниспорте
Один
Это я, стою на крыльце дома, который мы обычно снимали на лето. Сегодня я проезжал мимо этого старого коттеджа. На Сансет-лейн, неподалеку от Депо-стрит. Стены до сих пор выкрашены в цвет морской волны. Рядом еще четыре летних коттеджа, они стоят совсем близко и как будто бы пытаются взять в кольцо наш дом или наоборот защитить его. Я не помню, чтобы дома там стояли чуть ли не друг на дружке и занимали весь переулок. Мне кажется, что раньше там было намного просторнее, чем сейчас.
Посмотрите на меня. Трудно поверить, что когда-то я был таким тощим. Моей сестры Лиз нет на фото, она была на год младше меня, но намного выше и весила на целых двадцать фунтов больше. Вы только взгляните на этого мальчишку. У него ноги тоньше и белее, чем перекладины на крыльце. Этот снимок был сделан в 1986 году, мне только исполнилось тринадцать. Это первая фотография за те каникулы. Я всегда старался, чтобы на первой фотографии был именно я. Мне казалось это очень важным.
Два
Это моя мама, она несет полотенца. У нее уже очень недовольный вид. И я могу ее понять. Мы, дети, не помогли ей разобрать вещи. Вторая женщина – ее младшая сестра, моя тетя Кристина. Она была самой крутой тетей на свете. Она жила в Бостоне и любила играть с нами или водить нас в кино. Кажется, под мышкой у нее торчит коробка с пазлами, которые мы любили собирать дождливыми днями. Тете Кристине и моим родителям здесь где-то около тридцати пяти. Боже, какими молодыми они все были. Сейчас все по-другому, правда? Детей уже так рано не заводят.
У меня был дешевый фотоаппарат, поэтому все снимки немного нечеткие. Он сломался, прежде чем закончилось лето. С правой стороны к дому бегут какие-то люди, их лица трудно разобрать, но на плечах у папы висит мой младший брат Ронни. Он стащил у папы с головы панаму и собирается по-тихому сбежать. Можно рассмотреть панаму, зажатую у него в руке. Ронни было восемь и внешне он напоминал хоббита. Лиз щекочет Ронни и пытается помочь папе. Она всегда вставала на его сторону, а не на нашу.
Три
А это Ронни, остриженный под машинку, стоит посередине большой ямы в песке, которую мы раскапывали почти весь день. На фотографии этого не видно, но справа на голове у него остался клок светлых волос. Ронни так коротко подстригли, что его макушка стала похожа на карту какого-нибудь островного государства.
Песок на дне ямы был мокрым и холодным. Я не мог признаться в этом Ронни, но в тот момент, мне не хотелось продолжать раскопки, не хотелось видеть, что там внизу. Я всегда был трусишкой. Особенно в сравнении с Ронни.
Мы – на одном из пляжей Нантакет-Саунд, что находятся в стороне от Олд-уорф-роуд. Я помню эту дорогу с безымянными отелями, мотелями, ресторанами и пляжами вдоль нее, которые напоминали квадратики на шахматной доске. На этом фото мы – на общественном пляже рядом с курортом, он теперь носит название «Пляж у воды». Но я не помню, что там было тогда. Какой кошмар, правда? Многие мелкие детали забываются безвозвратно. Возможно, если бы я не был так занят фотографированием, то запомнил бы намного больше.
Смотрите: я заснял это случайно, но вот здесь, в правом верхнем углу – ноги моего отца. Он шел с тетей Кристиной к воде, а потом остановился, чтобы поговорить со здоровенным парнем в тренировочных штанах, ботинках и желтой рубашке. Эта желтая рубашка особенно врезалась мне в память. Я его не особенно хорошо рассмотрел, но запомнил, что он был выше и старше отца.
Я спросил у Ронни, с кем папа разговаривает. Ронни не знал. Мы ждали, пока вернется папа, нам хотелось закопать его в этой яме, которая оказалась слишком глубокой для нас обоих. Когда он вернулся и мы спросили его, кто это был, папа ответил: «Да так, один парень». Мы привыкли, что папа мог завести разговор со случайными людьми в продуктовом магазине, на бейсбольном матче, просто на улице, у него с этим не было проблем. Нас это всегда ужасно смущало (особенно Лиз). А он как ни в чем не бывало болтал с незнакомцами, вызывая у них смех или по крайней мере улыбку.
Мы с Ронни попытались зайти папе за спину и столкнуть его в яму. Вместо этого он сам столкнул туда нас. Я стукнулся головой о голову Ронни. Мы не пострадали, но я рассердился на отца, так сильно, как на это способны только подростки. Однако папе было все равно. Он стал забрасывать нас песком.
Четыре
Фотография сделана дождливым днем. Выбор у нас был следующий: пойти с папой за продуктами или остаться дома и собирать пазлы с остальными. Я остался, но так как терпеть не мог пазлы, слушал в плеере Def Leppard и Scorpions.
На самом деле, пазлы никому не нравились. У мамы, тети Кристины, Лиз и Ронни вид тоже не особенно радостный или довольный. Это заметно по тому, как мама сложила на груди руки и отвернулась от стола. Они уже потеряли всякое терпение и сильно злятся друг на друга.
Помню, эта история с пазлами закончилась тем, что они ничего толком не собрали и разошлись, бормоча себе что-то под нос.
Пять
Здесь мы играем в бейсбол с мальчишками, которые остановились в соседнем доме. Я не помню, как их звали. Они были из Джерси. Высокий и рыжий – мой ровесник, у него были ужасные прыщи. Его кожа все время выглядела воспаленной. Рыжий коротышка был на пару лет старше Ронни, он носил большие очки в круглой оправе, как у мультяшного персонажа мистера Пибоди, а вместо прыщей его лицо усеивали веснушки. Вел он себя еще более странно, чем я, а это о многом говорило. Дома мои одноклассники и соседские мальчишки постоянно издевались надо мной, а я был робким и не мог дать сдачи. Но Денниспорт – это не дом, а совсем другое место, и там я, по сути, стал лидером нашей маленькой летней компании, состоявшей из меня, моего брата (сестра Лиз не любила гулять с нами) и рыжиков из Джерси.
Первые пару дней мы пытались приударить за девчонкой из Италии, которую звали Изабеллой. Вот ее имя я хорошо запомнил. Ей было только двенадцать, то есть она была моложе меня, тринадцатилетнего, но выглядела старше. Она совсем не говорила по-английски, у нее были кудрявые светло-каштановые волосы до попы, а носила она совсем коротенькие шортики, отделанные белой тесьмой. Какое-то время она нас терпела, но потом стала гулять с ребятами постарше.
В общем мы либо ходили по пятам за Изабеллой, либо шпионили за моим отцом.
Шесть
Да, я снял свою руку, которая держит стеклянную бутылку с кока-колой. Рядом с одним из общественных пляжей на Олд-уорф-роуд был маленький мотель. И там стоял автомат, продававший колу в старых бутылках. Она была дорогой, а бутылки – маленькими, и колы в них было меньше, чем в банках, но я считал, что в стеклянных бутылках кола вкуснее.
Я как раз находился около автомата, когда нам пришла мысль последить за отцом. Ронни видел, как он шел по песчаной парковке около мотеля. У него была густая черная борода и поджарое мускулистое тело, уже покрывшееся загаром. Меня всегда поражало, насколько я был непохож на отца.
Мы, ребятишки, инстинктивно спрятались за припаркованной машиной. Даже не договариваясь, мы решили, что выскочим оттуда и напугаем папу или попытаемся затащить его на ближайший песчаный холм. Хотя у нас четверых это вряд ли бы получилось.
Только он не пошел в нашу сторону. Вместо этого он направился к дверям в номера мотеля. Словно наугад остановился перед синей дверью и постучал. Дверь открылась, и он вошел внутрь. Никаких приветствий, он просто вошел, и дверь за ним закрылась.
Конечно, шпионить за родителями – это развлечение для совсем маленьких детей. Но мы были на отдыхе, вдали от дома, и словно перестали быть теми, кем были на самом деле (и это особенно приятно, если тебе совсем не нравится то, какой ты на самом деле), так что у нас было оправдание для такого детского поведения. Разумеется, в присутствии Изабеллы все было иначе.
Мы пытались дождаться, пока папа вернется, но он так и не вышел из той синей двери. В конце концов, нам надоело, и мы убежали на пляж.
Семь
Ронни сфотографировал меня исподтишка. Младший рыжик из Джерси сказал, что, возможно, папа обманывает маму и встречается с одной из горничных мотеля. Я набросился на него, обхватил его шею рукой и макнул головой в воду. Не помню, чтобы испытал тогда какой-то особенный прилив сил, но он позволил схватить себя и надавать тумаков.
Восемь
Эта фотография сделана около того же мотеля, где продается кока-кола. Рано утром папа сказал, что собирается на пробежку. Мы с Ронни последовали за ним, и оба вели себя тихо, так как воспринимали нашу игру слишком уж серьезно.
Я пытался сделать фото синей двери, когда она открывается, надеялся разглядеть, кто за ней стоит, но у меня ничего не получилось. То есть я сделал это фото как раз в тот момент, когда дверь открылась. Вы даже можете увидеть едва различимое плечо отца, исчезающее в темной комнате. Но больше ничего не видно.
Девять
Здесь мы в каком-то магазине пластинок в центре Ярмута. На снимке – стена, на которой висят футболки. Вот посередине футболка с эмблемой группы Scorpions, но я не смог ее купить. Я уже потратил все свои деньги на коллекционную карточку с бейсболистом Сэнди Коуфаксом в соседнем магазине. Эта карточка была выпущена не во время его первых игр, а позже, в 1962-м, но все равно я очень радовался, что купил ее.
В тот день мы решили обойти сувенирные лавки и всякие интересные магазинчики. Мы играли в правильных туристов. Было жарко, на улицах – много народу, и нам всем хотелось пойти в разные места, разве что кондитерский магазин ни у кого не вызвал возражений (там я пополнил запасы ирисок и драже). Я ругался с Лиз, которая вообще никуда не хотела идти. Мама с папой спорили насчет того, где нам поесть. Тетя Кристина тоже, видно, была на взводе, потому что взяла Ронни и ушла с ним куда-то. Потом Лиз спорила с мамой, но, по-крайней мере, они делали это тихо, а затем тоже ушли. Мы с папой отправились в лавку, где продавались бейсбольные карточки, потом – в музыкальный магазин, но там папа мне так ничего и не купил.
Затем мы все снова встретились, Ронни улыбался и держал в руках постер какого-то фильма с монстрами. Он стал хвастаться им передо мной. Я начал ныть папе, что он не купил мне ту паршивую футболку. Папа спросил, сколько мне лет, причем таким тоном, что все тут же замолчали.
Десять
Эту фотографию я переместил в конец альбома. Видите, как пустой прямоугольник по цвету отличается от остальных страниц? Он такого же зеленого цвета, но намного темнее. Забавно, как фотографии, эти фрагменты прошлого, способны сохранить истинный цвет альбомных страниц.
Одиннадцать
Этот снимок нечеткий, потому что Ронни толкнул мой локоть в тот момент, когда я снимал киноафишу. Он сделал это не специально, но я толкнул его в плечо в ответ и едва не подрался с ним прямо в очереди. Мы оба были сильно взволнованы, так как не знали, насколько страшным будет фильм. По крайней мере, я точно волновался. Ронни видел множество фильмов ужасов по кабельному телевидению, но это был его первый поход в кино. Для ребенка он вел себя в кинотеатре очень тихо, зато потом весь день говорил об увиденном фильме.
Папа и тетя Кристина повели нас смотреть ремейк «Мухи». Мама осталась дома в одиночестве и раскладывала пасьянс. Она сказала, что не любит фильмы ужасов, и вообще почти весь отпуск просидела дома.
Я устроил все так, чтобы Лиз села у прохода, рядом с ней – Ронни, а потом – я, папа и тетя Кристина. Во время фильма Лиз и Ронни нашептывали друг другу на ухо всякие шуточки, и папа с тетей Кристиной делали то же самое. Я прижал колени к груди, крепко обхватил ноги и просидел так с побелевшими костяшками до конца фильма. История о медленном неотвратимом превращении хорошего парня и чокнутого ученого Сета Брандла, которого сыграл Джефф Голдблюм, в ужасную и отвратительную Брандл-муху вызвала у меня необъяснимую грусть. Я исподтишка посматривал на папу, желая убедиться, что он не превратится в кого-нибудь, не начнет распадаться у меня на глазах и что в его внешности ничего не изменится.
В конце фильма была та ужасная сцена, в которой Брандл-муху стошнило пищеварительным ферментом на руку одного парня, и она растворилась. Знаете, у меня в тот момент перехватило дыхание, а ноги задергались так, словно я собирался вскочить и броситься прочь из кинотеатра.
Я отвернулся и стал наблюдать за папой, который смотрел фильм. И среди всех этих воплей и других ужасных звуков, раздававшихся во время сцены гибели Брандл-мухи где-то на экране, я едва удержался от того, чтобы не спросить папу, с кем он встречался в том мотеле.
Двенадцать
На Мейн-стрит неподалеку от дома, который мы снимали, рядом с пересечением 28-й и 134-й улиц был небольшой закуток со всякими развлечениями для детей. Там был киоск с мороженым, автодром и батуты. Разумеется, я, Ронни и папа пошли туда. Батуты были вкопаны в землю, которую затем присыпали гравием. Когда мы приземлялись, то чувство было такое, словно ты сжимаешься или начинаешь распадаться на части, как Брандл-муха.
На этом фото парковка рядом с автодромом. Мы пошли прокатиться на автодроме после батутов и перед тем, как съесть мороженое. Я сделал это фото вскоре после того, как всякие незнакомые мне люди стали сталкиваться с машинкой отца, а он смеялся громче остальных, весело общался с другими людьми, дурачился. Как я и говорил, все его обожали.
Мы с Ронни заняли очередь на автодром, чтобы прокатиться еще пару раз. Папа отправился на парковку. Я не мог пойти за ним, тогда бы он меня заметил. Вместо этого я попытался сфотографировать его со своего места в очереди. Я не видел, с кем он разговаривал, но слышал его голос. Смотрите, вот здесь витрина, около нее на парковке стоят несколько машин. С самого автодрома было намного лучше видно, но всякий раз, когда я пытался рассмотреть, с кем говорил отец, кто-нибудь загораживал мне обзор, и обычно это был Ронни.
Тринадцать
Эта фотография с первой и единственной встречи нашей летней компании у меня в комнате. Получился отличный динамичный кадр. Размытое белое пятно – это подушка, которую я бросил в рыжиков из Джерси перед тем, как сделать фото.
Мы начали обсуждать музыку. Они любили рэп – правда, довольно типично для жителей Джерси? Потом мы говорили об Изабелле и о том, что неплохо бы пригласить ее в кафе-мороженое на Си-стрит. Затем стали обсуждать наших подружек, которые остались дома. Ни у кого из нас девушки не было. Но на меня вдруг нашла какая-то совершенно неуместная откровенность, и я рассказал, что был ужасно, безнадежно влюблен в девчонку по имени Джей Джей Кац. Рыжики из Джерси решили, что это самое смешное, что они когда-либо слышали, и минут десять кричали мне: «Динааамщица!», подражая герою телесериала «Хорошие времена». В тот момент я потерял статус лидера в нашей компании.
Затем мы стали делиться соображениями о том, чем занимается мой отец. Я рассказал только свое мнение, а про версию Ронни не упомянул. Он сидел вместе с нами, но ничего не говорил. Большинство теорий были несерьезными, шутливыми, вроде того, что мой папа – секретный агент и тому подобное, а потом я открыл рот и слишком разоткровенничался со всеми, кто находился в комнате. Я рассказал им, как осенью отец ставил деньги на футбольные матчи, как приносил с работы то, что он называл футбольными карточками. Это были белые картонные прямоугольники с названиями команд и турнирными таблицами. Он выбирал четыре команды или десять команд, а иногда и то и другое. Бывало, что он просил меня выбрать за него.
Я ничего не знал о том, что происходило с папой, но рассуждал так, будто мне все известно.
Помню, я чуть не рассказал им, как примерно за четыре месяца до отпуска, когда я был в своей комнате наверху, я услышал, как родители ругались на кухне. Папа говорил: «Все будет хорошо» и «Прости», а у мамы случилась истерика, и я не понял, что она говорила, а потом она крикнула: «Да пошел ты!», выбежала из кухни и разбила ударом ноги одно из маленьких стеклянных окошек на входной двери.
Затем рыжик в круглых очках опять начал рассказывать свою теорию о том, что мой отец якобы встречается с другой женщиной. Он заявил, будто отец выглядит как мужчина, который может уговорить женщину пойти с ним в отель. Ронни опять промолчал, но я видел, что он расстроен. Если честно, я даже гордился тем, что мой отец так выглядит, и в какой-то степени подобные размышления придавали мне уверенности в себе.
Я достал камеру и сказал рыжикам из Джерси, что мой отец не встречается с другой женщиной и у меня есть доказательства. Они спросили, нет ли у меня фотки динамщицы Джей Джей. И вот тогда я бросил подушку и сделал фото.
Четырнадцать
Папа пришел домой с утренней прогулки с подбитым глазом. Он смеялся и говорил, что поскользнулся на песке, упал и ударился о почтовый ящик. Я даже удивился, что он разрешил снять себя. Мне кажется, ему не хотелось, чтобы я его фотографировал, но что он мог сделать, когда все на кухне смеялись и показывали на него пальцами?
Пятнадцать
Так, на этой фотографии та итальянка – Изабелла, она идет и машет нам рукой. Мы выследили ее и спросили, не хочет ли она с нами поесть мороженого. Она сделала вид, будто не понимает, о чем мы ее спрашиваем, хотя рыжики из Джерси пытались жестами изобразить мороженое, и вышло у них это весьма непристойно. Было весело. Как бы там ни было, фотку я сделал.
Шестнадцать
Между этой и предыдущими фотографиями прошло некоторое время. Не помню, может, были и другие снимки, но я их потерял, или я вообще ничего больше не фотографировал. Иногда я задаюсь вопросом, как много мне удалось бы запомнить, если бы не было фотографий, этих доказательств того, что все случилось на самом деле?
На этом фото мы завтракаем в «Яйцо и я». У всех понурый и усталый вид, ведь до конца отпуска осталось всего несколько дней. Рыжики из Джерси уехали. Остались только мы. И мы вечно ссоримся и злимся друг на друга. И опять же, возможно, только сейчас, когда смотришь на те события через призму прошедшего, начинаешь понимать, что мы все были на пределе. С папой творилось что-то не то, но никто из нас не понимал, что именно, и мы не говорили об этом.
Тетя Кристина и мама отворачиваются от объектива и друг от друга. Мама, вероятно, смотрит на пепельницу, которую наполнила окурками. Лиз закрывает руками лицо, а Ронни, никогда особенно не любивший позировать, сидит с отсутствующим видом. У него такое лицо с того самого утра, когда папа вернулся домой с синяком под глазом, и тем же утром я рассказал ему о большой ссоре между папой и мамой и о том, как мама разбила окошко ногой.
Все злятся на меня из-за того, что я делаю это глупое фото с ними за столом. А может, они думают о папе и спрашивают себя, почему из всех телефонов-автоматов он выбрал для звонка самый дальний.
Семнадцать
Посмотрите на этот кадр. Здесь был крохотный частный пляж для тех, кто жил в нашем маленьком районе между Депо-стрит и Сансет-лейн, – клочок крутого песчаного склона рядом с большим рестораном «Океанский дом». Во время прилива он даже не был похож на пляж, а скорее, на дюну или песчаный утес. Я ходил сегодня на пляж и не знаю, может, дело в эрозии, или моя память все сильно преувеличила, но теперь там остался только небольшой, едва заметный склон.