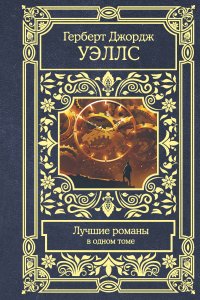Читать онлайн Аргонавты Времени бесплатно
- Все книги автора: Герберт Джордж Уэллс
Herbert Wells
1866–1946
© С. А. Антонов, составление, перевод, примечания, 2023
© А. М. Бродоцкая, перевод, 2023
© А. Н. Круглов, перевод, 2023
© Е. В. Матвеева, перевод, 2023
© Н. Ф. Роговская, перевод, 2022, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®
Аргонавты Времени
Перевод С. Антонова.
Часть 1
История с экзотерической точки зрения
ОТЧЕТ О ПРЕБЫВАНИИ ДОКТОРА НЕБОГИПФЕЛЯ[1] В ЛЛИДДВУДДЕ
Примерно в полумиле от деревни Ллиддвудд, у дороги, которая переваливает через восточный склон горы Пен-и-пулл и ведет в Рустог, стоит большое здание, известное как ферма Манс[2]. В былые времена оно было резиденцией священника кальвинистско-методистской церкви[3], отсюда и происходит его название. Это невысокое странное сооружение неправильной формы расположено в какой-то сотне ярдов от железной дороги и в наши дни стремительно разрушается.
С момента его постройки во второй половине минувшего столетия[4] дом претерпел немало превратностей судьбы. Фермер, владевший окрестными землями, давным-давно покинул его и перебрался в менее броское и более удобное обиталище. Среди прочих в Мансе некоторое время жила мисс Карно – «галльская Сафо», а позднее в нем обосновался старик по фамилии Уильямс. Подлое убийство старика, совершенное двумя его сыновьями, привело к тому, что дом довольно долго пустовал и, само собой, ветшал изнутри и снаружи.
Природные стихии и сборища местных подростков быстро довершили упадок снискавшего дурную славу Манса. Страх перед Уильямсами удерживал ллиддвуддских мальчишек от соблазна проникнуть в заброшенный дом, но с тем большим азартом они предались истреблению его внешних конструкций. Орудия, при помощи которых ребятня выражала и одновременно пыталась побороть свой священный страх, не оставили в здании ни единого целого стекла и нанесли серьезный урон старомодным свинцовым переплетам в узких окнах; эти повреждения, вкупе с бессчетными обломками черепицы и зияющими проемами, обнажавшими стропила крыши, наглядно свидетельствовали о силе мальчишеской неприязни. В результате пустующие интерьеры дома оказались открыты дождю и ветру, и те при деятельной поддержке старины Времени принялись за свою разрушительную работу. Половицы и стенные панели, то промокая, то высыхая, причудливо выгибались, трескались здесь и там и в припадках ревматических болей вырывались из оков проржавевших гвоздей, которые некогда прочно их держали. Штукатурка на стенах и потолке покрылась налетом вскормленной дождями черно-зеленой плесени и мало-помалу отслаивалась от покоробившейся решетчатой дранки; по какой-то неведомой причине крупные ее куски отваливались и с гулким грохотом падали на пол не иначе как в тихие ночные часы, подпитывая суеверный слух о том, что старик Уильямс и его сыновья обречены вновь и вновь разыгрывать свою жуткую трагедию вплоть до Страшного суда. Белые розы и затейливые вьюнки, которыми мисс Карно когда-то украсила стены, ныне устилали поросшую лишайником черепицу крыши, а их тонкие изящные побеги украдкой проникли в затянутые призрачной паутиной помещения дома. Бледные, болезненного вида грибки начали поднимать и сдвигать с мест кирпичи пола в подвале, а на гниющей древесине они собирались гроздьями, во всем великолепии однотонного и крапчатого пурпура, желто-коричневого и белого цвета. Мокрицы и муравьи, жуки и моли, бесчисленные крылатые и ползучие твари день ото дня все с большим комфортом обустраивались среди развалин; за ними следовало неуклонно возраставшее поголовье пятнистых жаб. Каждый год ласточки все теснее гнездовались в безмолвных, продуваемых сквозняками комнатах верхнего этажа, а летучие мыши и совы соперничали за сумеречные углы нижних комнат. Так весной 1887 года Природа медленно, но верно завладевала старым Мансом. «Дом приходил в упадок, стремительно и неотвратимо», – сказали бы те, кому не по душе, что покинутое людьми жилище населяют другие существа. Однако напоследок Мансу было суждено приютить под своей крышей еще одного человека.
Никто не ожидал появления в тихом Ллиддвудде нового жителя. Он возник в сельском мирке Ллиддвудда, где каждая мелочь – на виду и на слуху, без какого-либо предупреждения и буквально ниоткуда, точно упал в этот мирок с неба. Внезапно, из ничего, очутился тут как тут. Поговаривали, правда, что незнакомца будто бы видели сходящим с лондонского поезда, после чего он не колеблясь направился прямиком в старый Манс, не объяснив ни одной живой душе своих намерений. Впрочем, как намекал тот же хорошо осведомленный источник, впервые незнакомца приметили, когда он с необыкновенной скоростью несся по крутым склонам Пен-и-пулла верхом на чем-то, что, по словам рассудительного наблюдателя, изрядно смахивало на решето, а затем, добравшись до цели, проник в дом через печную трубу. Из этих противоречивых слухов в округе поначалу повсеместно распространился первый, однако второй вызвал больше доверия – благодаря странному облику и эксцентричному поведению приезжего. Впрочем, каким бы способом незнакомец ни прибыл, он, несомненно, находился в доме – и владел им – с первого мая[5]; ибо утром того дня миссис Морган Апллойд-Джонс, а потом и многие другие, кого ее рассказ привел на склон горы, узрели его за любопытным занятием: неизвестный заколачивал листами жести зияющие оконные проемы своего нового жилища – «делал дом слепым», по меткому выражению миссис Морган Апллойд-Джонс.
Он был невысокого роста, очень худощав, с лицом землистого цвета, облачен в обтягивающее одеяние из какого-то плотного темного материала – мистер Парри Дэвис, ллиддвуддский сапожник, высказал мнение, что это кожа. Его орлиный нос, тонкие губы, высокие скулы и острый подбородок были небольшими и изящными, но из-за крайней худобы лицевые кости и мышцы явственно проступали под кожей. По той же причине его большие серые, лихорадочно блестевшие глаза выглядели запавшими, спрятавшимися под необычайно широким и высоким лбом, который казался непропорционально развитым в сравнении с другими частями лица и сильнее всего привлекал внимание наблюдателя. Складки, морщины и жилы на лбу также были неестественно велики. А ниже горели глаза, точно огоньки в пещере у подножия скалы. Лоб настолько превосходил и подавлял остальные черты лица, в целом бесспорно привлекательного, что придавал ему выражение почти нечеловеческое. Этот эффект скорее подчеркивали, чем скрадывали неопрятные пряди прямых черных волос, которые, спадая на глаза, добавляли к исключительной высоте лба намек на гидроцефалию[6]; впечатлению чего-то сверхчеловеческого способствовала и отчетливо различимая сквозь желтую прозрачную кожу пульсация крови в височных артериях. Памятуя обо всем этом, не приходится удивляться, что наиболее поэтические натуры среди валлийцев[7] Ллиддвудда отнеслись к теории о прибытии в решете с немалым доверием.
Впрочем, уверовать во вмешательство колдовских сил местных жителей заставили не только облик приезжего, но и – в гораздо большей степени – его манера держаться и образ жизни. Наблюдая за ним в различных обстоятельствах и ситуациях, ллиддвуддцы вскоре обнаружили, что его поведение и привычки коренным образом отличаются от их собственных и пуще того – не объяснимы никакой доступной им логикой. Взять, например, для начала пустячный случай, когда Артур Прайс Уильямс, личность, благодаря компанейскому складу характера хорошо известная во всех кабаках Карнарвоншира[8], попытался на изысканнейшем валлийском и даже на изысканнейшем английском вовлечь незнакомца в разговор о сцене с листами жести, но потерпел сокрушительное фиаско. Наводящие вопросы, расспросы напрямик, предложения помощи, практические советы, сарказм, ирония, оскорбления и, наконец, вызов на бой (пусть и робко выкрикнутый из-за придорожных кустов) – все осталось без ответа и, по-видимому, не было услышано. Метательные снаряды, как выяснил опытным путем Артур Прайс Уильямс, оказались столь же негодным средством знакомства, и собравшаяся толпа разбрелась, полная неутоленного любопытства и подозрений. Вечером того же дня темную фигуру хозяина Манса заметили на горной дороге: он, с непокрытой головой, шел в сторону деревни, ступая таким стремительным и широким шагом и с такой решимостью в лице, что Артур Прайс Уильямс, завидев его издали с порога «Свиньи и свистка», ощутил неимоверный ужас, спрятался на кухне за голландской духовой печью и сидел там до тех пор, пока приезжий не проследовал мимо таверны. На учеников, как раз выходивших из здания школы, также накатила волна панического страха, которая увлекла их обратно в классы, словно листья, гонимые ветром. Незнакомец же всего-навсего искал продуктовую лавку; найдя ее и пробыв там продолжительное время, он вышел с грудой пакетов из синей бумаги, где лежали буханка хлеба, селедки, свиные ноги, шпик и бутыль из темного стекла, – и прежней стремительной поступью воротился в Манс. Покупки он делал, просто называя то, что ему было нужно, не обременяя себя учтивостью манер, ничего не прося и не объясняя. Трюизмов хозяина лавки о погодных приметах, равно как и расспросов о том о сем, посетитель, казалось, не услышал, и его можно было бы счесть глухим, если бы он не проявлял живейшего внимания к любой реплике, хоть мало-мальски связанной с целью его визита. Посему в деревне быстро распространился слух, будто незнакомец намерен – за немногими исключениями, вызванными крайней необходимостью, – избегать контактов с окружающими.
Он зажил таинственной жизнью в ветшающем доме, без прислуги и друзей, где, судя по всему, спал на голых досках или на подстилке из соломы, а еду либо готовил сам, либо употреблял в сыром виде. Все это, вкупе с распространенной верой в призрачных отцеубийц, якобы населявших Манс, заметно упрочило популярную теорию о том, что между приезжим и остальным человечеством пролегает обширная пропасть. Если что-то и противоречило идее оторванности от рода людского, так это постоянный приток корзин с замысловато изогнутой стеклянной посудой, ящиков с инструментами из стали и меди, огромных мотков проволоки, всевозможных устройств непонятного назначения из железа и огнеупорной глины, склянок и пузырьков с черными и красными этикетками, грозно предупреждавшими: «ЯД», толстенных связок книг и гигантских рулонов чертежной бумаги, которые прибывали в ллиддвуддское жилище незнакомца из внешнего мира. Мистер Пью Джонс все же сумел установить имя и звание нового владельца Манса, тщательно изучив надписи на этих грузах, напоминавшие иероглифы и гласившие: «Мозесу Небогипфелю, д. ф.[9], ч. к. о.[10], СЗЖД[11], оплачено». Его открытие лишь укрепило в обитателях Ллиддвудда, особенно тех, кто понимал только по-валлийски, первоначальные недобрые предчувствия. Упомянутые посылки, ввиду явной их непригодности для какого бы то ни было дела, приличествующего простому смертному, невольно наводили на мысль об их дьявольском назначении; местных жителей охватили смутный ужас и жгучее любопытство, приумноженные необыкновенными происшествиями (и еще более необыкновенными рассказами о них), которые последовали за доставкой в Манс пресловутых грузов.
Первое из этих происшествий случилось 15 мая, в среду, – в день, когда прихожане ллиддвуддской кальвинистско-методистской церкви отмечали свой ежегодный праздник; по этому случаю в согласии с установившимся обычаем в деревню стеклись верующие из соседних приходов – Рустога, Пен-и-гарна, Кэргиллудда, Лланрдда и даже отдаленного Лланруста. Благодарность Провидению традиционно выражалась в виде хлебного пудинга с изюмом, чайной смеси, терцы, освященного флирта, «поцелуев в кружке́»[12], импровизированного футбола и ругани на политические темы. Примерно в половине девятого веселье начало стихать, а в девять многочисленные парочки и редкие группы гостей потянулись по окутанной мраком горной дороге, ведущей из Ллиддвудда в Рустог. Вечер был тихий и теплый – один из тех вечеров, когда жечь светильники и газовые лампы или спать крепким сном кажется глупой неблагодарностью по отношению к Творцу. В небе над головой разлилась несказанно глубокая сияющая синева, на западе в сгущавшейся мгле горела золотом вечерняя звезда. На северо-северо-западе виднелось слабое свечение угасавшего дня. Бледный серп луны еще только восходил над затянутым туманной пеленой могучим плечом Пен-и-пулла. С восточной стороны на фоне тусклого неба из смутных очертаний горного склона отчетливо проступала одинокая черная громада Манса. Безмолвие сумерек поглотило великое множество дневных шумов; окрестную тишину нарушали только звуки шагов, голоса и смех, то и дело доносившиеся со стороны дороги, да ритмичный стук молотка в объятом темнотой доме. Внезапно вечерний воздух наполнился странным гулом, одновременно жужжащим и гудящим, и яркие вспышки озарили дорогу перед путниками, чьи изумленные взгляды тотчас обратились к старому Мансу. Дом больше не мрел во тьме безликой черной глыбой – он был сплошь залит брызжущим наружу светом. Из зияющих дыр в крыше, из каждой щели в черепице и между кирпичами, из каждой бреши, что пробили в этой ветхой потрескавшейся скорлупе Природа и человек, струилось ослепительное голубовато-белое сияние, в сравнении с которым восходящая луна смотрелась матовым зелено-желтым диском. Легкая дымка вечерней росы повисла облачком над бесцветным свечением, исходившим из Манса, и приобрела загадочный фиолетовый блеск. Неожиданно дом огласили непонятный шум и крики, которые становились все громче, а вслед за этим собравшаяся толпа услышала сильные лязгающие удары по листам жести, закрывавшим окна. Потом озаренные изнутри проломы в крыше вдруг извергли диковинный рой разнородных созданий – ласточек, воробьев, сов, летучих мышей, мириады насекомых, которые на несколько минут гулкой, кружащейся и растекающейся тучей зависли над чернеющими фронтонами и печными трубами… после чего она медленно поредела и растворилась в ночи.
Когда переполох прекратился, до толпы снова донесся прежний пульсирующий гул, который становился все более явственным, покуда не остался единственным звуком, тревожившим тишину местности. Наконец дорога мало-помалу опять ожила – горстки жителей Рустога одна за другой, отвратив взоры от слепящей белизны, в глубокой задумчивости продолжили путь домой.
Образованный читатель, несомненно, уже догадался, что за удивительным явлением, заронившим множество невероятных мыслей в головы достопочтенных жителей Рустога, скрывалось просто-напросто пробное включение в Мансе электричества. Воистину эта новая перемена в старом доме казалась самой странной из всех, что выпали на его долю. Его возвращение к бренной жизни было сродни воскресению Лазаря[13]. С этого часа каждый закоулок стремительно менявшегося интерьера за ослепленными жестью окнами денно и нощно озаряли вспышки укрощенной молнии. Бешеная энергия маленького доктора, обладателя прямых волос и кожаных одежд, загнала в потаенные щели и дальние углы или вовсе уничтожила ползучие растения, ядовитые грибы, листья роз, птичьи гнезда и яйца, паутину и все те покровы и украшения, в которые выжившая из ума старуха-мать, Природа, долго обряжала ветшавший дом, готовя его к прощальной церемонии. Электромагнитный аппарат неустанно жужжал среди руин обитой деревянными панелями столовой, где в восемнадцатом столетии тогдашний хозяин Манса набожно читал утренние молитвы и поглощал свой воскресный обед, а на месте драгоценного буфета священника ныне высилась неприглядная куча печного кокса. Духовая печь в пекарне была переделана в кузню; хриплые вздохи ее мехов и прерывистые вспышки алых искр заставляли спешивших мимо деревенских женщин, не читавших ничего, кроме Библии, торопливо бормотать по-валлийски: «Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя»[14]. Происходящее в Мансе вселило в этих добрых людей уверенность, что к былым ужасам дома с привидениями прибавился прирученный, но временами проявлявший свой норов Левиафан[15]. Для различных механизмов, больших медных отливок, оловянных слитков, заполненных доверху бочек, ящиков и пакетов, которые продолжали бесперебойно поставляться в дом, требовалось немало места, и ради этого были принесены в жертву почти все внутренние стены здания; вдобавок неутомимый ученый безжалостно спилил лаги и половые доски верхних комнат таким образом, чтобы смастерить из них полки и угловые подпорки в похожем на атриум пространстве между подвалом и стропилами. Часть самых крепких досок пошла на изготовление широкого грубого стола, и теперь на нем быстро росли кипы папок и векторных диаграмм. Ум доктора Небогипфеля был, по-видимому, всецело поглощен этими геометрическими построениями – занятием, которому оказались подчинены все прочие стороны его жизни. Причудливые переплетения линий – схемы, вертикальные проекции, сечения, образующие гибридные сочетания каркасных, поверхностных и твердых моделей, – созданные опытными руками ученого при помощи счетных логарифмических устройств и перфорационных машин, быстро ярд за ядром покрывали бумагу. Некоторые из этих умозрительных конструкций он отправил в Лондон, и спустя некоторое время они вернулись обратно – воплощенные в латуни и слоновой кости, никеле и красном дереве. Иные он сам превратил в трехмерные изделия из дерева и металла; порой он отливал металлические заготовки в песчаных формах, но чаще старательно выпиливал их из чурбаков для большей точности размеров. В последнем случае он использовал, среди прочих инструментов, стальную циркулярную пилу с напыленной на зубья алмазной крошкой; посредством пара и зубчатой передачи ее диск разгонялся до невообразимых скоростей. Это приспособление как ничто подогрело болезненную неприязнь ллиддвуддцев к доктору, утвердив их в мысли, что он колдун и преступник. Нередко в полночной тишине (ибо новый обитатель Манса в своих неустанных исследованиях не обращал внимания на восходы и закаты солнца) жители окружающих Пен-и-пулл домов просыпались от звуков, которые поначалу казались жалобным бормотанием, похожим на стоны раненого, постепенно становились все выше и интенсивнее, превращаясь в страстный, надрывный протест, и в конце концов обрывались резким пронзительным визгом, часами отдававшимся в ушах добропорядочных обывателей и насылавшим на них одно кошмарное видение за другим.
Эти загадочные звуки и необъяснимые явления, бесцеремонные манеры и явное беспокойство доктора в те моменты, когда он не был занят работой, его строгое и ревниво оберегаемое уединение, его нескрываемая враждебность к назойливым незваным гостям до крайности возбудили всеобщее раздражение и любопытство. Возник даже замысел провести расследование его деятельности (включающее, вероятно, испытание водой[16]), как вдруг скоропостижная кончина горбуна Хьюза вследствие припадка привела к неожиданной развязке. Он умер в разгар дня посреди улицы, прямо напротив Манса. С полдюжины людей были тому свидетелями. Они видели, как несчастный внезапно упал и покатился по дороге, словно отчаянно борясь с невидимым противником. Когда подоспела помощь, бедняга лежал с побагровевшим лицом, а на его посиневших губах выступила липкая пена. Едва к нему успели прикоснуться, он испустил дух.
Оуэн Томас, врач общей практики, тщетно убеждал возбужденную толпу, стремительно собравшуюся возле «Свиньи и свистка», куда было принесено тело, что Хьюз умер самой что ни на есть естественной смертью. Жуткое подозрение, что покойный стал жертвой надмирных сил, приписываемых доктору Небогипфелю, как зараза распространилось по округе. С молниеносной быстротой новость разнеслась по деревне, наводнив весь Ллиддвудд яростным желанием покарать виновника этого злодейства. Отъявленное суеверие, которое дотоле скромно (из боязни стать посмешищем или страха перед доктором) бродило по деревне, теперь смело предстало взорам всех и каждого в грозном и величавом обличье истины. Люди, прежде скрывавшие свои опасения перед похожим на чертика философом, неожиданно открыли для себя невероятное удовольствие в том, чтобы шепотом поверять родственным душам пугающие догадки, и, сочувственно встреченный слушателями, их шепот вскоре превратился в полные уверенности речи, произносимые во весь голос. Упоминавшаяся выше сказка о плененном Левиафане, до сих пор остававшаяся ужасной, но тайной радостью кучки невежественных старух, сделалась всеобщим достоянием в качестве неоспоримого факта; утверждалось – со ссылкой на свидетельство миссис Морган Апллойд-Джонс, – что однажды этот монстр преследовал ее едва ли не до самого Рустога. Рассказ о том, как Небогипфель вместе с Уильямсами предавался песнопениям, полным чудовищных богохульств, и как после этого через дыру в крыше в Манс проникла «черная крылатая тварь размером с теленка», был безоговорочно принят на веру. Одно неудачное падение на погосте породило леденящую душу историю о том, как доктора, точно кладбищенского вора, застигли у свежей могилы, которую он разрывал своими длинными белыми пальцами. Электрический свет, падавший на дерево за домом, которое раскачивалось от порывов ветра, позволил многим клятвенно заявлять, будто Небогипфель вместе с убитым Уильямсом вешал сыновей последнего на призрачной виселице. По деревне циркулировала добрая сотня подобных баек, омрачавших и без того гнетущую атмосферу. Преподобный Элайджа Улисс Кук, прослышав о волнениях, отправился утихомиривать страсти, но сам едва не стал мишенью всеобщего гнева.
В понедельник 22 июля около восьми вечера против «некроманта»[17] выступило внушительное уличное шествие. Его ядро составила горстка смельчаков, включая Артура Прайса Уильямса, Джона Питерса и некоторых других; ближе к ночи они взметнули вверх факелы, брызжущие огненными искрами, и принялись выкрикивать отрывистые угрозы. Позже с видимой неохотой подтянулись менее отважные мужчины, а с ними, группами по четверо-пятеро, – их жены, чьи пронзительные истеричные визги и буйное воображение изрядно накалили толпу. Затем из притихших темных домов начали робко выскальзывать охваченные неодолимым ужасом молодые девушки и детвора, спеша на желтое сияние смолистых сосновых факелов и возбужденный гомон все возраставшего сборища. Около девяти перед таверной «Свинья и свисток» оказалась почти половина населения Ллиддвудда. Сквозь невнятный гул множества глоток слышался хриплый, надтреснутый голос кровожадного старого фанатика Причарда, призывавшего извлечь должный урок из судьбы четырехсот пятидесяти идолопоклонников с горы Кармил[18].
С боем церковных часов началось стихийное движение вверх по склону горы, и вскоре все – мужчины, женщины и дети, объятые страхом и жавшиеся друг к другу, – стали приближаться к дому злосчастного доктора. Когда ярко освещенная таверна скрылась из виду, дрожащий женский голос затянул один из тех мрачных гимнов, звуки которых так тешат слух кальвиниста. Мелодию тотчас подхватили – сперва двое-трое, а потом и вся процессия, и шарканье множества тяжелых башмаков быстро подстроилось под ритм гимна. Но вот цель шествия, как сияющая звезда, показалась из-за поворота дороги, и пение разом стихло; лишь голоса запевал все еще продолжали звучать – несколько нестройно, зато истовее, чем прежде. Как ни старались они своим упорством подать пример остальным, толпа неуклонно замедляла шаг, а достигнув ворот Манса, замерла как вкопанная. Еще недавно смутный страх перед будущим понуждал жителей деревни смело ступать вперед – теперь же страх перед настоящим в мгновение ока задушил своего собрата. Сильный свет, бивший из щелей огромного, молчаливого, как смерть, здания, озарял ряды бледных лиц, на которых читалась нерешительность; среди детей раздались приглушенные испуганные всхлипы.
– Ну, – произнес Артур Прайс Уильямс, обращаясь к Джеку Питерсу с притворным видом смиренного ученика, – что мы будем делать теперь, Джек?
Но Питерс разглядывал Манс в явной нерешительности и проигнорировал вопрос. Ллиддвуддская охота на ведьм, похоже, неожиданно оказалась на грани провала.
В этот момент старый Причард внезапно протолкнулся вперед, неистово размахивая длинными костлявыми руками.
– Что?! – воскликнул он надтреснутым голосом. – Вы страшитесь покарать того, кто ненавистен Господу? Сжечь колдуна!
Выхватив у Питерса факел, он распахнул хлипкие ворота и припустил по аллее к дому, оставляя в ночном воздухе извилистый искрящийся след.
– Сжечь колдуна! – донесся из колышущейся толпы чей-то пронзительный вопль, и охваченная стадным инстинктом орава, издавая бессвязные крики, ринулась вслед за фанатиком.
Горе философу! Ллиддвуддцы ожидали, что наткнутся на забаррикадированные двери, однако подвешенные на ржавых петлях створки без труда отворились от удара Причарда, с глухим треском признав свою негодность. Ослепленный шедшим изнутри светом, предводитель замер на пороге, меж тем как его сторонники сгрудились у него за спиной.
Те, кому довелось там побывать, рассказывают, что в монотонном сиянии электрических ламп их взорам предстал доктор Небогипфель, который стоял на причудливом сооружении из латуни, слоновой кости и красного дерева и как будто улыбался – с жалостью и одновременно с презрением, как, говорят, обычно улыбаются мученики. Более того, некоторые утверждают, что рядом с ним восседал высокий человек, облаченный во все черное, а иные даже уверяют, будто бы этот второй (чье присутствие иные отрицают) напоминал лицом преподобного Элайджу Улисса Кука, – прочие же усматривают в его чертах сходство с убитым Уильямсом, каким того изображает местная молва. В любом случае удостоверить что-либо тут уже невозможно, поскольку вдруг на толпу, проникшую в дом, обрушилась какая-то неведомая сила. Причард лишился чувств и, словно подкошенный, ничком повалился на пол; яростные крики и вопли толпы вскоре сменились возгласами мучительного страха и безмолвными вздохами, полными леденящего сердце ужаса, а затем отчаянным рывком в сторону дверей.
И немудрено, ибо спокойный, улыбающийся доктор, и его молчаливый, одетый в черное товарищ, и полированное возвышение, на котором оба находились, внезапно исчезли без следа!
КАК СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ОДНА ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Серебристая ива на берегу пруда. Внизу из поросшей жерухой воды поднимаются пучки осоки, а среди них сияют пурпурные лилии и стелется сапфировый туман незабудок. Дальше в лениво струящемся потоке отражается густая синева сырых небес Болотного края[19], а еще дальше лежит низкий, окаймленный ивняком островок. Этим и ограничивается обозримая вселенная, не считая редких подстриженных деревьев и пикообразных тополей, что маячат где-то в лиловой дымке. Автор, улегшись под ивой, наблюдает за медно-красной бабочкой, перепархивающей с одного цветка ириса на другой.
Кому под силу запечатлеть в памяти все цвета заката? Кто способен сделать слепок с огня? Пусть этот человек попробует проследить за странствиями человеческой мысли от медно-красной бабочки к бестелесной душе, а от нее – к духовным переменам и к исчезновению доктора Мозеса Небогипфеля и преподобного Элайджи Улисса Кука из чувственно воспринимаемого мира.
Автор лежал, наслаждаясь покоем, и, подобно мечтателю под деревом Бодхи[20], размышлял о таинственных перевоплощениях – и тут ощутил рядом чье-то присутствие. На островке между ним и багряным горизонтом возникло нечто – какая-то непрозрачная, отражавшая свет сущность, смутно различимая рассеянным взором по отражению в воде. Автор с удивлением и любопытством поднял глаза.
Что это было?
Он изумленно смотрел на представшее ему видение, сомневаясь, моргая, протирая глаза, вглядывался снова и снова – и наконец поверил. Сущность была плотной, не отбрасывала тени, и на ней виднелось два человека. Она состояла из белого металла, сверкавшего на полуденном солнце, как воспламенившийся магний, планок черного дерева, поглощавших свет, и белых механизмов, блестевших, точно полированная слоновая кость. И вместе с тем она казалась нереальной. Конструкция эта не была прямоугольной, какой полагается быть машине, но имела неправильную форму; перекошенная, она как будто падала, наклоняясь сразу в обе стороны, подобно тем причудливым кристаллам, что именуются триклинными[21]; она напоминала механизм, который покорежен или сломан; ее двусмысленный, сомнительный облик вызывал в памяти машину из какого-то бессвязного сна. Люди на ней тоже казались персонажами сновидения. Один из них был невысок, очень бледен, с головой странной формы, облачен в костюм темно-оливкового цвета; второй – светловолосый, респектабельного вида мужчина – обладал явным и абсурдно-неуместным сходством со священником Англиканской церкви.
Автора опять одолели сомнения. Он растянулся на земле и уставился в небо, протер глаза, оглядел нависавшие над ним ветви ивы, тщательно, словно нечто ему незнакомое, осмотрел свои руки, потом уселся и обозрел островок. Легкий ветер шевелил ивняк, низко летела белая птица. Машина из видения автора исчезла! Это была иллюзия, субъективная проекция, подтверждающая нематериальность сознания.
– Да, – вмешался в его мысли скептический голос, – но почему в таком случае священник все еще здесь?
Священник и впрямь никуда не делся. Автор в глубоком изумлении взирал на закутанного в черное пришельца, который, прикрыв рукой глаза, изучал окрестности. Автор знал их как свои пять пальцев, и его интересовал только один вопрос: откуда? Священник выглядел так, как выглядят французы, высадившиеся в Нью-Хейвене: вконец утомленный путешествием, одежда изношена и помята, что хорошо было видно при свете дня. Когда он подошел к кромке воды и обратился к автору с вопросом, голос его срывался и дрожал.
– Да, – отозвался автор, – это остров. Как вы туда попали?
Но вместо ответа священник задал другой – очень странный – вопрос.
– Вы живете в девятнадцатом веке? – произнес он.
Прежде чем ответить, автор заставил его повторить сказанное.
– Слава Богу! – с восторгом вскричал священник. Затем он взволнованно осведомился о точной дате. – Девятое августа тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года, – повторил он вслед за автором. – Хвала небесам! – И, повалившись наземь, где его скрыли из виду побеги осоки, громко зарыдал.
Автор, до крайности изумленный происшедшим, немного прошел вдоль берега пруда, нашел ялик, забрался в него и, отталкиваясь шестом, поспешно поплыл к островку, на котором недавно видел священника. Он нашел его лежащим без чувств в камышах и доставил в ялике к себе домой, где священник провел, не приходя в сознание, десять дней.
Тем временем стало известно, что это преподобный Элайджа Кук, три недели назад пропавший из Ллиддвудда вместе с доктором Мозесом Небогипфелем.
Девятнадцатого августа сиделка вызвала автора из рабочего кабинета – больной выразил желание поговорить с ним. Автор обнаружил его в здравом уме, вот только глаза священника странно блестели, а лицо было мертвенно-бледным.
– Вы преподобный Элайджа Улисс Кук, магистр искусств, выпускник Пембрук-колледжа Оксфордского университета, приходской священник Ллиддвудда, возле Рустога в Карнарвоне.
Больной кивнул.
– Вам что-нибудь говорили о том, как я здесь очутился?
– Я нашел вас в зарослях камыша, – пояснил я.
Он ненадолго умолк, задумавшись.
– Мне нужно дать показания. Вы готовы их выслушать? Они касаются убийства старика по фамилии Уильямс, которое случилось в тысяча восемьсот шестьдесят втором году, нынешнего исчезновения доктора Мозеса Небогипфеля, похищения воспитанницы в четыре тысячи третьем…
Автор вытаращил глаза.
– В году четыре тысячи третьем от Рождества Христова, – уточнил Кук. – Она еще не родилась. Я также хотел сообщить о нескольких нападениях на официальных лиц, совершенных в 17 901 и 17 902 годах…
Автор закашлялся.
– В 17 901 и 17 902 годах, вместе с ценнейшими сведениями медицинского, социального и физиографического характера за все эти столетия.
После консультации с врачом было решено записать показания священника; на них-то и основана оставшаяся часть рассказа об Аргонавтах Времени.
28 августа 1887 года преподобный Элайджа Кук скончался. Его тело было доставлено в Ллиддвудд и захоронено на местном кладбище.
Часть 2
Эзотерическая история, основанная на показаниях священника
АНАХРОНИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
В первой части повествования мимоходом упоминалось о попытке преподобного Элайджи Улисса Кука унять суеверное возбуждение сельчан, предпринятой памятным вечером 22 июля. Она оказалась безуспешной, и тогда он вознамерился предупредить нелюдимого философа о грозившей ему опасности. С этой целью он покинул охваченную слухами деревню и в молчаливой сонной жаре июльского дня направился вверх по склону Пен-и-пулла к старому Мансу. Громкий стук в тяжелую дверь отозвался внутри гулким эхом и вызвал дождь из кусков штукатурки и гнилой древесины у расшатанного крыльца; за исключением этих звуков, ничто не нарушило дремотную тишину летнего полдня. Вокруг царило такое безмолвие, что застывший в ожидании священник отчетливо различил голоса косарей с лугов, которые раскинулись в миле отсюда, ближе к Рустогу. Подождав некоторое время, визитер снова постучал и снова подождал, прислушиваясь; наконец шум падающего мусора умолк, и преподобный явственно ощутил пульсацию крови в собственных сосудах, то нараставшую, то спадавшую, подобно невнятному гомону далекой толпы, и мало-помалу наполнявшую его сознание тревогой и беспокойством.
Он опять постучал, нанося громкие дробные удары тростью, уперся рукой в дверь и что есть силы стукнул по ней ногой. Изнутри донеслось эхо, протестующе лязгнули петли, затем створки дубовой двери разошлись, и в голубом сиянии электрического света изумленному взору священника предстали руины внутренних стен, нагромождения досок и охапки соломы, груды металла, кипы бумаг и опрокинутые аппараты.
– Доктор Небогипфель, простите меня за вторжение, – воззвал он, однако единственным ответом ему были отзвуки его собственного голоса, которые раздались среди черных балок и скопления смутных теней, сгустившихся наверху.
Почти с минуту он стоял на пороге, подавшись вперед и вглядываясь в сверкающие механизмы, диаграммы, книги, валявшиеся вперемежку с остатками еды, ящиками, горами кокса, сена и мелкого мусора, что заполонили неразгороженное пространство дома. Потом, сняв шляпу и ступая на цыпочках, словно тишина вокруг была священной, он шагнул в явно пустовавшее убежище доктора.
Заглядывая во все углы, преподобный осторожно пробирался через хаос со странным предчувствием, что вот-вот обнаружит Небогипфеля притаившимся где-то в резких черных тенях среди мусора, – настолько завладело им невыразимое ощущение почти осязаемого человеческого присутствия. Это ощущение было таким сильным, что, усевшись после бесплодных поисков на заваленную чертежами Небогипфеля скамью, он невольно воззвал к тишине сдавленным хриплым голосом:
– Его здесь нет. Но мне нужно кое-что ему сказать. Я должен подождать его.
Вниз по стене в пустом углу позади него скользнул кусок штукатурки – и священник, мгновенно покрывшись испариной, обернулся на звук. Там ничего не было, но, приняв прежнюю позу, он застыл на месте: перед ним бесшумно и быстро возник Небогипфель – ужасно бледный, с руками в красных пятнах, скорчившийся на странного вида металлической платформе и пристально смотревший глубоко посаженными серыми глазами в лицо гостя.
Кук чуть было не завопил от страха, но язык его словно прилип к гортани, и он мог лишь глазеть, как зачарованный, на причудливое лицо, которое внезапно стало зримым. Губы доктора дергались, дыхание вырывалось короткими судорожными всхлипами. Нечеловечески высокий лоб взмок от пота, жилы сделались узловатыми, вздулись и побагровели. Священнику бросилось в глаза, что красные руки Небогипфеля дрожат, а рот открывается и закрывается, как будто его обладатель с трудом мог говорить.
– Кто… что вы здесь делаете? – выдохнул он наконец.
Вместо ответа Кук, со вставшими дыбом волосами и открытым ртом, продолжал таращиться на красноречивое алое пятно, которое растеклось по белой слоновой кости, сверкающему никелю и блестящему черному дереву платформы.
– Что вы здесь делаете? – повторил доктор, поднимаясь. – Что вам нужно?
Кук сделал непроизвольное движение.
– Ради всего святого, что вы такое? – вопросил он, и тут присевший на корточки призрачный карлик поплыл перед его глазами, сметаемый в темную безмолвную ночь черными занавесями, которые опустились со всех сторон.
Когда преподобный Элайджа Улисс Кук пришел в себя, он обнаружил, что лежит на полу в старом Мансе, а доктор Небогипфель, уже без пятен крови на руках и малейших признаков волнения на лице, склоняется над ним, стоя на коленях со стаканом бренди в руке.
– Не тревожьтесь, сэр, – сказал философ с легкой улыбкой, когда священник открыл глаза. – Я не развлеку вас ни бесплотным духом, ни чем-либо столь же необычным… могу я предложить вам это?
Священник безропотно выпил бренди, затем недоуменно взглянул в лицо Небогипфелю, тщетно пытаясь вспомнить, что произошло перед тем, как он лишился чувств. Наконец он смог принять сидячее положение и тогда увидел наклонную металлическую конструкцию, появившуюся вместе с доктором; перед его мысленным взором тотчас промелькнуло все, что случилось недавно. Он перевел взгляд с устройства на отшельника, потом обратно.
– Здесь нет никакого обмана, сэр, – с едва уловимой насмешкой в голосе произнес Небогипфель. – В том, чем я занимаюсь, потусторонние сущности не участвуют. Это самое настоящее механическое устройство, определенно принадлежащее этому жалкому миру. Простите – я отлучусь на минутку.
Он поднялся с колен, взобрался на платформу из красного дерева, опустил ладонь на замысловато изогнутый рычаг и повернул его. Кук протер рукой глаза. Бесспорно, здесь не было никакого обмана. Доктор и машина исчезли.
На сей раз преподобный джентльмен не испытал страха, а ощутил только легкую нервную оторопь, увидев, как доктор тотчас «в мгновение ока» появился вновь и спустился с платформы. Тот двинулся по прямой, заложив руки за спину и опустив голову, и шагал так, покуда не наткнулся на препятствие в виде циркулярной пилы; тогда, резко повернувшись на каблуках, он произнес:
– Я подумал, пока был… далеко… Хотите отправиться в путешествие? Я был бы очень рад спутнику.
Священник все еще сидел на полу с непокрытой головой.
– Боюсь, вы сочтете меня недогадливым… – медленно начал он.
– Полноте! – перебил доктор. – Это я оказался не слишком догадлив. Вы, несомненно, жаждете получить объяснения всему увиденному… хотите узнать, куда я направляюсь. За последние десять с лишним лет я так мало разговаривал с людьми этой эпохи, что отвык делать необходимые скидки на способности чужого ума. Я постараюсь все объяснить, насколько смогу, но, боюсь, не очень-то преуспею… Это долгая история… вы находите удобным сидеть на полу? Если нет, вон там стоит отличный ящик, а позади вас – охапка соломы. Или вот эта скамейка – с чертежами ныне покончено, но, подозреваю, там остались кнопки. Вы также можете усесться на «Арго Времени»!
– Нет, спасибо, – задумчиво ответил священник, подозрительно оглядывая означенное кособокое сооружение. – Мне вполне удобно и здесь.
– Тогда я начну. Вы читаете сказки? Современные сказки?
– Боюсь, вынужден признаться, что я читаю много беллетристики, – с ноткой самоосуждения произнес преподобный. – Вероятно, в Уэльсе у рукоположенных священников, совершающих церковные таинства, слишком много свободного времени…
– Вы читали «Гадкого утенка»?
– Ганса Христиана Андерсена? Да… в детстве.
– Изумительная сказка! Со времен моего одинокого детства она всегда была полна для меня слез и окрыляющих надежд и не раз спасала от неописуемых бедствий. Если вы как следует уразумели ее смысл, то без труда поймете, каким образом в человеческом уме может зародится идея подобной машины. Когда я читал эту простую историю в первый раз, я уже мало-помалу приучался на собственном горьком опыте сторониться людей, среди которых родился, – и понял, что она повествует обо мне. Это я – гадкий утенок, которому суждено обернуться лебедем, прошедший через презрение и горечь, чтобы воспарить к вершинам величия. С той минуты я мечтал о встрече с человеком, близким мне по духу, мечтал найти сочувствие, в котором остро нуждался. Двадцать лет я жил этой надеждой, жил и работал, жил и странствовал, даже любил – и в конце концов впал в отчаяние. Лишь однажды за долгие годы своих напряженных исканий я встретил – среди миллионов недоумевавших, изумленных, равнодушных, презрительных, вероломных и хитрых взглядов – глаза, что взглянули на меня так, как я желал… взглянули…
Доктор умолк. Преподобный Кук всмотрелся в черты собеседника, ища следы того глубокого чувства, которое одушевляло его последние слова. Лицо Небогипфеля было печально, хмуро и задумчиво, губы плотно сжаты.
– Короче говоря, мистер Кук, я обнаружил, что являюсь одним из тех выдающихся каготов[22], которые именуются гениями, – человеком, опередившим свой век, мыслящим категориями более мудрой эпохи, творящим то и верящим в то, чего не дано уразуметь его современникам; я понял также, что мне уготованы долгие годы молчания, душевных страданий и одиночества – горчайшей из земных мук. Я осознал, что я – анахронический человек, чье время еще не пришло. Меня поддерживала одна-единственная призрачная надежда, и я цеплялся за нее до тех пор, пока она не обрела воплощение. Тридцать лет непрерывных трудов и глубочайших раздумий о тайнах материи, формы и жизни – и вот он, «Арго Времени», корабль, плывущий сквозь время, и теперь он унесет меня в путешествие через века, в эпоху, к которой я принадлежу, к людям моего поколения.
«АРГО ВРЕМЕНИ»
Доктор Небогипфель сделал паузу и, внезапно засомневавшись, взглянул на священника, который выглядел озадаченным.
– Вам кажется, что «путешествие во времени» звучит как бред безумца? – спросил он.
– Это определенно идет вразрез с общепринятыми представлениями, – сказал священник с легкой полемической ноткой в голосе, очевидно имея в виду «Арго Времени». Как видим, даже священник Англиканской церкви может порой заподозрить ближнего в ложном восприятии действительности.
– Это определенно идет вразрез с общепринятыми представлениями, – дружелюбно согласился философ. – И даже более того: это бросает общепринятым представлениям смертельный вызов. Всевозможные представления, мистер Кук, – научные теории, законы, догматы веры или, если обратиться к первоосновам, логические предпосылки – называйте их как угодно, – все они, вследствие бесконечности всего сущего, являются лишь схематичными карикатурами на невыразимое, тем, чего следует всячески избегать, кроме тех случаев, когда это помогает сформулировать результаты, – подобно тому как живописцу помогают наброски мелком, а инженеру – чертежи и сечения. Но людям, в силу ограниченности их природы, трудно в это поверить.
Преподобный Элайджа Улисс Кук кивнул со сдержанной улыбкой человека, которому оппонент, сам того не желая, дал фору.
– Прийти к мысли, что идеи отражают сущность вещей, так же легко, как катить бревно. Именно поэтому едва ли не все цивилизованные люди верят в истинность геометрических построений древних греков.
– О сэр, прошу прощения, – перебил Кук. – Большинству людей известно, что геометрической точки, как и геометрической прямой, в действительности не существует. Сдается мне, вы недооцениваете…
– Да-да, это общепризнано, – спокойно согласился Небогипфель. – Но возьмем, например… куб. Существует ли он в физическом мире?
– Несомненно.
– Мгновенный куб?
– Не знаю, что вы подразумеваете под «мгновенным кубом».
– Существует ли тело, обладающее длиной, шириной и высотой, но лишенное каких-либо иных расширений?
– А какие еще могут быть расширения? – спросил Кук, вскинув брови.
– А вам не приходило в голову, что в физическом мире не может существовать никакой формы, не имеющей временно́й протяженности? Неужели ваш ум не посещала догадка, что человечество отделяет от геометрии четырех измерений – длины, ширины, высоты и длительности – лишь инерция мышления, восходящего в своих основах к левантийским философам бронзового века?
– Глядя на вещи подобным образом, – сказал священник, – невольно приходишь к выводу, что в учении о трехмерном универсуме кроется какой-то изъян; но…
Он умолк, однако выразительное «но», на котором оборвалась его реплика, весьма красноречиво свидетельствовало о предубеждении и недоверии, переполнявших его мысли.
– Когда, вооружившись этим новым светочем Четвертого Измерения, мы пересмотрим с его помощью нашу физическую науку, – продолжил, немного помолчав, Небогипфель, – то обнаружим, что больше не заперты в безнадежной клетке нашего времени, не привязаны к своему поколению. Передвижение по оси длительности – навигация во времени – окажется достоянием геометрической теории, а затем и прикладной механики. В давнюю пору люди могли перемещаться лишь по горизонтали и в пределах некоторой, до известной степени замкнутой территории. Над ними проплывали облака – недосягаемые сущности, таинственные колесницы грозных богов, обитавших средь горных вершин. На деле странствия людей той далекой эпохи были ограничены двумя измерениями и вдобавок сдерживались окружающим Мировым океаном и гиперборейским страхом. Однако те времена канули в Лету. Сперва корабль Ясона проложил себе путь через Симплегады[23], а спустя столетия Колумб бросил якорь в бухте Атлантиды. Еще позднее, разорвав путы двухмерности, человек вторгся в третье измерение – вознесся к облакам на монгольфьере[24] и спустился в роскошные подводные кладовые в водолазном колоколе[25]. А теперь пришло время сделать следующий шаг, за которым нас ждут скрытое прошлое и неведомое будущее. Мы стоим на горной вершине – а внизу раскинулись бескрайние равнины веков.
Умолкнув, Небогипфель окинул взором своего слушателя.
В лице преподобного Элайджи Кука читалось выражение сильного недоверия. Длительный проповеднический опыт открыл ему глаза на некоторые истины, и с тех пор он с подозрением относился к пышной риторике.
– Ваши слова – это фигуры речи, или мне следует понимать их буквально? – осведомился он. – Вы говорите о путешествиях во времени в том же смысле, в каком иной говорит о Всемогущем, пролагающем путь Свой сквозь бурю, – или вы… э-э-э… имеете в виду то, что сказали?
Доктор Небогипфель сдержанно улыбнулся.
– Подойдите и взгляните на эти чертежи, – предложил он и затем принялся как можно проще объяснять новую геометрию четырех измерений.
Теперь, в свете диаграмм и моделей, предъявленных Небогипфелем в подтверждение своих слов, предубеждение Кука мало-помалу стало сходить на нет. Вскоре он поймал себя на том, что задает вопросы и все глубже проникается интересом, по мере того как Небогипфель не спеша и с исчерпывающей ясностью раскрывал великолепное устройство своего необыкновенного изобретения. Время летело незаметно, и, когда доктор перешел к рассказу о своих исследованиях, священник, бросив взгляд на дверной проем, с удивлением узрел снаружи глубокую синеву сгущавшихся сумерек.
– Это путешествие, – сказал Небогипфель, завершая свою историю, – будет преисполнено невообразимых опасностей… даже краткий испытательный полет оказался сопряжен со смертельным риском… но оно сулит и невообразимые – и поистине божественные – радости. Хотите отправиться со мной? Хотите оказаться среди людей Золотого века?..
Однако при упоминании о смерти мысли Кука обратились вспять – к тем жутким ощущениям, которые он испытал при первой встрече с философом.
– Доктор Небогипфель… могу я спросить? – Он помедлил в нерешительности. – У вас на руках… Это была кровь?
Небогипфель изменился в лице и медленно произнес:
– Остановив машину, я обнаружил, что по-прежнему нахожусь в этой комнате… Что это?
– Это ветер шумит в кронах деревьев по дороге к Рустогу.
– Скорее напоминает гул голосов поющей хором толпы… так вот, остановившись, я обнаружил, что по-прежнему нахожусь в этой самой комнате. За столом сидели старик, юноша и мальчик и читали сообща какую-то книгу. Я стоял позади них, они меня не замечали. «Злые духи искушали его, – читал старик, – но, как тут написано, „тому, кто устоит против них, будет дарована жизнь вечная“. Они приходили как умоляющие друзья, но он избежал всех их козней. Они являлись под видом ангелов и богов, но он противостал им именем Царя Царей. Говорят, однажды, когда он переводил на немецкий Новый Завет, пред ним предстал самый Сатана…» Тут мальчик испуганно обернулся и, издав испуганный вопль, лишился чувств… Двое других накинулись на меня… Это была схватка не на жизнь, а на смерть… Старик вцепился мне в горло с криком: «Человек ты или дьявол – я поборю тебя…» У меня не было выбора. Мы катались по полу… в моей руке оказался нож, выпавший из дрожащей руки его сына… Слышите?
Он умолк и прислушался; в лице Кука, продолжавшего смотреть на него, читался прежний ужас, вызванный воспоминанием о пятнах крови на руках доктора.
– Вы слышите, что они кричат? Вслушайтесь!
«Сжечь колдуна! Сжечь убийцу!»
– Слышите? Нельзя терять времени.
«Смерть убийце сирых и убогих! Смерть приспешнику дьявола!»
– Быстрее! Быстрее!
Кук непроизвольно сделал отстраняющий жест рукой и направился к выходу. Толпа черных фигур, озаренных алыми факелами, с ревом ринулась навстречу священнику и вынудила его отпрянуть. Он закрыл дверь и повернулся к Небогипфелю.
Тонкие губы доктора скривились в презрительной усмешке.
– Если останетесь, они убьют вас, – сказал он и, обхватив запястье безвольно повиновавшегося гостя, силой увлек его к сверкавшей металлом машине. Кук сел и закрыл лицо руками.
В следующий миг дверь распахнулась и на пороге, моргая, застыл старый Причард.
Тишина. Затем – хриплый вскрик, тотчас перешедший в резкий, пронзительный вопль.
Громоподобный рев, похожий на грохот вырвавшегося на свободу мощного потока воды.
Полет «Арго Времени» начался.
Как окончилось путешествие? Почему Кук рыдал от радости, когда возвратился в девятнадцатый век? И почему Небогипфель не вернулся с ним? Все это (и многое другое) было предано бумаге, и в зависимости от того, как распорядится Судьба, об этом в свое время прочтет – или не прочтет никогда – любознательный читатель.
1888
Служитель искусства
Перевод С. Антонова.
Алек услышал, как его жена заиграла, бросил кисти и подошел к креслу, стоящему возле старомодного кабинетного рояля. Это было широкое, обитое бархатом кресло, в котором ему приходилось сидеть, заложив руки за голову и блаженно бездельничая, если он вообще хотел там сидеть, – кресло, принуждавшее человека чувствовать себя совершенно непринужденно, отдаваться во власть Морфея и опиумного дыма.
Необыкновенно мелодичная игра Изабель была исполнена силы, в равной мере заключавшейся в ее пальцах и ее душе; она исполняла какой-то отрывок из Вагнера[26], что-то трудноуловимое, переменчивое – и неизменно притягательное, как сама жизнь. Расположившись в этом кресле и слушая ее, он как будто внимал пению сирен; существование становилось… так сказать, «одухотворенным», неожиданно освобожденным от всех будничных забот и привычного хода вещей.
Весь день Алек ломал голову над выражением одного никак не удававшегося ему лица и всякий раз при попытках определить, воспримет ли красоту этого лица заурядный наблюдатель, ощущал, как образ выцветает и истончается, словно крылья пойманной бабочки; а тут представилась восхитительная возможность ускользнуть от технической трудности. Он с радостью убежал от действительности и ныне блуждал – уже не смертный человек, а вновь бессмертная душа – в царстве воображения, с подобающей нетленному духу смелостью вторгаясь в неизведанные миры. День напролет он работал, развивая свой замысел рыцарского бдения, и, пока Изабель играла анданте, музыка наполняла его мысленный взор видениями темно-лиловых теней в загадочных храмах, одиноких красных огней перед призрачными алтарями, тусклых отблесков, едва различимых фигур в белых одеждах, молитв и благоговейного трепета – все было смутным, но безмерно прекрасным. Теперь же из-под ее белых рук вырывалось стремительное аллегро[27], и это незаметно оживило его фантазию. В затененные приделы его сознания одна за другой проследовали процессии; факел разогнал сумрак и стал гореть бледнее в свете дня; фигуры все прибывали и прибывали, сбиваясь в толпу; исполненные величия священники и воины, все более многочисленные, более молодые, более оживленные, безостановочно запруживали сцену – до тех пор, пока храмы, алтари, шествия не потонули, утратив всякий стройный порядок, в хаотичном танце торжествующих рыцарей и дам, пастухов и пастушек, шутов, уродцев, полишинелей, жуков-огнецветок, людей, в конце концов подхваченных водоворотом ангельских созданий, чертенят, карликов, фейри, сатиров, гамадриад, гарпий и ореад. Все быстрее и быстрее кружили они в танце, напоминая причудливый калейдоскоп. Внезапно по толпе, точно известие о чьей-то смерти по бальной зале, пронесся трепет – собравшихся поглотила тьма – музыка умолкла.
– Алек, – сказала Изабель, – ты засыпаешь; ты отчетливо всхрапывал, пока я играла.
– Ничего подобного, дорогая, я и не думал спать! Я просто закрыл глаза, дабы насладиться музыкой и поразмыслить над маленькой композиционной проблемой, – возразил он, чувствуя себя несколько уязвленным.
Изабель отвернулась от рояля, и Алек, не желая, чтобы недоразумение повторилось (она всегда думала, что он спит или нездоров, когда им завладевали грезы), открыл глаза так широко, как только мог, и немигающим взглядом уставился на нее.
– Алек, дорогой, не смотри так! Ты заболел? Или что-то угрожает моей прическе?
У Изабель были вьющиеся темно-каштановые волосы, того оттенка, который в косом свете отливает золотом. В этот вечер они слегка своевольничали (так сама Изабель это называла), и вокруг ее головы виднелось множество маленьких золотистых завитков, которые, расплываясь в янтарном сиянии стоявшей рядом лампы, создавали подобие яркого гало.
– Разве что сильфы, дорогая Белинда[28], – ответил Алек, скрывая легкое раздражение за видимой беспечностью. – А что, мой взгляд смущает тебя?
Изабель вновь заиграла, задумавшись.
– Я не хочу, чтобы на меня таращились, как на болванку для париков, – сухо изрекла она наконец. – Но ты можешь смотреть, если нравится.
И Алек продолжил смотреть – впрочем, с тщательно подавляемой яростью – на нимб вокруг ее головы и затененное лицо.
«Славное у нее лицо, – размышлял он. – Мягкие черты, кроткий взгляд; из тех бледных лиц с темными глазами, которые, быть может, и не поражают красотой, но бесконечно прекрасны в своей выразительности, лицо, на которое никогда не надоест смотреть, покуда продолжается жизнь, – и все же…»
Алек очень любил жену – несравнимо больше, чем себя или какое бы то ни было другое достойное любви создание, и все же… Это маленькое «и все же», это единственное роковое «но» сей же миг во всей своей ясности явилось на ум Алеку, внушенное нотками вульгарности, которые прозвучали в первых словах супруги, и, возможно, усиленное скрытой досадой на тот дух, что пронизывал теперь ее игру. Изабель, подумалось ему, была силой, враждебной искусству.
Алек был художником не только по профессиональному призванию, но и по душевному влечению; и как раз сейчас он неотступно размышлял о том, что величайшая его любовь находится не в этой уютно освещенной комнате, а в смежной с нею полутемной мастерской и что для человека, который женат на вечном Искусстве, обычный брак – непростительная ошибка, даже, пожалуй, что-то вроде двоеженства. Всеведущему читателю следует знать, что незадолго до описанной выше сцены Алек перелистывал томик Алджернона Суинберна[29], это дитя фантазии; к данному обстоятельству прибавились допущенные Изабель уничижительные переходы от игры воображения к храпу и от окруженных сильфами голов к болванкам из парикмахерской, а также тоскливая музыка (она теперь и впрямь сделалась тоскливой), – и все это сложилось в его сознании в одну общую картину. Собственно говоря, это была одна из тех тягостных минут недовольства семейной жизнью, какие вовсе не редкость у недавно женатых мужчин, наделенных умеренным умом и неумеренными амбициями, – особенно если такой мужчина провел несколько дней в плохо продуманных и бесплодных трудах. Жена Алека считала, что мирские заботы и невзгоды умеряют людское самолюбие. Он же полагал, что «ars longa, vita brevis»[30], – идея не новая и не оригинальная, из лексикона прописных истин; и вот он, художник, укорачивает свою жизнь, мало-помалу врастая в семейный уклад! Среди прочих одинаково пронзительных изречений ему вспомнились слова Мильтона о «таланте, зарыть который – равносильно смерти»[31]. Смерть! Утрата бессмертия! Неужели он обречен упускать моменты, предназначенные для творческого испытания? Долой такие мысли! В эту минуту он казался себе новым Мерлином, подпавшим благодаря музыке и мягкому креслу под чары новой Вивианы[32]; он, способный создавать неотразимо прекрасные полотна, тратил мгновения и часы на то, чтобы радоваться и быть в радость жене, которая низводила его на уровень болванки для париков.
Не позволить этому мгновению длиться было долгом Алека перед Искусством, которое имело над ним высочайшую власть. Он вернется к своему истинному призванию. И, не успев толком обдумать это решение, из смутного недовольства, которое в нем бродило, он принялся действовать.
Не рискнув бросить взгляд на жену, он поднялся и проследовал прямиком в мастерскую; когда он закрыл дверь, музыка внезапно умолкла и до него донесся шорох платья Изабель.
Алек зажег лампу с цилиндрическим фитилем, рассеивавшую вокруг ровный белый свет, и повернулся к картине.
В этот момент он услышал за спиной скрип тихо открывающейся двери, обернулся и увидел, как Изабель, вероятно вообразившая, что ему нездоровится, с тревогой заглядывает внутрь. Впрочем, внезапное раздражение, написанное у него на лице, заставило ее скрыться и бесшумно затворить дверь.
Мысли Алека непрестанно вращались вокруг молодого итальянца с тонкими бледными чертами, подвижными губами и блестящими глазами, которому предстояло превратиться в рыцаря, несущего ночную стражу. Впервые увидев юношу, художник был поражен пылкостью, сквозившей в его взоре. Он как влитой подходил на роль персонажа будущей картины. Алеку стоило лишь сказать: «Стань на колени. Прими благоговейный вид», тут же, не сходя с места, набросать эскиз – и дело было бы сделано. Однако в этот день, работая над портретом рыцаря, он испытал удивление и досаду, когда обнаружился любопытный феномен, проявлявшийся наперекор его усилиям. Алек старался запечатлеть облик молодого итальянца как можно точнее (что давалось ему с небывалым дотоле трудом) – но каким-то необъяснимым образом на полотне все отчетливее вырисовывался человек зрелых лет, со странно-зловещим выражением лица, исполненным не благоговения, а скрытой насмешки. Не понимая, как совладать с этим, Алек с радостью отложил переделку картины, чтобы послушать игру жены. Теперь же, под вечер, он вознамерился предпринять новую попытку одолеть возникшее препятствие, на сей раз игнорируя различия в оттенках цветов, – и выйти победителем.
– Кое-какие неточности еще остаются, – заключил он. – Возможно, брови чересчур раскосы. – С этими словами он направил свет лампы прямо на полотно и вновь взялся за палитру и кисти.
Лицо на холсте определенно выглядело так, словно жило собственной жизнью. Алек никак не мог понять, откуда исходит такое дьявольское выражение. Нужно было проверить это опытным путем. Брови? Едва ли. Однако он их изменил. Нет, лучше не стало – скорее наоборот, облик человека на портрете сделался еще более сатанинским. Углы рта? Брр! Ухмылка из мефистофелевски-глумливой превратилась в откровенно зловещую. Может быть, глаз? Катастрофа! Целясь в коричневую краску, он каким-то образом ткнул кисть в киноварь. Теперь глаз как будто повернулся в глазнице и уставился на него, сверкая огнем. В порыве гнева Алек ударил по картине кистью, полной красной краски; и тогда произошло нечто в высшей степени любопытное и странное – если, конечно, произошло.
Демонический итальянец закрыл глаза, поджал губы и стер рукой краску с лица.
Затем красный глаз опять открылся, и лицо на картине улыбнулось.
– Слишком уж вы вспыльчивый, – сказал портрет.
Как это ни удивительно, Алек не ощутил ни страха, ни сколь-либо сильного изумления – возможно, потому, что был сверх меры разозлен.
– Почему вы все время дергаетесь, гримасничаете, ухмыляетесь и щуритесь, пока я вас пишу? – спросил он.
– Вовсе нет, – возразил портрет.
– Именно так, – настаивал Алек.
– Все это делаете вы, – продолжал портрет.
– Нет, не я! – заспорил Алек.
– Нет, вы, – упрямо повторил портрет. – И не вздумайте снова заляпать меня краской, потому что сказанное – чистая правда. Весь день вы пытались наобум придать моему лицу удачное выражение. Воистину, вы и понятия не имеете, как должна выглядеть ваша картина.
– Имею, – запротестовал Алек.
– Не имеете, – решительно гнул свое портрет. – И прежде никогда не имели. Всякий раз вы приступаете к работе с самыми туманными представлениями о том, чего хотите добиться. Вы уверены лишь, что это должно быть нечто прекрасное, или благочестивое, или трагическое, – но во всем остальном полагаетесь на случай. Дорогой мой, неужели вы думаете, что можно писать картины подобным образом?
Алек почувствовал, что этот упрек во многом справедлив.
– Что же мне тогда делать?
– Обретите вдохновение.
– Но я думал, что это и было вдохновение!
– Как же! – Портрет сардонически усмехнулся. – Всего-навсего фантазия, что пришла вам в голову, когда вы увидели, как шарманщик смотрит на ваше окно! Ночное бдение! Ха-ха!
Алек застонал.
– Так и есть! Я женат. Дни вдохновения миновали. О, если бы обратить время вспять! Я отдал бы все на свете, только бы вернуть вдохновение, освободиться от унылой домашней жизни, которую веду с недавних пор. Я… я мог бы отдать душу ради искусства!
– Как пожелаете, – ответил портрет, и затем воцарилось безмолвие.
– Эй! – воскликнул Алек; внезапно осознав, с каким хладнокровием только что принял на веру столь необыкновенный феномен, он ощутил неловкость. – Вы что-то сказали? – спросил он после паузы. – Я говорю… Вецетти… или как там вас… вы что-то сказали?
В тишине он мог слышать стук собственного сердца. Картина хранила молчание, только красный глаз горел как раскаленный уголь.
Он очень медленно приблизился к картине и провел рукой по красочному слою. Вне всяких сомнений, краска – просто краска. Должно быть, он задремал. Ему довелось прочесть много научной литературы о галлюцинациях и прочих подобных явлениях, и потому он не был сильно напуган; и все же… Он чувствовал на себе взгляд красного глаза, но тот оставался совершенно невозмутим.
– Вы желаете сказать еще что-то? – спросил Алек, демонстративно смешивая все краски на палитре. – Потому что, если нет…
Тык, тык, тык – принялся он тыкать кистью в холст, мазок за мазком торопливо закрашивая это раздражающе смелое на язык создание. Некоторая заминка вышла с устранением красного глаза: он, казалось, продолжал алеть сквозь слои краски, которые наносились поверх него. Наконец, выдав что-то вроде подмигивания, исполненного затаенной иронии, пропал и он.
Все пятна и мазки, все изгибы и контуры несносной фигуры на полотне скрылись из виду. Алек с облегчением отступил от картины. «До чего ж я суеверен», – в нерешительности думал он, тщательно осматривая уничтоженный портрет. И вдруг в бессмысленной мазне ему почудились какие-то очертания.
– Боже мой! Вот и идея! – воскликнул он и, сложив пальцы в подобие рамки, поднес их к самым глазам.
Он услышал тихий стук в дверь. Это была жена. Через несколько мгновений дверь отворилась, но он не обернулся.
– Алек, – произнесла она, – ты знаешь, который час?
Ответа не последовало.
– Уже почти полночь, Алек.
Снова никакого ответа.
– Алек, ты собираешься писать всю ночь?
– О да! Да! – отозвался он, не оборачиваясь, и из-за резкости тона его слова прозвучали едва ли не бранью; когда же, ощутив легкое чувство вины, он оглянулся, Изабель уже ретировалась.
Это и в самом деле была блестящая идея, да что там – Алека как будто внезапно озарило вдохновение свыше! Изгибы наверху напоминали сходящиеся своды крыши; внизу смутным пятном темнел рыцарь, стоявший на страже; а посредине, в том белом пространстве, которое Алек интуитивно искал с самого начала, расположились неусыпно бдящие духи Рыцарства, Благородства, Чистоты и Веры. Замечательный по форме и колориту, этот замысел явился ему во всей ясности зримого материального образа. Не прошло и минуты, как он уже лихорадочно готовил краски. Рассвету предстояло застать работу в разгаре.
Он трудился как одержимый, когда в глухой ночи жена снова постучала ноготками в дверь мастерской. Сделав шаг назад, чтобы оглядеть полотно, он увидел, что она стоит на пороге в белой пижаме.
– Алек, – сказала она, – уже четыре часа утра. Ты так вконец себя загонишь.
– Прочь отсюда! – грубо приказал он и, пока жена поспешно удалялась по коридору, подошел к двери, захлопнул ее и запер на ключ. Ему почудилось, что он слышит плач Изабель; но в этот момент взгляд Алека упал на рождавшуюся его усилиями картину, и он забыл обо всем прочем.
Когда свет лампы с цилиндрическим фитилем сделался желтым в бледных солнечных лучах, хлынувших в комнату, Алек все еще продолжал самозабвенно работать. Значительная часть картины была вчерне завершена; она уже смотрелась великолепно.
Что это? Стук в дверь.
– Войдите.
Однако дверь была заперта. Не отводя глаз от холста, Алек отворил ее и услышал голос Лиззи, младшей служанки.
– О сэр, с вашего позволения, хозяйка прислала меня сказать, что она больна и просит вас прийти к ней.
– Больна? – повторил Алек, возвращаясь к картине и нанося на холст немного пурпурной краски.
– Ночью она поскользнулась на ступеньках лестницы, сэр, и утром у нее ужасно разболелись бок и спина, сэр.
– Это залитое лунным светом окно превосходно, – произнес Алек, задумчиво продолжая работать кистью. – А… Лиззи!
– Слушаю, сэр.
– Принеси мне кофе и сэндвич.
И, напрочь забыв о болезни жены (новость, которую он, по правде говоря, едва расслышал), Алек вернулся к своему грандиозному замыслу, сосредоточившись на обманчиво однотонных фигурах молящихся, стоящих в окнах, и на надгробных изваяниях, призванных создать эффект глубокого безмолвия вокруг бодрствующего рыцаря. На него наконец снизошло подлинное, несомненное вдохновение. Прежде он опасался, что его задумка выльется в нечто столь же безжизненное, как те несусветные полотна на сходные сюжеты, которые собраны в зале Чантри Южно-Кенсингтонского музея на радость незадачливым потомкам. А теперь его полотно по богатству деталей и силе красок было достойно кисти Тициана, по гармонии линий – кисти Лейтона[33] или Рафаэля. Этот замысел был утренней зарей его славы. Трудиться, трудиться, трудиться – две недели, возможно, три, и затем наступит заря бессмертия!
Час проносился за часом, творение Алека мало-помалу превращалось в шедевр. По мере того как продвигалась работа, Алек, казалось, утратил всякую способность испытывать утомление: он не ощущал ни голода, ни жажды. Картина завораживала его все сильнее и сильнее; наружные впечатления становились все глуше и глуше. Он смутно припоминал каких-то людей, отвлекавших его несообразными речами о болезни жены и тому подобных глупостях; лампу, заново зажженную и вскоре опять начавшую угасать на фоне снопа красных искр, поднявшегося над очагом; переполох в доме, который он поднял, чтобы раздобыть для нее керосин; прислугу, отчаянно пытавшуюся его успокоить; остановившиеся часы; сон урывками прямо в одежде, на полу возле мольберта. Но все эти воспоминания были неотчетливыми и спутанными и напоминали скорее мимолетные обрывки сновидения, нежели реальные события. Единственной связной идеей, давшей единственный плод, великолепный и естественный, была Великая Картина – все более прекрасная, все явственнее обретавшая черты совершенства.
Это рождение безупречного шедевра, сопровождавшееся вдохновенными паузами, было поистине величественным. Дни пролетали незаметно; трижды гасла лампа. Алек мог сказать, что его жизнь достигла своей наивысшей точки, – если бы не бледные, но настойчиво повторявшиеся видения несчастья, которое произошло с Изабель, и не воспоминания о красноглазой фигуре, одолевавшие его в недолгие часы забытья. И то и другое вносило зыбкую тревогу в экстатическое блаженство чистого искусства, которым он жил.
– Ваша жена опасно больна; падение повредило ее внутренние органы. Она может умереть.
– А? Что? А, это вы!
Перед ним стояла мать его жены, за ее спиной маячил доктор. Оба смотрели на Алека с нескрываемым ужасом в глазах. Но он не придал этому значения. В последние несколько дней все вокруг выглядели странно.
– Она умирает, – мрачно произнес доктор.
– Умирает? Она? О ком вы говорите? – Алек опять подошел к картине и с нежностью прикоснулся к поверхности холста.
– О вашей жене.
– О моей жене… Доктор, какое сегодня число?.. Бдение… Доктор, не уходите, не взглянув на мою картину. Так какое, вы говорите, число нынче?.. А! Стало быть… да, самое время выставить ее в Академии![34] – Он не мешкая выскочил на лестничную площадку и прокричал: – Лиззи!
– Ради бога, дружище, тише! Вы же не хотите ее убить?
– Убить? Что за вздор! Мне нужен кеб. Бдение завершено!
Драгоценная картина! Он должен сам снести ее вниз. Как тихо в доме! На лицах двух слуг, стоявших в дальней части холла, запечатлелся благоговейный трепет. Совершенство уже начало свое триумфальное шествие. Теперь они, несомненно, понимают, что он гений. Скоро это поймет и остальной мир.
Он уже садился в кеб, когда доктор с побелевшим лицом показался на пороге дома, спустился с крыльца, схватил Алека за руку и что-то заговорил.
– Вы идиот! Отпустите мою руку!
Затем кеб покатил в сторону Берлингтон-хауса. Алек любовно разглядывал картину, держа ее на коленях.
Она смотрелась прекрасно, хотя освещение было тусклым. Казалось, что… да, свет струился сквозь нее; промасленный холст стремительно обретал прозрачность. Происходящее было поистине странно и, по правде сказать, неприятно. Портрет, который он замалевал, вновь проступил наружу – со всеми изначальными мазками и пятнами. Потом из-под него стало пробиваться то, что Алек так старался скрыть: сперва возникло алое мерцание, за ним показались едва заметные контуры. Глаз на зловещем лице с каждой секундой горел все ярче, как будто хотел выжечь всю ту красоту, ради которой Алек работал. Да! Это была та самая дьявольская красноглазая фигура – она торжествующе ухмылялась, после чего со смехом произнесла:
– Как видишь, я все еще здесь.
– Кто?.. Что? – выдохнул Алек и умолк, открыв рот.
– Вот теперь ты целиком посвятил себя искусству. Дружище, ты понял, что сказал тебе доктор?
Хрясь!
…Некоторое время все было как в тумане, даже уверенность в том, кто он такой, несколько пошатнулась. Алек видел, что лежит с раздавленной рукой среди обломков кеба, налетевшего на подводу с бревнами, и ощущал боль и покалывание в ране. Он также заметил, что великая картина безнадежно повреждена (в ней зияла огромная дыра, странным образом повторявшая очертания жуткой красноглазой фигуры), а потом задался вопросом: «Где я сейчас?»
Дальше – резкий переход: больничная палата. Вероятно, какое-то время он был без сознания. Алек услышал, как медсестра с грубоватым лицом сказала другой:
– Руку придется ампутировать.
Он разом лишился руки и картины – обманчивая мечта о бессмертии растаяла, не оставив следа. Его охватили горечь и скорбь, захотелось утешения и покоя. С острой тоской он вспомнил о жене, о ее нежных прикосновениях, чутком взгляде и ласковом голосе. Страшная боль пронзила его – он словно наяву услышал слова доктора: «Во имя благопристойности вернитесь – она мертва». Наваждение, во власти которого он находился, миновало. Что он отринул, погнавшись за призраком славы? О, какая низость, какое безрассудство, какая безумная неблагодарность! Что за сила смогла принудить его к этому, что за демон сумел подчинить его своей воле?
– Тебя посетило вдохновение.
Алек повернул голову. Возле койки, скрестив руки и зловеще ухмыляясь, стоял красноглазый человек – творение его кисти.
Алек хотел было закричать, но обнаружил, что онемел; хотел соскочить с койки, но тело его не слушалось.
– Ты мечтал испытать вдохновение. Искусство несовместимо с семейными добродетелями. Твоя жена мертва; ты обрек ее на смерть, когда отдал душу ради искусства.
– Отдал душу ради искусства?
– Да. Ха-ха! Как жаль, что ты лишишься руки!
И тут красноглазый человек уселся верхом на Алека и уставился единственным сверкающим оком на свою собственность.
– Зачем ты породил меня? – спросил он.
Его дыхание, отдававшее серой, обжигало Алеку ноздри и рот, а рука опять саданула неимоверной болью, точно в нее разом воткнули тысячу раскаленных игл.
– О жена моя! Я умираю!
– Не стоит звать жену; ты принадлежишь мне, – прошипел демон, склонившись к его лицу. – Послушай! – продолжал он с жестокой неторопливостью. – Когда художник создает образ, не вкладывая в него душу, иначе говоря, не имея ясного представления, что он хочет выразить, когда он пишет бесцельно и бездумно, надеясь, что его произведение случайно осенит некий дух, – дух иногда и в самом деле его осеняет. Именно так я вошел в твою картину, и ты знаешь, какую сделку я с тобой заключил.
Это было ужасно. Демон оказался тяжелым как камень, его дыхание обжигало Алеку ноздри. Но горше всех убийственных мук, от которых он страдал, горше даже, чем страх и боль, было чувство вины перед женой. Он пожертвовал ею ради искусства – а может ли искусство сравниться с ее всеохватной любовью и нежностью? Его недолгая жизнь с нею, сотни мелочей, о которых он успел позабыть, в мгновение ока всплыли в его памяти – с горькой безнадежностью мимолетного видения пери в небесах.
– Жена моя, – воскликнул он, – жена моя!
Демон вновь склонился к нему и прошептал:
– Умерла, умерла.
Затем он распростер над головой что-то черное – плащ? или это было крыло?
Все пребывало во мраке, как на том свете. У Алека возникло ощущение, что он стремглав падает в темный бездонный колодец. Что это было – умирание? Или он уже умер? Казалось, его засасывает в гигантскую черную воронку, в какой-то нескончаемый водоворот. Нет никакой надежды?
Внезапно разлитое в пустоте оглушительное безмолвие прорезал призыв его жены:
– Алек!
Он обратил взор вверх и увидел, что Изабель, окутанная лучезарным светом, смотрит на него с неизмеримой высоты и взгляд ее полон беспредельного сострадания и прощения. Алек протянул к ней руки, хотел окликнуть ее, однако голос не слушался. И тогда он осознал, какая непреодолимая пропасть навсегда разлучает со счастьем и красотой того, кто пренебрег любовью.
Вниз, вниз, вниз!
– Алек! Алек, очнись!
Он сидел в старом, обитом бархатом кресле возле рояля, а над ним склонилась жена. Он заморгал, как филин. Потом почувствовал покалывание в левой руке.
– Я что, уснул? – спросил он.
– Ну разумеется. Я увидела, как ты опять клюешь носом, и подумала, что не надо тебя будить, поэтому перестала играть и вышла. Впрочем, мне следовало догадаться, что стоит Лиззи уронить поднос на лестнице – и ты проснешься.
– Значит… – произнес Алек, потирая глаза, покуда вставал с кресла, – значит, вот что произошло, когда разбился кеб!
– Ты нынче очень нежный, – заметила жена чуть погодя, когда они спускались на первый этаж.
– Дорогая, я виноват перед тобой и раскаиваюсь в том, что позволил никчемной фантазии встать между нами.
И с этого дня он вновь сделался «очень нежным» мужем.
1888
В духе времени
История неразделенной любви
Перевод Н. Роговской.
Искушенный читатель, несомненно, слышал имя Обри Вейра. Вейр издал три сборника интимной лирики – подчас даже слишком интимной, – и его колонка «О делах литературных» в «Клаймаксе» пользуется широкой известностью. Байроническая физиономия поэта украшает интервью, напечатанное в «Настоящей леди». Этот тот самый Обри Вейр, который убедительно доказал, что Диккенс-юморист проигрывает Диккенсу-сентименталисту, и обнаружил у Шекспира «налет буржуазности». Однако читатели пребывают в досадном неведении относительно эротических истоков вдохновения Обри Вейра. Некоторое время назад он избрал своим литературным прототипом Гёте, и, возможно, это отчасти извиняет его временное невнимание к столь важному аспекту творческой личности, как сексуальность.
А между тем общеизвестно, что любовные похождения таят в себе главную опасность для литератора и одновременно питают наш интерес к нему. Иначе что бы мы наблюдали? Гладкую скалу респектабельной жизни пиита – никаких оползней, никаких живописных эффектов. Свойственное творческой братии непостоянство сердечных привязанностей, располагающееся на шкале пороков рядом с жадностью и определенно выше пьянства, зовется гением или, более развернуто, как в случае Обри Вейра, осознанием гениальности. Следуя моде, которую завел еще Шелли, всякое молодое дарование свято верит в то, что его долг перед самим собой и его долг перед женой – вещи несовместимые[35], и в своем ниспровержении мещанской морали заходит настолько далеко, насколько хватает средств и смелости. Что есть добродетель, как не отсутствие воображения? И вообще, назвался поэтом – будь любезен соответствовать эталонному образу, и я не знаю ни одного рифмоплета, в чьих любовных делах не творился бы полный кавардак, – и ни одного, кто время от времени не изливал бы свои амурные невзгоды в сонетах.
Даже Обри Вейр не остался в стороне: иногда он ночь напролет ронял слезные сонеты в свой промокательный блокнот, притворяясь, будто спешно сочиняет очередную «литературную беседу», – если жена спускалась в шлепанцах узнать, отчего он так засиделся. Надо ли говорить, что жена его не понимала? Причем сонеты он кропал еще до того, как в его жизни появилась другая женщина, – просто тяга к супружеской измене естественна для творческой души. Вернее, до того как появилась другая женщина, он написал больше сонетов, чем после, потому что после он все свободное время занимался подрезкой и подгонкой старых заготовок, перешивая, если можно так выразиться, скроенное по универсальному лекалу платье своей романтической страсти – с учетом индивидуальных особенностей роста и комплекции новой пассии.
Обри Вейр жил в небольшой вилле из красного кирпича; позади – лужайка, спереди – вид на холмы, убегающие вдаль от Райгейта[36]. Жил он на доход от неафишируемого капитала, понемногу сколоченного литературным трудом. У него была красивая, славная, добрая жена, которая (как повелось у любящих и добропорядочных жен, скромно отступающих в тень) не искала в жизни другого счастья, кроме заботы о том, чтобы у ее маленького Обри Вейра всегда была на столе разнообразная вкусная домашняя еда и чтобы дом их был самым ухоженным и нарядным из всех известных им домов. Обри Вейр отдавал должное жениной стряпне и гордился своим домом, а все ж его снедала тоска, ведь его творческий дар чахнул без стимула. К тому же Обри Вейр начал полнеть, того и гляди превратится в толстячка.
В страдании мы сами познаем ту истину, что в назидание другим поём[37], и Обри Вейр твердо знал, что его душа не родит добрый урожай, покуда его чувства остаются непаханой целиной. Но попробуй вспахать поле чувств в целомудренном Райгейте!
Короче говоря, романтические чаяния Обри Вейра не находили опоры в окружающей действительности – так высаженный посреди цветочной клумбы росточек вьюна напрасно ищет, за что ему зацепиться. И вот наконец долгожданное чудо в лице «другой женщины» свершилось и сердечные усики Обри Вейра жадно обвились вокруг нее.
Далее следует правдивое изложение событий, составляющих самый яркий романтический эпизод в жизни и творчестве Обри Вейра.
Его «другая женщина» была совсем молоденькая девушка, с которой он познакомился на теннисном корте в Редхилле[38]. Обри Вейр прекратил играть в теннис после неприятности с глазом мисс Мортон; кроме того, в последнее время он стал пыхтеть и потеть, а это не красит поэта. Упомянутая юная леди только недавно прибыла в Англию и не умела играть. Оба естественным образом откочевали к двум свободным плетеным креслам перед кустами мальвы и по соседству с глухой теткой миссис Бейн, и между ними завязалась непринужденная беседа.
Имя у другой женщины было малообещающее – мисс Смит, – хотя ее лицо и одежда отнюдь этого не предполагали. Зато с ее происхождением все было в порядке: мать – индуска, отец – чиновник британской колониальный администрации в Индии[39], и оба уже умерли. Сам Обри Вейр, в котором счастливо смешалась кельтская и тевтонская кровь (именно эта смесь рекомендуется ныне всем претендующим на лавры литератора), просто не мог не верить в благие последствия от смешения рас для судеб изящной словесности. Девушка была во всем белом. Красиво очерченное, выразительное бледное лицо с темно-карими глазами под облаком вьющихся черных волос, а во взгляде, устремленном на Обри Вейра, – любопытство пополам с робостью… Обворожительный взгляд, особенно по контрасту с пресловутой «прямотой» заурядной райгейтской девицы.
– Отличный корт – лучший в Редхилле, – заметил Обри Вейр для поддержания разговора. – Мне нравится, что здесь не выпалывают ромашки. – И он грациозно повел своей довольно изящной рукой в сторону ромашек.
– Очаровательные цветы, – согласилась леди в белом. – Всегда ассоциировались у меня с Англией – может быть, из-за картины, которую я видела «еще там», когда была маленькой: на ней дети сплетали венки из ромашек. И я мечтала, что, когда приеду на родину, доставлю себе такую же радость. Увы! Боюсь, я выросла из детских забав.
– Не понимаю, почему нужно отказывать себе в невинных радостях, когда становишься взрослым!.. Почему взросление непременно подразумевает забвение? Лично я…
– Ваша жена взяла у Джейн рецепт фаршированной форели? – внезапно подала голос глухая тетка миссис Бейн.
– Понятия не имею, – ответил Обри Вейн.
– Очень вкусно, – заверила глухая тетка миссис Бейн. – Даже вам понравится.
– Мне все нравится, – сказал Обри Вейр, – я не привередлив…
– Очень вкусно, говорю вам! – повторила глухая тетка миссис Бейн и вновь впала в прострацию.
– Да, так я о том, – продолжил Обри Вейр, – что мне до сих пор самое большое удовольствие доставляют детские забавы. У меня есть маленький племянник, мы с ним вместе запускаем воздушных змеев – и еще неизвестно, кто больше радуется, он или я! Кстати, вот вам удобный способ претворить в жизнь мечту о венках из ромашек: уговорите какую-нибудь девочку пойти с вами.
– Этот способ я уже испробовала. Взяла на прогулку по лугам девчушку Мортонов и невзначай затронула тему цветов и венков. Так она отчитала меня, мол, негоже тратить время на «разные глупости». Представляете, какое разочарование!
– Это все гувернантка – лишает ребенка детства, обкрадывает его самым возмутительным образом! – прокомментировал Обри Вейр. – А какая жизнь без детства? Некоторые люди никогда не были детьми и, соответственно, не способны повзрослеть, – пустился он в рассуждения. – Их жизнь совершенно бесцветна. Они как… как растения, выросшие без света. Они не знают любви – и не страдают от ее утраты. Они… сейчас мне не приходит в голову лучшего сравнения… они как цветочный горшок, в который забыли посадить душу. Но чтобы человеческая душа нормально развивалась, ей на первых порах необходима живая непосредственность, ребячливость.
– Да, – задумчиво произнесла темная леди[40], – беззаботное детство, практически никаких ограничений – делай что хочешь! Таким должно быть начало жизни.
– А после – через волшебство и неуверенность юности…
– …к воле и действию, – закончила за него темная леди. Она не сводила мечтательного взора с холмистых далей Даунза, но при этих словах ее сцепленные на коленях пальцы сжались сильнее. – Ах, жизнь прекрасна – жизнь мужчины… человека свободного, самодостаточного!
– Ну и наконец, – подсказал ей Обри Вейр, – мы подходим к кульминации, венцу жизни. – Он помедлил, торопливо взглянул на нее и вполголоса, почти шепотом прибавил: – А венец жизни – это любовь.
Глаза их встретились, но она тотчас потупилась. У Обри Вейра что-то екнуло в груди и к горлу подкатил комок… Впрочем, его эмоции слишком сложны для анализа. Он и сам удивился, что разговор принял такой оборот.
Внезапно глухая тетка миссис Бейн ткнула его в живот слуховой трубкой, а с теннисного корта послышалось раскатистое «По нулям! Победила любовь!»[41].
– Я говорила вам, что у дочек Джейн скарлатина? – спросила глухая тетка миссис Бейн.
– Нет, – ответил Обри Вейн.
– Да-да, они шелушатся, – объявила глухая тетка миссис Бейн, поджав губы и несколько раз медленно, многозначительно кивнув им обоим.
Ненадолго воцарилось молчание. Казалось, вся троица глубоко задумалась о чем-то, чего словами не выразишь.
– Любовь… – вновь заговорил Обри Вейр непререкаемым философическим тоном, вальяжно откинувшись на спинку кресла и сложив руки в замок, точно святой, возносящий молитву (взгляд его фокусировался на носке собственной туфли), – любовь, по моему убеждению, составляет весь смысл жизни… все прочее обман или фантом. Любовь превыше разума, выгоды и рациональных объяснений. Но ни в одну из эпох, судя по литературным источникам, она не была в таком плачевном положении, как в нашу. Никогда прежде ее не укладывали так безжалостно на прокрустово ложе, никогда так не презирали и не пресекали, не чинили ей препятствий на каждом шагу, никогда ею так не помыкали… Прямо слышишь, как полицейские командуют: «Эрот, вам сюда!» В итоге мы растрачиваем эмоциональные силы, гоняясь за златом и славой, и на празднике жизни мы изгои, жалкие рабы с потухшими, неутоленными сердцами.
Обри Вейр вздохнул, и снова повисла тишина. Девушка взирала на него из таинственной тьмы своих необыкновенных глаз. Она прочла множество книг, но еще ни разу не встречала живого литератора: Обри Вейр был первым, и его манеру изъясняться она приняла за особый дар – как это свойственно юным девицам во все времена.
– Мы словно бенгальские огни, – продолжал витийствовать Обри Вейр, окрыленный тем, что произвел на нее впечатление, – безжизненное инертное нечто, пока нас не коснется искра… И тогда уснувшая было душа – если она не отсырела – вспыхивает и сверкает во всей своей красе. Живет полной жизнью! Знаете, иногда мне кажется, что, пережив золотую пору, нам лучше было бы сразу умереть, как эфемеридам[42]. Ибо дальше – лишь угасание.
– Э? – встрепенулась глухая тетка миссис Бейн, про которую все забыли. – Я не расслышала.
– Я только хотел сказать… – прокричал Обри Вейр, с трудом направляя поток своих мыслей в новое русло, – я только хотел сказать, что в Редхилле мало у кого такой прекрасный, ухоженный огород, как у миссис Мортон.
– Рот? Да, мне уже говорили. Это потому, что она вставила себе новые искусственные зубы.
Ее вмешательство несколько нарушило плавный ход беседы. Тем не менее…
– Я очень признательна вам, мистер Вейр, – сказала ему на прощание темная дева. – Мне будет о чем поразмыслить после ваших слов.
И то выражение, с каким она это произнесла, убедило Обри Вейра, что он не напрасно старался.
Мое перо бессильно описать, как начиная с того дня в душе Обри Вейра разрослась, подобно Ионовой тыкве[43], любовная страсть к мисс Смит. Скажу лишь, что он стал сумрачно-задумчив, а если долго не виделся с мисс Смит – раздражителен. Миссис Обри Вейр заметила перемену в муже, но вину за нее возлагала на брызжущего ядом литературного критика из «Сэтэдей ревьюер» (где и впрямь иногда перегибают палку). Обри Вейр перечитал роман «Избирательное сродство»[44] и дал почитать его мисс Смит… Как ни трудно поверить в это членам нашего клуба, именуемого Ареопагом, то есть литературным собратьям Обри Вейра, факт остается фактом: он бесспорно сумел увлечь темноокую, очень неглупую и удивительно красивую девушку.
Обри Вейр без конца вещал о любви и судьбе – одним словом, морочил девушке голову обычной пустой трескотней второсортного поэта. И вместе они рассуждали о его поэтическом даре. Он целеустремленно, хотя и скрытно искал ее общества и при каждом удобном случае дарил и зачитывал ей вслух наиболее пристойные из своих неизданных сонетов. И пусть его байронические черты кажутся нам слишком пресными – женский ум живет по своим законам. А кроме того, если девица не совсем примитивна, у литератора имеется огромное преимущество перед всеми, за исключением проповедника: кто еще способен выставлять напоказ каждое движение своего сердца?
Наконец настал день, когда он встретился с ней наедине – возможно, случайно, – на тихой дорожке, ведущей в Хорли[45]. Дорожку с обеих сторон окаймляли густые живые изгороди с обильными душистыми вкраплениями жимолости, вики[46] и медвежьего уха[47].
Они детально обсудили его поэтические замыслы, а потом он прочел ей стихи, впоследствии опубликованные в «Хобсонс мэгэзин»: «Полон нежности и неги…» Стихи он сочинил накануне. И хотя, на мой взгляд, чувства, выраженные в них, донельзя банальны, здесь все же слышна спасительная нота искренности – редкая гостья в поэзии Обри Вейра.
Читал он неплохо, отбивая ритм взмахами белой руки, и мало-помалу в голос его проникло неподдельное волнение. «…К тебе, к тебе одной!» – завершил он, пристально глядя на нее.
До этой секунды он был целиком сосредоточен на своих стихах и на том впечатлении, которое они должны произвести. Теперь все это стало не важно. Она стояла, опустив руки и сплетя пальцы. Глаза смотрели на него с нежностью.
– Ваши стихи берут за душу, – тихо сказала она.
Ее подвижное лицо так чудно выражало все нюансы переживаний! Внезапно он забыл и про свою жену, и про свое положение поэта второго ряда и только не отрываясь смотрел на девушку. Не исключено, что при этом его классические черты претерпели определенную метаморфозу. На краткий миг – который всегда будет жить в его памяти – судьба вырвала Обри Вейра из его маленького тщеславного эго и вознесла на вершину благородной простоты. Листок со стихами выпал из его руки. Осмотрительность как ветром сдуло. Сейчас лишь одно имело для него значение.
– Я люблю вас! – выпалил он.
В ее глазах метнулся страх. Сплетенные пальцы рук судорожно сжались. Она побледнела.
Затем губы ее приоткрылись, словно готовясь что-то сказать, и она вплотную приблизилась к нему, так что они оказались лицом к лицу. В то мгновение для них в целом мире не существовало ничего и никого – только он и она. Обоих трясло как в лихорадке.
– Вы любите меня? – спросила она шепотом.
Обри Вейр стоял и молчал, словно язык проглотил, дрожа всем телом и вглядываясь в ее глаза. Они лучились таким светом, какого он сроду еще не видал. Он сам не понимал, что происходит, в душе творилось что-то невообразимое. Обри Вейр вдруг смертельно испугался того, что натворил. Не в силах выдавить из себя ни слова, он кивнул.
– И это адресовано мне? – спросила она прежним боязливо-недоверчивым шепотом. И вдруг: – Ох, любимый мой, любимый!..
Тут уж Обри Вейр прижал ее к себе, и ее щека легла ему на плечо, и губы их слились.
Вот так случилось самое памятное событие в жизни Обри Вейра. В своих сочинениях он по сей день возвращается к нему снова и снова.
Чуть поодаль от них какой-то мальчуган влез на изгородь и воззрился на целующуюся парочку – сперва удивленно, затем – с презрительным возмущением. Не ведая своей судьбы, он поскорее отвернулся, уверенный, что сам-то никогда не опустится до такого: лизаться с девчонками – фу! К несчастью для райгейтских сплетников, стыд за сильный пол накрепко заклеил ему рот.
Через час Обри Вейр возвратился домой – притихший, меланхоличный. Чай для него был накрыт, его дожидались обожаемые кексики (миссис Обри Вейр сказала, что свою порцию съела раньше). На столе стоял букет хризантем, преимущественно белых, его любимых, в фарфоровой вазе, о которой он не раз отзывался с одобрением. Едва он приступил к еде, жена подошла сзади – чмокнуть своего благоверного.
– Кто мой масенький, кто мой сладенький, – приговаривала она, целуя его за ушком.
И тут в голове Обри Вейра, пока он за обе щеки уплетал кексики, а жена целовала его в ухо, с поразительной ясностью возникла мысль, что жизнь – чертовски сложная штука.
Потом на смену лету пришла пора урожая, и с деревьев начали облетать листья. Был вечер, на холмах еще лежали теплые отсветы заката, но в долину уже заползал синеватый туман. У кого-то в окне зажегся свет.
Примерно на полпути из Райгейта вверх по дороге, которая вьется по холмам, есть деревянная скамейка, откуда открывается прекрасный вид на разбросанные внизу виллы из красного кирпича и голубые дали Даунза[48]. На скамейке сидела знакомая нам девушка с призрачно-бледным лицом.
На коленях у нее праздно лежала книга. Девушка наклонилась вперед, подперев рукой подбородок. Она с тревогой смотрела вдаль, через долину, на темнеющие небеса.
Обри Вейр вынырнул из гущи орешника и сел рядом. В руке он держал несколько опавших листьев.
Не меняя позы, она спросила:
– Ну так что?
– Почему непременно бежать? – ответил он вопросом на вопрос.
Обри Вейр был бледнее обычного. В последнее время он плохо спал, ему часто снился Континентальный экспресс[49]; иногда миссис Обри Вейр пускалась вдогонку – ему представлялось, как она превращает трагедию в фарс, со слезами на глазах протягивая ему запасную пару носков или еще какую-нибудь забытую им ерунду, а за ней возбужденно бурлит весь Райгейт… весь Редхилл! Он никогда еще ни от кого не сбегал, и ему мерещились неприятные объяснения с гостиничной администрацией. А вдруг миссис Обри Вейр заранее всем телеграфирует? Его посетило даже пророческое видение заголовка в грошовой вечерней газетенке: «Юная леди похищает малоизвестного поэта». Отсюда и дрожь в его голосе, когда он спросил: «Почему непременно бежать?»
– Не хочешь – не надо, – ответила она, по-прежнему не глядя на него.
– А ты хорошо подумала о последствиях для себя? Потому что для репутации мужчины, – медленно произнес Обри Вейр, рассматривая листья в руке, – подобные эскапады скорее на пользу, но для женщины это позор – общественный, моральный…
– Значит, это не любовь, – сказала девушка в белом.
– Ах, моя милая, подумай о себе!
– Болван! – пробормотала она.
– Что ты сказала?
– Ничего.
– Но почему не оставить все как есть – встречаться, любить друг друга, безо всяких скандалов и драм? Может быть, нам…
– Нет, – перебила его мисс Смит, – вот это было бы чудовищно.
– Наш разговор убивает меня. Жизнь так хитро устроена, в ней все так переплетено, тысячи невидимых нитей связывают нас по рукам и ногам. Я сам не понимаю, что правильно, а что нет. Ты должна учитывать…
– Настоящий мужчина разорвал бы путы.
– Достоинство мужчины, – провозгласил Обри Вейр, заделавшись вдруг моралистом, – не в том, чтобы поступать безнравственно. Моя любовь…
– В крайнем случае мы могли бы вместе умереть, мой милый, – сказала она.
– Господи Исусе! – опешил Обри Вейр. – То есть… подумай о моей жене.
– До сих пор ты о ней не думал.
– В этом… В самоубийстве есть привкус трусости, предательства, – сказал Обри Вейр. – И вообще, я все-таки англичанин, у меня стойкое предубеждение против бегства, не важно от кого или от чего.
Мисс Смит едва заметно улыбнулась.
– Сейчас я поняла то, чего не понимала раньше: моя любовь совсем не то же самое, что твоя.
– Может быть, все дело в разнице полов, – предположил Обри Вейр и, почувствовав, что сморозил глупость, надолго замолчал.
Некоторое время они сидели в тишине. Внизу, в Райгейте, горела уже не пара огоньков, а пара десятков, и в небе у них над головой появилась первая звезда. На девушку напал смех – почти беззвучный, истерический смех, который почему-то показался обидным Обри Вейру.
Она встала.
– Меня скоро хватятся. Надо идти.
Он проводил ее до дороги.
– Так что же – всему конец? – спросил он, испытывая странное смешанное чувство облегчения и тоски.
– Да, всему конец, – подтвердила она и пошла прочь.
И в тот же миг на сердце Обри Вейра легла плита невосполнимой утраты. Девушка успела отойти ярдов на двадцать, когда он громко застонал от сокрушительной тяжести этого небывалого ощущения – и бросился догонять мисс Смит, раскинув руки.
– Анни, – кричал он, – Анни! Я сам не знаю, что говорю. Анни, я понял: я люблю тебя! Я не могу без тебя. Только не это! Я сам себя не понимал.
Какая тяжесть! Плита грозила раздавить его.
– Постой, Анни, постой! – кричал он срывающимся голосом, из глаз брызнули слезы.
Она внезапно обернулась, и руки его упали. При виде ее бледного, неживого лица он онемел.
– Ты и впрямь не понимаешь. Я простилась с тобой.
Она смотрела на него. Он явно был страшно расстроен, к тому же запыхался от своих беспомощных выкриков на бегу. Ничтожный человечек – до невозможности жалкий! Она подошла к нему, взяла в ладони его мокрую байроническую физиономию и покрыла ее поцелуями.
– Прощай, человечек, которого я любила, – говорила она, – и прощай навсегда, мое глупое, сумасбродное увлечение!
С отрывистым то ли смешком, то ли всхлипом – она сама затруднилась точно определить, что это было, когда описывала сцену на скамейке в своем романе, – девушка снова быстро пошла прочь и на развилке свернула с тропы, ведущей к дому Обри Вейра.
Обри Вейр, словно в ступоре, стоял на том самом месте, где она его расцеловала, пока ее белое платье не скрылось из виду. Потом непроизвольно вздохнул, вернее, выдохнул, как после тяжкого усилия, – и тем привел себя в чувство. Очнувшись, он задумчиво побрел по мягкой опавшей листве домой. Эмоции – страшная сила.
– Как тебе картошечка, милый? – поинтересовалась за ужином миссис Обри Вейр. – Я старалась.
Обри Вейр нехотя покинул высокую сферу туманных размышлений и спустился на уровень жареной картошки.
– Картошечка… – повторил он через минуту, в течение которой пытался стряхнуть с себя воспоминания. – Да. По цвету точь-в точь опавшие листья лещины.
– Ах ты, мой поэт! Ну надо же придумать такое, – восхитилась миссис Обри Вейр. – Да ты попробуй, поешь: картошечка – объедение.
1894
Ограбление в Хаммерпонд-парке
Перевод С. Антонова.
Рассматривать ли грабеж как спорт, ремесло или искусство – вопрос спорный. Для ремесла его технические приемы недостаточно точны, а его претензии на то, чтобы быть искусством, опровергаются элементом корысти, который, собственно, и является в данном случае мерилом успеха. В целом правильнее всего считать его спортом – таким видом спорта, правила которого по сей день не разработаны и в котором призы присуждаются в высшей степени неформальным путем. Именно неформальный характер грабительской деятельности и привел к прискорбному провалу двух подававших надежды новичков, проникших в Хаммерпонд-парк.
Ставкой в этом деле были главным образом бриллианты и другие фамильные драгоценности недавно вышедшей замуж леди Эйвлинг. Читателю следует помнить, что леди Эйвлинг приходилась единственной дочерью миссис Монтегю Пэнгс, известной своим гостеприимством; газеты подробно освещали ее брак с лордом Эйвлингом, смаковали количество и качество свадебных подарков и упоминали о намерении молодоженов провести медовый месяц в Хаммерпонде. Сообщение об этих ценных призах вызвало немалое оживление в узком кружке, общепризнанным лидером которого являлся мистер Тедди Уоткинс; было решено, что он в сопровождении опытного помощника посетит деревню Хаммерпонд и сполна применит там свои профессиональные навыки.
Мистер Уоткинс, человек от природы скромный и застенчивый, предпочел нанести этот визит инкогнито и, как следует обдумав детали предприятия, выбрал себе роль художника-пейзажиста с зауряднейшей фамилией Смит. Он отправился в Хаммерпонд один, условившись со своим помощником, что тот появится на месте предстоящих событий лишь в последний день пребывания там мистера Уоткинса, ближе к вечеру. Надобно заметить, что деревушка Хаммерпонд – пожалуй, один из прелестнейших уголков Сассекса, где еще сохранилось немало домиков с соломенной крышей; приютившаяся под холмом каменная церквушка с высоким шпилем – одна из самых красивых в графстве – почти не подверглась реставрации, а буковые леса и густые заросли папоротника, сквозь которые, извиваясь, дорога бежит к величественному особняку, изобилуют «видами» – как называют это невзыскательные художники и фотографы. Поэтому мистера Уоткинса, прибывшего туда с двумя чистыми холстами, новехоньким мольбертом, ящиком с красками, саквояжем, разборной лесенкой хитроумной конструкции (наподобие той, которой пользовался покойный мастер Чарльз Пис)[50], фомкой и мотками проволоки, встретило – с энтузиазмом и некоторым любопытством – полдюжины собратьев по кисти. Это обстоятельство неожиданно придало правдоподобия той личине, которую он избрал, но одновременно вовлекло его в пространные разговоры об искусстве, к каковым он был совсем не подготовлен.
– Вы часто выставляетесь? – полюбопытствовал молодой Порсон в баре трактира «Карета и кони», где мистер Уоткинс вечером в день своего приезда искусно выуживал необходимые сведения о местной жизни.
– Очень редко, – ответил мистер Уоткинс, – немного здесь, немного там.
– В Академии?[51]
– Конечно. И в Хрустальном дворце[52].
– А вас удачно вешали? – допытывался Порсон.
– Не каркайте, – отрезал мистер Уоткинс. – Я этого не люблю.
– Я имел в виду: в хорошее ли место вас помещали?
– Что у вас на уме? – подозрительно ощетинился мистер Уоткинс. – Вы как будто хотите выведать, было ли такое, что меня загребли?
Порсона воспитали тетушки; этот молодой человек выделялся джентльменскими манерами даже среди художников и не знал, что значит «загребли», но почел за лучшее пояснить, что не подразумевал ничего подобного. И поскольку вопрос о том, как вешают, похоже, был весьма чувствительным для мистера Уоткинса, Порсон заговорил о другом:
– А с моделями вы работаете?
– Нет, в модах я не разбираюсь, – отозвался мистер Уоткинс. – В этом сильна моя крош… то есть миссис Смит.
– Так она тоже пишет? – восхитился Порсон. – Как это замечательно!
– Весьма, – согласился мистер Уоткинс, хотя вовсе так не думал, и, чувствуя, что разговор ускользает за пределы его разумения, добавил: – Я приехал сюда, чтобы запечатлеть усадьбу Хаммерпонд при лунном свете.
– Вот как? – заинтересовался Порсон. – Что ж, довольно оригинальная идея.
– Да, – согласился мистер Уоткинс. – Когда меня посетила эта мысль, я тоже счел ее удачной. Рассчитываю начать завтра ночью.
– Что? Вы же не собираетесь работать посреди ночи на пленэре?
– Вообще-то, собираюсь.
– Но вы ведь даже холста не разглядите!
– Имея этот чертов полицейск… – начал было мистер Уоткинс, но быстро спохватился и, кликнув мисс Дарган, заказал еще кружку пива. – У меня будет при себе одна штуковина – называется потайной фонарь.
– Но ведь скоро новолуние, – возразил Порсон. – Луны вовсе не будет.
– Что ж, будет дом, – сказал Уоткинс. – Я, видите ли, собираюсь сперва написать дом, а уж потом – луну.
– О! – произнес Порсон, слишком озадаченный, чтобы продолжать беседу.
– Поговаривают, – вмешался старик Дарган, хозяин трактира, хранивший почтительное молчание, пока художники обсуждали профессиональные темы, – что каждую ночь в доме дежурит не меньше трех полисменов из Хэйзелхерста – и всё из-за этих камешков леди Эйвлинг. Один из них давеча выиграл в орлянку у младшего лакея четыре шиллинга шесть пенсов.
К вечеру следующего дня, на закате, мистер Уоткинс, с девственно чистым холстом, мольбертом и множеством других необходимых художнику принадлежностей, уложенных в весьма вместительный саквояж, неспешно проследовал дивной тропинкой через буковый лес в Хаммерпонд-парк, где занял стратегически важную позицию, с которой открывался отличный вид на особняк. Тут его приметил мистер Рафаэль Сант, возвращавшийся через парк после исследования меловых карьеров. Его любопытство уже было подогрето рассказом Порсона о новоявленном коллеге, и он свернул в сторону с намерением потолковать с ним о технике ночных этюдов.
Мистер Уоткинс явно не подозревал о его приближении. Он только что закончил дружески беседовать с дворецким леди Эйвлинг, который теперь удалялся в окружении трех комнатных собачек, – выгуливать их после ужина было одной из его обязанностей. Мистер Уоткинс с чрезвычайно усердным видом смешивал краски. Сант подошел ближе и изумился, узрев на палитре краску невообразимо ядовитого изумрудно-зеленого оттенка. С юных лет он обладал исключительной восприимчивостью к цвету и теперь, окинув беглым взглядом эту мешанину, присвистнул, резко втянув воздух сквозь зубы. Мистер Уоткинс обернулся. На его лице читалась досада.
– Что, черт возьми, вы собираетесь написать этой гадкой зеленью? – спросил Сант.
Мистер Уоткинс понял, что, усердно разыгрывая перед дворецким роль профессионального художника, увлекся и допустил какую-то техническую оплошность. Он смотрел на Санта и растерянно молчал.
– Простите меня за дерзость, – продолжал Сант, – но, право же, этот зеленый цвет совершенно ошеломителен и прямо-таки сражает наповал. Как вы намерены его применить?
Мистер Уоткинс собрался с мыслями. Только решительность могла спасти положение.
– Если вы явились сюда, чтобы мешать мне работать, – предупредил он, – я раскрашу в этот цвет вашу физиономию.
Сант, человек мирного нрава и наделенный чувством юмора, поспешил ретироваться. Спускаясь с холма, он встретил Порсона и Уэйнрайта.
– Этот малый или гений, или опасный сумасшедший, – сказал он. – Поднимитесь и взгляните сами на его зелень.
И он пошел своей дорогой, просияв при мысли о предстоящей веселой потасовке в сумерках возле мольберта и обилии пролитой зеленой краски.
Однако с Порсоном и Уэйнрайтом мистер Уоткинс держался не столь агрессивно и объяснил, что предполагает загрунтовать холст зеленым тоном. В ответ на какое-то замечание он признался, что это совершенно новый метод его собственного изобретения. Но на сем откровенность мистера Уоткинса иссякла: он буркнул, что не желает выдавать каждому встречному секреты своего индивидуального стиля, и бросил несколько ехидных реплик насчет низости людишек, «шныряющих вокруг», дабы вызнать у мастера тайны ремесла, – чем немедленно освободил себя от общества обоих художников.
Стемнело, на небе одна за другой стали появляться звезды. Грачи на высоких деревьях слева от дома давно погрузились в сонливое молчание, а контуры самого дома расплылись во мраке, превратившем его в огромное смутно-серое пятно; затем вспыхнули окна гостиной, озарился светом зимний сад, в спальнях замелькали желтые огоньки. Случись кому-нибудь подойти в этот момент к мольберту, стоявшему в парке, он бы никого рядом не обнаружил. Лишь одно короткое неприличное слово, намалеванное ярко-зеленой краской, оскверняло чистоту холста. Мистер Уоткинс в кустах готовился к делу, ради которого приехал, вместе с помощником, незаметно пробравшимся к нему с подъездной аллеи, и уже мысленно поздравлял себя с остроумной выдумкой, которая позволила ему смело, не таясь, пронести свой инвентарь к месту действия.
– Вот там ее будуар, – инструктировал он помощника. – Как только служанка унесет свечу и отправится ужинать, мы навестим хозяйку. Черт, а дом и впрямь хорош при свете звезд, со всеми этими освещенными окнами! Разрази меня гром, Джим, я почти жалею, что не стал художником! Ты натянул проволоку через тропинку, что ведет от прачечной?
Мистер Уоткинс осторожно подошел к дому, остановился под окном будуара и принялся собирать складную лесенку. Он был опытным знатоком своего дела и не испытывал никакого волнения. Джим тем временем производил разведку возле окон курительной комнаты. Внезапно из ближних кустов донеслись отчаянный треск и приглушенная ругань. Кто-то споткнулся о проволоку, только что протянутую помощником. Мистер Уоткинс услышал, как кто-то бежит по дорожке, посыпанной гравием; человек чрезвычайно застенчивый, как все истинные художники, он тотчас бросил свою складную лесенку и, озираясь по сторонам, понесся прочь через кусты. Он смутно ощущал, что за ним по пятам гонятся двое, а впереди, как ему показалось, мелькал силуэт его помощника. В считаные секунды он перемахнул через низкую каменную ограду, окружавшую кустарник, и очутился в парке. Вослед ему на дерн с глухим стуком приземлились еще две пары ног.
Началась напряженная погоня в темноте, среди деревьев. Мистер Уоткинс был худощав и хорошо тренирован и мало-помалу настигал хрипло дышавшего бегуна, который мчался впереди. Оба молчали, но, когда мистер Уоткинс поравнялся с незнакомцем, его вдруг охватило ужасное подозрение. В тот же миг бегун обернулся и удивленно вскрикнул. «Это не Джим!» – мелькнуло в голове у мистера Уоткинса. Тут незнакомец кинулся ему под ноги, и оба, мгновенно сцепившись, покатились по земле.
– Билл, помогай! – крикнул незнакомец, когда к ним подбежал третий.
И Билл помог – и руками, и еще больше ногами. Четвертый – вероятно, это был Джим, – по-видимому, успел свернуть и скрылся в другом направлении. Во всяком случае, он не присоединился к дерущейся троице.
У мистера Уоткинса остались крайне туманные воспоминания о том, что происходило в следующие две минуты. В его сознании маячила неясная картина того, как он засунул в рот первому из противников большой палец и, хотя и опасался, как бы его не прокусили, по меньшей мере несколько секунд пригибал к земле за волосы голову второго джентльмена – того, что откликался на имя Билл. Одновременно его самого непрерывно колошматили куда ни попадя, – казалось, на него навалилась разом куча людей. Потом тот джентльмен, который не звался Биллом, уперся коленом пониже диафрагмы мистера Уоткинса и попытался согнуть его в дугу.
Когда его ощущения стали отчетливее, он обнаружил, что сидит на траве в окружении то ли восьми, то ли десяти человек (ночь выдалась темная, а мистеру Уоткинсу, потрепанному и дезориентированному, было не до счета), очевидно дожидавшихся, чтобы он пришел в себя. Он с прискорбием заключил, что попался, и, наверное, ударился бы в философические рассуждения о превратностях судьбы, если бы интуиция не склоняла его помалкивать.
Очень скоро он осознал, что на его запястьях нет наручников; затем ему сунули в руки фляжку с бренди. Его несколько тронуло столь неожиданное проявление доброты.
– Очнулся наконец, – произнес кто-то, и мистеру Уоткинсу почудилось, что он узнает голос младшего лакея из Хаммерпонда.
– Мы схватили их, сэр, схватили обоих, – доложил хаммерпондский дворецкий, который и подал мистеру Уоткинсу фляжку. – Это все благодаря вам.
Никто не отозвался на эту реплику. А мистер Уоткинс не понимал, каким образом услышанное может быть связано с его персоной.
– Он все еще не в себе, – изрек незнакомый голос. – Эти злодеи чуть не прибили его.
Мистер Тедди Уоткинс почел за лучшее и дальше побыть «не в себе», покуда не уяснит положение дел. Среди прочих темных фигур он приметил двоих, стоявших бок о бок с понурым видом, и что-то в посадке их плеч подсказало его опытному глазу, что у них связаны руки. Двое! В один миг он понял, какую роль приписывают ему окружающие. Он осушил маленькую фляжку и, шатаясь, поддерживаемый чьими-то услужливыми руками, поднялся с земли. По толпе прошел говор, приглушенный и сочувственный.
– Разрешите пожать вам руку, сэр, – обратился к нему один из тех, кто стоял рядом. – Позвольте представиться. Я в великом долгу перед вами. Ведь именно драгоценности моей жены, леди Эйвлинг, привлекли к дому этих двух негодяев.
– Очень рад познакомиться с вашей светлостью, – сказал Тедди Уоткинс.
– Полагаю, вы увидели, как эти подлецы нырнули в кусты, и набросились на них?
– Так оно и было, – подтвердил мистер Уоткинс.
– Вам бы стоило подождать, пока они влезут в окно, – продолжал лорд Эйвлинг. – Если бы их поймали с поличным, им бы не поздоровилось. И вам повезло, что двое полисменов дежурили у ворот и кинулись вдогонку за вашей тройкой. Вряд ли вы одолели бы тех двоих в одиночку – но, так или иначе, это было чертовски смело с вашей стороны.
– Да, мне следовало подумать об осторожности, – отозвался мистер Уоткинс, – но всего не предусмотришь.
– Разумеется, – согласился лорд Эйвлинг. – Боюсь, они вас немного потрепали, – добавил он, когда все уже направлялись к дому. – Вы малость прихрамываете. Могу я предложить вам опереться на мою руку?
И вместо того чтобы проникнуть в Хаммерпондский особняк через окно будуара, мистер Уоткинс вступил в него слегка навеселе и заметно приободрившись – через парадную дверь, под руку с настоящим английским пэром. «Вот это высокий стиль ограбления!» – сказал он про себя.
«Негодяи», когда их рассмотрели при свете газовых ламп, оказались всего-навсего местными дилетантами, незнакомыми мистеру Уоткинсу; их отвели вниз, в кладовую, и оставили под присмотром трех полисменов, двух егерей с заряженными ружьями, дворецкого, конюха и кучера, чтобы на рассвете доставить обоих в полицейский участок в Хэйзелхерсте. Меж тем в гостиной вовсю хлопотали вокруг мистера Уоткинса. Ему отвели диван и даже слышать не хотели о возвращении в деревню посреди ночи. Леди Эйвлинг нашла его на редкость оригинальным и заявила, что именно так представляет себе Тёрнера[53]: грубоватым, несколько нетрезвым, с глубоко посаженными глазами, храбрым и умным. Кто-то принес замечательную складную лесенку, подобранную в кустах, и продемонстрировал мистеру Уоткинсу, как она собирается. Кроме того, ему сообщили, что там же нашли проволоку, натянутую, несомненно, для того, чтобы сбить с ног не подозревающих о препятствии преследователей. К счастью, ему удалось миновать эти силки. А еще ему показали драгоценности.
У мистера Уоткинса хватило здравомыслия не болтать лишнего, и всякий раз, когда беседа принимала опасный оборот, он вспоминал о том, что внутри у него все болит. В конце концов он пожаловался на затекшую спину и принялся зевать. Тут все вокруг спохватились, что негоже утомлять разговорами человека, которого недавно избили, и он не мешкая удалился в отведенную ему комнату – маленькую красную комнату рядом с покоями лорда Эйвлинга.
Рассветным лучам предстали брошенный посреди Хаммерпонд-парка мольберт с холстом, на котором была намалевана зеленая надпись, и ввергнутая в смятение усадьба. Но если рассвет и нашел мистера Тедди Уоткинса и бриллианты леди Эйвлинг, он не заявил об этом в полицию.
1894
Через окно
Перевод С. Антонова.
После того как Бейли зафиксировали ноги, его перенесли в кабинет и уложили на кушетку возле открытого окна. Там он и лежал – живой, даже лихорадочно возбужденный до пояса, а ниже – мумия, ноги которой были спеленуты белыми бинтами. Он пробовал читать и вдобавок немного писал, но бо́льшую часть времени смотрел в окно.
Едва оказавшись здесь, он подумал, что вид из окна развлечет его и придаст ему бодрости, – теперь же он неустанно благодарил за него небеса. В комнате царил серый полумрак, но отражавшийся от стекла свет позволял ясно различать потертости на мебели. Лекарства и питье стояли на маленьком столике вкупе со всевозможным мусором – оголенными кистями от съеденного винограда, сигарным пеплом на зеленом блюдце и вчерашней вечерней газетой. Зато снаружи все было залито светом, в угол окна упиралась верхушка акации, а в нижней части проема виднелись перила балкона из кованого железа. Позади них колыхалась серебристая река, пребывавшая в вечном движении, но никогда не утомлявшая глаз. Далее простирались поросший камышом берег и широкий луг, за ними – темная полоса деревьев, венчавшаяся в речной излучине тополиной рощицей, а еще дальше высилась четырехугольная колокольня церкви.
Весь день напролет вверх и вниз по реке сновали суда. То сплавлялась вниз по течению, в сторону Лондона, вереница барж, груженных известью или бочками с пивом; то спешил паровой катер, выпускавший большие клубы черного дыма и гнавший за собой длинные перекатистые волны, которые расходились во всю ширь реки; то шустро проносилась лодка с электродвигателем; то проплывала прогулочная шлюпка, полная отдыхающих, или одинокий ялик, или четверка из какого-нибудь гребного клуба. Тише всего на реке бывало, пожалуй, утром или глубоко в ночи. Впрочем, в какую-то лунную ночь компания из нескольких человек проследовала мимо с песнями, исполняемыми под аккомпанемент цитры, мелодичные звуки которой далеко разносились над водой.
Прошло несколько дней, и Бейли стал узнавать некоторые суда; спустя неделю он уже был в подробностях осведомлен по крайней мере о полудюжине из них. «Лусон», тот самый паровой катер, принадлежавший Фицгиббону, который жил двумя милями выше по течению, суетливо пробегал туда-сюда три или четыре раза в день; его было нетрудно распознать по красно-желтой раскраске и двум матросам явно восточной наружности. Однажды, на потеху Бейли, жилая барка «Пурпурный император» остановилась прямо напротив его окна, и ее обитатели без тени смущения принялись завтракать в самой что ни на есть домашней манере. Затем как-то раз под вечер капитан медленно плывшей баржи затеял ссору с женой, когда судно показалось в левом углу оконного проема, и успел распустить руки прежде, чем оно скрылось из виду справа. Бейли воспринимал все это как даровое развлечение, подкинутое ему судьбой, чтобы скоротать время болезни, и встречал аплодисментами все наиболее занимательные происшествия. Миссис Грин, приносившая ему еду, часто заставала его хлопающим в ладоши и тихо восклицающим: «Бис!» Однако у речных актеров были и другие ангажементы, и на его призывы они не откликались.
– Никогда бы не поверил, что буду так интересоваться вещами, которые ничуть меня не касаются, – признался Бейли Уайлдерспину, который, по-дружески переживая за больного, нередко навещал его и старался утешить разговором. – Я думал, такое праздное времяпровождение свойственно лишь малым детям и старым девам. А оказывается, это просто зависит от обстоятельств. Работать я сейчас не могу, дела пущены на самотек; что толку жаловаться на жизнь и ершиться попусту? Так что я лежу и забавляюсь происходящим на реке, как ребенок забавляется погремушкой. Иногда, конечно, становится скучновато, но чаще бывает наоборот. Уайлдерспин, я отдал бы что угодно за то, чтобы хоть раз увидеть, как переворачивается и идет ко дну лодка… хотя бы одна. Над водой – головы пытающихся спастись вплавь, паровой катер, спешащий на выручку, какой-нибудь малый или двое, которых вытягивают при помощи багра… А вот и катер Фицгиббона! Я вижу, у них как раз появился новый багор, а вон тот маленький темнокожий все еще пребывает в унынии. Сдается мне, Уайлдерспин, он нездоров. Он уже два или три дня такой – сидит себе на корточках и угрюмо размышляет о чем-то, глядя на пенящуюся воду. Это вредно – сидеть вот так все время, уставившись на пену, выбегающую из-под кормы.
Они проводили взглядом маленький паровой катер, который пронесся через залитый солнцем участок реки, на мгновение скрылся за верхушкой акации, а потом и вовсе пропал из виду, исчезнув за темной оконной рамой.
– Во мне развилась удивительная зоркость на детали, – сказал Бейли. – Я сразу приметил новый багор на борту. Тот второй черномазый – забавный малый. Со старым багром он никогда не расхаживал так важно.
– Это малайцы, не так ли? – уточнил Уайлдерспин.
– Не знаю, – ответил Бейли. – Кажется, таких называют ласкарами[54].
Тут он принялся рассказывать Уайлдерспину все, что успел узнать о частной жизни обитателей жилой барки «Пурпурный император».
– Чудно́, – заметил он. – Эти люди прибыли сюда со всех концов света – из Оксфорда и Виндзора, из Азии и Африки, – собрались на барке и проплывают взад-вперед мимо моего окна с единственной целью развлечь меня. Третьего дня какой-то человек явился из неизвестности, самым что ни на есть великолепным образом завязил весло напротив моего окна, выпустил его из рук, а затем подобрал и опять отбыл в неизвестность. Вероятно, он никогда больше не войдет в мою жизнь. Он прожил на земле лет тридцать или сорок, испытал свои маленькие житейские невзгоды – и все это лишь для того, чтобы три минуты повалять дурака перед моим окном. Удивительно, Уайлдерспин, если вдуматься.