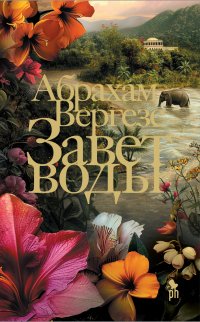
Читать онлайн Завет воды бесплатно
- Все книги автора: Абрахам Вергезе
The Covenant of Water by Abraham Verghese
Copyright © 2023 by Abraham Verghese
© Мария Александрова, перевод, 2024
© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2024
© “Фантом Пресс”, издание, 2024
Иллюстрации © 2023 by Thomas Varghese
Карта © Martin Lubikowski, ML Design, London
* * *
Мариам Вергезе In Memoriam
Из Эдема выходила река для орошения рая.
Бытие, 2:10
Не удары молота, а танец воды доводит гальку до совершенства.
Рабиндранат Тагор
Часть первая
Глава 1
Всегда
1900, Траванкор, Южная Индия
Ей двенадцать лет, и утром она выходит замуж. Мать и дочь лежат рядом на циновке, прижавшись друг к другу мокрыми от слез щеками.
– Самый печальный день в жизни девочки – это день ее свадьбы, – говорит мать и вздыхает. – А потом, Бог даст, станет легче.
Вскоре она слышит, как мамины всхлипы сменяются ровным дыханием, а затем тихим похрапыванием, которое, как кажется девочке, наводит порядок в рассеянных ночных звуках – от поскрипывания деревянных стен, источающих дневной зной, до роющейся в песке дворовой собаки.
Кукушка надоедает: Кежеккетта? Кежеккетта? Где восток? Где восток?
Она представляет, как птичка смотрит вниз на поляну, на четырехугольную соломенную крышу, нависающую над их домом. И лагуну перед ним, и ручей, и рисовое поле позади. Птичьи крики могут продолжаться часами, не давая уснуть… но внезапно обрываются, как будто в гнездо прокралась кобра. В наступившей тишине ручей не журчит свою колыбельную, но ворчливо грохочет отполированной галькой.
Она просыпается до рассвета, пока мать еще спит. Сквозь окошко видно, как вода на рисовом поле поблескивает кованым серебром. На веранде сиротливо стоит резной отцовский ча́ру касе́ра, шезлонг, опустевший и покинутый. Она приподнимает подставку для письма, лежащую на длинных деревянных подлокотниках, и садится. Чувствует призрачный отпечаток отцовского тела, сохранившийся в тростниковом плетении.
Четыре кокосовые пальмы, растущие на берегу лагуны, склонились, поглядывая в воду на свои отражения, будто прихорашиваясь, прежде чем вытянуться к небесам. Прощай, лагуна. Прощай, ручей.
– Му́ули? – сказал накануне единственный брат ее отца, и она очень удивилась. Прежде у него не было привычки обращаться к ней с ласковым муули – доченька. – Мы нашли тебе пару! – Тон у него был вкрадчивый и елейный, как будто ей всего четыре года, а не двенадцать. – Твой жених ценит, что ты из хорошей семьи, дочка священника.
Она знала, что дядя подыскивает ей мужа, но все равно казалось, что он слишком спешит устроить этот брак. Что она могла ответить? Такие вещи решают взрослые. Беспомощное выражение на лице матери смущало ее. Маму было жалко, а ей хотелось только уважать ее, вовсе не жалеть. Позже, когда они остались вдвоем, мать сказала:
– Муули, это больше не наш дом. Твой дядя… – Она умоляла, как будто бы дочь смела возражать. Слова затихли, глаза нервно забегали. Ящерки на стене подергивали хвостами. – Там ведь почти такая же жизнь, да? Будешь праздновать Рождество, поститься перед Пасхой… церковь по воскресеньям. Та же евхаристия, такие же кокосовые пальмы и кофейные кусты. Это хорошая партия… Он зажиточный человек.
Зачем богатому мужчине жениться на бедной девочке, девочке без приданого? Что они недоговаривают? Чего ему не хватает? Молодости, для начала – ему сорок. У него уже есть ребенок. Несколько дней назад, после того как пришел и ушел сват, она подслушала, как дядя выговаривает маме:
– И что с того, что его тетка утонула? Это что, то же самое, что семейное безумие? Кто-нибудь слышал, что утопление передается по наследству? Люди всегда завидуют хорошей партии и вечно найдут, к чему придраться.
Сидя в шезлонге, она поглаживает полированные подлокотники и вспоминает руки отца; как большинство мужчин малаяли, он был похож на добродушного медведя – волосы на руках, на груди, даже на спине, кожу просто так не потрогать, только сквозь мягкий мех. Сидя на его коленях, в этом самом шезлонге, она выучила буквы. Она очень хорошо училась в церковной школе, и отец говорил:
– У тебя замечательные способности. Но любознательность – это даже важнее таланта. Тебе нужно учиться дальше. И даже в колледже! Почему нет? Я не позволю тебе рано выйти замуж, как твоя мать.
Епископ отправил отца в проблемную церковь рядом с Мундакая́мом[1], где не было постоянного ачча́на[2] из-за недовольства купцов-мусульман. Семью не стоило брать с собой в тот край, где утренний туман даже в полдень продолжал разъедать колени, а к вечеру поднимался до подбородка и где сырость несла с собой хрипы, ревматизм и лихорадку. Не прошло и года его служения, как отец вернулся, стуча зубами в ознобе, а кожа его пылала, и моча текла черного цвета. Прежде чем они успели позвать на помощь, грудь его перестала вздыматься. Когда мама поднесла зеркальце к папиным губам, оно не затуманилось. Отныне дыхание отца стало просто воздухом.
Вот это и был самый печальный день в ее жизни. Разве может свадьба быть хуже?
Она в последний раз встает с плетеного сиденья. Кресло отца и его кровать – для нее почти священные реликвии, они хранят его сущность. Если бы только можно было забрать их с собой в ее новый дом.
В комнатах начинается шевеление, просыпаются домочадцы.
Она вытирает глаза, расправляет плечи, вскидывает подбородок, готовясь встретить все, что принесет этот день, – неприятные минуты расставания, разлука с родным домом, который больше не родной. Хаос и скорбь в Божьем мире – мистическая тайна, хотя Библия свидетельствует, что под всем этим кроется строгий порядок. Как, бывало, говорил отец:
– Вера означает знать, что смысл есть, даже когда он невидим.
– Я справлюсь, А́ппа[3], – говорит она, представляя, как ему сейчас горько. Будь отец жив, она бы не выходила сегодня замуж.
И представляет его ответ: Отцовские тревоги заканчиваются с появлением хорошего мужа. Я молюсь, чтобы он оказался именно таким. Но одно знаю точно: Господь, который был с тобой здесь, будет с тобой и там, муули. Он обещал это в своем Завете. “Я с вами во все дни до скончания века”[4].
Глава 2
Иметь и хранить
1900, Траванкор, Южная Индия
Путь до церкви жениха занимает почти полдня. Лодочник везет их через лабиринт незнакомых каналов, над которыми свисают огненно-красные цветы гибискуса, а дома стоят так близко к воде, что можно коснуться старухи, которая, сидя на корточках, просеивает рис взмахами плоской корзины. Слышно, как мальчик читает газету “Манора́ма”[5] слепому старику, и тот потирает голову, словно от новостей ему больно. Дом за домом, каждый – маленькая вселенная; дети ее возраста провожают взглядами лодку. “А вы куда?” – спрашивает голопузый проныра сквозь черные зубы, указательный палец – его зубная щетка, – посыпанный древесным углем, застыл на полпути. Лодочник сурово зыркает на мальчишку.
Из каналов они выплывают на ковер из лотосов и лилий, такой плотный, что по нему, кажется, можно ходить. Цветы приветливо раскрыты навстречу. Не задумываясь, она срывает один цветок, ухватившись за стебель, уходящий глубоко вниз. Он выскакивает с плеском, розовое сокровище, – непостижимо, как нечто столь прекрасное может появиться из такой мутной воды. Дядя многозначительно смотрит на мать, которая молчит, хотя беспокоится, что дочь запачкает свою белоснежную блузу и ка́лле му́нду[6] или кава́ни[7] с тонким золотым шитьем. Фруктовый аромат наполняет лодку. Она насчитала двадцать четыре лепестка. Проталкиваясь сквозь лотосовый ковер, они выбираются в озеро такое широкое, что дальнего берега не видно, воды его спокойны и гладки. Интересно, океан тоже так выглядит? Она почти забыла, что выходит замуж. На шумной пристани они пересаживаются в громадное каноэ, которым правят поджарые мускулистые мужчины; концы лодки загибаются, как сухие бобовые стручки. Две дюжины пассажиров сгрудились в середке, закрываясь от солнца зонтами. Она вдруг понимает, что отправляется так далеко, что приехать домой в гости будет непросто.
Озеро незаметно сужается до широкой реки. Лодка скользит быстрее, подхваченная течением. И вот уже вдалеке, на высоком берегу, массивное каменное распятие стоит на страже небольшой церкви, перекладина креста отбрасывает тень на реку. Это одна из семи с половиной церквей, основанных святым Фомой. Как и любой ученик воскресной школы, она может отбарабанить их названия: Кодунгаллур, Паравур, Ниранам, Палейур, Нилакал, Коккамангалам, Коллам и крошечная полуцерковь в Тирувитамкоде, но при виде одной из этих святынь вживую у нее перехватывает дыхание.
Сват из Ра́нни[8] меряет шагами двор. Влажные пятна на его джу́ба[9] расплываются от подмышек до груди.
– Жених должен был прибыть давным-давно, – говорит он.
Пряди волос, которые он уложил на макушке, растрепались и свисают над ухом, как хохолок у попугая. Он нервно сглатывает, и внушительный кадык дергается вверх-вниз по его горлу. На местных почвах в изобилии растут и рис, и вот такие зобы.
Свита жениха состоит только из его сестры, Танкаммы. Эта крепкая улыбающаяся женщина хватает крошечные руки будущей невестки и ласково сжимает.
– Он скоро придет, – заверяет она.
Аччан надевает епитрахиль поверх одежды и завязывает вышитый пояс. Он протягивает руку, ладонью вверх, словно безмолвно вопрошая: Итак? Ответа нет.
Невеста дрожит, несмотря на жару. Она не привыкла носить ча́тта[10] и мунду. С сегодняшнего дня больше никаких длинных юбок и разноцветных блузок. Она будет одеваться как ее мать и тетка, в традиционный наряд замужней женщины в христианской общине Святого Фомы, где единственный цвет – белый. Мунду такое же, как мужское, но завязано более замысловато, свободный конец собран в складки и сложен трижды, а затем заправлен в шлейф-веер, чтобы скрыть форму ягодиц. Маскировка – для этого предназначена и бесформенная блуза с короткими рукавами и v-образным вырезом, белая чатта.
Свет, падающий из высоких окон, отбрасывает косые тени. От запаха благовоний щекочет в горле. Как и в ее церкви, здесь нет скамеек, только грубый ковер из койры[11] на крашенном суриком полу, но лишь в передней части храма. Дядя кашлянул. Звук эхом разносится в пустом пространстве.
Она надеялась, что двоюродная сестра – и лучшая подруга – приедет на свадьбу. Сестру выдали замуж год назад, тоже в двенадцать, за двенадцатилетнего жениха из хорошей семьи. На свадьбе жених показался ей глупым как пробка, его больше интересовало содержимое собственного носа, чем церемония; аччан даже прервал курба́ну[12] и прошипел: “Прекрати ковыряться! Там нету золота!” Сестра написала, что в новом доме она только спит и играет с другими девочками из этой семьи, и она довольна, что не приходится иметь дела с этим противным мужем. А мама, читая письмо, сказала со вздохом: “Однажды все изменится”. Невесте интересно, изменилось ли уже и что это означает.
В воздухе проносится оживление. Мать подталкивает ее вперед, а сама отступает.
Рядом возникает жених, и аччан немедленно начинает службу – у него что, корова в хлеву телится? Невеста смотрит прямо перед собой.
В заляпанных стеклах очков аччана мелькает отражение: на фоне света от входного проема темный крупный силуэт и маленькая фигурка рядом – это она.
Каково это – быть сорокалетним? Он ведь старше ее матери. Ее вдруг осеняет: если он овдовел, то почему не женился на ее матери вместо нее? Но она знает почему: выйти за вдовца немногим лучше, чем за прокаженного.
Аччан вдруг начинает запинаться, потому что будущий муж поворачивается и внимательно разглядывает невесту, развернувшись – немыслимо – спиной к священнику. Он всматривается в ее лицо, пыхтя, как человек, который очень долго и очень быстро шел. Она не осмеливается поднять взгляд, но чувствует его землистый запах. И, не в силах совладать с собой, начинает дрожать. И закрывает глаза.
– Но это же ребенок! – слышит она гневное восклицание.
Открыв глаза, видит, как ее дядя вытягивает руку, пытаясь остановить удаляющегося жениха, но тот отбрасывает руку в сторону, словно смахивая муравья с циновки.
Танкамма выскакивает следом за сбежавшим женихом, жирный живот ее колышется из стороны в сторону, хоть она и придерживает его руками. Перехватывает брата возле камня для поклажи – плоской каменной плиты на высоте плеча человека, лежащей на двух вертикальных каменных столбах, вкопанных в землю, – места, куда путник может опустить груз, который нес на голове, и перевести дух. Танкамма упирается ладонями в широкую грудь брата, пытаясь удержать, и медленно пятится спиной вперед.
– Му́уни[13], – говорит она, потому что он намного младше, годится ей в сыновья, а не в братья. – Мууни, – запыхавшись, повторяет сестра.
Случившееся в церкви – это очень серьезно, но все равно ужасно забавно, как брат напирает на нее, будто он пахарь, а она плуг, и Танкамма, не сдержавшись, смеется.
– Стой, послушай меня! – приказывает она, все еще улыбаясь.
Как часто сестра видела это угрюмое выражение на его лице, даже в детстве. Ему было всего четыре, когда их мать умерла, и матерью для мальчика стала Танкамма. Пела ему колыбельные и баюкала, чтобы малыш не хмурился. Много позже, когда старший брат обманом выгнал их из дома и отобрал все имущество, по праву принадлежащее младшему, только Танкамма вступилась за него.
Он замедлил шаг. Она хорошо знает его, молчуна этого. Если бы Бог чудом разомкнул сейчас ему челюсти, что бы он сказал?
Че́чи[14], когда я стоял рядом с этой дрожащей малюткой, я подумал: “И на ней я должен жениться?” Ты видела, как трясся у нее подбородок? У меня дома уже есть мой собственный ребенок. Мне не нужен еще один.
– Мууни, я понимаю, – говорит она, словно он и впрямь произнес вслух последние фразы. – Знаю, как это выглядит. Но не забывай, твоя мать и твоя бабка вышли замуж, когда им было всего по девять. Да, они были детьми, но их и растили дальше как детей, просто в другом доме, пока они не повзрослели. Разве не так получаются самые лучшие, самые прочные браки? Ладно, плюнь на это и просто на минутку задумайся об этой бедной девочке. Брошенная перед алтарем в день своей свадьбы? Айо́[15], какой стыд! Кто на ней женится после такого?
Он упрямо двигается дальше.
– Она хорошая девочка, – не унимается Танкамма. – Из такой хорошей семьи! За твоим маленьким ДжоДжо кто-то должен присматривать. Она станет для него тем же, кем я была для тебя, когда ты был ребенком. Просто дай ей повзрослеть в твоем доме. Ей Парамбиль нужен не меньше, чем она Парамбилю.
Танкамма спотыкается, он подхватывает сестру, и она снова смеется.
– Даже слонам трудно ходить задом наперед! – Только сестра может истолковать легкую асимметрию, скользнувшую по его лицу, как улыбку. – Я сама выбрала эту девочку для тебя, мууни. Не думай, что это заслуга свата. Это я встретилась с матерью, я рассмотрела девочку, когда она и не подозревала, что я ее изучаю. Разве в первый раз я выбрала плохо? Твоя благословенная первая жена, упокой Господи ее душу, подошла идеально. И теперь доверься еще раз своей чечи.
Сват шепчется с аччаном, который бормочет:
– Что тут вообще происходит?
Господь – скала моя, крепость моя, Избавитель мой[16]. Отец учил юную невесту повторять эти слова, когда ей будет страшно. Скала моя, крепость моя. Чудесная сила, исходящая от алтаря, опускается на нее, как стихарь, принося с собой глубочайшее умиротворение. Эта церковь освящена одним из Двенадцати; он стоял на той же земле, где сейчас стоит она, тот самый апостол, который коснулся ран Христа. Она слышит его, и это вовсе не воображение – голос, беззвучно говорящий. И Он говорит: Я с тобой во все дни.
А потом рядом вновь возникают босые ноги жениха. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое[17]. Но эти ноги, как лапы дикого зверя, грубы, покрыты застарелыми мозолями и неуязвимы для шипов, они способны сбить гнилой пень и умеют находить трещины и расщелины, чтобы взобраться вверх по стволу пальмы. Стопы шевельнулись, поняв, что их оценивают. Она не может удержаться: поднимает глаза на жениха. Нос острый, как топор, губы пухлые, подбородок торчит. Волосы у него черные как смоль, никакой седины, удивительно. Он гораздо смуглее, чем она, но красивый. Ее поражает пронзительный взгляд, который он устремил на священника, – словно мангуст, ожидающий броска змеи, в любой миг готовый увернуться, крутануться на месте и схватить ее за шею.
Служба, должно быть, закончилась быстрее, чем она успела осознать, потому что мать уже помогает жениху снять покрывало с ее головы. Он делает шаг ей за спину. Кладет руки ей на плечи и застегивает на шее тонкую золотую ми́нну[18]. Пальцы, коснувшиеся ее кожи, горячи, как уголья.
Жених оставляет свою размашистую подпись в церковной книге, передает перо невесте. Она ставит свое имя и дату – день, месяц, год: 1900. Когда она поднимает голову, он уже идет к выходу из церкви. Священник, провожая взглядом удаляющуюся фигуру, бурчит:
– Что у него, рис на огне подгорает?
На пристани, где нетерпеливо качается пришвартованная лодка, мужа не видно.
– Еще с той поры, когда твой муж был маленьким мальчиком, – поясняет ей золовка, – он предпочитал передвигаться на своих ногах. А я вот нет! К чему ходить, если можно плыть? – Смех Танкаммы словно уговаривает тоже повеселиться.
Но здесь, у кромки воды, мать и дочь должны расстаться. Они приникают друг к другу – кто знает, когда увидятся вновь? У нее теперь новое имя, новый дом, неизвестный и далекий, которому она отныне принадлежит. И должна отречься от старого.
У Танкаммы тоже глаза на мокром месте.
– Не волнуйся, – утешает она убитую горем мать. – Я буду заботиться о ней как о родной. Побуду в Парамбиле недели две-три. Но потом она будет знать домашнее хозяйство лучше, чем свои псалмы. Нет-нет, не надо благодарить. Дети мои уже взрослые. И я задержусь подольше, чтобы муж успел по мне соскучиться!
Ноги юной невесты подкашиваются, когда она отстраняется от матери. Она упала бы, если бы Танкамма не подхватила ее на бедро, как ребенка, а потом шагнула вместе с ней в качающуюся лодку. Она инстинктивно обвивает ногами широкую талию Танкаммы и прижимается щекой к ее мясистому плечу. С этого насеста она оглядывается на одинокую печальную фигуру, машущую с причала, такую крошечную по сравнению с гигантским каменным распятием, возвышающимся позади.
Дом юной новобрачной и ее жениха-вдовца находился в Траванкоре, на южной оконечности Индии, клочке земли, зажатом между Аравийским морем и Западными Гхатами – длинным горным хребтом, тянущимся параллельно западному побережью. Эта земля создана водой, а ее народ объединен общим языком – малаялам. Там, где море встречается с белоснежными пляжами, оно простирает свои пальцы вглубь континента, сплетаясь с реками, змеящимися под зеленым пологом склонов Гхатов. Это волшебный мир детских сказок – с ручьями и каналами, сетью озер и лагун, лабиринтом заводей и бутылочно-зеленых лотосовых прудов; огромная кровеносная система, поскольку, как рассказывал отец, все водоемы связаны друг с другом. Вода породила народ – малаяли, – подвижный, как текучий мир вокруг них, их движения и жесты плавны, волосы волнисты, они с готовностью изливаются звенящим смехом, когда плывут от одного родственного дома к другому, пульсируя и блуждая, подобно кровяным тельцам в сосудистой сети, подталкиваемые великим бьющимся сердцем муссона. На этой земле кокосовые и пальмировые пальмы произрастают в таком изобилии, что даже ночами их резные силуэты покачиваются и переливаются под закрытыми веками. В снах, предвещающих благое, должны являться зеленые ветви и вода; их отсутствие считается кошмаром. Когда малаяли говорят “земля”, они имеют в виду и воду тоже, поскольку не существует одного без другого, это все равно что нос без рта. На челноках, каноэ, баржах и паромах малаяли и их товары перемещаются по всему Траванкору, Кочину и Малабару с резвостью, которой и представить себе не могут сухопутные жители. В отсутствие нормальных дорог, регулярного транспортного сообщения и мостов вода – это настоящая автострада.
Во времена нашей юной невесты королевские семейства Траванкора и Кочина, чьи династии уходят корнями в Средние века, считались “туземными княжествами” при британском правлении. Под британским владычеством находилось более пяти сотен княжеств – половина всех земель Индии, – большая часть из них мелкие и малозначащие. Махараджей более крупных туземных княжеств, так называемых дружественных, – Хайдарабада, Майсора и Траванкора – приветствовали ружейным салютом от девяти до двадцати одного залпа, количество залпов отражало значимость махараджи в глазах британцев (и зачастую равнялось числу “роллс-ройсов” в княжеском гараже). В обмен на позволение сохранить свои дворцы, автомобили и положение, а также за право управлять полуавтономно махараджи платили британцам “десятину” от налогов, которые они собирали со своих подданных.
Наша невеста в своей деревушке в туземном княжестве Траванкор никогда не видела ни британского солдата, ни гражданского чиновника; это совсем не похоже на ситуацию в “президентствах” Мадраса или Бомбея – территориях, управляемых непосредственно британцами, где они кишмя кишат. Со временем земли, где говорят на малаяли, – Траванкор, Кочин и Малабар – объединившись, образуют штат Керала, прибрежную территорию в форме рыбы на самой верхушке полуострова Индостан; голова рыбы указывает на Цейлон (нынешняя Шри-Ланка), а хвост – на Гоа, а глаза ее устремлены через океан на Дубаи, Абу-Даби, Кувейт и Эр-Рияд.
В Керале воткни в почву лопату где угодно, и ямку тут же наполнит вода цвета ржавчины, как кровь из-под скальпеля, латеритный[19] эликсир, питающий все живое. Можно, конечно, не верить, что абортированные-но-жизнеспособные зародыши, выброшенные в эту почву, вырастают в диких людей, но никто не спорит, что пряности произрастают здесь в изобилии, неведомом больше нигде в мире. Веками еще до рождества Христова моряки с Ближнего Востока ловили юго-западный ветер треугольными парусами своих дау[20], направляясь к Берегам Пряностей за перцем, гвоздикой и корицей. А когда попутный ветер менялся, они возвращались в Палестину, продавать специи купцам из Генуи и Венеции за небольшое состояние.
Лихорадка пряностей охватила Европу подобно сифилису и чуме, занесенная теми же средствами: моряки и корабли. Но эта инфекция была целительной: специи продлевали жизнь и пище, и тому, кто их употреблял. Нашлась, однако, и неожиданная польза. В Бирмингеме священник, который жевал корицу, чтобы скрыть запах перегара, обнаружил, что стал неотразимо привлекательным для своих прихожанок, и написал под псевдонимом популярный памфлет “Новые соусы сладкие и острые: веселящая смесь, соединяющая непристойное с приятным для мужчины и его супруги”. Аптекари прославляли чудесные исцеления от водянки, подагры и люмбаго благодаря отварам из куркумы, гарцинии и перца. Марсельский лекарь выяснил, что втирание имбиря в маленький вялый пенис меняет оба качества на противоположные, а партнерше доставляет “такое удовольствие, что она отказывается с него слезать”. Удивительно, что западным поварам не приходило в голову обжарить и растолочь вместе зерна перца, семена фенхеля, кардамон, гвоздику и корицу, затем всыпать эту смесь в масло вместе с семенами горчицы, чесноком и луком, чтобы получилась масала, основа любого карри.
И разумеется, когда цена на специи в Европе была сравнима со стоимостью драгоценных камней, арабские мореплаватели, возившие пряности из Индии, держали в тайне их источник. К 1400-м годам португальцы (а следом за ними голландцы, французы и англичане) организовали экспедиции, дабы отыскать землю, где произрастают бесценные растения; эти искатели напоминали озабоченных юнцов, почуявших запах блудницы. Где же она? На Востоке, всегда где-то на Востоке.
Но Васко да Гама отправился из Португалии на запад, не на восток. Он поплыл вдоль западного побережья Африки, вокруг мыса Горн, а потом вдоль другого берега. Где-то в Индийском океане да Гама захватил и пытал арабского лоцмана, который и привел его к Берегу Пряностей – нынешней Керале, – на побережье недалеко от города Каликут; это было самое долгое океанское путешествие из всех, проделанных прежде.
На замори́на[21] Каликута не произвели особого впечатления ни да Гама, ни его монарх, который в качестве даров прислал кораллы и медь, в то время как сам заморин щедро раздавал рубины, изумруды и шелк. Его позабавило, как самонадеянно да Гама заявлял, будто бы принес свет Христов язычникам. Неужели этому идиоту неведомо, что за четырнадцать веков до его прибытия в Индию, даже прежде того, как святой Петр явился в Рим, другой из двенадцати апостолов – святой Фома – приплыл к этому берегу на арабской дау?
Легенда гласит, что в 52 году н. э. святой Фома сошел на землю вблизи нынешнего Кочина. Он встретил мальчика, возвращавшегося из храма. “Твой бог слышит твои молитвы?” – спросил он. Мальчик ответил, что, конечно, слышит. Святой Фома зачерпнул ладонью воду и подбросил в воздух, и капли застыли на лету. “А сможет ли твой бог сделать вот так?” Подобными демонстрациями, будь то магия или чудеса, он обратил в христианство несколько браминских семейств; позже он принял мученическую смерть в Мадрасе. Первые обращенные – христиане Святого Фомы – оставались преданны вере и не вступали в брак за пределами общины. С течением времени община разрасталась, связанная воедино своими обычаями и своими церквями.
Почти две тысячи лет спустя двое последователей тех первых индийских обращенных, двенадцатилетняя невеста и вдовец средних лет, поженились.
“Что случилось, то случилось”, – скажет наша юная невеста, когда станет бабушкой и когда внучка – названная в ее честь – будет приставать с просьбами рассказать об их предках. До малышки доходили слухи, будто семейная история полна тайн и что среди их предков были работорговцы, убийцы и даже лишенный сана епископ. “Детка, что было, то было, и вообще каждый раз, как начинаю вспоминать, помнится по-разному. Давай лучше расскажу про будущее, которое ты сама создашь”. Но девочка настаивает.
Откуда же начать? С Фомы “неверующего”, которому нужно было увидеть раны Христа, чтобы уверовать? С других мучеников за веру? Дитя требует истории своей семьи, истории дома вдовца, в который вошла ее бабушка, – дома, не имеющего выхода к морю в этой стране воды, дома, полного загадок. Но такие воспоминания сотканы из тончайших паутинок, время проедает дыры в ткани, и приходится штопать их мифами и сказками.
Однако есть нечто, в чем бабушка уверена: сказка, которая оставляет след в душе слушателя, рассказывает правду о том, как устроен мир, а значит, неизбежно повествует и о семьях, их победах и их ранах, об их усопших, в том числе и тех, кто превратился в блуждающего призрака; сказка должна научить, как жить в Божьем мире, где радость никогда не избавляет от печали. Хорошая история способна сотворить то, до чего не доходят руки у милостивого Бога, она исцеляет семьи и избавляет их от бремени тайн, чьи узы сильнее кровных. Поскольку тайны эти – как раскрытые, так и сохраненные – могут разрушить семью.
Глава 3
О чем не говорят
1900, Парамбиль
Молодой жене снится, что она плещется в лагуне с сестренками, забирается в узкий челнок, нечаянно опрокидывает его и забирается опять, их смех эхом отражается от берега.
Она просыпается в замешательстве.
Рядом с ней вздымается и опадает храпящая гора. Танкамма. Ах да. Ее первая ночь в Парамбиле. Название царапает язык, как острый обломок зуба. От соседней двери, из комнаты ее мужа, не доносится ни звука. За телом Танкаммы почти не видно маленького мальчика, только блестящие взъерошенные волосы на его голове и рука, ладошкой вверх, лежащая рядом.
Она прислушивается. Чего-то не хватает. Эта пустота настораживает. Девочку осеняет: не слышно воды. Вот чего не хватает – ее журчащего, баюкающего голоса, и потому она сотворила воду в своем сне.
Вчера ва́ллум, челнок, обшитый досками, высадил их с Танкаммой у маленького причала. Они прошли через поле с торчащими кое-где кокосовыми пальмами, увешанными плодами. Четыре коровы паслись на поле, каждая на длинной привязи. Потом миновали ряды банановых деревьев, их разлапистые листья шелестели и хлопали друг о друга. Грозди красных бананов почти касались земли. Воздух напоен был ароматом дерева чампа́ка[22]. Три камня, отполированные от долгого использования, служили мостиком через мелкий ручей. Дальше ручей разливался в пруд, берега которого заросли кустами пандануса и карликовыми пальмами ченте́нгу́[23], гнущимися под тяжестью оранжевых кокосов. На берегу пруда вкопан наклонный камень для стирки; Танкамма сказала, это место, куда можно ходить купаться. Журчание ручья служило благим предзнаменованием. Она высматривала свой новый дом рядом с причалом, где они высадились, но у реки его не оказалось, так что наверняка дом стоит у ручья… но нет.
– Вся эта земля больше пяти сотен акров, – гордо сообщает Танкамма, поводя рукой налево и направо. – Это все Парамбиль. Большая часть – заросшие дикие холмы. А из того, что расчищено, возделана только часть. Но пока твой муж не занялся этой землей, здесь были джунгли, муули.
Пять сотен акров. Хозяйство, в котором она жила до вчерашнего дня, умещалось всего на двух.
Они продолжали путь по тропинке, обсаженной по сторонам маниокой. Наконец высоко на холме, силуэтом на светлом фоне, показалась постройка. Она не отрываясь смотрела на то, что станет ее домом до конца жизни. Линия крыши знакомо изгибалась посередине, приподнимаясь к концам, низко нависающие карнизы закрывали солнце, затеняя веранду… но в голове крутилась только одна мысль: Почему так высоко? Почему не у ручья? Или у реки, приносящей новости, гостей и прочие добрые вещи?
Сейчас, лежа на спине, она изучает комнату: промасленные отполированные стены из тика, не из обычного хлебного дерева, с отверстиями в форме распятия наверху, через которые может выходить теплый воздух; подвесной потолок тоже из тикового дерева, защищающий от жары; тонкие деревянные решетки на окнах пропускают ветерок и, конечно, двустворчатая дверь, ведущая на веранду, верхняя половина сейчас открыта, впуская ночной бриз, а нижняя закрыта, чтобы не пробрались куры и всякие безногие создания, – очень похоже на дом, из которого она уехала, только этот гораздо больше. Каждый тача́н, плотник, следует древним правилам Ва́сту[24], от которых не отклоняются ни индуисты, ни христиане. Для хорошего тачана дом – это жених, а земля – невеста, и он должен совместить их столь же аккуратно, как астролог совмещает гороскопы. Когда в доме случается беда или преследуют неудачи, люди говорят: это потому, что жилище поставлено в неблагоприятном месте. И вновь она задается вопросом: Почему здесь, так далеко от воды?
Шорох листьев, дрожь, исходящая от земли, заставляют сердце биться чаще. Нечто, возникшее у дверей, заслоняет свет звезд. Это местный призрак явился показаться ей? В следующий миг через верхнюю половину двери в комнату словно прорастает пышный куст. А вокруг куста обвилась огромная змея. Юная жена не может ни шевельнуться, ни вскрикнуть, хотя понимает, что сейчас с ней произойдет что-то ужасное в этом таинственном, сухопутном доме… Но разве смерть пахнет жасмином?
В воздухе повисает ветка жасмина, которую сжимает слоновий хобот. Цветочные гроздья плывут, покачиваясь, над спящими, пока не замирают над ее головой. Она чувствует на лице теплое, влажное, древнее дыхание. Крошечные комочки земли падают ей на шею.
Страх растворяется. Поколебавшись, она тянется за подношением. Удивительно, что слоновьи ноздри так похожи на человеческие – окаймленные светлой веснушчатой кожей, нежные, как губы, но проворные и ловкие, как пальцы; он сопит ей в подмышку, щекочет локоть, подползает к лицу. Она еле сдерживается, чтобы не хихикнуть. Жаркий выдох снисходит на нее, как благословение. Запах – это что-то из Ветхого Завета. Хобот беззвучно уползает.
Она поворачивается и обнаруживает ошеломленного свидетеля. Двухлетний ДжоДжо выглядывает из-за плеча Танкаммы, глаза его широко распахнуты. Она улыбается ему, поднимается, повинуясь порыву, наклоняется и вскидывает малыша на бедро, и они вместе выходят, вслед за ночным видением.
Повсюду в Парамбиле она ощущает присутствие духов, как и в любом доме. Один из них шагает в мутта́м[25]. Темнота мерцает невидимыми душами, бесчисленными, как светлячки.
На поляне у вздымающейся ввысь пальмы, над кучей сухих пальмовых листьев парит в воздухе, сияя сетчаткой, глаз – покачивается, как лампа на ветру. Когда зрение привыкает, из тьмы проступает гора лба, потом лениво хлопающие уши… скульптура, высеченная из темной глыбы ночи. Слон настоящий, вовсе не призрак.
ДжоДжо машинально обвивает ручкой ее шею, пальцы вцепляются в мочку уха, он устраивается у нее на бедре, как будто всю жизнь там сидел. Она готова рассмеяться – только вчера она сама вот так прильнула к Танкамме. Они тихо стоят, двое полусирот. Духи повинуются команде дарителя жасмина и возвращаются в тень, уступающую место рассвету.
За свою короткую жизнь она видела храмовых слонов, которым поклонялись и подносили угощения, видела рабочих слонов, которые медленно брели через деревню в лес на помощь лесорубам. Но это создание, закрывающее звезды, определенно было самым большим в мире слоном. Вид его медленно жующих челюстей, грациозный танец хобота, заталкивающего листья в усмехающуюся пасть, успокаивает ее.
С подветренной стороны от слона, сразу за земляной насыпью канавы, которую сооружают вокруг каждой кокосовой пальмы, чтобы вода и навоз не стекали наружу, на плетеной койке спит мужчина.
Локти и колени ее мужа торчат над деревянной рамой. В его позе, в изгибе могучей левой руки, на которой он лежит щекой, как на подушке, в пальцах, собранных в щепоть, она видит подобие их ночного жасминового гостя.
Глава 4
Становление хозяйки
1900, Парамбиль
Стопам прохладно на земляном полу кухни. Стены потемнели от дыма и впитали в себя аппетитные запахи; в этом потаенном святилище она мгновенно почувствовала себя дома. Танкамма, наклонившись, дует в широкую металлическую трубку, щеки у нее надуваются шарами, пока она терпеливо возрождает погасшие за ночь угли в аду́ппу[26]. Из шести кирпичных выемок в этом приподнятом очаге горшки стоят в четырех. Удивительно, как шустро для такой грузной женщины двигается Танкамма, руки так и мелькают, подбрасывая сухую кокосовую скорлупу под сковороду, где жарится лук, и приминая угли, чтобы рис булькал потише. Танкамма наливает невесте кофе, сваренный с молоком и подслащенный пальмовым сахаром.
– Я приготовила пу́тту[27], – говорит она, вытряхивая из формы упругий белый цилиндр пропаренного клейкого риса прямо на банановый лист.
Для ДжоДжо она смешала рис с бананом и медом. А еще разогрела жареную говядину – эре́ки олартхия́рту – и огненное рыбное карри – ме́ен вевича́тху, – оставшиеся с вечера.
– Наутро рыба вкуснее, правда же? В этом прелесть глиняного горшка! Береги его и никогда не используй ни для чего другого, кроме меен вевичатху, хорошо? И с каждым годом твое карри будет становиться все вкуснее. Если в моем доме вдруг случится пожар и мне придется выбирать между мужем и глиняным горшком… ну что ж, буду утешаться тем, что старик прожил хорошую жизнь. А с карри, которое я буду готовить в своем горшке, вдоветь будет гораздо легче!
Танкамма хохочет во весь голос. Молодая жена, ошеломленная, сидит, скрестив ноги, и разглядывает свой первый завтрак в Парамбиле – очень обильный и такой сытный, что им с матерью хватило бы на неделю.
– Твой муж поел на бегу, как обычно. И уже ушел в поле.
Танкамма настаивает, что новобрачной не нужно ничего делать, кроме как позволить себя побаловать. Девочка пытается было возражать, но это не в ее привычках. Она следит за ловкими пальцами Танкаммы, стараясь углядеть, какие ингредиенты отправляются в карри, но это очень трудно, когда готовится одновременно не меньше двух блюд. Руки Танкаммы, должно быть, сами все помнят, потому что она совсем не обращает на них внимания, а только тараторит без умолку. ДжоДжо тащит девочку из кухни, ужасно гордый, что показывает ей дом, комнату за комнатой, совершенно позабыв, что буквально пару часов назад уже делал это. Дом построен буквой Г, одно крыло, оставшееся от старого, прежнего дома, приподнято над землей на высоком цоколе и сооружено вокруг кладовой, или а́ра, в которой хранится семейное богатство – деньги, драгоценности и рис. Под ара устроен погреб, а по сторонам от ара расположены неиспользуемая спальня и просторная кладовая, рядом с кладовой – кухня. Узкая внешняя веранда объединяет все помещения. Новая часть дома ближе к земле, с широкой гостеприимной верандой с трех сторон. В новой части есть гостиная, в которую редко заходят, и две смежные спальни – мужнина и та, где спят она, ДжоДжо и Танкамма, – и еще одна комната, которую используют как чулан.
Старое и новое крыло окружают четырехугольный муттам – двор, вымощенный желтой, золотистой и белой галькой, добытой со дна реки. Каждое утро женщина пула́йи[28], Сара, убирает с муттам опавшую листву и разравнивает гальку метлой, оставляющей веерообразный узор. Муттам – это место, где расстилают циновки, чтобы высушить ошпаренный рис, где на веревках сохнет одежда и где ДжоДжо пинает свой мяч.
После обеда молодая жена, ДжоДжо и Танкамма долго спят. А муж никогда не отдыхает, он почти все время работает в поле. Когда бы она ни взглянула в ту сторону, рядом с ним всегда несколько пулайар, среди которых он выделяется своим ростом и более светлой кожей. По вечерам Танкамма оставляет дела и переводит дух; они втроем садятся на ветерке на пороге кухне, и пожилая женщина рассказывает бесконечные истории, балуя их с ДжоДжо лакомствами из погреба. Задним числом она догадывается, что рассказы Танкаммы – это нечто вроде наставлений. Она пытается вспоминать их, ложась спать, но именно в это время тоска по дому терзает ее сердце и каждая мысль обращается к родным местам. Забота и ласка Танкаммы так сильно напоминают о матери, что печаль становится лишь острее. Но она позволяет себе плакать, только когда уверена, что все уже спят.
На второе утро, когда в отдалении слышатся заливистые крики торговки рыбой, Танкамма просит новобрачную подозвать крикунью. Спустя пять минут женщина, источающая рыбный запах, уже на пороге кухни. Танкамма помогает ей снять с головы тяжелую корзину.
– А́ах[29], вот она, невеста! – восклицает торговка, отряхивая с рук чешую и усаживаясь на корточки. – Специально для нее я сегодня принесла особую ма́тхи[30]. – Она снимает дерюгу, прикрывающую корзину, словно демонстрируя драгоценные самоцветы.
Танкамма нюхает сардину, сжимает в руке, швыряет обратно в корзинку.
– Специально для невесты, говоришь? Ну и забирай ее, раз она такая особенная. А что это там под тряпкой? Аах! Ты погляди! А вот эта матхи для кого? Или была еще одна свадьба, о которой я не знаю? Давай сюда! И ни слова!
На следующий день невеста видит, как через муттам идет пулайан Самуэль, чуть приседая под тяжестью корзины, нагруженной кокосовыми орехами, которую он тащит на голове. Танкамма говорила, что он старший тут в Парамбиле и правая рука ее мужа; Сара, которая метет муттам, – его жена. Семья Самуэля работает на них уже несколько поколений, сказала Танкамма, его предки, наверное, в древности принадлежали их семье, еще до того, как это стало незаконным. Пулайар – низшая каста в Траванкоре, у них почти никогда нет собственного имущества, даже их хижины принадлежат хозяину земли; для брамина считается нечистым даже взгляд на них, потом нужно делать очистительное омовение.
Под весом корзины мышцы на шее и руках Самуэля натянуты как канаты, обвившие маленькое щуплое тело. Голая грудь напряженно вздымается, ребра как будто торчат уже над кожей; на теле у него почти нет волос, за исключением щетины на щеках и над верхней губой да еще на стриженой голове, с проседью на висках. На вид ему столько же лет, что и ее мужу, хотя Танкамма сказала, что он моложе.
Самуэль замечает ее, и широкая улыбка преображает его лицо, скулы сияют, как отполированное эбеновое дерево, а белые ровные зубы подчеркивают изящные черты. Есть что-то детское в его восторженности от встречи с юной женой.
– Аах! – радуется он – но для начала нужно разобраться с важным делом. – Муули, не позовешь чечи Танкамму? Корзина слишком тяжелая, ты не справишься.
Танкамма помогает ему опустить корзину, он стягивает обернутый вокруг головы тхорт[31], встряхивает, вытирает лицо, не сводя глаз и сияющей улыбки с юной невесты.
– Сейчас еще принесут. Мы все утро лазали, тамб’ра́н[32] и я. – Самуэль вытягивает руку, показывая, и она видит вдалеке мужа, сидящего со скрещенными руками верхом на стволе склонившейся пальмы, в том месте, где ствол вытягивается почти горизонтально. Ноги его небрежно свисают, и он словно глубоко задумался о чем-то. Это зрелище заставляет невольно вздрогнуть, пробуждая в ней страх высоты. Невероятно, что хозяин так рискует жизнью, когда есть пулайар для подобной работы.
– Ты зачем позволяешь тамб’рану забираться так высоко сразу после его свадьбы? – возмущается Танкамма. – Признавайся – если он лезет на пальму, тебе остается только половина работы.
– Аах, попробуй его останови. Он же прямо как маленький тамб’ран. – Самуэль поглаживает ДжоДжо по животику. – В небе счастливее, чем на земле.
ДжоДжо нравится, что его называют маленьким хозяином.
Голая грудь Самуэля усеяна крошками коры. Все еще улыбаясь жене тамб’рана, он старательно собирает складками свой голубой клетчатый тхорт и перекидывает через левое плечо. Она смущенно опускает глаза и замечает покалеченный большой палец на его правой ноге, расплющенный, как монета, и без ногтя.
– Аах, Самуэль, – говорит Танкамма. – Почисть нам, пожалуйста, три кокоса. А потом, когда умоешься, приходи поесть. Новая хозяйка тебе подаст.
У Самуэля есть собственная глиняная миска, висящая на крючке, под свесом крыши у задней двери в кухню, и там он и будет есть, прямо на ступенях. Пулайар никогда не входят в жилые комнаты. Сара, конечно, готовит ему дома, но трапеза у хозяина сберегает его собственные запасы риса. Сполоснув миску, Самуэль наполняет ее водой и осушает до дна, потом садится на корточки на ступенях. Юная невеста подает ему канджи́ – жидкий рис с куском рыбы и маринованным лаймом.
– Ну как, тебе тут нравится? – спрашивает Самуэль, затолкав за щеку большой комок риса.
Она, стоя рядом, смущенно кивает. Палец рассеянно выводит ആ, первую букву в слове а́на, слон, и сама буква кажется ей похожей на слона.
– Когда я попал в Парамбиль, я был даже младше, чем ты. Совсем мальчишкой еще, – рассказывает Самуэль. – Здесь даже дома еще не было. Я боялся, что слоны затопчут нас во сне. Дом защищает. Секрет в крыше, ты знала? Почему, ты думаешь, дома всегда строят именно так?
На ее взгляд, крыша ничем не отличается от прочих. Только передний фронтон – фасад дома с узором из резных отверстий, словно лицо, – у каждого жилища свой. А еще со всех сторон нависает соломенный карниз, как будто крыша намеревается проглотить жилище. Самуэль показывает пальцем:
– Когда стропила торчат вот так, нет плоской поверхности, на которую слон может навалиться. Или толкнуть.
Он прямо как ДжоДжо, гордо показывающий дом. Самуэль ей нравится.
– В самую первую ночь слон приходил поздороваться со мной, – доверчиво сообщает она тихим голосом.
– Неужели? Дамодаран! – Самуэль с улыбкой качает головой. – Этот парень приходит и уходит когда пожелает. Я уже засыпал, как вдруг почуял, что земля дрожит. Подумал, это точно он. Вышел – вижу, на нем сидит Унни, ворчит, потому что Дамо решил сбежать с лесной делянки, когда уже стемнело. Аах, но Унни особо не на что жаловаться. Когда Дамо здесь, Унни получает выходной и ночует дома с женой. А тамб’ран спит рядом с Дамо. Они разговаривают.
Содержать слона дорого, слыхала она. Нужно не только платить Унни, погонщику, но еще и за прокорм Дамо.
– А Дамодаран принадлежит нам?
– Нам? Разве солнце принадлежит нам? – Самуэль, как учитель, ждет, пока она помотает головой. – Аах аах, вот как и солнце, Дамодаран сам себе хозяин. Я дразню Унни, что на самом деле это Дамо погонщик, хотя он и позволяет Унни сидеть у себя на спине и делать вид, будто правит. Тебе никто не рассказывал про Дамо? Аах, тогда Самуэль расскажет. Давным-давно, когда этого дома еще не было, тамб’ран и мой отец спали на улице и услышали жуткие крики. Трубный рев слона. Земля задрожала! Треск ломающихся деревьев был подобен грому. Мой отец подумал, что настал конец света. А на рассвете они обнаружили рядом молодого Дамодарана, бедняга лежал на боку, весь в крови, одного глаза недоставало, а между ребер у него торчал сломанный бивень. Слон-самец, который напал на него, должно быть, взбесился. Тамб’ран обвязал обломок бивня веревкой и, отойдя подальше, вытащил его. Видела этот бивень? Он висит в комнате тамб’рана. Дамодаран ревел от боли. Из раны пузырями вытекала кровь. Тамб’ран – какой же он храбрец – забрался на Дамо и запечатал рану листьями и глиной. Он лил воду в пасть Дамодарану, глоток за глотком, сидел рядом с ним, разговаривал весь день и всю ночь. Он сказал Дамодарану больше слов, чем говорил кому-нибудь из людей за всю свою жизнь, рассказывал мой отец. И через три дня Дамодаран встал. А через неделю ушел.
А еще через несколько дней тамб’ран и мой отец срубили громадное тиковое дерево и пытались вытащить его на поляну. Из лесу вышел Дамодаран и подтолкнул ствол, взял и сделал. Слоны любят работать. И он так ловко научился управляться с бревнами. Сейчас он работает на тиковой делянке с лесорубами, но только когда у него есть настроение. А когда хочет, возвращается сюда. Он приходил посмотреть на новую жену тамб’рана. Так я думаю.
Под руководством Танкаммы она медленно и постепенно входит в ритм жизни Парамбиля. С каждым прошедшим днем чувствует, как дом, оставленный ею, растворяется в прошлом, и тогда тоска становится еще болезненнее. Она не хочет забывать. После завтрака Танкамма говорит:
– Сегодня я собиралась приготовить халву из джекфрута, а ты мне поможешь, муули. Потому что мы с ДжоДжо по ней жутко соскучились!
ДжоДжо радостно хлопает в ладоши.
– Муули, жизни придают сладость только две вещи: любовь и сахар. Если первого у тебя недостаточно, добавь побольше второго! – Танкамма уже сварила порезанный на кусочки джекфрут и теперь разминает его с растопленным пальмовым сахаром. – Тут есть секрет: пока разминаешь джекфрут, закрой глаза и думай, чего бы тебе хотелось от твоего мужа. – Танкамма старательно зажмуривается, морщась от напряжения и демонстрируя дырку между передними зубами. – Теперь щепотку кардамона, соли, чайную ложку гхи. Готово! А теперь все должно остыть. Попробуй. Правда же, чудесно? – И шепотом продолжает: – Я серьезно, муули. Это ключ к счастливому браку. Загадай желание, а потом накорми мужа халвой. И все, что пожелаешь, сбудется!
Гордость за то, что она сумела войти в ритм местной жизни, что сама сумела приготовить несколько блюд под бдительным присмотром Танкаммы, перечеркивалась знанием, что Танкамма скоро уедет. Когда Танкамма бурно расхваливает ее карри из цыпленка, она лучится от гордости, но в следующий момент уже приникает к Танкамме, зарывшись лицом в пухлое плечо и скрывая слезы. Пожалуйста, останься! Не уезжай! Но она уже слишком сильно полюбила Танкамму, чтобы произнести это вслух. У Танкаммы есть собственный дом, там ее ждет муж. Она бормочет:
– Я никогда не забуду вашу доброту. Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас?
– Аах, когда у тебя появится невестка, обращайся с ней, как с драгоценностью. Вот так и отблагодаришь меня.
За день до своего отъезда Танкамма выходит из кухни и устремляет взгляд на солнце, прямо над головой.
– Муули, отрежь банановый лист и упакуй обед для своего мужа. Пускай попробует твой то́ран[33] из бобов и еще матхи, которые мы пожарили. Положи побольше риса. Он наверняка где-то в поле с Самуэлем, земли свои осматривает. Видишь вон ту высокую пальму? Он где-то там должен быть.
Молодая жена послушно выкладывает еду на банановый лист, заворачивает, крепко перевязывает бечевкой, берет маленький медный кувшин с джи́ра – водой, вскипяченной с зернами кумина, – и отправляется в путь. Ее переполняет тревога перед скорым неминуемым отъездом Танкаммы. Утром она обнаружила, что в Парамбиле нет ни бумаги, ни ручки. Надежды записать хоть несколько рецептов Танкаммы обратились в прах. Что, если она их забудет?
Вдоль тропинки растет высокая трава, доходящая ей до плеч; Танкамма рассказывала, что некогда трава росла здесь так густо, что ни Бог, ни свет не могли проникнуть в заросли, которые кишели скорпионами, кобрами, громадными крысами и ядовитыми многоножками.
– Каким сумасшедшим должен быть индус или христианин, чтобы поселиться здесь? – говорила Танкамма. – Твой муж пришел сюда, после того как наш старший брат обманом выгнал его из родительского дома, заставив поставить отпечаток пальца на клочке бумаги.
Отец Самуэля, пулайан Йоханнан, пришел вместе с ним, считая своим долгом служить законному наследнику; потом Йоханнан забрал сюда жену и сына. Двое мужчин построили хижину.
– Можешь себе представить, как мой брат спит под одной крышей со своими пулайар? Ест вместе с ними? Когда оказываешься в аду, все кастовые барьеры рушатся, верно? Только силы небесные сохранили им жизнь. В первую же неделю тигр утащил их единственную козу. Дни, когда их не трясла лихорадка, по пальцам можно было пересчитать. Но они копали канавы, осушали болота, вырубали кустарники и расчищали землю. Муули, я рассказываю это тебе не только потому, что я горжусь своим младшим братом, но чтобы ты знала, что он не такой, как другие. Йоханнан был ему как отец. И точно так же сын Йоханнана, Самуэль, до конца дней будет рядом с тобой и твоей семьей.
Танкамма рассказала, как брат уговорил искусных индусов-ремесленников, тачана и кузнеца, переехать сюда, предложив им расчищенные участки у реки и заверив, что хижины пулайар будут ниже по течению, чтобы мастера не жаловались на ритуальную нечистоту. Потом сюда переселились гончар, ювелир и каменщик. После того как его дом был готов, муж раздал участки по одному-два акра множеству своих родственников. Если эти родственники возделывали землю и продавали урожай, они могли, если захотят, купить у него еще земли.
– Понимаешь, о чем я, муули? Он раздавал землю! Они могли передать участок своим детям. Он хотел, чтобы это место процветало. И он еще не закончил свой труд. Кто знает, может, в следующий раз, когда я приеду в гости, здесь будет проложена широкая дорога, появятся магазины, школа…
– Церковь? – предполагает она, но на это Танкамма ничего не отвечает.
Муж смотрел вверх, на высокое дерево, голая грудь его усеяна кусочками коры, крепкий веттука́ти[34] свисает с пояса, сзади заткнут топорик. Он удивленно оглядывается на жену. Принимает еду из ее рук.
– Ох уж эта Танкамма! – Улыбка слышна в голосе, но на лице не заметна.
Муж садится, приваливается к стволу дерева, но сначала расстилает свой тхорт, чтобы села жена. Ест он жадно. Она не произносит ни слова. С изумлением понимая, что он смущен не меньше нее.
Закончив, он поднимается и говорит:
– Я провожу тебя.
Она слышит крики и смех. По левую руку от них вдалеке через ручей переброшено бревно, которого она раньше не замечала. На другом берегу на поляне стоит камень для поклажи. Эти нехитрые сооружения торчат, как доисторические памятники, вдоль протоптанных тропинок, позволяя путнику сдвинуть ношу с головы на горизонтальную плоскую плиту и перевести дух. Она видит, как молодой парень толкает и раскачивает поперечную балку, а двое приятелей подначивают его. У всех троих на лбу полоски, нанесенные сандаловой пастой. Тот, что качает камень, крепко сложен, голова его обрита налысо, за исключением пучка волос спереди. Горизонтальная плита падает с опор и грохается о землю, поднимая облако красной пыли. Физиономия вредителя сияет гордостью и восторгом.
Она представляет, как Самуэль возвращается с мельницы с тяжелым мешком рисовой муки на голове, предвкушая, как доберется до камня, где не нужно будет даже наклоняться, чтобы опустить поклажу на плиту. И как ему придется идти дальше без отдыха или опустить мешок на землю и дожидаться, пока кто-нибудь не поможет поднять его и вскинуть обратно на голову. В краю, где почти все грузы переносят таким манером, где дороги постоянно размывает или они слишком изрыты и непроходимы для повозок, где надежны и постоянны только пешеходные тропы, такие площадки для отдыха настоящее благословение.
Парни замечают их и замолкают. На вид они сытые и гладкие, из тех, кому никогда не приходилось носить тяжести, кому не нужны камни для поклажи. Судя по одежде и внешности, они из наи́ров. Большая семья наиров живет у западной границы Парамбиля. Наиры – каста воинов, многие поколения махараджей Траванкора нанимали их для защиты от вражеских набегов. Друг ее отца, наир, даже выглядел соответствующе, щеголяя свирепыми усами, под стать могучей фигуре. Под властью британцев махарадже больше не нужна была защита, и армия наиров ему тоже больше не требовалась. Говинд-наир был очень огорчен. “Как он может называть себя правителем Траванкора? Он же марионетка, которая отдает наши налоги англичанам. Британцы «защищают» его – от чего? Когда враг уже внутри стен?”
Муж приподнимает му́нду[35], открывая колени, решительно шагает к бревну-мосткам, однако переходит ручей очень осторожно. Молодежь хихикает, но тут же унимается, когда этот пожилой самец-слон приближается к ним. У нее все сжимается в животе. К ее изумлению, муж, не обращая внимания на юнцов, наклоняется к упавшему камню.
– Что ж, у тебя хватило сил сбросить его. А хватит сил поставить на место?
– А может, ты сам? – задиристо отвечает парень, хотя голос его подрагивает.
Муж просовывает пальцы под край упавшей балки, поднимает ее сначала до пояса, а потом делает шаг, устанавливая вертикально. Затем, найдя центр тяжести, опускает камень на плечо, тот ложится, слегка покачиваясь. Напряженные бедра его подобны стволам дерева, а мышцы на шее как толстые канаты, когда он укладывает на вертикальные опоры сначала один, а потом и другой конец каменной балки. Он прислоняется к плите, переводя дыхание. И внезапным толчком вновь сбрасывает ее с опор. Камень падает на землю и катится на юнцов, заставляя их испуганно отпрыгнуть. Приподняв бровь, он призывно смотрит на высокого юношу. Твой черед.
Неестественная тишина повисает над поляной, словно вода застыла в воздухе. Наконец муж кричит ей через ручей:
– Они только одеты как мужчины. Мы с отцом этого мальчишки поставили здесь этот камень еще до его рождения. Сейчас в своем преклонном возрасте Куттаппан-наир вынужден будет прибираться за своим придурковатым потомством, но он-то поднимет этот камень, как зубочистку.
Муж поворачивается спиной к парням и удаляется.
Пучок волос падает вперед, когда юнец наклоняется и пытается поднять камень, он морщится, вены на лбу вздуваются, как змеи. Когда ему удается поставить плиту вертикально, мышцы отказывают, и друзья бросаются на помощь, чтобы растяпу не задавило. Камень удается наконец взгромоздить на плечо, но тот дико раскачивается. С трудом парни все же опускают плиту на опоры, но выглядят они уже довольно потрепанно, все в синяках и царапинах, а у высокого кровь течет по плечу. Ее муж ничего этого не видит, он идет к ней, и лицо его искажено гневом, вселяющим в нее ужас. Коротким кивком он выражает благодарность за обед и одновременно необходимость возвращаться к работе. Она стремглав мчится домой.
Увидев ее лицо, Танкамма тут же усаживает ее рядом.
– Этим парням повезло, что он сдержался, – говорит Танкамма, выслушав, что произошло.
Слова не очень успокаивают, и чашка с водой дрожит в руках новобрачной.
– Муули, не тревожься. Он никогда не гневается без причины. И никогда не разозлится на тебя. Он никогда тебя не обидит. – Танкамма приобнимает ее. – Я понимаю, все здесь для тебя внове, все пугает. Когда я вышла замуж, нам с моим мужем было по десять лет. Он был гадким мелким паршивцем. Мы не обращали внимания друг на друга. Мы были просто детьми в большом доме, и нас таких там было много. И все мальчишки были противными. Однажды я увидела, как он сидит на бревне и смотрит на реку. Я подкралась и столкнула его прямо в воду! – Смеялась Танкамма так заразительно, что молодая жена тоже невольно улыбнулась. – Он до сих пор мне припоминает тот день! Да, мы друг друга терпеть не могли. Но видишь, все меняется. Не волнуйся. – Танкамма пристально смотрит на нее и добавляет: – Я хочу сказать, что мой брат, он как кокосовый орех. Твердый он только снаружи. Ты его жена, и он заботится о тебе, как заботится о тебе Танкамма. Понимаешь?
Она старается понимать. Танкамма, которая никогда не лезет за словом в карман, кажется, чувствует себя неловко, сказав так много.
– Тебе не нужно ничего делать. Не волнуйся. Все откроется в свое время.
Глава 5
Домоводство
1900, Парамбиль
После отъезда Танкаммы в доме воцаряется такая тишина, словно он очутился под водой, сквозь которую почти не проникает свет. ДжоДжо, растерянный и печальный, не выпускает мачеху из поля зрения, даже во сне его маленькие пальчики цепляются за ее волосы. В первую их ночь в одиночестве она не сомкнула глаз – не из-за храпа мужа, доносившегося из соседней спальни, но потому что еще никогда в жизни не спала без взрослых рядом. Его храп, пускай издалека, все же успокаивал; временами храп прерывается кашлем, а следом недовольным хриплым ворчанием, словно кто-то толкнул дремлющего тигра. Во сне муж разговаривает, произнося больше слов, чем она слышала от него за все время здесь. Глядя, как муж дурачится с Дамодараном, который исчез так же таинственно, как появился, она понимает, что в нем много детской доверчивости и ребячливости. Но по-прежнему осмеливается заговорить с супругом, только чтобы сообщить, что ужин готов.
Несколько раз за день приходит Самуэль, спросить, не нужно ли ей чего, и бывает огорчен, если ничего не нужно. Она тронута его заботой.
– Самуэль, мне кое-что нужно.
– Оох-аах, все что угодно!
– Бумага, конверт и ручка, чтобы написать матери.
Нетерпеливая улыбка на его лице гаснет.
– Аах. – Он определенно раньше не имел дела ни с чем подобным. Но вновь удивляет ее, когда возвращается с рынка, гордо извлекая из мешка на голове конверты, бумагу и перо.
Моя дорогая Амма́чи[36],
Пускай это письмо застанет тебя в добром здравии. Все это время Танкамма была со мной. Я справляюсь. Я научилась готовить некоторые блюда.
Вскоре после смерти отца мать утратила доступ на кухню; она сетовала, что до свадьбы так и не научила дочь готовить.
Сейчас остались только я и ДжоДжо. Он как моя тень. Без него, наверное, я бы гораздо больше скучала по тебе. Трудно с ним бывает, только когда я хочу его искупать.
В первый раз, когда она попыталась искупать мальчика, ДжоДжо начал драться. Но она все равно полила его водой сверху, и тут он побледнел, веки его задрожали, как крылышки мотылька, а глазные яблоки закатились. Она перепугалась, решив, что малыш сейчас забьется в припадке. И с тех пор больше никогда не лила воду прямо на голову, пользуясь влажной тряпкой, чтобы вымыть ему лицо и волосы. Но все равно это ежедневная битва. Сейчас она понимает, что между людьми Парамбиля и водами Траванкора идет война. Но не станет посвящать в это свою бедную мать. Может, мама уже и так знает?
Как бы мне стать хорошей хозяйкой, госпожой этого дома?
Жаль, что нельзя стереть последнее предложение, ведь ее мать больше не хозяйка и не госпожа дома. Мамины мытарства в общем семейном доме начались вскоре после того, как она овдовела, отношение ее зятьев и невесток сразу изменилось. Теперь мама спит на веранде, ее обижают и обращаются с ней как с прислугой. Меж тем у ее дочери в Парамбиле ни в чем нет нужды; ара ломится от зерна, а в сундуке не переводятся монеты.
Когда молюсь вечером, я говорю себе: “Моя Аммачи тоже сейчас молится”. Так я чувствую, что мы рядом. Я очень сильно скучаю по тебе, но плачу только по ночам, когда ДжоДжо не видит. Жалко, что я не захватила с собой Библию. Здесь ее нет. Я понимаю, что Парамбиль далеко, но прошу тебя, Аммачи, приезжай ко мне. Хоть на несколько дней. Мой муж не любит путешествовать на лодке. Если ты не можешь, тогда я попробую приехать. Мне придется взять с собой ДжоДжо…
Она представляет, как мама читает письмо и слезы оставляют пятна на странице, так же как сейчас и ее собственные слезы. Воображает, как мама складывает письмо и прячет под подушку, а потом хранит в узле вместе с остальными немногочисленными пожитками. А потом в ее фантазиях возникает рука – рука тетки, – которая роется в узле с вещами, пока мама купается. И потому она не спрашивает в письме, лучше ли питается сейчас мама, раз уж одним ртом стало меньше. В глубине души ей хочется, чтобы любопытные глаза прочли эти слова и в сердце своем осознали творящуюся несправедливость. Но маме от этого станет только хуже.
Ответ приходит через три недели – с аччаном, который совершал их брак и который каждые две недели ездит в управление диоцеза[37] в Коттайам; там он отправляет и забирает письма, если они есть. Домой в Парамбиль почту приносит мальчишка. В своем письме мать осыпает ее любовью и поцелуями и говорит, как она гордится, представляя свою дочь в роли хозяйки дома благодаря наставлениям Танкаммы. В конце письма мать непривычно строго отговаривает ее от приезда в гости, никак не объясняя. И не отвечает на страстные призывы дочери навестить Парамбиль. Письмо поселяет в ней еще большую тревогу о матери.
Наставления Танкаммы разлетаются и путаются в голове, как распущенные косы. На нижнем ярусе банановой грозди всегда четное число плодов, а над ним – нечетное. Если кто-то попытается стянуть хоть один банан, Танкамма сразу узнает; чтобы скрыть преступление, придется оторвать по банану из каждого ряда, а это непременно обнаружится. Но, с другой стороны, а кому бы воровать? Будь бдительна – должно быть, в этом урок Танкаммы. Хотя этим утром она рассеянна. Не обращает внимания на настойчивое квохтанье пестрой курицы, на ее назойливые набеги в кухню, шугает ее прочь.
– Она собирается отложить яйцо, Аммачи! – сообщает ДжоДжо.
Неужели ДжоДжо назвал ее “Аммачи”? Мамочка? Грудь раздувается от гордости. Она обнимает мальчика.
– Что бы я без тебя делала, малыш?
Она подхватывает курицу и усаживает ее в мешок в чулане, потом накрывает ее перевернутой корзинкой. Курица возмущенно кудахчет из темноты.
– Прости. Я послушаю, когда ты закончишь, обещаю.
Гости бывают редко. Ей одиноко. Она грезит, как мать медленно идет от причала, неожиданно приехав навестить их; она так часто вызывает в воображении эту сцену, что начинает поглядывать в сторону реки по нескольку раз за день.
Но единственные гости, которых она встречала, это Джорджи и Долли из ближайшего к Парамбилю домишки с южной стороны. Они приходили к Танкамме, но только один раз. Джорджи – сын брата ее мужа, того самого, что лишил родных законного наследства. Их дом стоит на клочке земли в два акра, который ее муж выделил племяннику, потому что отец Джорджи в конце концов умер в нищете, оставив Джорджи и его брату только долги. Кочча́мма[38] Долли ей сразу понравилась. (Поскольку Долли старше по крайней мере лет на пять, она обращается к ней “коччамма”.) Долли – спокойная тихая женщина со светлой кожей и глазами лани; она не слишком разговорчива, а на лице ее выражение поистине ангельского терпения. Джорджи – живой, компанейский, удививший молодую хозяйку Парамбиля тем, что с радостью толчется в уютной кухне вместе с женщинами, чего ее муж никогда не делает. Интересно, почему ее муж благородно спас племянника, но почти не общается с ним. Самуэль говорит, что Джорджи не земледелец, не такой, как тамб’ран, но если брать ее мужа за образец, то с ним никто не сравнится. А может, Джорджи чувствует, что недостоин такого подарка от дяди.
ДжоДжо никогда не выпускает из виду свою “Аммачи”, за исключением времени, когда та идет к ручью мыться или отправляется к реке поплескаться около причала, – она любит это занятие. ДжоДжо нетерпеливо ждет ее возвращения дома. Для самого ДжоДжо “купание” в любой форме остается полем ежедневного сражения. Она любит свой маленький бассейн, где ручей расширяется, образуя озерцо, и вода там настолько спокойна и прозрачна, что видно, как резвятся маленькие рыбешки, хотя там глубоко, она едва достает кончиками пальцев до дна. А на берегу в тени рамбутана, чьи мохнатые красные плоды свисают праздничными украшениями, примостилась покатая плита для стирки.
В Парамбиле невиданный урожай манго. Самуэль-пулайан и его помощники приносят корзину за корзиной, и в прихожей перед кухней образуется целая гора. Даже после того, как раздавали мешками – пулайар, мастерам, родственникам, – все равно остается слишком много. Сладкий мясистый сорт, с оттенками желтого, оранжевого и розового, наполняет кухню фруктовым ароматом. Подбородок ДжоДжо воспалился и покраснел от постоянно капающего на него сока. Она измельчает фрукты, сколько хватает сил, на джемы и сиропы. Из оставшейся мякоти делает те́ра – мармелад из манго. Сначала варит мякоть с сахаром и поджаренной рисовой мукой. Потом раскладывает массу по плетеной циновке, длиной и шириной с целую дверь, и выставляет на солнце. Обязанность ДжоДжо – отгонять птиц и насекомых. Когда мякоть подсыхает, она добавляет еще слой, и еще, дожидаясь, пока высохнет предыдущий, пока пласт не станет толщиной в дюйм и можно разре́зать его на тонкие полоски и свернуть. Она с трепетом наблюдала, как муж брал с собой рулончик тера после завтрака и обеда, чтобы пожевать во время работы.
Чтобы позабавить ДжоДжо, она разрезает незрелый манго, раскрывая его, как цветок лотоса, – прием, которому ее научила мать, – и посыпает его солью и порошком чили. ДжоДжо подъедает кисло-острое лакомство, а потом прыгает вокруг, шумно втягивая воздух через поджатые губы, рот его горит, но он просит еще.
Ара – центральное помещение без окон в старой части дома, сооруженное как крепость. Дверь, вырезанная из цельного куска дерева, в три раза толще обычных дверей и заперта на громадный замок, ключ от которого хранится у нее. Порог такой высокий (чтобы не высыпался хранящийся там рис), что ей приходится перелезать через него, хотя муж просто перешагивает. Внутри ноги тонут в зерне, доходящем до колен. Она отпирает ара по меньшей мере раз в неделю – достать деньги из сундука – и чуть реже, чтобы взять немного риса или, наоборот, положить его туда. Из смежной нежилой спальни маленькая лесенка ведет в темный, затхлый погреб, где в высоких фарфоровых горшках она хранит свои заготовки. Сквозь вентиляционную решетку, вырезанную в дереве, пробиваются еле заметные лучики света. В каждом доме есть свои призраки, комнатные и дворовые, и с теми, что живут в Парамбиле, она все еще не знакома. С тем, кто поселился в погребе, она решается заговорить, потому что у нее есть причины подозревать, что он жуткий сладкоежка. Она чует, что призрак прячется в углу, за паутиной, – нежный, печальный и, кажется, напуганный дух; он больше опасается ее, чем она его. “Бери все что захочешь. Я не против, только потом плотно закрывай крышку”, – говорит она, храбро стоя прямо перед ним. Она собиралась добавить: “Пожалуйста, не надо меня пугать”, но тут донесся требовательный голосок ДжоДжо:
– Аммачи? Ты где? Когда играешь в прятки, ты должна прятаться так, чтобы я тебя видел, иначе нечестно!
Она невольно хихикает. Внезапное движение воздуха в спертой духоте погреба говорит ей, что призрак тоже смеется. И только выбравшись наверх, она задумывается, а не может ли этот дух быть духом покойной матери ДжоДжо.
Когда приходит муссон и разверзаются небеса, ее охватывает безудержный восторг. В отцовском доме они с двоюродной сестрой умащали маслом волосы и выскакивали под ливень, прихватив мыло и кокосовые скребки, наслаждаясь божественным водопадом. Они ждали муссона, как ждут Рождества; это время очищения души и тела. Вода смывает пыль и засохшие хитиновые чешуйки насекомых, налипшие на стебли, оставляя сияющие чистотой листья. Без муссона эта земля, чье знамя – зелень и чья монета – вода, прекратила бы существование. Когда люди ворчат про наводнения, про обострения подагры и ревматизма, они делают это с улыбкой.
Дождь никогда никого не останавливает. Ее зонтик превращается в нимб, сопровождающий ее повсюду вне дома, а босые ноги радостно чавкают по лужам. Самуэль мастерит шляпу из пальмовой коры, защищая голову от воды. Но мужа дождь почему-то удерживает в заточении дома, и это ставит ее в тупик. Ей не хватает смелости разузнать, в чем тут дело. Она постепенно привыкает, что он часами, а порой и весь день напролет сидит на веранде, словно притихший наказанный ребенок, сердито глядя на тучи, словно может убедить их сменить курс. Компанию ему составляет ДжоДжо, потому что ДжоДжо ведет себя точно так же. Однажды внезапный дождевой шквал застал мужа врасплох, когда он без зонтика подходил к дому; при первых каплях он зашатался, ноги его подкосились, и он еле доковылял до укрытия, словно с неба падали камни, а не вода. А еще как-то вечером она видит, как он сидит возле колодца, намыливает поочередно маленькие участки тела и смывает пену. Он не замечает ее, она хочет убежать, но вид его тела завораживает. Она в смятении, так много чувств одновременно: неловкость, что подглядывает за ним; с трудом сдерживаемое веселье; смущение, как будто это она голая, и восхищение видом мужа, полностью обнаженного. Никогда еще он не казался таким могучим и грозным, пускай и выглядит в этом частичном купании совсем по-детски. В его скупом омовении есть и привычная непринужденность, и даже изящество, но вот чего точно нет в его движениях, так это удовольствия.
Каждое утро, когда она раздувает угли в очаге, кухня приветствует ее, как сестру, от которой нет секретов, и она счастлива. Она пришла к выводу, что причиной тому благожелательное присутствие матери ДжоДжо. Погреб, наверное, и любимое убежище духа, и место, где невидимое подступает так близко, что может обретать физические формы, но дух прилетает и сюда, влекомый потрескиванием дров в очаге или голосом ее ребенка, болтающего с новой Аммачи. Иначе с чего бы блюда, которые готовит молодая жена, становились вкуснее, чем она смела рассчитывать, ведь все рецепты Танкаммы спутались и превратились в кашу в ее голове? Не в одних же старых глиняных горшках дело. Нет, это ей награда за то, что с любовью заботится о ДжоДжо. Она чувствует себя единым целым с этим домом и чувствует, что все делает правильно.
Глава 6
Супруги
1903, Парамбиль
За три года, что прошли с ее приезда, она превратила крытый переход перед кухней в свое личное пространство, у нее здесь стоит веревочная койка, где они с ДжоДжо спят после обеда и где она учит грамоте пятилетнего малыша. Ей удобно отсюда присматривать и за горшками на огне, и за рисом, который сушится на циновках в муттаме. Пока ДжоДжо спит, она сидит рядом на кровати, перечитывая единственное в доме печатное произведение – старый номер “Манорамы”. Она не может заставить себя выбросить газету. Тогда вообще ничего не останется, ни единого слова, на котором можно отдохнуть глазу. Ей надоело бранить себя, что не захватила в Парамбиль Библию, и она обратила раздражение на мать ДжоДжо. Для христианского дома просто немыслимо не иметь Слова Божьего.
ДжоДжо начинает ворочаться, как раз когда она замечает Самуэля, возвращающегося с рынка с покупками, с большим мешком на голове. Он опускается на корточки рядом с ней, опустошает мешок и аккуратно складывает его.
Самуэль вытирает лицо тхортом, взгляд его падает на газету.
– Что пишут? – интересуется он, собирая тхорт в складки и расправляя на плече.
– Ты что думаешь, с тех пор как я читала ее тебе в прошлый раз, Самуэль, в газету просочились какие-то новости?
– Аах, аах, – вздыхает он. Седеющие брови нависают над глазами, которые совсем как у ребенка, не могут скрыть разочарования.
На следующей неделе, когда Самуэль возвращается из магазина и вынимает покупки, он, в своей обычной манере, перечисляет:
– Спички. Второе – кокосовое масло. Третье – горькая тыква. Чеснок, четвертое. “Малаяла Манорама”. – И кладет газету, как будто это очередной овощ. И не скрывает удовольствия, когда она хватает газету и, ликуя, прижимает к груди. – Будет каждую неделю, – сообщает он, гордясь, что сумел порадовать хозяйку.
Она знает, что только муж мог отдать такое распоряжение.
Позже тем же утром она замечает мужа неподалеку от дома, но в десяти футах над землей; он сидит в развилке пла́ву, хлебного дерева, прижавшись спиной к стволу, с зубочисткой в углу рта, ноги его вытянуты вдоль ветки. Ей хочется взмахнуть газетой, показать мужу, как она благодарна. Она до сих пор удивляется, что он предпочитает эти высокие насесты, вместо того чтобы точно так же вытянуть ноги в своем длинном чару касера – его персональное кресло поражало размерами, потому что было сделано по его мерке, но оно все равно стояло на веранде незанятым. Она внимательно разглядывает мужа снизу, в профиль он красивый, решает она. Пулайан, которого ей не видно, снизу говорит что-то, заставляющее мужа вынуть зубочистку и улыбнуться, демонстрируя ровные крепкие зубы. Тебе нужно улыбаться почаще, думает она. Муж зевает, потягивается, устраивается поудобнее, и в животе у нее холодеет. Падение даже с такой высоты стало бы сокрушительным. Всякий раз, замечая его высоко на каком-нибудь дереве, где он кажется всего лишь странной шишкой на гладком стволе, она не может спокойно смотреть. Самуэль говорит, что с такой выгодной позиции он изучает свою землю, планирует, в каком направлении прокладывать каналы, где распахивать новые поля.
Вечерами, подав ужин мужу, она читает ему вслух “Манораму”, пока он ест. Сам он никогда не берет газету в руки. Газета скрашивает ее дни, но не избавляет от глубочайшего одиночества, в котором ей совестно признаться. Танкамма, которая обещала вернуться, пишет, что ее муж заболел и прикован к постели, так что ей пришлось отложить поездку на неопределенное время. А что касается мамы, миновали уже три муссона, а они с ней так и не виделись! Мама не велит ей приезжать. Даже если бы она и хотела, молодая женщина не должна путешествовать одна. ДжоДжо, который висит на ней, как браслет, даже близко не подойдет к причалу, не говоря уж о том, чтобы залезть в лодку. И, как она подозревает, ее муж тоже.
Закончив обычные вечерние молитвы, она беседует с Господом. “Я так рада, что есть газета. Муж заботится о моих потребностях, это видно. Может, мне следует упомянуть и о других нуждах? Нет, я не жалуюсь, но если это христианский дом, почему мы не ходим в церковь? Я знаю, Ты это уже слышал раньше. Если бы мама могла приехать, я бы Тебя не беспокоила. Такие вещи я могла бы обсудить с ней”.
Возможно, в ответ на ее неустанные молитвы, после долгих месяцев молчания наконец приходит письмо от матери. Самуэль по пути на мельницу заходит в церковь и на этот раз возвращается, взволнованно держа письмо обеими руками, потому что знает, какая это ценность; его восторг почти сравним с ее радостью.
Моя дорогая доченька, сокровище мое, как же мне согревают сердце твои письма. Ты не представляешь, сколько раз я целую их. Твоя сестра Биджи выходит замуж. Я каждый день хожу в церковь. Навещаю могилу твоего отца и молюсь о тебе. Лучшие воспоминания моей жизни связаны с ним и с тобой. Я хочу сказать, пожалуйста, дорожи каждым днем, проведенным в браке. Быть женой, заботиться о муже, растить детей – что может быть ценнее этого? Вспоминай меня в своих молитвах.
В последующие дни она то и дело достает мамино письмо, всякий раз целуя его, как святыню. И сколько бы раз она его ни перечитывала, тревога не становится меньше. Она не желает смиряться с правилами этой жизни: выходя замуж, женщина навеки оставляет дом своего детства, а судьба вдовы – навеки оставаться в доме, куда она вышла замуж.
Календарь на стене – вкладыш из газеты – похож на математическую таблицу и астрономическую карту. Каждый день он показывает фазы луны, время, неблагоприятное для начала путешествия. А сейчас календарь сообщает, что начинается пост, пятидесятидневный период воздержания, ведущий к Страстной пятнице. Она откажется от мяса, рыбы, молока, а в первый день вообще не съест ни крошки пищи.
Когда вечером муж садится ужинать, она кладет на стол свежий банановый лист и ставит воду с кумином – джира. Он разглаживает лист. Она готовится произнести слова, которые репетировала. Но едва открывает рот, чтобы заговорить, муж ударом кулака раздавливает стебель листа, расправляя – Трах! Трах! – и пугая ее. Он выплескивает чай-джира на зеленую сверкающую поверхность, смахивает остатки в сторону муттама. Момент упущен. Она тихо подает рис, чатни, йогурт… потом подходит с мясом – проверить, откажется ли он в первый день поста. Но нет, он жадно ест. С чего она решила, что в этом году будет иначе, чем все предыдущие годы?
В дни, которые следуют за первым, ни мясо, ни рыба не касаются ее уст; она тоскует по обществу домочадцев, которые постятся вместе, но одиночество только укрепляет ее решимость.
– Тебе нужно больше есть, – говорит Самуэль примерно в середине поста. – Ты слишком исхудала. – Самуэлю не пристало так говорить, это дерзость с его стороны. – Это тамб’ран говорит. Он беспокоится.
Молодая жена чувствует себя, как люди, объявившие голодовку, про которых написано в газете, как они устроились лагерем около здания Правительства – умалиться, дабы стать заметными.
– Если тамб’ран так думает, он мог и сам мне сказать.
Тем вечером она откладывает молитвы и возится с разными другими делами. В конце концов, уже готовясь засыпать, она покрывает голову и становится лицом к распятию на восточной стене спальни, поскольку, согласно традиции, Мессия придет в Иерусалим с востока. Ни молитвы, ни слова благодарности не рождаются в сердце. Неужели Господь не чувствует ее разочарования? Наконец она произносит: “Господи, я не буду больше просить. Ты видишь препятствия на моем пути. Если Ты хочешь, чтобы я осталась в церкви, Ты должен помочь. Вот все, что я могу сказать. Аминь”.
Танкамма говорила, что если хочешь получить что-то от мужа, секрет прост – надо загадать желание, пока готовишь халву. Но путь открывает не халва, а ее эре́ки олартхия́рту[39]. Она начинает готовить блюдо утром: обжаривает и потом растирает в ступке кориандр, семена фенхеля, перец, гвоздику, кардамон, корицу и звездочки аниса и втирает эту сухую смесь в кусочки баранины, чтобы замариновать. Днем она обжаривает лук со свежим натертым кокосом, зернами горчицы, имбирем, чесноком, зеленым чили, куркумой и листьями карри, добавляет еще немножко сухих специй, а потом мясо. Она гасит огонь, чтобы только угли тлели, не закрывает горшок, чтобы соус загустел и каждый кусочек мяса обволокло плотной темной подливкой. Вечером, отправив ДжоДжо сказать отцу, что “чо́ру вила́мби” – рис готов, она завершает приготовление блюда, еще раз обжарив мясо в кокосовом масле со свежими листьями карри и кубиками кокосовой мякоти. Она подает его обжигающе горячим, шипящим, масло еще брызжет с зарумяненной мясной корочки. Она еще выкладывает еду на банановый лист, а муж уже сует кусок в рот. Не может удержаться.
Она тихо стоит в сторонке, пока он ест, но ближе, чем обычно. За последние несколько вечеров она уже прочла ему всю газету, и теперь нужно дождаться нового номера. Господь внезапно дарует ей силы заговорить.
– Мясо вкусное? – спрашивает она. И сама знает, что блюдо получилось как никогда.
Слова льются изо рта, как вода из длинного носика ки́нди[40], и она видит, как они наполняют чаши его ушей. Как будто смотрит со стороны, как будто кто-то другой говорит, а не она.
И когда она уже решила, что муж раздражен ее дерзостью, большая голова вдруг качнулась из стороны в сторону в знак одобрения. От радости, волной поднявшейся внутри, хочется хлопать в ладоши и танцевать. В кои-то веки он остается сидеть, закончив трапезу, не вскакивает мыть руки под струей из кинди.
Интересно, он слышит, как колотится ее сердце?
ДжоДжо, подглядывающий за ними из-за столба, потрясен тем, что она разговаривает с его отцом.
– Аммачи, – громко шепчет он. – Не рассказывай ему! Обещаю, я завтра помоюсь.
Она быстро прижимает ладонь ко рту, но не успевает сдержать смешок.
Следует жуткая пауза, а потом как будто раздается непонятный взрыв – муж хохочет, оглушительно громко и весело. ДжоДжо озадаченно выбирается из укрытия. Когда малыш понимает, что смеются над ним, он подбегает, шлепает ее по бедру, сердито плачет и убегает, прежде чем она успевает его схватить. Это лишь еще больше веселит мужа, и он, гогоча, откидывается на спинку кресла. Смех преображает его, открывая прежде невидимые ей стороны.
Он вытирает ладонью глаза, все еще улыбаясь.
Слова потоком льются из нее. Она рассказывает, что когда сегодня ДжоДжо пришло время мыться, она обыскалась его везде и нашла в итоге на хлебном дереве, малыш застрял там, на этой плаву. Муж все еще сияет улыбкой. Она продолжает: ДжоДжо учит буквы и цифры, но только если подкупить его лакомством – манго с порошком чили. А сама она предпочитает бананы того сорта, который сегодня принес Самуэль… Она слышит свой щебет со стороны и умолкает. Тишину заполняет стрекот сверчков, а потом к хору присоединяется и лягушка-бык.
А потом муж задает вопрос, который должен был прозвучать давным-давно: Су́гхама́но? Тебе здесь хорошо? И смотрит на нее в упор. Впервые с тех пор, как стоял перед ней в церкви почти три года назад, он рассматривает ее так пристально.
Она старается выдержать взгляд, в его глазах все та же могучая сила, что и тогда у церковного алтаря. Она припоминает строку из свадебной службы: Муж есть глава жены, как и Христос глава церкви[41].
И вдруг понимает, почему со дня их свадьбы он держался на расстоянии, мало говорил, но издалека заботился о ней, о том, чтобы она получала все, что захочет, чтобы ей было удобно и спокойно; это вовсе не равнодушие, а ровно наоборот. Он понимает, что она может бояться его.
Она опускает взгляд. Способность говорить улетучивается. Но ей задали вопрос. Он ждет.
Ноги слабеют. Ей отчего-то хочется броситься к нему, погладить пальцами эти узловатые руки. Это жажда любви, близости, человеческого прикосновения. Дома ее постоянно обнимали и целовали, тело матери согревало ее по ночам. Здесь, если бы не ДжоДжо, она бы совсем зачахла.
Она слышит, как скрипнуло кресло, муж отчаялся услышать ответ. И тихо произносит:
– Я скучаю по маме.
Он приподнимает бровь, как будто не уверен, не почудились ли ему эти слова.
– И было бы неплохо ходить в церковь, – неестественно громко добавляет она.
Он, кажется, обдумывает эту мысль. Потом омывает руки из кинди, выходит в муттам и удаляется. Сердце ее сжимается. Какая глупость, глупость просить так много!
Позже вечером, когда ДжоДжо засыпает, она возвращается в кухню прибраться и прикрыть угли кокосовой скорлупой, чтобы до утра они не погасли окончательно. Потом с тяжелым сердцем идет к себе в комнату, где они спят вместе с ДжоДжо.
И, оторопев, видит на полу открытый металлический сундук. Стопка аккуратно сложенной белой одежды, должно быть, принадлежала матери ДжоДжо. С собой в Парамбиль она привезла только свадебные чатта и мунду и еще три комплекта одежды, все ослепительно белые, традиционный наряд христианок Святого Фомы. Цветастые полусари и юбки остались в детстве. Ее старые чатта стали тесны в плечах и слегка подчеркивают набухающую грудь, тогда как бесформенная одежда должна намекать, что там вообще ничего нет. И потому она уже привыкла носить мешковатые и потрепанные чатта и мунду, забытые Танкаммой. Но чатта из сундука, которые, наверное, остались от матери ДжоДжо, сидели идеально. Она разглядывает себя в зеркале. Ее тело меняется, она стала выше ростом и прибавила в весе. Больше года назад у нее начались кровотечения. Она перепугалась, хотя мать и предупреждала, что такое случится. Она заварила себе имбирный чай от спазмов и смастерила специальные менструальные подкладки, припоминая, как видела такие дома, сохнущие на бельевых веревках. Когда она развешивала сушиться свои выстиранные тряпки, то прикрыла их полотенцами и простынями. Четыре дня она чувствовала себя неважно, стала совсем рассеянной, но старалась держать себя в руках. Ей некому было пожаловаться и не с кем отпраздновать, если уж на то пошло. Даже сейчас эти четыре-пять дней остаются большим испытанием.
На самом дне сундука она находит Библию. Все это время у тебя была Библия – и ты мне не говорил? Она слишком взволнована находкой, чтобы долго сердиться, но решает упомянуть о ней в следующий раз, когда соберется в погреб.
Когда наступает воскресенье, она с удивлением обнаруживает мужа в белой джуба и мунду – его свадебном наряде. Она так привыкла видеть его с обнаженной грудью и в подоткнутом мунду, с тхортом, перекинутым через левое плечо, – неотличимым от пулайар, которые на него работают. Среди работников муж выделялся только ростом и статью – верный признак, что он вырос в доме, где еды было в достатке. Он обращается к Самуэлю:
– Попроси Сару побыть с ДжоДжо, пока мы не вернемся из церкви.
Она мчится одеваться:
– Господь, как только окажусь в Твоем доме, поблагодарю Тебя как следует.
Они отправляются в путь по суше, в направлении, противоположном причалу. Вцепившись в Библию, она торопливо семенит за ним, делая два своих шага на каждый его. Она исполнена ликования и почти летит, едва касаясь ногами земли. Вскоре они добираются до ручья, через который переброшено бревно, скользкое от мха.
– Иди вперед, – велит муж, и она стремглав проносится над водой.
Он осторожно перебирается следом, крепко стиснув зубы. На другом берегу он задерживается, кладет ладонь на камень для поклажи, словно собираясь с духом, прежде чем идти дальше. Пешком они добираются до церкви гораздо дольше, чем плыли бы на лодке, в конце пути переходят реку по мосту, достаточно широкому для повозок.
Вид людей, стекающихся к церкви, вызывает восторженный трепет, хотя она никого здесь не знает.
– Я подожду там, – машет он рукой в сторону раскидистого пи́ипал[42], воздушные корни которого гигантскими усами нависают над церковным кладбищем. Сгорая от нетерпения, она спешит в церковь, натянув кавани на голову. Она и забыла, каково это, когда на службе столько народу, когда совсем рядом чувствуешь других людей; каково это – быть частью ткани, а не ниточкой, выдернутой из целого.
Мужчины слева, женщины справа, их разделяет воображаемая линия. Она наслаждается знакомыми фразами евхаристии. Когда аччан воздевает возду́х над Дарами, она ощущает присутствие Господа, чувствует, как Дух Святой нисходит на нее, волна за волной, как приподнимает ее над землей. Слезы радости застилают глаза. “Я здесь, Господи! Я здесь!” – безмолвно кричит она.
По окончании службы выходя из храма, она замечает, как из ворот кладбища появляется муж, очень задумчивый. От пристани и с парома доносятся радостные голоса и смех. Обратно они идут в молчании.
– Пять лет, как она умерла… – вдруг говорит муж, по голосу ясно, как трудно ему сдерживаться.
Мать ДжоДжо. Она испытывает странное чувство, слыша, с какой нежностью он говорит о бывшей жене. Неужели завидует? Или надеется, что когда-нибудь он будет говорить и о ней с такой же страстностью? Она молчит, боясь, что любое сказанное ею слово прервет поток его речи.
– Как простить Бога? – говорит он. – Который отобрал мать у ребенка?
Паузы между фразами кажутся широкими, как река. Они добираются до бревна через ручей, и на этот раз он идет первым. Ждет на другом берегу, разглядывая свою юную супругу в одеждах жены бывшей, словно увидел ее в первый раз.
– Жаль, что она не видит нас, – говорит он, не двигаясь с места. – Я бы хотел, чтобы она знала, как ты заботишься о ДжоДжо. Как сильна его любовь к тебе. Она была бы счастлива. Я хотел бы, чтобы она это увидела.
От похвалы у нее кружится голова, она крепче сжимает в руках Библию, принадлежавшую женщине, к которой он только что взывал. Она подходит вплотную к мужу, запрокидывает голову, чтобы взглянуть ему в лицо, пускай даже рискуя шлепнуться на спину.
– Я знаю, что она видит нас, – с горячей убежденностью заявляет она. Она могла бы доказать, но ему не нужны объяснения, только правда. – Она все время наблюдает за нами. Она удерживает мою руку, когда я хочу добавить еще немного соли. Напоминает мне, когда рис выкипает.
Он удивленно приподнимает бровь, лицо смягчается.
– ДжоДжо совсем не помнит свою маму, – вздыхает он.
– Верно, – соглашается она. – С ее благословения сейчас я его мать. И не надо ему вспоминать и печалиться.
Они стоят неподвижно. Он пристально смотрит на нее сверху вниз. Она не отстраняется. И видит, как что-то поддается в нем, как будто распахнулась дверь в запертую ара, в крепость его тела. Тень улыбки словно отмечает конец долгих мучений. И, продолжая путь, он теперь соразмеряет шаг, муж и жена идут дальше в ногу.
В следующее воскресенье муж предлагает ей в одиночку плыть в церковь на лодке – поскольку он не пойдет на службу, ей нет нужды проделывать такой долгий путь пешком. Он провожает ее до причала, где уже собрались несколько женщин и семейных пар. Лодочник отталкивается шестом от берега, она оглядывается и видит мужа, стоящего в рощице ореховых деревьев, их узкие светлые стволы составляют контраст с его широким темным телом. Он врос в землю прочнее дерева. Даже Дамодаран не сможет выдернуть его.
Глаза их встречаются. И, пока лодка отплывает, она успевает понять его чувства – печаль и зависть. Ей больно за него, человека, который не путешествует по воде, который, возможно, никогда не видел, как гладкая поверхность расступается перед носом судна, никогда не ощущал восторга от того, что тебя несет течением, или от брызг шеста лодочника, расчищающего воду. Он никогда не узнает, как плотно обнимает вода, когда ныряешь в реку вниз головой, и как бурлящий шум сменяется окутывающей все тишиной. Все воды связаны между собой, и потому ее мир безграничен. А он стоит на границе своего мира.
В ее шестнадцатый день рождения поутру возле кухни возникает какая-то суматоха, она слышит взволнованные детские голоса. Утки, сгрудившиеся у задней лестницы, крякают и хлопают крыльями, норовя взлететь все разом. Она догадывается, кто это, даже прежде, чем слышит звяканье тяжелой цепи, и прежде, чем оборачивается и видит древнее око, заглядывающее в кухонное окошко. Она хохочет.
– Дамо! Откуда ты узнал?
Совсем новое ощущение – смотреть в этот глаз, не отвлекаясь на огромное тело. Какие восхитительные спутанные ресницы, изящная, тончайшая радужная оболочка цвета корицы. Она вдруг заглядывает в самую душу Дамо… а он в ее. Она чувствует его любовь, его участие – то же, когда он приветствовал ее в самую первую ночь в роли юной жены.
– Погоди минутку. У меня есть для тебя угощение.
Слон застал ее в тонкий момент приготовления меен вевичатху. Она опускает филе макрели в жгучий красный соус, тихо бурлящий в глиняном горшке. Огненно-красный цвет соуса – от молотого чили, а вязкая консистенция – от томленого шалота, имбиря и специй. Но ключ к уникальному вкусу – это ко́кум, малабарский тамаринд. Соус нужно все время пробовать, выправляя остроту солью, добавляя настой кокума, если карри недостаточно кислое, и вынимая кусочки кокума, если кислит чересчур.
Нетерпеливый гигант топает огромными ногами, стряхивая пыль со стропил.
– Прекрати! Если карри не удастся, я расскажу тамб’рану, кто виноват.
Она выходит из кухни с ведерком вареного риса, наскоро смешанного с гхи. Ухмылка Дамо напоминает ей ДжоДжо, когда тот нашкодит. Цезарь, бродячий пес, игриво приплясывает рядом, но благоразумно держится подальше от ножищ гиганта. Дамодаран подцепляет ведро за дужку, вынимает из ее рук и опрокидывает содержимое себе в пасть, словно это наперсток. Облизывает языком края, ставит на землю и проверяет хоботом, не осталось ли чего на дне.
Унни, восседающий на шее Дамо, сцепив босые ноги за громадными ушами, похож на кошку, взобравшуюся на дерево. Издалека не различить хмурое выражение на смуглом рябом лице погонщика, но густые брови сведены к середине.
– Погляди-ка! – Унни показывает на мусор в муттаме. – Я пытался загнать его на место, около дерева, но нет, ему сначала надо было заглянуть в кухню.
Она кладет ладонь на хобот Дамо.
– Он пришел ко мне на день рождения. Никто здесь не знает, а он откуда-то прознал. Благослови тебя за это Господь, мой Дамо. – И внезапно ей становится стыдно – со своим мужем она никогда не разговаривала с такой любовью.
Дамо торжествующе сворачивает хобот кольцом.
Закончив с делами в кухне, она идет к Дамо на его место около старой пальмы. Унни привязал заднюю ногу слона цепью к пню, но это скорее напоминание, чем ограничение. Дамо может оторвать цепь с такой же легкостью, как ребенок ломает прутик, и частенько так и делает. И, как обычно, вся детвора Парамбиля слетелась сюда, как только прошел слух, что Дамо дома. На малышах только блестящие аранджа́нам[43] на талии, они ничуть не стесняются своей наготы, хотя опасаются Дамо, прячась за спинами ребятишек постарше. ДжоДжо стоит, обняв за плечи сына кузнеца, которому тоже шесть лет, но ДжоДжо на голову выше. Она держится поодаль, наблюдая с равным интересом и за детьми, и за слоном.
Дамо окунает хобот в ведро с водой и обрызгивает зрителей. Малышня разбегается, радостно визжа. Потом они вновь собираются поближе, и слон повторяет игру.
Дамо очень привередливый. В отличие от коровы или козы, он не станет есть, если вокруг разбросаны его какашки. Если Унни желает, чтобы слон оставался на одном месте, он должен вооружиться лопатой и сразу отбрасывать подальше все, что вываливается из задницы Дамодарана. Это бесконечная работа для Унни и бесконечное развлечение для юных зрителей.
– А это что? – спрашивает дочка кузнеца, показывая на толстый изогнутый шланг, свисающий из живота Дамо, закругленный конец его мшисто-зеленого цвета. Девочке семь лет от роду. – Это его второй хобот?
– Нет, дурочка, – усмехается ее брат важно и многозначительно, хотя и младше на целый год. – Это его Маленький Дружок.
Мальчишки смеются. Карапузы, ничего не понимающие, хохочут громче всех.
– Ха! – заносчиво бросает дочка кузнеца. – Не такой уж он и маленький, между прочим. По мне, так его хобот гораздо больше похож на Маленького Дружка, чем эта смешная штука.
Возникает пауза, пока ребятня обдумывает сложный вопрос. Братец поворачивается рассмотреть двухлетнего внука ювелира, смущенного кривоногого пузатого карапуза, не вынимающего пальца из носа, теперь все дружно изучают необрезанный пухлый пенис мальчонки, заканчивающийся сморщенными складками кожи, потом сравнивают с хоботом Дамодарана.
– Похоже на то, – изрекает сынишка кузнеца.
Покачивающийся хобот Дамо живет, кажется, сам по себе, независимо от своего хозяина, движения его определенно человеческие. Пока передняя нога прижимает ветку кокосовой пальмы, кончиком хобота Дамо одним изящным движением обдирает листья. Он шмякает пучком листьев о ствол дерева, стряхивая с них насекомых, а потом аккуратно кладет на губу. Пока слон жует, хобот опять повисает вниз, но затем, как беспокойный шаловливый школьник, сдергивает полотенце с плеча Унни и машет им, как флагом, прежде чем Унни вырывает полотенце обратно.
– Если бы мой Маленький Дружок мог вытворять такие штуки, как его хобот, – слышит она, как бормочет маленький кузнец, – я бы запросто дотянулся и нарвал манго или даже кокосов.
Она видит, как ДжоДжо внимательно прислушивается, украдкой щупая себя между ног. И поскорее убегает, прижимая ладонь ко рту, а когда детвора уже не может расслышать, разражается безудержным хохотом.
Тем вечером она подает мужу меен вевичатху. Попробовав, он одобрительно кивает. Скоро будет уже пять лет, но она по-прежнему переживает за свою стряпню.
– Когда я готовила, пришел Дамо и подглядывал в окно кухни.
Муж смеется, качая головой.
– У тебя есть рис с гхи, я угощу его вечером? – Лицо у него, как у ДжоДжо, когда тот выпрашивает еще немножко манго.
– Но он уже съел целое ведро, – говорит она.
– О, вот как? Ну что ж, тогда…
– Но у меня есть еще.
Муж доволен.
– Дамо раньше никогда не приходил в кухню. Это значит, ты ему нравишься, – говорит он, лукаво поглядывая на нее.
Она откладывает газету и идет в кухню приготовить еще риса с гхи.
Да, я знаю, что Дамо меня любит. Он пришел поздравить меня с днем рождения. Я знаю, о чем он думает. А вот что у тебя на уме, мне никогда не понять.
Она возвращается с рисом для Дамо, но муж не обращает внимания на ведерко. Движением брови предлагает ей сесть и кладет на стол перед ней маленький, завязанный шнурком тряпичный мешочек. Она вынимает оттуда две крупные тяжелые золотые серьги, затейливо украшенные снаружи, но полые внутри, иначе под их весом разорвались бы уши. Филигранная гайка скрывает штифт и винт. Она не верит своим глазам. Неужели ей и вправду принадлежат теперь эти куну́кку?[44] Так вот почему ювелир сновал туда-сюда весь последний месяц. Всю жизнь она восторгалась кунукку. Их продевают не сквозь мягкую часть уха, а через изгибающийся ободок наверху, где он истончается, подобно губе морской раковины. Нужно проколоть хрящ, а потом расширить отверстие, вставляя в него листья пальмы арека, пока оно не станет достаточно большим, чтобы поместился толстый стержень. Многие женщины носят только сам стержень, а по особым случаям, когда присоединяют кольца, те торчат над ушами, как сложенные ладони.
В отличие от большинства невест, которые приносят драгоценности в качестве приданого, у нее были лишь обручальное кольцо, тонкое золотое минну, которое он надел ей на шею во время церемонии, да еще пара золотых гвоздиков, ее собственных, которые ей подарили в детстве, когда впервые прокололи уши в пять лет.
Она поверить не может, что муж помнил про ее день рождения, ведь никогда раньше он никак не давал этого понять. И теперь нет слов уже у нее. Муж не заглядывает в газету, но он земледелец и потому внимательно следит за датами и временами года. Слышно, как вдалеке пучки листьев шмякаются о ствол дерева – звуки трапезы Дамо. Не впервые она задумывается, а не в сговоре ли эти два гиганта.
Когда она собирается с духом и решается посмотреть ему в глаза, муж улыбается. Не говоря ни слова, он выходит, прихватив ведро с рисом; он будет спать на койке рядом с Дамо, пока Унни навещает дома свою жену.
Когда Дамо в Парамбиле, земля дрожит под его ногами. Звук кормежки – треск веток, шуршание листьев – успокаивает ее. Но спустя несколько дней Дамодаран возвращается на лесную делянку – как и тамб’ран, он лучше себя чувствует, когда работает. Без него тишина в Парамбиле кажется всеобъемлющей.
Той ночью она уже засыпает, как вдруг появляется муж. Она подскакивает, встревоженная, недоумевая, что случилось. Его фигура заполняет дверной проем, заслоняя свет. Но лицо спокойное, ободряющее. Все хорошо. В одной руке он держит крошечную масляную лампу, а другую протягивает к ней.
Она осторожно высвобождается от спящего ДжоДжо, берется за протянутую руку, и муж без малейшего усилия поднимает ее на ноги. Ее пальцы остаются в уютной нежности его ладони, когда они вместе выходят из комнаты. Новое ощущение – держаться за руки, ни один не отпускает руки другого. Но куда они идут? Сворачивают в его комнату.
Внезапно стук сердца становится таким громким, что она уверена: эхо, разносящееся под крышей, разбудит ДжоДжо. Кровь приливает к членам, как будто ее телу известно, что должно произойти, даже если разум отстает на пять шагов. В этот момент она не может знать, что ночи, когда он будет тихо приходить и уводить ее с собой, станут для нее самыми желанными; она не знает, что так, как сейчас дрожат ее губы, будет трепетать все тело; это сейчас леденеют внутренности, а ноги подкашиваются – вместо этого она будет чувствовать прилив возбуждения, гордости и влечения, когда увидит, как он стоит рядом, протягивая руку, желая ее.
Но сейчас она ощущает лишь панику. Ей шестнадцать. Она имеет некоторое представление о том, что должно произойти, хотя знание это случайное, почерпнутое из наблюдений за прочими божьими тварями… но она не готова. Как это вообще делается? И даже если бы она могла заставить себя задать этот вопрос, кого бы она спросила? Даже с мамой говорить о таком было бы ужасно неловко.
Он ласково предлагает ей лечь рядом с ним на высокой тиковой кровати; он видит, что она напугана, дрожит, вот-вот расплачется, зубы у нее стучат. Вместо того чтобы утешать словами, он притягивает ее поближе, одна рука лежит у нее под головой, укрывая, обнимая. И ничего больше. Так они лежат долго-долго.
Постепенно дыхание ее успокаивается. Тепло его тела унимает дрожь. Это и есть то, о чем сказано в Библии? Иаков возлег с Лией. Давид возлег с Вирсавией. Ночь тиха. Сначала она слышит пение звезд. Потом голубь курлычет на крыше. Слышит трехнотный напев соловья. Тихое шарканье в муттаме и сдавленное чавканье – наверное, Цезарь поймал свой хвост. И мерный стук, который она не может опознать. А потом ее осеняет: это стучит его сердце, громко и почти в одном ритме с ее.
Этот низкий глухой стук успокаивает, напоминает, что она в объятиях мужчины, за которого вышла замуж четыре года назад. Она вспоминает, как деликатно он заботился о ее нуждах, как раздобыл газеты, как провожал в церковь в первый раз и как он теперь каждое воскресенье провожает ее до пристани. Он выражает свою любовь не напрямую, а в этой заботе, в том, с какой гордостью смотрит на нее, когда она воспитывает ДжоДжо или когда читает ему вслух газету. Сегодня вечером за ужином он заявил о своих чувствах открыто, но без слов, вручив вот эти драгоценные серьги, символ зрелой женщины, мудрой жены. Нынешний момент мог наступить в любой из дней их совместно прожитых лет, но он ждал.
Через некоторое время он приподнимает голову и смотрит ей в глаза; чуть изогнув бровь, вопросительно наклоняет голову. Она понимает, что он спрашивает, готова ли она. Правда в том, что она не знает. Но знает, что доверяет ему, она верит, что он привел ее сюда, потому что знает, что она готова. На этот раз она не отворачивается, она выдерживает его взгляд и смотрит прямо в глаза, прямо в его душу, впервые за те четыре года, что она его жена. И кивает.
Господь, я готова.
Он нависает над ней, ведет и направляет, помогая принять его. При первой острой боли она закусывает губу, заглушая вырвавшийся вскрик. Он замирает и участливо отступает, но она тянет его вниз, пряча лицо в ложбинке между его плечом и грудью, чтобы он не стал свидетелем ее потрясения, ее неверия в то, что происходит. Вплоть до момента, когда он взял ее за руку и повел в эту комнату, они не прикасались друг к другу, даже случайно. И даже держа его за руку, даже лежа в его объятиях, она не могла приготовиться к этому. Она чувствует себя совсем дурочкой, ей стыдно, что она не знала, никогда даже не представляла, что загадочное “откроется в свое время”, как сказала некогда Танкамма, означало принять его буквально внутрь себя. Ее словно предали все те женщины, которые утаили от нее это знание, которые могли бы подготовить ее к случившемуся. Его невероятная нежность, его внимание к ней противоестественно соседствуют со жгучей болью, которая сменяется тупым противным ощущением. Ритмичные толчки усиливаются, становятся все чаще. Как это вообще должно закончиться? Что она должна сделать? И ровно в тот момент, когда она начинает опасаться, что он ее сломает, когда готова крикнуть, чтобы он остановился, тело его коченеет, спина выгибается, лицо, искаженное болью, становится неузнаваемым – как будто это она нечаянно поломала его. Она, наивный участник и напуганный наблюдатель. Он пытается сдержать мучительный стон, но безуспешно… и, содрогнувшись, замирает. Он лежит на ней тяжелым грузом, опустошенный, кожа его влажна от пота.
В голове у нее сумбур, но она ликует, когда до нее доходит, что она выдержала испытание. Ей хочется смеяться – и над тем, что ее вот так прокололи и прижали, и над его внезапной беспомощностью. Она не просто вытерпела, но именно ее тело, ее вклад в то, что произошло, лишило его силы и привязало к ней. С опозданием, постепенно восстанавливая самообладание, она осознает, что обрела полноценную женственность, сама того не понимая. Секунды тикают, и его вес давит так, что дышится с трудом, но, как ни парадоксально, она не хочет, чтобы он отодвинулся, не хочет, чтобы заканчивалось это чувство власти, могущества, гордости и господства над ним.
В последующие годы, в тех редких случаях, когда его появление в дверях с протянутой рукой было ей не слишком удобно, она все равно никогда не отказывает, потому что в нежных объятиях и совсем неутонченных действиях, которые за ними следуют, муж выражает то, что не может сказать словами, то, что ей необходимо слышать, и то, что она впервые начинает чувствовать сейчас, лежа под ним, – что она неотъемлемая часть его мира, ровно так же, как и он – ее мир. Сейчас она не может вообразить, что удовольствие, которое видит на его лице, она и сама будет время от времени испытывать и что найдет способ ненавязчиво направлять его и руководить его действиями так, чтобы ей было приятно. Сейчас она настолько наполнена им, что кажется, будто он разделил ее надвое, но вместе с тем впервые с момента замужества она ощущает себя цельной, завершенной.
Постепенно его напряжение, распирающее ее внутри, ослабевает, опадает, и он наконец перекатывается на бок, только бедро остается лежать поверх ее бедер. С его уходом внутри начинает саднить, она остается беззащитной, с ощущением пустоты между ногами в том месте, которое прежде было плотно запечатано от всего мира. Она больше не уверена в этой самой интимной части себя, которая, кажется, изменилась навсегда. По бедрам стекает влага. Ей хочется помыться, но все же, несмотря на жгучую пульсирующую боль, она не торопится уходить, наслаждаясь этим ощущением крепко спящего рядом мужа, – голова прижата к ее плечу, рука лежит на ее груди, в точности как делает его сын.
В последующие дни она гораздо свободнее разговаривает с ним за ужином – не только о хозяйственных делах, но делится мыслями, чувствами и даже воспоминаниями, не дожидаясь от него ответов. Слушать – это и есть для него говорить, в этом внимании и состоит его красноречие, редкое свойство, и он щедро наделен им. Муж единственный среди известных ей людей использует два уха и один рот именно в таком изначальном соотношении. Она любит его так, как прежде и не представляла. Любовь, думает она, это не обладание, но ощущение, что там, где когда-то заканчивалось ее тело, оно теперь заново начинается в нем, расширяя ее возможности, ее уверенность и ее силу. И, как бывает со всем редким и драгоценным, новое знание приносит новые тревоги: страх потерять его, страх, что это сердце перестанет биться. Ведь это означало бы и ее собственный конец.
А Парамбиль продолжает жить в своем ритме: голодные рты надо кормить, манго мариновать, рис обмолачивать, Пасха, Онам[45], Рождество… цикл, прекрасно ей известный, с которым она сверяет свои дни. Для стороннего наблюдателя все остается по-прежнему. Но после той ночи всякая отстраненность между мужем и женой исчезает.
“Господь, благодарю Тебя… – повторяет она в своих молитвах. – Я не буду рассказывать никаких подробностей. К тому же чего бы Ты не знал о моей земной жизни? Но у меня есть вопрос. Когда пять лет назад мой муж убежал от алтаря, я слышала Твой голос, сказавший: «Я с вами во все дни». Ты с ним тоже разговаривал? Ты ему сказал: «Вернись»? Ты сказал: «Она та, которую Я избрал для тебя»?”
Она ждет. “Потому что это я, Господи. Я его единственная”.
Глава 7
Мама лучше знает
1908, Парамбиль
Однажды утром, в свой девятнадцатый год на земле, она просыпается уставшей, не в силах подняться, придавленная одеялом тоски. ДжоДжо старается ее развеселить, плетя для нее мячик из листа кокосовой пальмы.
– Сверху-снизу, сверху-снизу, потом снизу-сверху, снизу-сверху, понятно? – приговаривает он, забывая, кто его научил этому. Ему десять, и он уже выше своей Аммачи, которая скоро станет в два раза старше него, но когда они остаются вдвоем, он ведет себя совсем как малыш. Встревоженный ДжоДжо помогает ей по кухне, но даже от простого раздувания углей она задыхается.
После обеда она возвращается в спальню и просыпается, только когда прохладная ладонь мужа гладит ее лоб. Невероятно, но солнце уже садится. А она ничего не приготовила на ужин; она разражается слезами. Муж взглядом прогоняет ДжоДжо прочь.
Отчего эти слезы? – без слов спрашивает он.
Она лишь мотает головой. Он настаивает.
– Ты должен простить меня. Не понимаю, что на меня нашло.
Судя по выражению его лица, он знает, что причина гораздо серьезнее.
С тех пор как их брак был подтвержден физически, она доверяется мужу во всем, за исключением случаев, когда дело касается ее матери. Ей стыдно признаться ему, какой нищей была ее жизнь до замужества. Когда ей исполнилось шестнадцать, она набралась смелости попросить Самуэля сопровождать ее в поездке, чтобы навестить мать, она уговорила Самуэля испросить разрешения у тамб’рана. Тот согласился. К Самуэлю она обратилась, потому что не хотела ставить мужа в неловкое положение, если придется отказать ей. Она написала матери, сообщив дату приезда. И заранее решила, что если сочтет положение матери бедственным, заберет ее с собой в Парамбиль. Она могла лишь надеяться на понимание мужа – мужчина вовсе не обязан заботиться о своей теще. За два дня до отъезда пришло письмо от матери, в котором она категорически запрещала ей приезжать, подчеркивая, что будет только хуже. Мать добавила, что ее деверь обещал, что скоро они все вместе поедут в Парамбиль. Разумеется, этого так и не случилось.
– Я беспокоюсь за маму, – выговаривает она наконец, всхлипывая, и чувствует облегчение, что смогла признаться в том, что так долго таила от него. – Я сердцем чую, что с ней плохо обращаются, что она даже голодает. После смерти отца мой дядя не был добр к нам. В письмах мама пишет обо всем что угодно, только не о себе. Я чувствую, как она страдает.
Громадная, как наковальня, ладонь мужа остается лежать у нее на лбу, но лицо его застывает.
Назавтра они с Самуэлем уходят еще до того, как она просыпается. Их не видно весь день, и даже с наступлением ночи они не вернулись. Она места себе не находит от тревоги.
На следующий день на тропе, ведущей от пристани, задевая кусты разросшейся маниоки, появляется повозка, запряженная буйволами. Рядом с погонщиком сидит Самуэль. А из-за плеча его выглядывает знакомая фигура.
Она и позабыла высокий мамин лоб, ее тонкий нос, и то и другое выделяются на лице, потому что мама страшно исхудала, волосы ее поседели, а щеки ввалились из-за выпавших зубов. Как будто прошло не семь лет, а все пятьдесят. Робко выбираясь из повозки, мама сжимает в руках свои жалкие пожитки: Библия, серебряная чашка и узелок с одеждой. Мать и дочь приникают друг к другу, роли их поменялись: это мать возвращается в безопасность дочерних объятий, рыдает у нее на груди, не скрывая более унижения минувших лет.
– Муули, – начинает мать, когда может наконец говорить. – Благослови Господь твоего мужа. Сначала, когда я его увидела, то подумала, что-то случилось с тобой. А он только глянул вокруг и сразу все понял. “Собирайтесь, поехали”, – только и сказал. Муули, мне было так стыдно, потому что твой дядя был совсем нелюбезен – даже воды не предложил. А потом она вылезла и заявляет, что я задолжала им денег за… за то, что дышала, наверное. А твой муж поднял вот так палец. – И она вытягивает вверх указательный палец, как будто проверяет направление ветра. – “Ни слова больше, – сказал он. – Мать моей жены не должна так жить”. Я отряхнула прах с ног моих на тот дом и ни разу не оглянулась.
Самуэль, усмехаясь, все же бранит молодую хозяйку:
– Почему ты ничего не сказала раньше тамб’рану? Твоя мать жила как побирушка на церковной паперти! У нее был только крошечный уголок на веранде, где ей позволяли расстелить циновку.
Мать пристыженно опускает голову.
– Твой муж посадил нас в лодку, – говорит она. – Он сказал, что сам поедет другим путем.
В комнате, которая вскоре станет их общей, мать разглядывает тиковый альмира́х[46], куда она может сложить свои вещи, письменный стол, трюмо с зеркалом. Мать видит свое отражение и застенчиво заправляет за уши пряди белых волос. В кухне она подает матери чай, потом торопливо трет кокос, достает из кладовки яйца, разогревает рыбу и карри с цыпленком, режет стручки фасоли для торан, велев Самуэлю не уходить, пока не поест.
– Ох, детка, – вздыхает мать, когда перед ней ставят еду, и слезы струятся по ее щекам. – Я и забыла, когда видела и мясо, и рыбу, и яйцо на одном подносе.
А потом мама сидит на плетеной кровати и просто смотрит на нее. Вытянув руку, останавливает дочь, мечущуюся туда-сюда:
– Остановись! Не надо халвы, не надо ладду́[47], ничего не надо. Я ничего больше не хочу! Просто сядь рядом и дай мне на тебя посмотреть, дай обнять тебя, родная моя.
И по тому, как смотрит мать, она понимает, что сильно изменилась и она сама – больше не дитя-невеста, какой ее в последний раз видела мама, а опытная мать ДжоДжо, хозяйка Парамбиля. Мать перебирает пальцами густые волосы дочери, которые давно не расчесывала и не заплетала, поворачивает лицо дочери так и эдак в свете лампы.
– Моя маленькая девочка уже женщина… – Внезапно мать отстраняется, брови ее взмывают вверх, когда она замечает бледное пятно на щеках и переносице, словно крылья летучей мыши. Широко распахнув глаза, она восклицает: – Боже правый, муули! Да ты ждешь ребенка!
И она сразу понимает, что мама права. И наверное, неудивительно, что сердце ее воззвало к матери именно сейчас, когда она сама должна стать матерью.
В полночь она в одиночестве меряет шагами веранду, радуясь воссоединению, о котором мечтала, но и тревожась, и вознося молитвы. В час ночи она видит вдалеке пламя факела из пучка сухих пальмовых веток.
Она бежит навстречу мужу, будто они не виделись много лет. Не владея собой, она, как ребенок, прыгает ему на руки и обвивает ногами могучее тело, которое сейчас, после двухдневного перехода, как раскаленная печь. Он отбрасывает факел, и тот рассыпается искрами, ударившись о землю. Обнимает ее крепко. Она с облегчением утыкается головой в него. И молит безмолвно: Никогда не старей, никогда не умирай, понимая, что просит слишком многого. Твердыня моя, прибежище мое, Избавитель мой[48].
Муж моется около колодца. После ужина веки его тяжелеют. Он рассказывает, какой дорогой шел, а она вычерчивает у себя на ладони его окольный путь. Он прошел больше пятидесяти миль за восемнадцать часов.
Он идет спать, такой уставший, что даже не берет лампу. Она провожает до порога его комнаты. Она редко заходит сюда без его зова. Ложится рядом с ним. Берет его руку, кладет себе на живот и улыбается ему. Он озадачен. А затем, очень медленно, понимание проступает на усталом лице, и он улыбается. Она слышит тихое восклицание. Он прижимает жену к себе, но тут же одергивает себя, пугаясь, что был слишком груб со своими объятиями. Если бы Господь даровал ей возможность растянуть на всю жизнь один только миг, то пускай был бы вот этот.
Дыхание его становится глубже, ровнее. Даже во сне лицо у него счастливое, и рука все так же лежит на ее животе, обнимая своего ребенка. В этом укромном священном убежище между его рукой и грудью она пребывает в умиротворении. “Прости меня, Господь”. Она-то думала, что ее молитвы остались без ответа. Но у Господа свои сроки. Календарь Господа не совпадает с тем, что висит у нее на кухне. Всему свое время, и время всякой вещи под небом[49].
Нет смысла корить себя, что не вызволила мать раньше. Что случилось, то случилось, думает она. Прошлое ненадежно, и только будущее определено, и она должна смотреть в него с верой, что смысл непременно откроется.
Девочка, которая дрожала от страха у алтаря, которая сейчас лежит рядом со своим мужем, которая носит ребенка, не может предвидеть, как однажды станет почитаемым матриархом всего семейства Парамбиля. Она не знает, что придет время – и все будут называть ее прозвищем, которым окрестил ее ДжоДжо, это первое английское слово, которое выучил малыш и сразу же наградил ее этим титулом, вовсе не в насмешку над тем, что она совсем крошечная, а в знак уважения: “Большая”. Он назвал ее “Большая Аммачи”. Она не знает, что вскоре станет Большой Аммачи для всех и каждого.
Глава 8
Пока смерть не разлучит нас
1908, Парамбиль
С рождением дочери прежнюю жизнь смело начисто. Тело ее на побегушках у любимого тирана, который грубо прерывает ее сон, требуя доступа, и с бесхитростной силой высасывает молоко из ее груди, настолько разбухшей, что она с трудом признает ее своей.
Она уже забыла те ночи, когда они уютно спали вдвоем с ДжоДжо и его пальчики запутывались в ее волосах, чтобы увериться – она не бросит его в повторяющемся ночном кошмаре, где его уносит бурная река. Неужели и впрямь было время, когда она успевала уследить за тремя горшками на огне, одним ухом прислушиваясь, не отложила ли курица яйцо, а другим – не собирается ли дождь и не пора ли уносить под навес сохнущий рис? И вдобавок еще и изображала тигра для ДжоДжо? Сейчас она почти не выходит из старой спальни, которую приспособили для ее родов. Ее связь с Парамбилем дважды скреплена дочерью, для которой это место стало родным домом – по крайней мере, до замужества.
Долли-коччамма, без всяких просьб, переехала к ним на последних неделях ее заточения, помочь по хозяйству и с ДжоДжо. Тихая и покладистая, Долли никогда не говорит о трудностях, с которыми столкнулись они с Джорджи. На своем крошечном клочке земли компанейский Джорджи должен бы выращивать достаточно кокосов, тапиоки и бананов, чтобы хватало на жизнь и даже оставалось немножко сверх того, но почему-то они едва сводят концы с концами. Самуэль говорит, это от неразумного планирования и от увлечения разными авантюрными идеями – к примеру, посеять пшеницу вместо риса, потому что на это уходит меньше труда, но зато потом выясняется, что пшеница здесь плохо растет, да и продавать ее некому. Джорджи, должно быть, понимает, что для своего дяди он сплошное разочарование, и потому держится подальше, но каждое утро, когда малышка засыпает после десятичасового кормления, Долли-коччамма умащает волосы молодой матери и делает ей массаж с пряным кокосовым маслом. В ответ на глубочайшие благодарности Большой Аммачи Долли говорит:
– Твой муж спас нас, когда у нас не было ничего, а я ждала первого ребенка. А мать ДжоДжо тогда именно так заботилась обо мне. И сейчас ты делаешь мне одолжение, позволяя быть полезной. – Долли уговаривает ее сходить к ручью и как следует выкупаться. – Не переживай. Малютка Мол (у ребенка пока нет другого имени, кроме “Маленькая Девочка”) не перестанет дышать в твое отсутствие.
А мама тем временем взяла на себя кухню. Седовласая женщина со впалыми щеками, так робко сошедшая с воловьей повозки, может поделиться накопившимися за десятилетия мыслями, даже если у нее нет уже прежних сил.
ДжоДжо не понимает, почему Большая Аммачи так много времени проводит с младенцем и почему он должен вести себя тихо, когда малышка спит. Как-то утром он в приступе ревности залезает высоко на плаву и, рыдая, зовет на помощь, словно застрял на дереве. На него не обращают внимания, и он в ярости спускается, заворачивает свои детские ценности в тхорт и объявляет, что навсегда переезжает в дом Долли-коччаммы. Долли и Джорджи пускают его, их дети расстилают для него циновку рядом со своими. И ДжоДжо проводит первую в жизни ночь вне Парамбиля, молясь, чтобы в его отсутствие это место рассыпалось в прах.
Когда на следующий день до него доходит слух, что Большая Аммачи скучает по нему, ДжоДжо рысью мчится обратно, но у порога замедляет шаг, делая вид, что возвращается исключительно поневоле. Мать душит его поцелуями, пока он не сдается и не отбрасывает свою дурацкую позу.
– Ты мой маленький герой! Как же я без тебя пойду в погреб за соленьями? Тамошнее привидение милостиво ко мне, только пока ты рядом.
Маленький герой приглашает в гости своих новых друзей, и вскоре в муттаме звенит детский смех и раздаются радостные крики – эти звуки напоминают ей о собственном детстве, наполненном голосами кузенов и соседей. Слава Богу, Малютка Мол почти все время спит. Баюкая девочку, она то и дело слышит, как кто-то из детей начинает реветь. Прежде она помчалась бы выяснять, что случилось, но теперь лишь напоминает себе: “Плачущий ребенок – живой ребенок”.
Через месяц она возвращается в свою спальню, предпочитая расстеленную на полу привычную бамбуковую циновку высокой кровати в старой спальне рядом с ара, где она рожала. Малютка Мол лежит рядом с ней на сложенном полотенце, а ДжоДжо и ее мать спят на своих циновках по другую сторону. По утрам каждую циновку сворачивают к изголовью, а постель складывают на специальную полку.
Каждый вечер, совершив омовение, муж появляется на пороге ее комнаты. Мама, если оказывается в это время рядом, тут же придумывает себе дело в кухне и исчезает. Скала может изречь слово, но только когда он наедине с женой. Бицепсы его вздуваются, когда он подносит к обнаженной груди узелок из ткани и плоти, который и есть его дитя, а молодая мать любуется Малюткой Мол, целиком уместившейся в его громадных мозолистых ладонях.
– Тебя хорошо кормят? – спрашивает она.
– Да, Большая Аммачи, – поддразнивает он. – Но эреки олартхиярту твоей матери не сравнить с твоим. – Он и не догадывается, какой драгоценный комплимент сделал жене.
Она вспоминает, как Танкамма говорила, что ее брат похож на кокосовый орех – шершавый и неприступный снаружи, но с драгоценным содержимым внутри; сок его унимает колики у младенцев, а нежная белая мякоть составляет суть каждого блюда в кухне малаяли; та же мякоть, высушенная и спресованная, – копра – дает кокосовое масло; отходы после отжима копры идут на корм скоту; из твердой скорлупы получаются отличные та́ви, ковшики, а из толстой внешней оболочки, если ее высушить и спрясть, выходит кокосовый канат. Без кокосовых орехов жизнь в Траванкоре прервалась бы, как пропал бы Парамбиль без ее мужа. Но когда он говорит, что эреки олартхиярту ее матери “не сравнить с твоим”, так он признается, что скучает по ней.
Вечером, уложив малышку спать, сидя в промокшей и пахнущей ее собственным молоком блузе, она задумывается, приходит ли муж за ней по ночам, когда она спит. Прикасается ли к ней, потряхивает, старается разбудить? Или вид ее матери и двух сопящих рядом детишек останавливает его в дверях? Правда в том, что сейчас она не готова к встрече с мужем. Муки родов еще свежи в памяти. У нее остался разрыв, который наконец стал менее болезненным, но тело все еще преподносит странные неловкие сюрпризы, которые, к счастью, постепенно уменьшаются. Пройдет время, прежде чем она окончательно оправится. Каждый месяц до нее доходят рассказы о неудачных родах, или женщина истекла кровью и умерла, или ребенок застрял в родовых путях – случай смертельный и для матери, и для младенца. “Благодарю Тебя, Господи, что провел меня невредимой через это испытание”. Она не рассказывает Богу, что тоскует по близости с мужем, тоскует по возбуждению, охватывающему ее на супружеском ложе, когда сердце ее гулко колотится и она слышит, как точно так же стучит и его сердце. “Ну, одного без другого не бывает”, – говорит она, но лишь самой себе. Есть вещи, которые не стоит рассказывать Господу.
Ритм Парамбиля – это постоянство и непрерывные изменения. ДжоДжо с восторгом сообщает, что брат-близнец Джорджи, Ранджан, явился к ним среди ночи с женой, тремя детьми и всеми своими пожитками. Большая Аммачи не представляет, в каком состоянии Долли, когда столько народу набилось в ее крошечный домишко. Ранджану, как и Джорджи, отец ничего не оставил. Он нашел приличную работу помощника управляющего на чайной плантации в Ку́рге[50]. Платили неплохо, но жизнь в горной деревушке Полибетта была совсем одинокой. Что-то там случилось, что заставило жену связать мужа веревкой, швырнуть в повозку и привезти семью в долину и в итоге нагрянуть к Джорджи и тетушке Долли. Жена, грузная женщина с квадратным подбородком и привычкой прищуриться, прежде чем заговорить, выглядит устрашающе, особенно потому, что носит громадное деревянное распятие, которое лучше смотрелось бы на стене, чем на ее груди. Она крепко сжимает в руке Библию, как будто боится, что кто-нибудь выхватит ее у нее. Дети Долли между собой прозвали ее “Благочестивая Коччамма”, потому что (по словам ДжоДжо) все остальные рядом с ней выглядят неблагочестивыми. Если она вдруг не клеймит грех, совершенный детьми, то осуждает грех, который им еще предстоит совершить.
Спустя несколько дней Большая Аммачи видит, как братья идут навестить дядюшку, держась за руки, как близкие друзья. Они очень похожи, но у Ранджана одежда потрепанная. Он, как и брат, по-мальчишески непоседлив, как будто внутри у него крутится чудной взбалмошный маховик, заставляющий беспрерывно приплясывать его брови, губы, глаза и конечности, из-за чего походка тоже меняется. На лицах обоих мужчин одинаковое выражение безмятежного оптимизма, несмотря на все их сложные обстоятельства, – качество, вызывающее восхищение. Они стараются вести себя серьезно и торжественно, когда являются к ее мужу, но, едва выйдя от него, начинают резвиться, подталкивая друг друга, прямо как мальчишки, возвращающиеся из школы. Позже она узнает, что муж выделил Ранджану небольшой нерасчищенный участок на склоне, вплотную к участку Джорджи. Должно быть, он принял решение, едва узнав о возвращении племянника, так что теперь он обеспечил и Ранджана, как прежде Джорджи. Она восхищается щедростью мужа, жаль только, что щедрость не сопровождается душевной теплотой или мудрыми советами, которые могли бы помочь племянникам добиться успеха. Это не в его правилах.
ДжоДжо докладывает, что близнецы решили снести маленький дом Джорджи и Долли и построить новое общее жилище из крепкой древесины и добротных медных деталей – именно такой дом, который заслужила многострадальная коччамма Долли, но это возможно только потому, что Ранджан и Благочестивая Коччамма внесли все свои сбережения. Новая постройка будет стоять на участке Джорджи, на котором есть колодец и который лучше осушается, большую часть участка Ранджана займут посадки маниоки и бананов, а также новая подъездная дорога. Общая кухня расположится между двумя крыльями дома. Большая Аммачи невольно беспокоится за Долли-коччамму.
ДжоДжо перерос дом. Поскольку он избегает воды, то не может состязаться с другими детьми в плавании и нырянии, зато ДжоДжо штурмует высоты. Деревья – вот его стихия, и здесь он превосходит остальных в удали и бесшабашности. Любая мартышка позавидует тому, как он стремительно пробегает по верхним ветвям дерева, перескакивает на соседнее или слетает вниз, раскачиваясь на лиане и делая сальто перед приземлением на кучу листьев. Последний трюк делает его героем среди малышни.
Во вторник, просидев целых два дня по домам из-за дождя, старшие дети убегают купаться в реке. Только мелкота остается в качестве зрителей, когда ДжоДжо взбирается на дерево, хватает лиану и раскачивается. Но ладони соскальзывают с мокрой ветки, и сальто не удается. Приземлившись, он слишком сильно подается вперед, по инерции делая несколько шагов, и падает лицом вниз в дождевую канаву, полную воды. Малышня хлопает в ладоши, радуясь всплеску и новому комическому штриху в спектакле, потому что ДжоДжо решил не вставать сразу, а мечется в луже, как пойманная на крючок рыба. Малышня неистово хохочет, держась за животики. Вот это ДжоДжо! Во дает! Но когда ДжоДжо так и не поднимается, им становится скучно и они постепенно расходятся.
– ДжоДжо спрятался в воде и больше не хочет играть, – сообщает один из них Большой Аммачи.
Умиротворенная кормлением Малютки Мол, она улыбается.
Секундой позже отрывает младенца от соска. Вскидывает обе руки вверх, словно пытаясь остановить падение. Откладывает ребенка.
– В какой воде? – взвизгивает она. – Покажи мне! Где?
Оторопевший карапуз тычет пальцем в сторону оросительного канала, и она срывается с места.
Она видит гребнем торчащие над водой лопатки и спину ДжоДжо, его мокрые и блестящие волосы – волосы, которые всегда так трудно помыть. Она прыгает в мутную илистую канаву, боль пронзает позвоночник, потому что тут оказывается неожиданно мелко – вода едва доходит до колен, – и вытягивает ДжоДжо на сушу. Она нажимает ему на живот, и грязь выплескивается изо рта мальчика. Она кричит: “Дыши, ДжоДжо!” А потом истошно вопит: “АЙО, ДЖОДЖО, РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО! ДЫШИ!” Крик пронзает воздух и разносится на милю вокруг. Она слышит топот приближающихся шагов. Муж падает на колени рядом с ней. Он сжимает грудную клетку сына, давит на живот. Запыхавшись, прибегает Самуэль и опускается на колени напротив них, тянется ко рту ДжоДжо, вытирая грязь, и еще грязь, и еще, но тот все равно не дышит. Джорджи подхватывает ДжоДжо за лодыжки и переворачивает вниз головой, а Ранджан качает его руки вверх и вниз, и вода выливается из него, но он не дышит. Ранджан накрывает губы ДжоДжо своими и вдувает воздух в его легкие, пока ДжоДжо висит вниз головой, свесив руки вдоль ушей, подобно рыбе, которую взвешивают безменом… но он не дышит. Они кладут мальчика на спину и поочередно дышат ему в рот, стучат по спине, нажимают на живот. Она мечется вокруг них как безумная, рвет на себе волосы, рыдает в отчаянии, дико кричит: “Не останавливайтесь! Не останавливайтесь!” Но ДжоДжо, упрямый при жизни, в смерти еще более упрям, и он отказывается дышать – ни ради нее, ни ради отца, ни ради Самуэля, ни ради всех остальных, кто пытается помочь; он не будет дышать, чтобы спасти их разбитые сердца. Их усилия уже кажутся насилием над его безвольным телом. В конце концов муж отталкивает всех и со стоном прижимает сына к груди, тело его сотрясают рыдания.
Краем сознания она отмечает отдаленный пронзительный визг, опустошающий пару крошечных легких, потом судорожный вдох и новый крик. Она совсем забыла про Малютку Мол! Если ты плачешь, значит, ты жива. Она медленно пятится, боясь оставить ДжоДжо. Бежит в свою комнату, подхватывает ребенка. Приподнимает накидку, сует грудь младенцу, который, напуганный ее грубостью, начинает завывать еще сильнее. Она рассматривает маленькое личико, беззубые десны, уродливую гримасу недовольства; как отвратительна эта слепая потребность в ее плоти. В конце концов дитя жадно присасывается.
С ребенком у груди она ковыляет, чтобы еще раз увидеть своего ДжоДжо, ее верную тень и товарища восемь из десяти его лет, ее маленького героя, которого отец уложил на скамью на веранде, вверх гротескно раздутым животом. Муж, сломленный и раздавленный, воздевает руки и прижимает ладони к столбу, будто бы пытаясь повалить его, но он и держится на ногах лишь благодаря этой опоре. На лице ДжоДжо застыло недоумение. Она садится на корточки рядом с сыном, кладет ладонь на его похолодевший лоб и воет. Малютка Мол испуганно закатывает глаза и больно кусает ее за сосок. Господь, думает Большая Аммачи, я с радостью обменяю эту новую жизнь, если Ты вернешь мне моего ДжоДжо. Стыд за эту мысль отрезвляет ее. И она тянется к мужу, который все так же прирос к столбу, безмолвный в своем горе, как и в радости.
Глава 9
Вера в малом
1908, Парамбиль
“Утонул на суше” – так она называет это. Впоследствии ее будет преследовать ночной кошмар: она несет на голове своих детей, мать и мужа, покачиваясь под грузом, зная, что если остановится, то утонет в земле и грязь заполнит ее рот. Когда она добирается до камня для поклажи, где можно отдохнуть, горизонтальная плита валяется на земле. Она оглядывается по сторонам, надеясь на помощь, но никого не видать на дороге, она одна.
Но худо-бедно она справляется, чтобы мог справиться Парамбиль. Будь рядом отец, он призвал бы ее “быть верной в малом”. Его-то ничего не смущало, даже собственное страдание. Но в ней все противится этому стиху. Она злится на своего Бога. “Как я могу быть верной в малом, если Ты не верен в важных вещах?”
Неожиданно для себя она чувствует злость на скорбящего мужа. Гнев медленно растет внутри нее. Поначалу, как осиное гнездо, это всего лишь комок грязи на деревянной балке. Но постепенно разрастается, в нем появляются ячейки, а вскоре изнутри доносится ровный гул. Она молится об избавлении от гнева. Молится, хотя Бог обманул ее, ибо что еще остается человеку в таких обстоятельствах, кроме молитвы? “Я никогда не видела, чтобы хоть капля то́дди[51] коснулась его губ. Никто не может обвинить его в лености или скупости. Он ни разу и пальцем меня не тронул и не тронет. Господь, он не заслужил мой гнев. Он тоже потерял ребенка. Откуда же такая злость?”
Дождавшись, пока муж завершит омовение, она идет к нему в комнату, оставив младенца на мать. В этот час, сразу перед ужином, он часто ложится, закинув руки за голову, словно сам процесс мытья утомляет его. Ей известны его причуды, хотя она никогда не понимает, что они означают.
К ее удивлению, он вовсе не лежит, а сидит на кровати – плечи расправлены, голова вскинута, словно он ждет ее и собирается с духом, готовясь к тому, что должно произойти.
– Мне нужно знать, – без предисловий заявляет она, становясь перед ним, лицом к лицу.
Он чуть поворачивается к ней правым ухом. Она уже давно поняла, что муж плохо слышит, но его вечное молчание отчасти скрывает недостаток. Она повторяет свои слова. Он смотрит на ее губы, ожидая продолжения.
Любой другой на его месте переспросил бы: “Знать что?” Но только не он. Ее терпение заканчивается.
– Мне нужно знать. – Она раздраженно заламывает руки. – Про Недуг.
Итак, она назвала его. Это первый важный шаг. Она дала имя тому, что ощутила с того момента, как состоялся уговор о браке, – шепотки насчет утопленников в этой семье, дом, построенный вдали от воды, его отвращение к дождю, его странный способ мыться – все то, чем страдал и их сын. Недуг. Нельзя узнать, как охотиться на змею, если не знаешь, как она называется.
Он не прикидывается, будто не понимает, но не двигается с места. Даже сидя, он по-прежнему выше нее, но разница в возрасте сейчас кажется ей меньше, чем когда-либо.
– Ради нашей дочери, – умоляет она. – Чтобы я могла защитить ее. И ради тех детей, которые еще у нас будут, с Божьей помощью. Мне нужно знать то, что знаешь ты. Почему ДжоДжо так панически боялся воды? Почему ты, супруг мой, никогда не вступал в лодку? У Малютки Мол тоже есть Недуг?
Муж встает, возвышаясь над ней, и сердце ее ускоряет ритм. Он никогда не надвигался на нее, угрожая. Она берет себя в руки. Но он проходит мимо, чтобы достать сверток, лежащий на полке под самым потолком. Нечто, завернутое в тряпку и перевязанное бечевкой. Муж вытягивает руку со свертком за порог, стряхивая с него пыль.
– Это принадлежало ей, – говорит он, словно такого объяснения достаточно.
Садится рядом и разворачивает расползающуюся грубую конопляную ткань. Второй слой – это тонкая кавани. Она чувствует запах минувшей эпохи, другой женщины, тот же запах, что порой возникает в погребе; так пахли наряды, которые он передал ей, когда впервые повел в церковь. Запах матери ДжоДжо. Поверх всего лежит прозрачный мешочек из тончайшего хлопка, в котором хранятся обручальное кольцо и минну – изящная золотая подвеска в форме листа туласи, на котором золотыми бусинками выложено распятие. Он надел его на шею покойной жены, когда они поженились, точно так же, как надел подвеску на ее шею в день их свадьбы.
Он откладывает в сторону мешочек и протягивает ей маленький квадратный лист бумаги – запись о крещении ДжоДжо. В этот миг ее охватывает чувство вины, словно сейчас она сообщит матери ДжоДжо о смерти сына. Она еле сдерживает слезы. И не смеет поднять глаз на мужа. Весь ее гнев мгновенно испаряется.
Большие руки держат свернутый листок, потрепанный по краям. Чешуйницы погрызли уголки, а бумажные жучки проделали в нем серповидные отверстия. Муж бережно разворачивает пергамент. Это огромная карта или схема из полос бумаги, склеенных по длинной стороне, но рисовый клейстер, излюбленное лакомство чешуйниц, изрядно объеден. Он расстилает лист на их коленях. Текст выцвел. Еще несколько лет – и эти бумаги обратятся в прах.
Дерево. Толстый темный ствол изогнут, а на ветвях совсем немного листьев. На каждом листе имена, даты, пояснения. Она припоминает, как такое же генеалогическое древо рисовал ее отец. Она сидела у отца на коленях, а он объяснял: “Матфей описал генеалогию Иисуса, начиная с Авраама. Четырнадцать поколений до Давида, потом четырнадцать от Давида до Вавилонского пленения и еще четырнадцать от Исхода до рождения Иисуса”. Отец был убежден, что Матфей пропустил два поколения. “Он был сборщиком налогов. Ему нравилась эта симметрия, трижды по четырнадцать поколений. Но это ошибка!”
Дереву на ее коленях недостает симметрии, и оно до жути точно. Она сразу понимает, что это каталог несчастий, сотрясавших семейство Парамбиля, но, в отличие от Завета Матфея, это тайный документ, спрятанный на стропилах и доступный взору только членов семьи, и только им непременно нужно увидеть его. Неужели требовалось потерять сына, чтобы заслужить право на это знание? У нее с этим мужчиной общий ребенок! Они связаны кровно, а он хранил это в тайне от нее.
Она подносит лампу поближе. Новый почерк, которым сделана запись о рождении ДжоДжо, определенно принадлежит его матери – почему ей было позволено увидеть это? Она уже знала о Недуге и сама попросила? Другие руки, некоторые из них старые и дрожащие, судя по разрывам в петлях, завитках и вертикалях письма малаялам, тоже старательно вписывали прибывших в этот мир. Возможно, это была мать ее мужа или его бабушка? И кто-то еще раньше, и еще раньше. Внутри сложенной карты есть еще маленькие листочки старинной небеленой бумаги.
Стиснув кулаки, он подглядывает из-за ее плеча.
Зацепившись взглядом за имя ДжоДжо на ветви, как за якорь, она видит, что династия Парамбиля уходит в прошлое как минимум на семь поколений (не считая отдельных бумажных листочков) и на два поколения в будущее. Она вступает в незнакомые воды. Прошлое туманно, как призрачные тусклые чернила, осыпающаяся бумага. Среди родоначальников семейства есть работорговцы, парочка убийц и священник-вероотступник по имени Патроуз – так здесь говорится. Рядом с одним именем она читает: “Как и его дядя, но моложе, – она с трудом разбирает налезающие друг на друга буквы, – и так никогда и не женился”. Пояснение к “Паппачан” за три поколения до ее мужа гласит: “Его отец, Захария, тоже глухой и с сорока лет шатался, ежели закрывал глаза”. Отдельная записка гласит: “Мальчики страдают чаще, чем девочки. Следите за шустрыми детьми, которые не боятся ничего, кроме воды. К тому времени, как их подведут к реке, все вы, матери, будете это знать”.
Это прямо про ДжоДжо. Чья мать написала это предупреждение?
Она возвращается к древу, к символу, который раз за разом появляется на некоторых ветвях.
– Что означают эти завитушки под странным крестом? – спрашивает она.
– Разве это не слова? – тихо переспрашивает он.
Она ошеломленно поворачивается к мужу. Много лет она читает ему газету за ужином, но никогда не видела, чтобы он сам читал. Ей всегда казалось, что ему просто не до того. Он не умеет читать! Как она не догадалась раньше? Бесхитростность его вопроса напоминает ей ДжоДжо, когда она впервые увидела малыша, и ее опять душат слезы.
– Нет, – мотает она головой. – Это не слова.
– Тогда это похоже на воду, – говорит он. – С крестом.
Муж внушает ей благоговейный трепет. Он неграмотен, но видит вещи такими, каковы они на самом деле, как увидел бы налет плесени на стволе дерева.
– Верно, – тихо соглашается она. – Крест над водой. Знак, что они погибли, утонув.
– Там есть Шантамма? – спрашивает он. – Старшая сестра моего отца?
Она находит и показывает: крест над водой рядом с именем.
– Она утонула еще до моего рождения.
Которая из убитых горем матерей придумала этот символ? При пляшущем свете лампы крест над волнистыми линиями напоминает облетевшее дерево в изголовье свежей кучки земли – могилу.
– Смерть от утопления есть в каждом поколении, – ведет она пальцем по бумаге. У некоторых крестов есть пояснения, и она читает вслух: – В озере… ручей… река Памба…
Муж кивает в сторону их общей печали:
– Оросительная канава.
Ей предстоит записать эти слова.
Много ли знал сват, устроивший их брак, о Недуге? А ее мать и дядя? Они знали и скрыли от нее? Или просто не придали значения? Но муж-то знал наверняка. Она не хочет ненавидеть мужчину, которого любит. Но ей нужно сбросить этот камень с души.
– Ты должен был рассказать мне то, что тебе было известно, – говорит она. – Мы могли бы защитить ДжоДжо, запретить ему качаться на ветках, лазать по деревьям…
– Нет! – так яростно выкрикивает муж, что она едва не роняет бумаги.
Он встает. Она видела этот гнев, но раньше он был направлен на других и никогда – на нее.
– Нет! Именно так поступила моя мать. Держала меня в доме, как узника, когда я просто хотел бегать, прыгать, лазать. А после смерти матери то же самое делали Танкамма и братья. Когда я смотрю на это, я вижу только завитки и закорючки, – продолжает он, тыча пальцем в бумаги. – Знаешь почему? Она не позволила мне ходить в церковную школу, потому что та была за рекой. Она не хотела, чтобы я даже близко подходил к реке. Теперь я знаю, что всегда есть способ добраться, куда тебе нужно, просто это дольше. У братьев и сестер никаких проблем с водой не было. Они ходили в школу. Однажды я сбежал. Братья и Танкамма заперли меня. Из любви, утверждали они! Но на самом деле из страха. От невежества! – Тон его смягчается. – Мать и Танкамма желали добра. Они хотели защитить меня, как ты хотела бы защитить нашего ДжоДжо. Но это сделало меня слабым. Братья дразнили меня, потому что я не умел читать. – Он меряет шагами комнату. – Поверь, ни меня, ни ДжоДжо не надо было уговаривать держаться подальше от воды. И пускай мы не умеем плавать, мы умеем делать много всего другого. Мы ходим. Мы лазаем по деревьям. Думаешь, я не оплакиваю своего единственного сына? Но если бы мне дали второй шанс, я ничего не стал бы менять. ДжоДжо не сидел на привязи. Те несколько лет, что отведены были моему сыну на этой земле, он прожил, как тигр. Он лазал по деревьям. Он быстро бегал. Он с лихвой заменил то единственное, чего не умел. – Голос его дрогнул. Он берет себя в руки и продолжает: – Я ничего не скрывал. Я думал, ты знаешь. Твой дядя точно знал. Прости, если ты не знала. Тебе нужно было просто спросить. Но я не хожу повсюду с колокольчиком, как прокаженный, рассказывая об этом. Это часть меня. Как у жены чеканщика, чье лицо побито оспой, или как у сына гончара с его вывихнутой ногой. Вот так и я. Я такой, какой есть.
Она забыла, что надо дышать. За один вечер он произнес больше важных слов, чем за все их совместно прожитые восемь лет. Толпа людей внутри него – маленький мальчик, отец и муж – гневалась и скорбела одновременно.
Лицо его смягчается.
– Тебе нужно было найти мужа получше.
Она тянется за его рукой, но он отодвигается и выходит из комнаты.
В голове у нее все смешалось. До сих пор не было никаких признаков, что Малютка Мол боится воды. Даже если Недуг не коснулся Малютки, она будет считаться порченой, способной передать дурное семя.
Дрожащей рукой она записывает год, когда умерла мать ДжоДжо. Рисует новую ветвь, отходящую от имени ее мужа. Пишет свое имя и дату их брака, потом рисует веточку от их союза, где подписывает “Малютка Мол”; прежде чем Малютке исполнится полгода, ее покрестят, и тогда она вставит ее настоящее имя и дату рождения. Сколько ветвей пойдет от Малютки Мол, когда она выйдет замуж? “Теперь я внутри, Господь, – говорит она. – Это мой Недуг, так же как и его. Как я могу обвинять?”
Под именем ДжоДжо она пишет год его ухода. Рисует три волнистые линии, трясущимися пальцами это легко. Как жестоко, как чудовищно несправедливо, что ДжоДжо погиб от той самой стихии, которой он всеми силами старался избегать. Над волнистыми линиями она рисует крест, похожий на дерево на Голгофе, три вершины разделяются на подветви, напоминающие крест Святого Фомы, но одновременно похожие на отрубленные ветви дерева, царапающие острыми концами нёбо. Теперь она убивается вместе с матерью ДжоДжо. Я знаю, что он был твой, но и мой тоже, и со мной он жил дольше. Я так сильно любила его. Перо скользит по бумаге, с трудом втискивая округлые завитки, хвостики и петли шрифта малаялам в маленький просвет: УТОНУЛ В ОРОСИТЕЛЬНОМ КАНАЛЕ. В памяти всплывают образы совсем маленького ДжоДжо, его щербатая улыбка – если бы только она сохранила эти молочные зубы, у нее оставалась бы хоть частица от него! А он настоял на том, чтобы посадить их и вырастить бивень, а потом забыл где.
Закончив, она смотрит на лист пергамента, Водяное Древо, вот так она назвала бы его. Недуг – это проклятие? Или болезнь? А есть ли разница? Она знает семьи, где кости у детей ломаются сами собой, а белки глаз у них с голубоватым оттенком. Но потом они перерастают это и взрослыми выглядят почти нормальными. Но когда однажды двоюродные брат с сестрой сбежали и поженились, их ребенок переломал все кости, выходя из материнской утробы, и ко второму году жизни ноги его были подтянуты к телу, как у лягушки, грудь сплющена, а позвоночник изогнут. Он умер, не дотянув и до трех лет.
Она сворачивает бумагу, перетягивает свиток своей ленточкой вместо бечевки. И забирает Водяное Древо к себе в комнату. Теперь это принадлежит ей. И впредь она будет хранить и восстанавливать родословие, растолковывать и передавать дальше.
За ужином он не смотрит ей в глаза. Мать приготовила яичное карри в густом красном соусе, трижды надрезав сваренные вкрутую яйца, чтобы они получше пропитались соусом. Мама, с заплаканными глазами, ни разу не спросила, что за разговор на повышенных тонах произошел в спальне мужа за закрытой дверью.
Вечером мать и дочь молятся вместе. “Да возопиют живые и усопшие вместе: Благословен Грядый, и грядущий, и воскресит мертвых”.
Потом, сняв платок с головы и баюкая Малютку Мол, ощущая пустоту там, где должен быть ДжоДжо, она чувствует себя вправе откровенно поговорить с Богом.
“Господь, возможно, Ты не хочешь исцелить эту боль по какой-то неведомой мне причине. Но если Ты не хочешь или не можешь, тогда пошли нам того, кто сможет”.
Часть вторая
Глава 10
Рыбка под столом
1919, Глазго
По субботам мама Дигби водила его в Гэти[52], лучшее место Глазго. Годы спустя при воспоминании о тех днях нос его будет чесаться, как будто он вновь вдыхает запах чистящего средства, исходящий от кресел. Но даже эта едучая жидкость не могла перебить вонь стоялого табака, которой были пропитаны стены и пол.
У Джонни, продавца билетов в театре, после его боксерских боев в прошлом глаза смотрели в разные стороны. Он больше не указывал, что десятилетнему мальчику не стоит посещать шоу в варьете. Представление открывали танцовщицы, и мамина ладонь прикрывала глаза Дигби, пока не появлялся второразрядный фокусник. Мушки перед глазами Дигби продолжали плавать вплоть до следующего действия, которым обычно бывали шпагоглотатель или жонглер.
После антракта публика, изрядно принявшая на грудь крепкого, становилась более шумной и менее снисходительной. Дым от самокруток сгущался плотнее, чем утренний туман над Клайдом. Комики выходили на сцену, точно гладиаторы, но размахивая сигаретами вместо жезлов. За восемь минут сигарета догорает до окурка, обжигающего пальцы, и ровно столько они должны были продержаться на сцене. Большинство освистывали уже через пять.
Мама все это время сидела с каменным лицом, мысли ее витали далеко, и это всегда пугало Дигби. Вспоминала, как сама выступала на сцене? Она ведь отказалась от актерской карьеры и, возможно, славы, потому что он должен был появиться на свет. Или думала о мужчине, с которым встретилась здесь, о том, кто разрушил ее жизнь? Дигби разглядывал артистов. Отца он никогда не видел, но Арчи Килгур был из их племени – колесят по городам, в каждом городе они завсегдатаи одних и тех же пабов (в Глазго это “Сарри Хейд”), лица трактирщиков знакомы им лучше, чем лица собственных чад, а на ночлег они устраиваются в какой-нибудь театральной норе, вроде пансиона миссис Макинтайр. Мама однажды рассказала Дигби, как Арчи Килгур приколотил кусок копченой селедки под столешницей обеденного стола, когда миссис Макинтайр отказала ему в кредите. Дигби спросил, а почему под столешницей. “Ну глянь-ка сам, Дигс. Это же распоследнее место, куда суваться будут, коли завоняет. Во всем он такой. Пластается так, ублюдок, что под брюхом у змеи просквозит и шляпы не снимет”.
Кто-то говорил, что Арчи уплыл в Канаду, другие – что никуда он не уезжал. У Арчи Килгура настоящий талант исчезать. Все, что Дигби о нем знает, – папаша его был из тех людей, что оставляют под столом пришпиленную рыбину, а Дигби он оставил пришпиленным к материнской утробе. Дигби думает, что и в других городах, где гастролировал отец, у него наверняка имеются братья и сестры: в Эдинбурге и Стирлинге, Данди и Дамфри, в Абердине…
Представление всегда завершалось зажигательной “Для каждого солдата есть девчонка”, и песенка все еще звучала в ушах Дигби, когда они выходили из зала. Он радостно взбудоражен и будто парит над землей – точно сделался легче воздуха и мечтал, чтобы и мамуля чувствовала то же самое.
Дигби казалось, что никогда в прежние времена жизнь не была такой захватывающей, как нынче. Братья Райт совершили первый полет на аппарате тяжелее воздуха в 1903 году, но, как знает каждый шотландский школьник, вскоре то же самое повторили братья Борнуэлл в парке Коузхед. Дигби мечтал управлять бипланом, а еще лучше – самому стать легче воздуха! Тогда он прокатил бы мамулю над Глазго и улетел с ней далеко-далеко. И она смеялась бы. И гордилась им…
По средам они устраивали себе угощение: чай в Гэллоугейт[53]. Дигби ждал, пока мама и толпа из тысяч других “зингерш” вывалится за ворота фабрики по окончании смены. Продди[54] появлялись первыми. Католики, к которым относится и его мама, выходили за ними; им платили меньше, и работа у них тяжелее. Ее мастер был из продди и болельщик “Рэйнджерс”[55], разумеется. Глазго, как большинство шотландских городов, жестко разделен по религиозному принципу. Его деда с бабкой занесло сюда с Ирландской волной, случившейся после Голода[56], которая превратила Ист-Энд в цитадель католицизма в Глазго (и базу футбольной команды “Селтик”).
Дигби обожал смотреть на квадратную башню с часами, высотой в шесть этажей. Здания фабрики тянулись по другую от нее сторону, как поезд в милю длиной. С каждой стороны башни, самой знаменитой достопримечательности Глазго, громадные часы по две тонны весом, на циферблате которых гигантскими буквами, видными с любого конца города, написано SINGER. Дигби мог накорябать печатными буквами SINGER, еще когда свое имя не умел писать. Стоя так близко и глядя вверх, Дигби ощущал присутствие Бога, которого зовут SINGER. У Бога были собственные поезда и железнодорожная станция, чтобы отправлять детали из литейного цеха в Хеленсбург, Думбартон или Глазго. Бог производил миллион швейных машин в год, на него работали пятнадцать тысяч человек. Благодаря Богу мама могла потратиться на бумагу для рисования и акварель для Дигби. Бог позволил им с мамой переехать от Бабули и жить отдельно, дурачиться, шуметь и лопать варенье с чаем хоть каждый день, если пожелают, и так они и делали.
Грохот сотен подбитых гвоздями башмаков означал, что рабочие спускаются по лестнице. Вскоре он замечал маму, рыжеволосую и прекрасную. Мужчины кидали на нее такие взгляды, что он тут же готов был броситься на них с кулаками. “Хорош! Я завязала с мужиками, Дигс, – сказала она как-то, отшив очередного ухажера. – Прожорливые лживые пасти, больше ничего”.
Мать приближалась к нему без обычной улыбки.
– Они урезали сборщиц до одной дюжины, а остальные, значить, должны прикрыть прореху. Ты хоть надорвись – до ветру сбегать времени нет. И это все заради “высокой производительности”!
Сегодня чая не будет. Вместо чая мамины подруги собрались за их обеденным столом и замышляли забастовку. Дигби слышал, как они говорили, что Бог – мистер Айзек Зингер – на самом деле Дьявол. Бог оказался многоженцем с двумя дюжинами детей от разных жен и любовниц. По их словам, Бог больше похож на Арчи Килгура. Всю следующую неделю мама каждый вечер уходила на собрания, организовывала митинги поддержки, возвращалась поздно, с сияющими глазами, но бледная от усталости.
Он нарезает хлеб к чаю, когда вдруг слышит ее шаги на лестнице, но ведь еще слишком рано. Его охватывает дурное предчувствие.
– Они вытурили меня, Дигс. Вышвырнули твою мамку на улицу. Нашли повод.
Если она рассчитывала, что подруги выступят в ее защиту, она жестоко ошиблась. Поскольку она больше не работница фабрики, поддержка из забастовочного фонда ей не полагается.
Делать нечего, пришлось возвращаться к Бабуле, надутой ипохондричке, которая крестится всякий раз, как заслышит церковные колокола, а Дигби называет “бастардом”. Дигби с матерью спят в гостиной; больше никакого варенья, а порой даже и никакого хлеба. Когда он уходит в школу, мама лежит, накрыв голову одеялом, а когда возвращается, застает ее в том же виде. Ее пустые глаза напоминают глаза пикши, выложенной рядком на льду на рыбном рынке Бриггейт.
– Эт все твои гулянки в “Гэти”, – с наслаждением выговаривает Бабуля.
Вот так и рассыпается мир мальчика. Четырехглазое чудовище на башне следит за каждым его шагом по пути из школы. И никакие мелодии из шоу больше не звучат в его голове. Они с мамой незваные гости в доме, где один могильный дух да старческие газы “старой фарисейки-ехидины”, как любит приговаривать мама.
Доктор, явившийся в убогую квартирку, сказал, что у мамы “кататония”. Когда она смогла встать, Дигби проводил ее до фабричной конторы и аптеки. Работа, любая работа, быстро исцелила бы ее. Но с таким же успехом она могла нацепить на себя табличку РЫЖАЯ АГИТАТОРША ФЕНИЕВ. Так ее обозвал мясник. Она прибирается в чужих домах, когда может, – сама инвалид, а нанимается ухаживать за инвалидами.
Зимы такие холодные, что Дигби не снимает шапку даже дома, но одну перчатку все же приходится стягивать, чтобы делать уроки. Бабуля пилит дочь: “Да займись уже чем-нить. У нас ни угля, ни жратвы. Коль ни на что не способна, кроме как ноги раздвигать, ну так валяй. Ты ж так и вляпалась в энто дерьмо”.
Спустя семь лет после маминого увольнения они все еще живут у Бабули. После школы он по привычке приглядывает за матерью, сидит рядом с ней, делая наброски в старом, заплесневелом гроссбухе, который отдал ему сосед. Пером и чернилами он создает яркий, чувственный мир. Прекрасные женщины на высоких каблуках, превращающих лодыжки в эротичные колонны, женщины с узкими плечами и пышными бедрами, в изящных шляпках и меховых манто. Там и сям из декольте выступает грудь. Газетная реклама отлично подходит для совершенствования техники. Глаза, которые он рисует, становятся все лучше, крошечный квадратик отраженного света над радужкой оживляет его творения, позволяет им созерцать своего создателя. Когда в библиотеке “Клайдбанк” на Думбартон-роуд Дигби обнаруживает книжку по анатомии, женщины на его рисунках обзаводятся прозрачной кожей, через которую видны кости и суставы. Его успокаивает мысль о том, что как бы люди ни разочаровывали, их кости, мышцы и всякие внутренности неизменны, их внутренняя архитектура постоянна и одинакова… за исключением “наружных половых органов”. Интимные места женщины гораздо менее занятны, чем он ожидал, – мохнатый холмик, двугубый портал, который скрывает больше, чем показывает, оставляя в еще большем недоумении.
Мама когда-то была самой роскошной женщиной из тех, что он знал. Но сейчас, после стольких лет безработицы, она прекратила бороться, почти не говорит, часами лежит в постели. Однако и в линии руки, прикрывающей щеку, и в изгибе между предплечьем и запястьем, и в переходе от ладони к пальцам сохранилась природная грация. Рыжие волосы больше не похожи на пламя, и седая прядь на макушке – как будто мама вляпалась в сырую побелку. По временам она пристально смотрит на сына, словно наказывая за что-то, и он начинает чувствовать себя виноватым во всех ее бедах. Она постарела, но он не верит, что мама когда-нибудь станет похожа на Бабулю, с этими воспаленными трещинками в углах рта, подпорками для матерщины.
Мать напустилась на него один-единственный раз, когда Дигби сказал, что бросит школу и пойдет работать.
– Валяй, и я сразу сдохну, – в ярости шипела она. – Тока коли выбьешься в люди, сможешь вытащить мать из этого ада. Да я тока об твоем будущем и мечтаю. Не смей порушить мои надежды, не подведи меня.
В итоге это она его подвела. К тому времени он уже почти взрослый, со стипендией Карнеги-колледжа, пробившийся вопреки всему. Он собирается изучать медицину, поскольку ему интересно, как устроено человеческое тело и как оно работает.
В воскресенье, после целого дня занятий, он возвращается домой. Бабули нет. А над его письменным столом мать непристойно показывает ему язык – язык в три раза больше обычного и весь синий. Ее лягушачьи глаза насмехаются над ним. Судя по запаху в комнате, она обделалась. Мать свисает с потолка, пальцы ног не касаются земли. В синюшную плоть шеи врезался его школьный галстук.
Дигби шарахается к двери, роняет учебники. Вот поэтому он и не спал ночами. Вот этого он и боялся, хотя никогда не осмеливался произнести вслух. Он слишком напуган, чтобы приблизиться к телу и снять его.
Он позволяет старухе самостоятельно сделать жуткое открытие. Бабуля визжит, а потом рыдания заполняют комнату. Пулиция снимает тело. Соседи глазеют на завернутую в простыню фигуру. Душа его матери была мертва уже много лет, а теперь за ней последовало и тело.
Дигби выходит на улицу. Двадцать второе мая, четверть пути, отмеренного веку, десятилетие после войны, породившей чудовищную бойню. Еще одна смерть едва ли имеет значение, но для него она самая важная. Ноги несут Дигби прочь. Он хочет к людям, к свету, к смеху. И вот он в пабе, битком набитом гуляками. Приходится орать бармену, требуя свои две пинты. “За папаню и его подружку”, – возглашает он, кивая в зал. Мерзкий тост. Он думает про Арчи Килгура. А ты выпиваешь сегодня, а, бродяга? Ты сегодня овдовел, не знал, а? Для матери у него нет слез, только гневные слова. Ты подумала обо мне, Ма? Думаешь, сбежала в лучшее место?
Его вышвыривают из паба, он не понимает почему. Позже Дигби оказывается в маленькой темной пивной, где пьют в суровом молчании. Втискивается в кучку парней, которые встречают его злобными взглядами. “Две пинты за папаню”, – повторяет он, но, не потрудившись уйти за стол, осушает первый стакан прямо у стойки. Замечает на стене прямо перед собой сине-белый флажок, а потом видит, как эти цвета повторяются на шарфах мрачных мужиков вокруг. Твою ж мать, я в пабе “Рэйнджерс”! Он пытается сдержать смех, но безуспешно. “Долбаные «Рэйнджерс»!” – трясет он головой. Он что, сказал это вслух?
Мужик за стойкой велит Дигби убираться. У Дигби есть предложение получше: он выпьет свою вторую пинту, не сходя с места.
Кулак врезается ему в ухо. Бутылка разлетается вдребезги, и что-то острое впивается в угол рта. Хозяин обходит залитую пивом стойку и вышвыривает его на тротуар. “Проваливай, пока они не дорезали тебе улыбку до конца, а вместе с ней и тебя!” Дигби ковыляет за угол, протрезвев от осознания того, что эти молчаливые мужики могли решить, что убийство гораздо веселее попойки.
Из газетного киоска на углу на него торжествующе лыбится море одинаковых симпатичных рож. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЛИНДБЕРГА, кричат заголовки. ГЕРОЙ АМЕРИКИ. Сладковатая влага, стекающая в рот, имеет металлический привкус. Рукав красный. Взгляд не фокусируется. Неужели человек в самом деле смог перелететь через Атлантику? Да! Написано же крупными буквами. На аэроплане под названием Дух Сент-Луиса. Линдберг приземлился, а его мать вознеслась. Дигби совсем не чувствует боли.
Глава 11
Каста
1933, Мадрас
“Путешествие расширяет сознание и облегчает кишечник”. Бараний кебаб, купленный на уличном лотке в Порт-Саиде, поставил Дигби на колени, заточив на двое суток в каюте, – время вполне достаточное, чтобы оценить напутственные слова профессора Алана Элдера в Глазго. К моменту, когда Дигби оклемался, они уже покинули Суэцкий канал и проходили Баб-эль-Мандеб, Врата слез. Этот узкий пролив, едва восемнадцати миль в ширину, соединяет Красное море с Индийским океаном. С одного борта видно Джибути, с другого – Йемен. За вычетом трехмесячной командировки в Лондон все двадцать пять лет своей земной жизни Дигби провел в Глазго и мог бы остаться там до конца дней, так никогда и не увидев этого слияния вод, так и не познав, что Ла-Манш, Средиземное море, Красное море и Индийский океан, несмотря на все их различия, суть одно. Все воды едины и связаны между собой, и только земли и люди разделены. А его земля – это место, где он не может более оставаться.
Судно под его ногами вздыхает и стонет, как живое существо. Дигби бродит по палубе в широкополой шляпе, хотя она не защищает от блеска солнечных лучей, отражающихся от поверхности воды и покрывающих его лицо загаром, от чего заметнее становится бледный неровный шрам, рассекающий левую щеку от угла рта до левого уха. Изменчивый нрав и цвет Аравийского моря – лазурный, густо-синий и черный – отражают приливы и отливы его мыслей. Горизонт вздымается и опадает, соленые брызги холодят лицо, Дигби чувствует, как, стоя неподвижно на месте, он в то же время стремится к собственному будущему.
Дигби заглядывает в пассажирский салон первого класса, ему неловко от собственного любопытства, но роскошь вызывает благоговейный восторг – диваны и бархатные кресла, тяжелые парчовые шторы и раздвижные двери, пропускающие лакеев и горничных обслужить гостей. На борту судна махараджа, он и его свита забронировали весь первый класс. Дигби плывет классом ниже, у него крошечная, но отдельная каюта. А ниже есть еще два класса, и существуют они настолько отдельно, что он их едва слышит, но никогда не видит.
Волнение на море вызывает то ли морскую болезнь, то ли рецидив кебабной хвори. Если ты сам врач, трудно быть объективным в отношении собственных симптомов. Когда Дигби не появляется в столовой уже во второй раз, Банерджи, сидящий за тем же столом, заглядывает к нему в каюту – проверить, как дела.
Встревоженный видом Дигби, который с трудом может поднять голову, Банерджи возвращается с бульоном и успокоительным. Запах настойки камфары и аниса поселяется в каюте и успокаивает желудок. Банерджи – или Банни, как предложил он Дигби называть его, – около тридцати, у него детское лицо и телосложение мальчика, выросшего на молоке и сливках, не знавшего вкуса мяса; смугловатая кожа, которую он прилежно защищает от солнца, светлее, чем загар Дигби. Для барристера Банни выглядит чересчур юным, его приняли в коллегию адвокатов после четырех лет учебы в Лондоне. Путь, который он избрал, подобен пути Ганди в конце прошлого века, как сдержанно, но с гордостью отмечает Банерджи.
Когда Дигби возвращается за обеденный стол, миссис Энн Симмондс, жена районного налогового инспектора в округе Мадрас, сообщает: “Сегодня вечером утка”, словно и не заметив недавнего отсутствия Дигби. На ее широком лице нет ни единого угла, ни единой ровной линии, она напоминает Дигби бульдога с влажными глазами в обвисших складках. С первого дня миссис Симмондс взялась командовать за столом, ведя себя, как пассажир первого класса, по доброте душевной решивший трапезничать с простым людом. Ежевечерне слушая ее разглагольствования, Дигби вспоминает свою трехмесячную стажировку в больнице Святого Барта в Лондоне – награда за блестяще сданный экзамен, который он сдал лучше всех на третьем курсе медицинской школы. Пока он не оказался в палатах Барта, Дигби и не подозревал, что у него есть какой-то акцент и что из-за этого люди будут считать его тупой деревенщиной. Пробуждение оказалось жестоким. Полностью избавиться от акцента он не смог, но сумел смягчить его; он прилагал огромные усилия, чтобы избегать слов и фраз, которые выдают его происхождение. Впрочем, ему все равно не удалось одурачить миссис Симмондс, которая полностью игнорировала его присутствие. И сейчас Дигби слышит, как она заявляет собеседнику, сидящему напротив: “Мы, англичане, знаем, что лучше для Индии. Вот когда вы туда попадете, сами увидите”.
Позже тем же вечером Дигби прогуливается по палубе с Банни. Несмотря на зародившуюся между ними близость, политику они не обсуждают. Дигби признается в полном своем невежестве по части мира за пределами Глазго, да и вообще за пределами больницы.
– Последние несколько лет я фактически прожил в отделении. Газета могла попасть в руки, если только вдруг оказывалась под повязкой на ране или в животе, который я оперировал.
Он компенсировал упущенное, штудируя газеты в судовой библиотеке. Заголовки предупреждают о намерении Германии начать перевооружение, вопреки условиям Версальского договора. Воинственный новый канцлер обещает вывести страну из экономической разрухи. Но об Индии новостей мало.
– Ты мог бы расспросить миссис Симмондс.
– Нет уж, благодарю, – фыркает Дигби.
Банни улыбается, протирая очки и косясь на Дигби.
– Зачем ты отправился в Индию, Дигби?
Облака на горизонте выстраиваются в ровную линию. Где-то там земля. Они сейчас плывут вдоль западного побережья Индии, мимо Каликута или Кочина.
– Долго рассказывать, Банни. Я влюбился в хирургию. Был хорошим студентом, потом хорошим стажером в хирургическом отделении. Любознательным, азартным. Ответственным. Если был не на дежурстве, то болтался на “скорой”, надеясь пристроиться на какой-нибудь несчастный случай. Но когда настало время поступать в хирургическую ординатуру в Глазго, оказалось, что я рылом не вышел. А если не в Глазго, то вообще никаких шансов. Поэтому я вступил в Индийскую медицинскую службу, надеясь все же стать толковым хирургом.
– Ты католик, в этом все дело? Как они догадались? – недоумевает Банерджи. – По имени?
– Нет. Мое имя может быть как протестантским, так и католическим. А вот, к примеру, Патрик, Тимоти или Дэвид – это, считай, сразу провал. Но я получил стипендию в колледже Святого Алоизия. Заведение иезуитов. Такое не скроешь. Но и без того я как будто подаю тайные знаки, на мне словно клеймо. – Дигби с сомнением смотрит на собеседника. – Уверен, это трудно понять.
– Вовсе нет, – смеется Банерджи. – Напротив, очень знакомо.
Дигби смущен. Ужасно глупо жаловаться человеку, который с рождения живет под игом британского правления. Но Банни и по виду, и по речи гораздо больше англичанин, чем Дигби.
– Прости…
– За что ты извиняешься, Дигби? Ты жертва кастовой системы. Мы в Индии веками так относимся друг к другу. Неотъемлемые права браминов. Отсутствие каких бы то ни было прав у неприкасаемых. И весь спектр вариаций между теми и другими. Каждый, на кого смотрят свысока, в то же время сам может смотреть свысока на кого-то другого. Кроме самых низших каст. Британцы просто пришли и опустили нас всех на ступеньку ниже.
Судно огибает южную оконечность Индии и направляется к Коромандельскому берегу[57]. В полночь Дигби стоит на палубе совсем один. Черные волны мерцают зеленым и синим, словно в глубинах океана бушует пожар. И он единственный свидетель невыносимо прекрасного, но таинственного зрелища. (Только на следующий день он узнает от стюарда, что это светящийся планктон, редкое явление.) Для Дигби это как будто еще одно подтверждение, что в путешествии он сбросил прошлое, как грязную перчатку. Он отшвырнул от себя Глазго, разоренный Великой депрессией, отбросил скороговорку его жаргона, оттолкнул последних оставшихся в живых родственников, утратил все, кроме гноящейся раны, которую этот город оставил на нем. Единственной отраслью, которая процветала в Глазго, было насилие. Оно бурлило в Горбалс[58] за стенами больницы и повсюду в городе, каждую ночь оно являло себя в палатах скорой помощи. Дигби, как стажер, зашивал лица, профессионально исполосованные бритвами воюющих банд, “Билли Бойз” или “Норман Конкс”, – симметричная пара косых разрезов от углов рта к ушам, на всю жизнь отмечающих жертву “улыбкой Глазго”. Дигби считал, что ему повезло, у него шрам только с одной стороны; разбитая бутылка, не такая острая, как бритва, оставила всего лишь неровную ложбинку рядом с естественной. Бледная печать той жизни, которую он хочет забыть. Он мог бы простить Глазго свой шрам, свои разочарования, самоубийство матери. Это не причина для бегства – даже в страдании, если оно привычно, есть утешение. Но вот чего он простить не мог, так это того, как после рабского труда, после его неистовой, почти маниакальной преданности хирургии он подошел к заветной двери и не получил пароль. Его наставник, профессор Элдер, человек вне каст, хотя и выходец из высших слоев Эдинбурга, искренне попытался помочь, предложив выход. “Я знаю место, где вы получите колоссальный опыт и, если повезет, найдете великих учителей в хирургии. Что скажете насчет Индийской медицинской службы?” Твое-то от тебя не уйдет, думает Дигби. Мама частенько так говорила. Что ж, коли на роду написано, сбудется непременно.
Сойдя с судна в Мадрасе, он будто попал на другую планету. Население города составляет шестьсот тысяч человек, и почти все они собрались на пристани, или так, по крайней мере, кажется Дигби – из-за какофонии звуков, суматохи, толпы и жары. Он вдыхает запахи дубленой кожи, хлопка, вяленой рыбы, благовоний и соленой воды – главные ноты древнего аромата этой тысячелетней цивилизации.
Муравьиной цепочкой тянутся из корабельного трюма докеры, сгибаясь под тяжестью джутовых мешков, перекинутых через плечо, их черная кожа лоснится от пота. Женщины, толпящиеся около таможни, напоминают букет из ярко-зеленых, оранжевых и красных сари с яркими узорами. Он зачарованно разглядывает блестящие искры камешков на крыльях носа, красные отметины на поблескивающих лбах, золотые украшения, свисающие с ушей и словно отражающиеся в мерцании тяжелых складок расшитой ткани. Рикшы и повозки, выстроившиеся вдоль пристани, раскрашены во все цвета радуги. Яркая, раскованная палитра Мадраса – это откровение. Нечто внутри него, прежде зажатое, начинает распускаться.
В помещении таможни он наблюдает, как миссис Энн Симмондс приветствует маленького коренастого мужчину, вероятно мужа, налогового инспектора, – ни одна из сторон не демонстрирует особой радости воссоединения. Она, вскинув подбородок, шагает к маленькому автомобилю, вздернутый нос устремлен в сторону Вестминстера, а на лице истинно королевское выражение.
– Эй! Я сказал нет! Что за наглый бабу́![59] Задать тебе трепку?
Дигби оборачивается и видит, как краснолицый англичанин поднимается из-за стойки таможни и нависает над Банерджи. Картина вызывает у него озноб, мучительное осознание того, что он одним фактом своего прибытия становится оккупантом; его неотъемлемое право – первым сойти на берег, быстро получить печать на своих документах и никогда не слышать, чтобы к нему обращались подобным образом.
В сыром сарайчике таможни стрелки часов замерли – в ожидании, что же дальше. В парниковом воздухе дыхание Дигби учащается, и он рефлекторно делает пару шагов, намереваясь вмешаться.
Но тут вступается другой таможенник. Банерджи хочет всего лишь сойти на берег на двенадцать часов, пока судно стоит у причала, чтобы навестить друга в Мадрасе, прежде чем продолжить путь на север, в Калькутту. Старший чиновник бросает неприязненный взгляд на своего подчиненного, ставит печать в документы Банерджи и пропускает его. Взгляд Банни падает на Дигби. Полуприкрытые глаза стали твердыми, как камень, и в них мрачное негодование и непоколебимая решимость порабощенного народа, который выжидает своего часа. Затем это выражение растворяется. Он одаривает Дигби стоической улыбкой и направляется к отдельному выходу для цветных. Не махнув рукой на прощанье.
Глава 12
Два просто больших
1933, Мадрас
Клерк из больницы, который встречает его в порту, потрясен тем, что у Дигби с собой только потертый чемодан. Они поехали на рикше, которую тянули не вьючные животные, а человек. Дигби плохо соображает из-за жары и mal de debarquement[60], он жадно впитывает картинки – корова, слоняющаяся посреди широкого проспекта; мелькающие с обеих сторон темные лица; сапожник, занимающийся своим делом прямо на пыльном тротуаре; приземистые беленые строения с нарисованными от руки вывесками и кучка хижин на берегу стоячего пруда. Они подкатывают к бунгало недалеко от бухты и рядом с госпиталем “Лонгмер”, его новым местом работы.
Босой низкорослый мужчина в белой рубахе и белых штанах надевает на шею Дигби жасминовую гирлянду, затем кланяется, сложив ладони под подбородком. Мутхусами будет слугой и поваром Дигби. Как человек, привыкший называть банку сардин своим завтраком, обедом и ужином, Дигби не может взять в толк, что значит иметь собственного повара, не говоря уж о гирляндах. Белоснежные зубы Мутху ослепительно сияют на угольно-темном лице, на лбу у него пеплом нарисованы три горизонтальные полосы – вибути, как позже узнает Дигби, священные индуистские знаки; Дигби увидит, как он будет наносить их каждое утро, после воскурения камфоры и молитвы перед маленьким изображением божества, пристроенным на кухонной полке. Седеющие волосы Мутху разделены на пробор и густо умащены, весь он излучает доброжелательность. Дигби умывается и садится за обед, приготовленный Мутху, – рис со штукой, которую Мутху называет “корма из цыпленка”, курица в ярко-оранжевом соусе. Дигби проголодался, и эта корма, смешанная с рисом, очень аппетитная, настоящее буйство вкусов на языке. Он доедает почти все, прежде чем с запозданием замечает, что рот его горит, а лоб усеян каплями пота. Загасив пламя ледяной водой, Дигби ложится отдохнуть под лениво вращающимся вентилятором. Последняя трезвая мысль, что надо попросить Мутху класть поменьше горючих ингредиентов в стряпню, пока он не попривыкнет. А потом засыпает на целых одиннадцать часов.
На следующее утро помощник гражданского хирурга Дигби Килгур является на службу в комплекс двухэтажных беленых зданий, который оказывается госпиталем “Лонгмер”. Он расположен достаточно близко к порту, чтобы запахи дегтя и соленой воды доносились до больничных палат. Дигби должен представиться гражданскому хирургу Клоду Арнольду, каковой, как выясняется, не слишком пунктуален. Проходит час, в течение которого секретарь Арнольда периодически произносит загадочную фразу “Доктор Арнольд в настоящий момент только что пришел, сэр”. Секретарь, и его помощник англо-индиец, и босоногий слуга дружно улыбаются Дигби. “Не желаете чаю, доктор? Или градусного кофе?” “Градусный кофе” оказывается приторно-сладким и вкусным, это кофе, сваренный в горячем вспененном молоке. А называется так, объяснили Дигби, потому что лактометр, которым проверяют, не разбавлено ли молоко, очень похож на градусник.
Крутящийся под потолком вентилятор шевелит края бумаг, придавленных камешком. Все прочее застыло неподвижно. Трое служащих демонстрируют томное мастерство не шевелить ни единым мускулом в этой удушающей жаре. Веки хорошенькой секретарши трепещут всякий раз, как он взглядывает в ее сторону, нечто вроде азбуки Морзе, думает Дигби. Изящные руки ее смуглы, но густо напудренное лицо белое как мел, особенно на фоне кроваво-красной губной помады и блестящих черных волос. Она напоминает ему девушек из варьете в свете софитов.
Ближе к полудню персонал вдруг начинает шелестеть бумагами; слуга встает. Они явно получили тайный сигнал. Минутой позже в дверях материализуется светловолосый англичанин лет сорока с небольшим, в щегольском белом льняном костюме и сверкающих коричневых туфлях, слуга подхватывает протянутый пробковый шлем. Присутствие Дигби англичанин отмечает движением брови. Судя по широким плечам, он бывший спортсмен, в целом привлекательный мужчина, но болезненный цвет лица и опухшие, налитые кровью глаза намекают на распутный образ жизни. Маленькие усики темнее, чем волосы на голове, и Дигби это почему-то кажется забавным.
Главный гражданский хирург Клод Арнольд изучает своего свежеприбывшего подчиненного, он видит молодого человека с густыми волосами, растущими “вдовьим мыском”[61], неправильной формы ямочкой на левой щеке, с мятым блейзером, перекинутым через локоть, и в шерстяных брюках, которые в Мадрасе может носить только мазохист. Дигби ежится под этим пристальным взглядом. Клод Арнольд уверен в себе, как школьник из хорошей семьи, столкнувшийся с представителем социальных низов. Он просматривает документы Дигби, и листы в его руках слегка подрагивают. Предлагает сигарету; бровь вновь взмывает вверх, когда Дигби отказывается, словно новичок провалил еще один экзамен. В конце концов, выпив кофе, Арнольд встает и жестом предлагает Дигби следовать за ним.
– В вашем ведении два хирургических отделения. Под моим руководством, разумеется, – бросает Арнольд через плечо. – Оба для местных. За ваши грехи, старина. Я веду отделения англо-индийцев и британцев. С вами будут работать два ДПВ, Питер и Кришнан. – Он с наслаждением затягивается сигаретой, будто бы демонстрируя Дигби, что тот упускает. – На ДПВ мне плевать. Я бы предпочел иметь настоящих врачей, чем этих пародийных бабу.
Дигби известно, что дипломированные практикующие врачи проходят сокращенный двухгодичный курс для получения диплома и имеют право заниматься медициной.
– Но это же Индия. Без них не обойтись – по крайней мере, нам так говорят.
Арнольд заходит в мужскую палату для местных.
– Где старшая сестра Онорин? – недовольно спрашивает он у смуглокожей медсестры, которая с улыбкой бросается ему навстречу.
Старшая сестра ушла в аптеку.
В длинной комнате с высоким потолком пациенты занимают койки вдоль стены, а те, кому не хватило места, лежат на матрасах между коек. Снаружи находится крытая терраса, где на циновках лежат еще пациенты. Мужчина с гротескно раздутым животом и изможденным лицом, на котором выделяются скулы, сидит на краю кровати, поддерживая себя руками-палочками. Встретившись взглядом с Дигби, он широко улыбается, но лицо его настолько высохло, что кажется, будто он скалится. Дигби кивает в ответ. Вид страдания ему знаком, этот язык не знает границ. Палата для женщин располагается напротив через коридор, и она тоже битком.
В англо-индийской палате доктора Клода Арнольда в настоящий момент всего один пациент плюс одинокий стажер при нем. Остальные тщательно заправленные койки стоят пустые. В британское отделение Арнольд Дигби не приглашает. Последняя, как он узнает позже, представляет собой шесть отдельных комнат на верхнем этаже, полностью свободных. Британцы и англо-индийцы могут выбрать для решения своих хирургических проблем Центральную больницу[62] рядом с вокзалом или даже Больницу Ройапетта[63].
На втором этаже следом за помывочной располагаются две операционные.
– Сегодня операционный день вашего отделения, – сообщает Арнольд. – Вам отвели вторник и пятницу. Для туземцев некоторое время не было хирурга. Ну да, у нас есть ДПВ. Они могли бы выполнить некоторые манипуляции, если бы я им позволил. Но сразу после, глазом моргнуть не успеете, они откроют в каком-нибудь городишке лавку и назовут себя хирургами. – Арнольд показывает на пробковую доску: – Взгляните, – и исчезает из виду.
Операционный лист на день впечатляет своей длиной: две ампутации, череда гидроцеле[64] и грыж и четыре Р&Д – рассечение и дренаж тропических абсцессов. Но никакой информации о серьезных операциях. Клод Арнольд возвращается, глаза у него блестят, чего прежде не замечалось. Дигби улавливает медицинский запашок, исходящий от главного хирурга.
– Итак, вы хирург, – с неожиданно теплой полуулыбкой констатирует Арнольд.
– Ну, не совсем, доктор Арнольд. Я, конечно, прошел полный курс и…
– Чепуха! Вы хирург! Кстати, зовите меня Клод. – Его новый задушевный тон – чисто интонации капитана крикетной команды, которому нужно десять ранов от последнего отбивающего. – Научитесь в процессе. И помните, Килгур, для этих людей выбор невелик – или вы, или никто. Дерзайте! – Уголки рта Клода приподнимаются, и непонятно, то ли он поделился секретом, то ли пошутил. – Хватайте быка за рога. – И продолжает, обращаясь к санитару: – Выдайте доктору Килгуру шкафчик и все, что потребуется.
На этом инструктаж заканчивается.
И, не успев опомниться, Дигби уже помыт, обряжен в халат и перчатки. Аромат этой операционной, находящейся через континенты от Глазго, знаком и привычен: эфир, хлороформ, фенол и стойкий гнойный запах недавно вскрытого абсцесса. Но на этом сходство с Глазго заканчивается. Дигби таращится на поразительное зрелище, обрамленное хирургическими салфетками, – мошонка, раздувшаяся до размеров арбуза, достигает коленных чашечек. Пенис утонул в отеке, как пупок тонет в тучном брюхе. Когда он прочел в списке “гидроцеле”, он совсем не так это себе представлял. Он рассчитывал увидеть умеренное количество жидкости, заполнившей пространство под tunica vaginalis[65], укрывающей тестикулы. Он оперировал одностороннее гидроцеле у ребенка, элементарная процедура. Но та нежная, размером с лимон припухлость мошонки не имеет ничего общего с этим бурым морщинистым бегемотом. В соседней операционной полным ходом идет ампутация. Пройдет немало времени, прежде чем ДПВ оттуда сможет ему помочь. Клод испарился. И Дигби наяву переживает ночной кошмар каждого хирурга: пациент под наркозом, полость тела открыта, но анатомия неузнаваема. Ноги у него подкашиваются.
Операционная сестра-тамилка, стоящая напротив, улыбается под маской.
– Это… крупная штука, – мычит Дигби, сложив руки в перчатках наподобие священника.
– Аах, да, доктор… Довольно большая, – соглашается сестра, и, судя по ее тону, “довольно большая” означает, что им повезло, а с мелким не стоило и возиться.
Голова ее, как и у Мутху, совершает движения, сбивающие его с толку: то, что в Шотландии означает “нет”, здесь становится “да”, наклон с поворотом.
– Но только до колен, – добавляет она с ноткой легкого разочарования.
В течение следующей минуты Дигби уясняет: гидроцеле (и паховые грыжи, как он вскоре узнает) подразделяются на “выше колен” и “ниже колен” и только последние на самом деле заслуживают называться “довольно большие”. Если бы данный образчик был рыбой, сестра, возможно, выбросила бы его назад в реку.
Дигби обливается потом. Чья-то рука вытирает ему лоб, прежде чем капли успевают упасть на пациента, – это босой санитар, который заодно отвечает и за эфирную маску. Операционная сестра открывает поднос с инструментами и ждет указаний.
– Вообще-то я никогда не видел ничего подобного, – тянет время Дигби.
– Довольно большое, – повторяет она, но с меньшим энтузиазмом, озадаченная тем, что доктор никак не делает разрез. Ее седые коллеги в Глазго могли бы на это ответить: “Ай, это отечная мошонка, и ты уж дважды энто сказал, но от болтовни-то она меньшей не станет, так хватай ножик-то и дуй вперед”.
Глава 13
Сверх меры
1933, Мадрас
Корпулентная белая женщина врывается в операционную, узловатыми пальцами прижимает к лицу хирургическую маску, в спешке позабыв про тесемки. Из-под криво сидящей шапочки выбиваются седые волосы.
– Я старшая сестра Онорин Карлтон. Опоздала к вам на обход, не успела поймать вас в отделении, – запыхавшись, говорит она. – Ай, бедняжка, вижу, Клод швырнул вас прямо в бой. Боже милосердный! Мог бы дать время встать на ноги, освоиться, – тараторит она с заметным знакомым акцентом, сразу ясно, что она джорди[66].
Он чуть отступает от стола.
– Сестра, я…
Синие глаза в гнездах из тонких морщинок смотрят внимательно и понимающе.
Она обходит стол, понижает голос до шепота:
– Все ведь в поряааадке?
– Да, да! Благодарю вас… То есть нет… Я в некотором затруднении, – шепчет он в ответ. – Я бы хотел сначала осмотреть пациента. Мне бы подумать, прикинуть план операции… Я оперировал гидроцеле, но, сестра, это – я не понимаю, с чего начинать.
– Ай, ну конечно! – машет она рукой. – Питер или Кришнан могли бы помочь, но оба заняты. Вот что я вам скажу: не сдались вам ни разу никакие помощники, но сегодня ваш первый день, так что, если вы возражений не имеете, я сама пойду в помывочную подготовлюсь.
Он бы ее расцеловал, но она уже убежала. Дигби расцепляет руки и поправляет салфетки вокруг коричневой дыни – надо же чем-то заняться. Сестра-ассистентка одобрительно кивает. Дигби не привык к такому почтительному отношению со стороны персонала. В Глазго его шпыняли сестры, он был объектом для издевок и для ординатора, и для врача-консультанта. Дело не в религии, просто медицинская иерархия, хотя они не гнушались спрашивать: “В какую школу-та ходил-та, ась?” или выяснять его футбольные пристрастия: “Ну и за кого булеешь-та, э?” Со стыдом Дигби осознал, что здесь, в Британской Индии, он белый и одно это возвышает его над всеми, кто не таков. Сестре и делать ничего не надо, чтобы усугубить его смущение.
– Десядинадпятнадцать, доктор? – вежливо осведомляется сестра.
– Он говорит, что предпочитает скальпель номер одиннадцать, спасибо, сестра, – отвечает за него старшая сестра Онорин, возникшая у стола как раз вовремя, чтобы расшифровать вопрос, и теперь у нее выговор, достойный дикторов Би-би-си.
Онорин обеими руками хватает мошонку, как регбийный мяч, который собирается доставить в зачетную зону.
– У нас в Мадрасе очень много филяриоза[67]. Он закупоривает лимфатические сосуды. Все обращают внимание на раздутые ноги – слоновость, – но в каждой распухшей ноге полсотни этих тварей. – Она туго натягивает кожу. – Я бы сначала сделала длинный вертикальный разрез кожи вот здесь. – Она показывает справа от срединного шва, темной прожилки над перегородкой, которая делит мошонку на два отдела.
Кожа расступается под лезвием скальпеля, по краям струится кровь. Останавливая кровотечение, Дигби успокаивается. Сердце замедляет ритм. Порядок восстановлен.
По совету сестры Дигби обматывает марлей указательный палец и отодвигает кожу мошонки от натянутого пузыря, высвобождая его со всех сторон, пока заполненный жидкостью мешок полностью не выйдет из половины мошонки, эдакое блестящее громадное яйцо Фаберже.
– Теперь можете дренировать. Я принесу таз, – говорит она, отворачиваясь.
Но Дигби уже проткнул пузырь. Струя прозрачной желтой жидкости ударяет ему прямо в лицо, прежде чем он успевает отдернуть голову. Онорин подхватывает мошонку и направляет фонтан в таз.
– Ну что ж, поздравляю с крещением, красавчик, – хохочет она.
Санитар вытирает ему глаза.
Когда пузырь опадает, Дигби обрезает лишнюю ткань мешочка, оставляя только краешек, а затем зашивает края разреза.
– Из этого можно целую рубаху сшить, – задумчиво говорит Онорин, приподнимая блестящий лоскут иссеченной кожи.
Он повторяет процедуру с другой стороны мошонки и зашивает все окончательно.
– Моя глубочайшая благодарность, старшая сестра. Не представляю, что бы я без вас делал.
– Зови нас Онорин, милок, – говорит она. – Ты блестяще справился. Это точно такая же операция, которую ты делал в Шотландии, просто патология чрезмерна.
В этом слове сформулировано первое впечатление Дигби об Индии. Этот термин он будет часто использовать, описывая привычные заболевания, которые в тропиках принимают гротескные масштабы, – “чрезмерный”.
Каждый день Дигби едет на работу на велосипеде, потому что не может допустить, чтобы его, здорового человека, тащил на себе рикша. Этим утром на маленькой улочке рядом со своим бунгало он обнаруживает ковер из желтых цветов, осыпавшихся с высокого рожкового дерева. Он сворачивает на пыльную оживленную магистраль и обгоняет дхо́би[68] с громадным узлом белья на велосипедном багажнике. Баньяновое дерево на пути у Дигби – это центр деловой активности. Составитель писем уже приступил к работе: усевшись со скрещенными ногами и пристроив на бедрах картонку в качестве письменного стола, он выводит текст под диктовку женщины. Уличный торговец раскладывает пластмассовые браслеты на тряпке, расстеленной прямо на земле; знахарь, удаляющий серные пробки из ушей, ждет клиентов. По другую сторону дерева предсказатель в шафрановых одеждах помахивает колодой карт, разминаясь перед началом рабочего дня, рядом с ним неизменная клетка с попугаем. Дигби уже видел раньше, как попугай торжественно появляется из клетки, дабы вынуть карту, открывающую судьбу клиента, и как затем, бросив тоскующий взгляд в небеса, птица возвращается в свою тюрьму.
Проезжая мимо лотка с чаем, Дигби замечает, как клиент щурится, чтобы разглядеть мир сквозь молочно-белые роговицы. Выступающие надбровья, провалившийся вогнутый нос – у мужчины врожденный сифилис, ни малейшего сомнения. Если бы Дигби было кому писать письма, он, наверное, составил бы целый свод своих утренних наблюдений, описал хрупких изящных тамилов с их точеными римскими чертами лица, сияющими глазами и вечными улыбками. Рядом с ними он чувствует себя бледным, прыщавым и слишком уязвимым перед солнцем.
Дигби погрузился в руководство туземным хирургическим отделением. Его ДПВ, Питер и Кришнан, мастера мелких операций: гидроцеле, обрезания, ампутации, уретральные стенозы, дренирование абсцессов, удаление липом и кист. Они щедро делятся с ним своими навыками. Дигби подражает ДПВ и в остальном, выпивая в день несколько галлонов воды, заедая ее солевыми таблетками или соленым ла́сси[69]. Жара и влажность не ослабевают. Говорят, бывает короткий сезон дождей, хотя по большей части его и назвать так трудно.
До прибытия Дигби туземных пациентов, которым необходимо было серьезное хирургическое лечение – резекция щитовидной железы, мастэктомия, удаление язвы двенадцатиперстной кишки, опухоли головы и шеи, – отправляли в Мадрасский медицинский колледж или в Центральную больницу. Теперь Дигби берет на себя несколько крупных операций, в которых он чувствует себя уверенно, из них самая распространенная – лечение язвенной болезни. Бессмысленно прописывать ежедневный прием антацидов пациенту с застарелой язвой, который едва зарабатывает себе на кусок хлеба. В ходе операции Дигби не трогает язву в покрытой шрамами двенадцатиперстной кишке, а вместо этого удаляет кусок желудка, вырабатывающий кислоту, – проводит частичную гастрэктомию. Затем соединяет остатки желудка с петлей тощей кишки, минуя таким образом язву. Он будто чувствует взгляд профессора Элдера и слышит его голос на каждом этапе, особенно когда зашивает кишечник: “Если выглядит нормально, значит, слишком туго. Если на вид провисает, то все нормально”. Результаты впечатляют: пациенты перестают страдать от боли и начинают есть. В операционный день он успевает сделать три подобные операции, прежде чем заняться остальными.
У одного из пациентов на четвертый день после частичной резекции желудка все никак не восстановятся пищеварительные функции.
– Не понимаю, – говорит Дигби Кришнану. – Операция прошла хорошо, пульс и температура нормальные, рана заживает. Почему кишечник не работает?
– Может, ему нужно ваше доброе слово, сэр. Попробуйте искренне подбодрить его. Я переведу.
Дигби, скептически настроенный, присаживается у постели больного.
– Сентил, мы вылечили язву. Внутри тебя все теперь идеально.
Пациент смотрит на губы Дигби, не обращая внимания на Кришнана, словно тамильский исходит прямо с языка врача.
– Ты скоро сможешь есть все что угодно.
Сентил явно успокаивается, его жена пытается благодарно прильнуть к стопам врача. Дигби чувствует себя полным идиотом.
В конце дня, когда Дигби, Питер, Кришнан и Онорин пьют чай в ординаторской, в дверь просовывается голова стажера:
– Старшая сестра! Пациент Сентил сильно пускает газы!
– Хвала Господу! – отзывается Онорин. – Кто пердит, тот живет!
Дигби фыркает чаем.
Арнольд появляется редко, и его палаты пусты.
Когда они со старшей сестрой сидят в ординаторской в конце дня, устало вытянув ноги, Дигби не может удержаться:
– Онорин, я никак не могу понять насчет Клода. В смысле… Не могу взять в толк. Как так получается, что его отделение… ну, то есть, почему он не… Так сказать…
Онорин не перебивает, наслаждаясь его смущением.
– Ну ладно! Долго же ты собирался спросить, Дигби Килгур. Но скоро сам узнаешь, непременно. И тебя это может сильно удивить. Что не так с Клодом Арнольдом? Кто, кроме Клода, может ответить? Ты знал, что он старший из трех братьев и все они служат в Индии? Самый младший – губернатор на севере. Человек управляет территорией большей, чем Англия, Шотландия и Ирландия вместе взятые. Средний – один из первых секретарей вице-короля. Иными словами, оба на самом верху ИГС.
Индийская гражданская служба – машина, посредством которой жалкая тысяча британских чиновников держит под контролем триста миллионов индийцев, – подлинное чудо государственного управления.
– А что касается того, почему Клод не достиг таких же высот, что ж, это и для всех нас загадка. Алкоголь сыграл немалую роль, но он мог стать и следствием. Все три братца выпускники Итона, или Харроу, или чего-то в этом роде. Мальчик из частной школы, корочь говоря, настоящий самородок, вот тока не взлетел, как должен бы, – ворчит она, как настоящая джорди, с выговором, который возвращается к ней, когда они остаются наедине. – Парни из частных школ, они и есть настоящее сердце и душа Раджа[70]. А ты закончил частную школу, милок?
– Вы бы не спросили, если бы думали, что я учился в такой, – смеется Дигби.
– Хочешь верь, хочешь нет, а я почти обручилась с выпускником Рагби[71]. Эти их частные заведения учат трем вещам, Дигби. Знания, манеры и спорт. Мой Хью знал свою классическую литературу, свою латынь и свою “Историю Пелопоннесской войны”. Но ему пришлось бы долго чесать в затылке, чтобы нарисовать карту, а на ней наш Ньюкасл, вот так вот! Сплошное “Мы должны стремиться, и мы должны победить”. Ихних детей учат, что им предначертано править миром. Глянь на здешние роскошные особняки. Или помнишь дворец, где праздновали, когда королева Виктория стала императрицей Индии, – и она сюда не приезжала, учти. Это отлично работает, усмиряет и устрашает туземцев. Но работает только потому, что эти типчики из ИГС, все без исключения, поголовно, верят, что творят благо. Что несут миру цивилизацию.
Дигби оторопел от ее яростной злости на миссию Британской империи. Поступая на службу, он не особо задумывался, что это за миссия. Но с самого начала чувствовал себя виноватым из-за вдруг обретенных привилегий. Он не расспрашивает Онорин про ее Хью, а сама она не спешит продолжать. Настроение у нее пропало.
Она достает бутылку хереса и, не обращая внимания на приподнятую бровь Дигби, наполняет два стаканчика. Сладковатый орехово-карамельный вкус – как откровение. Его рюмка быстро пустеет.
– Но разве мы не делаем тут ничего хорошего, Онорин? – осторожно спрашивает он.
– Ай, ты молодец! – ласково смотрит она на него. – Мы все молодцы! Наш госпиталь, железные дороги, телеграф. Много хорошего. Но это их земля, Дигби, а мы все забираем и забираем. Забираем чай, каучук, присваиваем их ткацкие станки, а хлопок заставляем покупать у нас, втридорога…
– На судне я познакомился с молодым индийским барристером, – говорит Дигби. – Милый человек, заботился обо мне, когда я заболел. Он сказал, что наш уход из Индии неизбежен.
Онорин разглядывает содержимое стакана, словно не слыша.
– Ладно, проваливай, – вздыхает она после паузы. – Хватит с тебя. – Она решительно отбирает у него стакан. – Нет, и не спорь. Я не могу уйти, пока ты тут торчишь. Ты отлично поработал сегодня. Можешь отправляться в клуб, как настоящий сахиб. Ты заслужил выпивку – настоящую выпивку.
Глава 14
Искусство ремесла
1934, Мадрас
Поутру, как только Дигби заходит в туземное отделение, прямо на него наскакивает гигантский зоб. Он выпирает от самых ключиц до подбородка, поглотив все признаки шеи. Лицо поверх зоба смотрится как горошина на шляпке огромной поганки. Аавудайнаяки – стройная женщина с широкой улыбкой, которая отчасти скрашивает суровость ее зоба. Сложив ладони, она приветствует его: “Ва́наккам[72], доктор!” Когда она появилась здесь впервые, прогрессирующий зоб вызывал у нее учащенное сердцебиение, тремор и непереносимость жары. Две недели капель йодида калия перорально остановили симптоматику, и она пришла в восторг. Но никакие капли ничего не могут сделать с громадной бугристой опухолью, растягивающей кожу на ее шее так, что обнажается сеть кровеносных сосудов на поверхности зоба.
– Ванаккам, Аавудайнаяки!
Дигби тошно от того, что ему не хватает умения – или духу – справиться с ее зобом, но он взял на себя труд совладать хотя бы с ее непроизносимым именем. Чтобы удалить зоб, ему нужно научиться этому у опытного хирурга. Точно так же, как и для удаления распространенных здесь раковых опухолей языка и гортани, вызываемых омерзительной привычкой жевать па́ан[73]. Он отправлял Аавудайнаяки в Мадрасский медицинский колледж, но она отказалась. Никто, кроме “Джигиби-доктора”, который дал ей волшебные капли, не сможет ее вылечить. Кришнан перевел ее соображения: “Она говорит, что верит только в вас и будет ждать, пока вы согласитесь”.
– Онорин, – объявляет Дигби, входя в палату, – прекращаем кормить этот зоб. Клянусь, за ночь он еще больше вырос.
– Он не станет меньше от ваших жалоб. Я отменила ваши операции на вторник. У нас консультация с Рави. С доктором В. В. Равичандраном в Центральной больнице. Он потрясающий… Первый из индийцев полный профессор хирургии Мадрасского медицинского колледжа. Когда губернатору потребовалось хирургическое вмешательство, его супруга втихаря послала за Рави. Всем известно, что он лучший врач, но важнее всего, что он хороший человек и отличный учитель. Я с ним познакомилась, когда нас отправили вместе работать в Танджур[74].
– Итак, что у нас здесь? – Индиец в белых брюках и белой рубашке с короткими рукавами вплывает в кабинет, по пятам за ним следуют три юных врача; звонко расхохотавшись, он восклицает: – Ассистент Клода Арнольда хочет учиться? Чудеса! Большинство хотят только сбежать от Клода.
Его возбужденная восторженность похожа на поведение человека, постоянно находящегося на грани истерики, глаза его тонут в круглых смеющихся щеках. Дигби и сам невольно улыбается. Доктор Равичандран одновременно пожимает руки Онорин и Дигби. Его преждевременно поседевшие волосы зачесаны назад и уже начинают редеть. Нама́м[75] на выпуклом лбу представляет собой три вертикальные полоски, из которых центральная красная, а две по бокам – белые. Это означает, что доктор – вайшнав, поклоняется Вишну как верховному божеству в пантеоне.
Равичандран отпускает руку Дигби, но не Онорин, его пухлые губы растягиваются в обезоруживающей улыбке, которая, как вскоре узнает Дигби, обычна для него.
– Доктор Дигби, без этой выдающейся дамы я мог скончаться и быть кремированным в Танджуре, столько на меня навалили работы, каждый день, с утра до ночи.
Его певучая речь напоминает Дигби об учителе индийской карнатической музыки[76], живущем рядом с его бунгало, тот обучает своих студентов целому легиону нот, помещающихся между обычными западными до-ре-ми.
– Но тут вступилась мадам Онорин. Не слушая никаких возражений, она составила распорядок дня. Включая перерыв на чай, при любых обстоятельствах, ровно в четыре тридцать. А потом я должен был отправляться домой. Частную практику позволялось начинать только в семь часов пополууудни. Но вдобавок она постановила, что работать я обязан вне дома, а дома только отдыхать!
– Да толку-то с того, Рави, ты же продолжал давать пациентам свой домашний адрес.
Рави ухающе хохочет над собственной беспомощностью.
– Айо, Онорин, эти пациенты из Танджура до сих пор приходят ко мне за двести пятьдесят миль, хотя я честно пытаюсь их отвадить.
Его профессиональное тщеславие очаровательно.
Санитар ставит на стол чай и печенье, стенографист подталкивает к Рави стопку бумаг, и он подписывает не глядя. Хромой босой мужчина в синей униформе, которого, как позже узнает Дигби, зовут Веераппан, бывший пациент Рави, а теперь его шофер, водружает на заваленный бумагами стол Рави громадный шестиярусный серебряный контейнер с готовым обедом. Он размыкает рамку, выдвигая из кольца длинный засов, и аккуратно расставляет судки, пододвигая каждое блюдо к Рави – посмотреть и понюхать, после чего Веераппан вновь складывает судки в стопку, запирает и удаляется, оставляя в комнате аромат кориандра, кумина и чечевицы.
– Я гляжу, есть вещи, которые не меняются, – замечает Онорин. – Как поживает твоя матушка?
– Мама в порядке, благодарение Небесам, – говорит Рави. – Дигби, никакие другие руки, кроме рук моей матери, не готовят мне еду, поскольку я ее единственное дитя и единственная забота. – Он ехидно хихикает. – Если бы она узнала, что я отдаю ее стряпню пациентам инфекционного отделения, она перебила бы кухонные горшки, трижды в день проходила очищение в храме и пять дней просидела бы на одном рисе с гхи. Но она очень подозрительна. Когда я вернусь домой, она спросит: “Как тебе моморди́ка?[77]” – прекрасно зная, что никакой момордики в помине не было! У Веераппана в машине есть еще один термос, о существовании которого матери неизвестно. Я поем, когда позже поеду на вызовы по домам. Потакаю своей слабости к бараньей корма́ с пара́тха[78]. Именно возлюбленная сестра Онорин стала моей искусительницей и совратительницей. Ее гороховый пудинг с ветчиной – вот так и началась моя плотоядная жизнь. Однажды я искуплю вину: раздам все имущество, облачусь в шафрановые одежды, отправлюсь в Бенарес и скроюсь от мира.
Все это время за ними наблюдает толпа молодых врачей, а офисный паренек протягивает Рави стопку назначений, каждое из которых он умудряется внимательно просматривать, не теряя нити беседы.
– Глазго, верно ведь? О, Дигби, как бы я хотел там побывать. Глазго! Эдинбург! Священные слова для хирурга, правда? Как чудесно было бы сдавать экзамены. Поставить заветное ЧККХ рядом со своим именем… Член Королевского колледжа хирургии! Айо, у меня даже был билет на пароход!
– Что же вас остановило? – нерешительно спрашивает Дигби.
– Три тысячи лет истории, – мрачно отвечает Рави. – Мы, брамины, верим, что океан нечист и, совершая путешествие в чужую страну через большую воду, душа оскверняется, после него человек проклят навеки…
– Скажи ему правду, Рави, – вздыхает Онорин. – Это же из-за твоей матери.
Он разражается смехом.
– Онорин у нас всегда права. Айо, моя святая мать… это убило бы ее. Если бы я уехал за море, это стало бы матереубийством. И даже если она вдруг пережила бы разлуку, ее единственное дитя вернулся бы настолько оскверненным, что даже если он сумеет оставаться невидимым, она все равно никогда не сможет заговорить с ним. Потому я остался. Но скажите, Дигби, а что заставило вас рисковать быть проклятым навеки и таки пересечь океан? От чего вы бежали? Или к чему?
Шрам Дигби налился кровью. Смеющийся взгляд Равичандрана задерживается на нем с любопытством и сочувствием. Дигби подбирает слова.
– Краснеющий хирург – лучше, чем наоборот, – понимающе кивает Равичандран сестре Онорин. – Не буду усугублять дискомфорт человека, у которого и так уже начальником Клод Арнольд. Дигби, вы в курсе, что перед домом Клода стоит “роллс-ройс”? Зачем он его купил? Потому что у меня такой есть! Мой “роллс” был первым в Мадрасе и занозой под дермой ваших соотечественников! “Какая дерзость со стороны этого бабу!” – Рави имитирует британский аристократический выговор. Но, не удержавшись, хохочет. – Губернатору пришлось покупать такой же. А много позже и Клоду Арнольду тоже. Но автомобиль Клода стоит без дела. Он украшает дом, как по́тту[79] – лоб моей матери. Дигби, я не женат. Я очень много работаю. Во имя своей профессии я отказываюсь от необходимого, но почему я должен отказываться от излишеств? Я что, в своей собственной стране не имею права делать что пожелаю?
Рави внезапно кричит на кого-то через плечо Дигби на языке, который звучит как грубый и вульгарный тамильский, улыбка его мигом испаряется.
– Вот ведь нетерпеливые люди! – обращается он к Дигби, и улыбка тут же возвращается. – Вечно спешат. Я так отстал, что вчера догоняет завтра. Короче, Дигби, если вы нравитесь святой Онорин, значит, и мне тоже нравитесь. Пошли. Первый случай – резекция желудка по поводу рака. Если еще не поздно.
В операционной Дигби ассистирует, восхищаясь каждым движением Равичандрана, но сдержанно, чтобы не мешать. В антральном отделе, чуть выше привратника, там, где желудок переходит в кишечник, обнаруживается твердое, как камень, образование; даже маленькая опухоль в этом месте довольно скоро обращает на себя внимание пациента, потому что чувство насыщения наступает уже после нескольких кусочков пищи. Рави проводит рукой по поверхности печени, затем извлекает тонкую кишку, все двадцать футов, пропуская в пальцах в поисках метастазов. Потом просматривает полость таза.
– Не распространилось. Будем делать дистальную гастрэктомию. Меняемся местами. Я буду вашим скромным помощником.
Дигби отрезает половину желудка. Когда рядом Равичандран в роли квалифицированного ассистента, деликатно улучшающего обзор и доступ, Дигби ощущает себя гораздо более умелым хирургом, чем на самом деле является. По окончании остается культя двенадцатиперстной кишки – в которую изливается желчь и панкреатический сок – и культя желудка.
– Что дальше, мой юный друг?
– Я зашью двенадцатиперстную, оставив слепую культю. Потом подошью петлю тощей кишки к остатку желудка.
Это та же привычная процедура, которую он проделывал с язвой желудка в “Лонгмер”.
– Гастроеюностомия? А почему не соединить желудок напрямую с двенадцатиперстной? По Бильрот-I?[80] Почему не сохранить нормальную последовательность? И не оставлять культи двенадцатиперстной, которая может потечь?
Дигби задумчиво складывает ладони в измазанных кровью перчатках, открытая брюшная полость ждет его решения.
– Честно говоря, – запинаясь, бормочет он, – в “Лонгмер” я делал довольно много гастроеюностомий. Мне было бы гораздо сложнее соединить то, что осталось от желудка, с травмированной двенадцатиперстной кишкой, чем сделать то, что мне привычно и что я точно смогу сделать надежно. Да, останется слепая культя двенадцатиперстной, но вероятность, что потечет, меньше, чем если бы я попытался соединить желудок с двенадцатиперстной кишкой. Своими руками.
– Отличный ответ! Наилучшая операция из возможных – это не то же самое, что наилучшая возможная операция! Разумеется, если рак вернется, все это станет неактуально. Действуйте!
Еженедельные операции с Равичандраном в Центральной больнице и есть то самое хирургическое образование, которого жаждал Дигби, когда ехал в Индию. Он подхватывает каждую жемчужину, предлагаемую блистательным хирургом, задерживается, чтобы наблюдать, как Рави оперирует с другими ассистентами. А меж тем Аавудайнаяки ждет, непоколебимая в своей уверенности, что “Джигиби-доктор” избавит ее от зоба. Она зарабатывает на свое пребывание в отделении, став добровольной помощницей старшей сестры и санитарок и поддержкой для остальных пациентов. Она уже почти член семьи.
Через пять недель после своей первой встречи с Равичандраном Дигби ранним утром везет Аавудайнаяки на рикше в Центральную больницу. Рави любезно приветствует пациентку на тамильском. Пропальпировав опухоль, он просит женщину поднять руки и подержать так, ее бицепсы крепко прижаты к щекам. Вскоре лицо ее темнеет и раздувается, она начинает задыхаться.
– Видите, Дигби? Можете называть это “симптом Рави”. Он означает, что опухоль распространяется в грудную клетку. Если мы не сможем добраться до нее сверху, будем распиливать грудину. И это совсем не банальная операция, уверяю вас.
Встревоженная пациентка рвется в чем-то убедить Рави на тамильском, тот успокаивает ее.
– Я заверил ее, – сухо сообщает он Дигби, – что операцию будет делать только белый человек. А я просто буду ассистировать великому Джигиби-доктору.
Когда пациентка засыпает под наркозом, Рави принимается нервно суетиться, требует для начала положить ей между лопаток мешочек с песком побольше, чтобы шея запрокинулась, а край стола опустить, чтобы набухшие вены шеи опорожнялись лучше.
– От мелочей многое зависит, Дигби. Бог в мелочах.
Уже в самом начале работы операционное поле захламлено кровеостанавливающими средствами, и они прерываются, чтобы остановить кровотечение. Как и предполагал Рави, опухоль Аавудайнаяки распространилась и в грудную клетку, туда не дотягиваются даже его длинные пальцы.
– Ложку Равичандрана, – командует он операционной сестре.
Она протягивает длинный инструмент, неизвестный Дигби. Рави просовывает его под грудинную кость. Вслепую, исключительно на ощупь, он вытягивает из грудной клетки нижнюю часть опухоли.
– Узнали инструмент, Дигби? Это ложка, которая в моем термосе вставляется сбоку и удерживает судки с едой. Моя мать костерит шофера, что тот вечно “теряет” ложки. Но она же и в самом деле многофункциональна, правда же? Можно есть рыбное карри, а можно выудить опухоль!
Закончив оперировать, Рави выглядит не на шутку озабоченным.
– Первая ночь самая опасная. Пожалуйста, проследите, чтобы наготове был набор для трахеотомии, а сестра дежурила у постели пациентки.
Основания для беспокойства имеются: хрящевые кольца в норме удерживают дыхательные пути открытыми, но у Аавудайнаяки они истончились и ослабели от продолжительного сдавливания зобом. Постоперационный отек представляет реальную опасность из-за возможного коллапса трахеи.
Дигби провел весь рабочий день в “Лонгмер” в обходах и консультациях. Но после ужина вновь вернулся в Центральную больницу. Много недель улыбка Аавудайнаяки приветствовала его каждое утро. Несмотря на всю ее веру в Джигиби-доктора, он боялся, что все закончится плохо.
Ночью все больницы затихают, как кладбище, лишь изредка кашель или стоны нарушают тишину. Звук шагов Дигби эхом разносится по коридорам, когда он проходит мимо открытых дверей палат. Сестра, сидящая при тусклом свете настольной лампы, удивленно вскидывает глаза и смущенно улыбается. Ее улыбка чуть подбадривает. Дигби хочется остаться рядом с ней.
Аавудайнаяки спокойно спит, набор для трахеотомии лежит на тумбочке рядом, но сестры не видно. Вялая неряшливая сестра-стажер появляется спустя час и с изумлением застает Дигби у кровати больной. Он отпускает сестру – подежурит сам. Чтобы скоротать время, зарисовывает в блокноте стадии операции.
Дигби просыпается от пронзительного свистящего хрипа и видит, как Аавудайнаяки отчаянно пытается вдохнуть. Этот грозный звук – стридор – сигнализирует об обструкции дыхательных путей. Он бросается к ней, злясь на себя, что заснул. На искаженном ужасом лице больше нет радости при виде Джигиби-доктора; ей кажется, что она умирает. Дигби вскрывает упаковку с набором для трахеотомии, одновременно громко зовя помощь. Вот он, его ночной кошмар: трахеотомия при плохом освещении с сопротивляющимся пациентом. Он разрезает повязки и с изумлением обнаруживает, что шея больше не дрябло обвислая, как сразу после операции, а вздутая, как будто зоб заново вырос, да еще и стал вдвое массивнее! Дигби рассекает три кожных шва, и из его пальцев прямо на простыню выскальзывает громадный сгусток крови, эдакий желейный шарик. Аавудайнаяки мгновенно становится легче. Прибывает подмога, яркие лампы направлены на рану, которая, кажется, не кровоточит. Трахея открыта, и он мог бы с легкостью провести трахеотомию. Но свежего кровотечения не видно, дыхание Аавудайнаяки ровное, лицо спокойное. Она даже пытается улыбаться.
Надо бы перевести ее в операционную и обследовать под анестезией операционный шов, отыскать источник кровотечения, если кровь еще сочится. Но сейчас четыре утра. Чтобы постороннему в такой час поднять на ноги операционную бригаду, нужно вмешательство Бога. Дигби не хочется звонить Рави. Он опускает на место кожный лоскут, не зашивая, а просто прикрыв марлевой салфеткой. Если появится хоть малейший признак свежей крови, я заберу ее в операционную.
Утром на обход прибывает хирургическая команда во главе с Рави. Он тут же замечает расплывающийся в тазу кровяной сгусток. На лицо Аавудайнаяки вернулась улыбка, но доктор В. В. Равичандран мрачен. Он осматривает рану. Свита интернов и ассистентов нервно шаркает ногами.
– Кто из вас осматривал эту пациентку ночью? (Тишина в ответ.) Хорошо, что вы оказались здесь, Дигби. Но когда был эвакуирован этот сгусток, ее нужно было перевести в операционную. Вы должны были немедленно вызвать меня.
– Но ее дыхание нормализовалось. Если…
– Никаких “если”, никаких “но” и прочего метания икры! – резко обрывает его Рави. – В интересах пациента вы можете разбудить среди ночи не только меня, но и самого Иисуса Христа. Чтобы поднять с постели анестезиолога, вам, может, и понадобится божественная помощь. Но вы обязаны доставить пациента в операционную. Это не обсуждается! – Несколько секунд он яростно сверлит взглядом Дигби, потом лицо смягчается. Рави берет в руки блокнот с набросками Дигби. – Аах, мило. В хирургических атласах никогда не бывает кровотечений, правда же?
Уже выходя из палаты в сопровождении свиты, он останавливается и поворачивается так резко, что свитские натыкаются друг на друга. Голос его заполняет палату:
– Доктор Килгур. Хорошие хирурги могут провести любую операцию. Великие хирурги предотвращают осложнения.
Дигби расцветает от похвалы.
Глава 15
Отличная партия
1934, Мадрас
– Сроду не видала в городе столько военной формы, – ворчит Онорин.
Они с Дигби спасаются от палящего солнца в кинотеатре “Нью Эльфинстоун”. Толпа на субботнем дневном сеансе – море форменных коротких стрижек и хаки.
– А я-то надеялась, что “Лонгмер” будет моим последним рабочим местом. Если опять начнется война, меня переведут из гражданского подразделения в военное. Я, конечно, исполню свой долг. Но, как по мне, мир сошел с ума. Япония вторглась в Китай? А что, если они решат, что Индия – следующая? Не говоря уж о немцах, с их новым канцлером. Не доверяю я ему.
– Когда читаешь газеты, это кажется неизбежным – война, я имею в виду.
Дигби был поражен, узнав, что в Первой мировой сражался миллион индийских солдат и погибло не меньше ста тысяч. Газетные передовицы высказывают мнение, что если индийцев вновь призовут в Британскую Индийскую армию, они не согласятся на меньшее, чем свобода в обмен на участие в войне.
– Неизбежно? Господи, не смей так говорить! – Онорин роется в своей здоровенной плетеной сумке. Отчаивается, хватает предложенный Дигби носовой платок и вытирает глаза. – Я потеряла старших братьев в той войне. Это убило мою бедную маму. Политики? Они все говнюки, Дигби, – горько вздыхает она. – Будь у власти женщины, мы бы ни за что не посылали парней на смерть.
Если начнется война, Дигби направят в воинскую часть. Он вспоминает, как профессор Алан Элдер в Глазго говорил, что война – единственная настоящая школа для хирурга. Но этой мыслью Дигби не стал делиться с Онорин.
Сеанс из трех фильмов заканчивается “Огнями большого города”. “Медицинская” комедия Чаплина вызывает у них гомерический хохот. Романтичная доброта самой истории – бродяга, который влюбляется в слепую девушку и собирает деньги на операцию, чтобы вернуть ей зрение, – идеальное противоядие от разговоров о войне.
На улицу они выходят будто бы жизнь спустя. Сгустились сумерки, но стоит изнуряющая жара, воздух будто застыл. Дигби тут же взмок, капли пота повисли над верхней губой, брови влажные. Несмотря на запах жареных ва́да[81], доносящийся от уличного лотка, аппетита в такое пекло не было совсем.
– Марина-Бич, – решительно командует Онорин кучеру джа́тки[82], чьи крупные, в пятнах от бетеля зубы напоминают оскал его кобылы; ни человек, ни лошадь не испытывают восторга от необходимости шевелиться. – Чаплин искупает грехи всех мужиков. – Настроение Онорин поднялось. – Настоящая любовь все побеждает. Эх, будь моя воля, я б его отбила.
– Однако он не слишком разговорчив, не так ли?
– И это было бы настоящим благословением!
На Уолладжа-роуд лошадь обрадованно ржет, ускоряя шаг. Кучер садится ровнее. Онорин прикрывает глаза и шумно втягивает носом воздух. Дигби ощущает первые позывы голода.
Такими едва уловимыми знаками, подобными звукам настраивающегося оркестра, возвещает о себе ежедневное событие, занимающее центральное место в жизни Коромандельского побережья, – вечерний бриз. Мадрасский вечерний бриз обладает собственной плотью, его атомарные элементы, соединяясь вместе, создают осязаемую ткань, которая ласкает и охлаждает кожу; это словно медленный глоток ледяной влаги или погружение в горный источник. Он прорывается широким фронтом, вверх и вниз по побережью, неспешный, надежный, он не ослабевает вплоть до полуночи, а к тому времени успевает убаюкать всех сладостным сном. Ему неведомы касты и привилегии, он утешает и услаждает и экспатриантов в кварталах особняков, и клерка с голым торсом, отдыхающего рядом с женой на крыше своего скромного коттеджа, и бездомных обитателей улиц, сидящих на корточках вдоль обочин. Дигби видел, как жизнерадостный Мутху становится рассеянным, ответы его – краткими и брюзгливыми в ожидании облегчения, которое приходит со стороны Суматры и Малайи, собираясь над Бенгальскими заливом, и несет с собой ароматы орхидей и соли; витающий в воздухе опиат, что размыкает зажатое, развязывает стянутое узлом и позволяет наконец забыть о жестокой дневной жаре. “Да-да, у вас есть Тадж-Махал, Золотой храм, эта ваша Эйфелева башня, – скажет образованный житель Мадраса. – Но что может сравниться с мадрасским вечерним бризом?”
Песчаный пляж настолько широк, что синева океана – лишь узкая лента, тающая на горизонте. Они приближаются к тому самому месту, где британцы обрели первый плацдарм в Индии – крошечную торговую факторию, предтечу Ост-Индской торговой компании. К 1600-м торговой базе потребовался военный форт – форт Сент-Джордж, – где можно было хранить пряности, шелк, драгоценные камни и чай, подготовленные к отправке на родину, дабы эти товары не попали в лапы местных правителей, и французов, и голландцев. По другую сторону стен форта расцвел город Мадрас. В самом городе Дигби уже освоился, колеся по нему на велосипеде, и даже немного ориентировался в окрестностях. Старый Черный город рядом с фортом сменил имя на Джорджтаун в связи с визитом Принца Уэльского. Англо-индийцы селятся в Пурасавалкам и Вепери, тогда как иностранцы предпочитают Эгмор или модный пригород Нунгамбаккам. Анклав браминов – Майлапур, а мусульмане сконцентрированы поблизости от Больницы Гоша и в квартале Трипликейн. Дигби с Онорин прибыли к марине Мадраса[83], заложенной еще бывшим губернатором с непроизносимым именем Маунтстюарт Эльфинстоун Грант Дафф. Широкая набережная тянется на мили в обе стороны.
Вдоль марины фасадами к морю выстроилась череда внушительных зданий, сооруженных на века. На взгляд Дигби, архитекторы, свободные в силу расстояния от ограничений Уайтхолла, отдались на волю собственных ориентальных фантазий, сооружая эти резные храмы во славу Империи. Они с Онорин сошли с экипажа около здания Сената Университета. Его высокие минареты, казалось, спарились и породили выводок юных башенок, увенчанных белоснежными куполами. Дигби представляет, как все эти ренессансные, византийские, исламские и готические элементы сражаются друг с другом, втиснутые в одну конструкцию. Это якобы должно вселять благоговейный трепет в аборигенов, думает он. Как часовая башня “Зингер”.
– Я должна бы ненавидеть эти здания, – замечает Онорин. – Но наверняка буду скучать по ним, когда уеду.
Дигби озадачен. Онорин прожила в Индии дольше, чем в Англии.
Глядя на выражение его лица, Онорин смеется:
– Ох, Дигби, я люблю этот город. Хотела бы жить здесь. Но страна скоро станет свободной. Я помалкиваю про это, потому что звучит как ересь, да? Но, конечно, если индийцы позволят нам остаться, я останусь.
Бредя босиком по песку, они представляют странную парочку: грузная седая женщина под руку с сухопарым молодым человеком, чьи темные волосы отливают рыжиной, как будто он подкрашивает их хной. Из-за шрама он похож на мальчишку. Они садятся на песок и смотрят на море. Трое рыбаков присели на корточки покурить в тени катамарана, повернувшись спинами к воде.
– Мне стыдно, что я совсем мало знал об Индии, когда подписал контракт, – вдруг признается Дигби. – Я думал только о хирургической практике, как будто Медицинская служба существовала исключительно ради моих интересов. – Ему приходится повышать голос, чтобы перекричать грохот набегающих волн. – И вряд ли я привыкну к привилегиям, которые тут на меня обрушились. Боюсь, что может случиться, если вдруг это произойдет.
Мимо них, прижавшись друг к другу, проходит юная парочка. Цветок жасмина в волосах девушки оставляет душистый шлейф в воздухе. Онорин провожает их взглядом и вздыхает.
– И о чем ты только думаешь, болтаясь вечно со старой Онорин, Дигби? Ты же знаешь, все мои сестрички положили на тебя глаз.
Он застенчиво смеется.
– Я пока не готов. Это слишком сложно для меня.
– А, ну ясно, со мной ты в безопасности.
– Я хотел сказать…
– Знаешь, в чем проблема моих англо-индианочек, Дигби, моих сестричек и секретарш? Им всем не на что рассчитывать. Некоторые из них на вид белее нас с тобой, но толку-то с того. Девчонки мечтают, что если выйдут замуж за кого-то вроде тебя, то станут британками. Но беда в том, что тебе едва ли удастся ввести их в Мадрасский клуб. И твои потомки останутся все теми же англо-индийцами и столкнутся с теми же трудностями. У тебя образ страдальца, милок, и ты толковый хирург. Это делает тебя привлекательным. Будь осторожен, вот все, что я хочу сказать.
Дигби нервно хихикает, радуясь, что в сумерках она не видит, как он покраснел.
– Опасаться нечего, Онорин. Мое одиночество – привычное состояние. Это безопаснее, чем… – Он не может придумать альтернативы.
Лицо Онорин печально – или это жалость?
– Прости ее, Дигс. Отпусти.
На миг он теряется. Она единственный человек в Мадрасе, кому он выложил историю маминой смерти, трудных лет до и после. Тайна всегда живет вместе с одиночеством. Его тайна – и его беда – в том, что после предательства матери он не может рискнуть полюбить.
– Я простил, Онорин.
– Ну ладно. – Она смотрит в морскую даль, ветер развевает ее волосы. – Тебе же не меня надо убеждать, верно, милок?
Накануне Рождества, когда Дигби уже собирается идти домой, в палату влетает Онорин, а следом за ней высокий крепкий белый мужчина.
– Дигби, пойдем с нами. Это Франц Майлин. Два дня назад доктор Арнольд осматривал его жену. Ей хуже.
Майлин сложен как регбист, с могучей шеей и мощным торсом. Он совсем рыжий, а сейчас и лицо его, искаженное гневом, тоже пылает красным. Они спешат наверх, а Онорин по пути пересказывает главное, ради несчастного мужа смягчая выражения: Майлины только что пароходом вернулись из Англии, и в последние три дня путешествия у Лены Майлин начались боли в животе и рвота, которые становились все сильнее. Сойдя с судна, она направились прямиком в “Лонгмер”. Клод Арнольд диагностировал расстройство желудка.
– Это было тридцать шесть часов назад, – добавляет Онорин.
– Он ее даже не осмотрел! – взрывается Майлин. – И с тех пор вообще не появлялся! А она лежит там, и ей с каждым часом все хуже.
Палата для англичан пуста, только птичья фигурка Лены Майлин неподвижно застыла на койке, больная учащенно дышит. Пряди темных кудрявых волос прилипли ко лбу. Она со страхом смотрит на приближающегося Дигби.
– Прошу вас, не трясите кровать, – говорит Франц. – Малейшее движение усиливает боль.
Уже одно это утверждение говорит о перитоните и абдоминальной катастрофе, которую подтверждает осмотр Дигби: правая сторона живота напряженная. Он отмечает и сухой язык, и приоткрытые губы, и желтушность глаз, и холодную липкую кожу. Когда он просит женщину глубоко вдохнуть, а сам одновременно аккуратно прощупывает область под ребрами справа, она вздрагивает и прерывает вдох. Пальцы Дигби упираются в воспаленный желчный пузырь. Он решительно заявляет:
– Я убежден, что ваш желчный пузырь закупорен камнем и теперь он распух от гноя. – Он избегает слова “гангрена”, чтобы не пугать их еще больше. – Нужна срочная операция.
– Этот ублюдок сказал, что у нее морская болезнь! – стонет Франц. – Где он? Это же преступление!
На операционном столе, вскрыв брюшную полость, Дигби видит именно то, чего боялся, – вздутый воспаленный желчный пузырь с темными гангренозными вкраплениями. Вот оно, твое расстройство желудка, Клод. Он делает маленькое отверстие в распухшем пузыре. Склизкая смесь из желтого гноя, зеленой желчи и мелких пигментных камней изливается на марлевые тампоны и в отсасыватель. Он удаляет, насколько возможно, желчный пузырь, оставляя только ту его часть, что прилипла к печени. Обходит пузырный проток, через который поступает и изливается желчь. Иссечение его на фоне такого воспаления крайне опасно. Ткани сильно кровоточат. Прежде чем зашивать брюшную полость, он оставляет резиновый дренаж возле ложа печени. Лена после операции очень бледная, давление низкое. Дигби бежит в “банк крови” – обычная кладовка с холодильником, – где при помощи типирующей сыворотки выясняет, что у нее группа крови В, довольно редкая. Банк крови – это его нововведение, одна из тех областей, где они обогнали другие городские больницы. После пинты крови давление у Лены поднимается, лицо вновь обретает цвет.
– Чья это была кровь? – спрашивает Франц.
– Моя, – отзывается Дигби. Благодаря своей группе крови он универсальный донор. По счастью, в холодильнике всегда хранятся две дозы его крови на такой вот экстренный случай. – Позже я волью ей вторую бутылку.
Дигби остается дежурить вместе с Францем. К утру Лене явно лучше. А Дигби узнает, что у Майлинов поместье на другом побережье, рядом с Кочином. Лицо Франца светлеет, когда он описывает их старинный дом в Западных Гхатах, где он выращивает чай и пряности.
– Вы обязательно должны приехать к нам в гости, доктор Килгур.
В полдень Дигби возвращается в отделение и застает у постели пациентки Клода Арнольда, изучающего карту Лены; Франц, с гневно пылающим взглядом, стоит рядом, скрестив руки на груди, готовясь выложить все, что думает. Лена отвернулась.
– Ну что ж, – хмыкает Клод, заметив присутствие Дигби. – Доктор Килгур, кажется, спас положение… – И с этими словами проскальзывает мимо Дигби и исчезает, прежде чем они успевают опомниться.
Дигби успокаивает беснующегося Франца.
Как только Дигби выходит из палаты, Клод мгновенно возникает у него за спиной. Должно быть, дожидался за колонной. Если Дигби воображал, что Арнольд будет смущен или даже благодарен молодому коллеге, он стремительно избавляется от иллюзий.
– Нужно было просто поставить дренаж и зашивать. Отгрызать куски желчного пузыря? Крайне странная практика. – Клод стоит спиной к двери палаты и не видит, как позади маячит Франц Майлин. – Я бы назвал это безответственным и безрассудным, Дигби.
Прежде чем оторопевший Дигби находится с ответом, Клод вновь удаляется. Но на это раз Франц с проклятием бросается вперед и хлопает могучей ладонью по плечу Клода, разворачивая его к себе. Надменное выражение на лице Клода сменяется удивлением и страхом. Дигби впрыгивает между ними ровно в тот момент, когда Франц замахивается, и удар, изменив направление, попадает Клоду в грудь. Арнольд убегает. Франц рычит вслед удаляющейся фигуре главного хирурга “Лонгмера”:
– Вернись, проклятый трус! Кого это ты назвал безответственным? Да ты и половины Килгура не стоишь!
Слова эхом разносятся по пустым отделениям Клода. Все оставшееся время, пока Лена лежала в больнице, Клод держался подальше.
Лена оказалась гораздо более общительной и разговорчивой половиной супружеской пары. Она знает по имени каждого стажера, и они от нее не отходят. Дренаж вынимают через три дня, а спустя десять дней после операции Лена готова к выписке.
Когда приходит пора прощаться, Франц обхватывает Дигби за плечи, крепко стискивает; здоровенный мужчина растроган настолько, что не может говорить.
Лена берет Дигби за руку.
– Дигби, – говорит она, неожиданно называя доктора просто по имени. – Как я могу отблагодарить вас? Вы спасли мне жизнь. Мы будем очень обижены, если вы не навестите наше поместье. Вам нужен отпуск. Прошу вас, обещайте, что приедете?
Дигби бормочет в ответ что-то неубедительное.
– Дигби, – повторяет она, – у вас есть родственники в Индии?
– Нет.
– О, разумеется, есть. Мы ведь с вами теперь кровная родня.
Глава 16
Ремесло искусства
Рождество 1934, Мадрас
Нунгамбаккам, где обитает Клод Арнольд, это образ Англии, написанный на холсте Южной Индии. Обсаженные деревьями широкие улицы, носящие названия вроде Колледж-роуд, Стерлинг-роуд или Хэддоус-роуд. Фигурно выстриженные кусты перед бунгало и садовыми домиками – птица-на-пирамиде, мяч-на-шаре и толпа Кроликов Банни, с незначительными вариациями. Похоже, это работа одного и того же странствующего ма́али[84], иначе не объяснить, почему каждый Кролик Банни похож на мангуста.
Эта фантазия о Белгравии в Мадрасе игнорирует реальность трупа бродячей собаки посередине Колледж-роуд; упорно настаивает, что сейчас и в самом деле восьмой день Рождества, несмотря на влажность, которая отвратила бы восемь юных молочниц от любых действий[85], и жару настолько безжалостную, что бродячая собака, оказывается, не сдохла, а просто в обмороке от солнечного удара. Она, пошатываясь, встает на ноги, вынуждая Дигби, вильнув, объехать ее на велосипеде.
Фарфорово-белый дом Клода выделяется на фоне красной глины подъездной дорожки, забитой автомобилями. Керосиновые лампы, расставленные на балюстраде балкона второго этажа и между колоннами первого, создают эффект неземного сияния, по мере того как солнце клонится к горизонту. “Если бы ты столько же внимания обращал на детали, работая в госпитале, Клод”, – бормочет себе под нос Дигби. Он колебался, идти ли на рождественскую вечеринку, в конце концов решил, что если не пойдет, их и без того натянутые отношения станут только хуже.
Под навесом стоит сияющий черно-зеленый “роллс-ройс”. Не успел Дигби прислонить свой велик к стене, как тут же с понимающей улыбкой его подхватил слуга, давая понять, что компрометирующий предмет немедленно спрячут и никто о нем и не узнает.
Гостиная полна народу. Рождественская елка возвышается над головами, хлопковый “снег” на ее ветвях скукожился и намок в сыром воздухе. Дамы в длинных платьях, некоторые с открытой спиной, а уж без рукавов все абсолютно, с шелковыми накидками на плечах.
Дигби, потный после поездки на велосипеде, больше всего на свете хочет скинуть пиджак, который он надел, перед тем как войти в дом. Он проходит мимо трех дам, повернувшихся к нему спиной, их цветочные духи вызывают в памяти Париж или Лондон. Доносится голос Клода, отдельные слова звучат слегка невнятно:
– …заднее сиденье было единственным местом, где махарани могла выпить, скрывшись за шторкой, пока шофер колесил по поместью.
Женщина задает вопрос, который Дигби не расслышал, но зато слышит ответ Клода:
– “Роллс” никогда не ломается, моя дорогая. В редких случаях может заглохнуть.
Рядом с Дигби застекленный шкаф, набитый спортивными трофеями и фотографиями в рамках: два мальчика в разном возрасте, на последних фото – подростки. Официант предлагает виски, Дигби вместо спиртного берет салфетку. Украдкой проскальзывает в столовую, чтобы потихоньку вытереть там лицо и шею; он чувствует себя бедным родственником, которому тут не место. Массивный дубовый обеденный стол, кубки и металлические подставки для тарелок словно из времен рыцарей короля Артура. Повернувшись спиной к веселящейся толпе, Дигби, все еще безудержно потея, останавливается перед тремя большими пейзажами в рамах. Он злится на самого себя.
Вот что, Дигс. Через пару минут ты ныряешь обратно в это сборище, пожимаешь ублюдку руку, желаешь ему счастливейшего из всех счастливых Рождеств и, поскольку ты не увидишь его в госпитале, пока часы не пробьют Новый год, в довершение пожелай “всего наилуууучшего и щасливого Нового года ему и всем евойным”. Но сначала остынь, Дигс, вытри уже лоб и заложи за воротник. Восторгайся живописью – пастбище, да, Клод? Скажи “очень мило” про его убогое озерцо с полевыми цветуечками. Нет, никто прежде этого не отмечал. А последнее полотно… темный лес, говорите? Темная… навозная куча, я бы сказал. Это убожество, благодарю вас. Изысканные золоченые рамы, которые вопиют: “Нам место в музее…” – но они все равно убожество и останутся убожеством. И неважно, насколько громко орешь…
– Не выдающиеся работы, верно? – произносит хрипловатый женский голос.
Он оборачивается и вдруг оказывается неприлично близко к женщине; она высокая и потрясающая. Оба делают шаг назад. Ее мускусные благовония с нотками сандала и древних цивилизаций – полная противоположность парижским ароматам. Его как будто волшебной силой перенесло в будуар махарани.
– Официант сказал, что вы отказались от виски. Я принесла вам гранатового сока. Я Селеста, – улыбается она.
Пожалуйста, только не это! Она не может быть его женой.
– Жена Клода, – представляется она, держа в каждой руке по стакану сока.
Каштановые волосы стянуты серебристой лентой и уложены в узел, открывая шею. У нее треугольное лицо и слегка неправильный прикус, от чего губы кажутся недовольно надутыми. Если начистоту, она прелестна, с этими чуточку андрогинными чертами. На вид ровесница Клода, немного за сорок. Три рубина парят над ее грудиной, цепочка на ключицах едва заметна.
– Дигби Килгур, – протягивает он руку.
Но ее руки заняты. Он берет один стакан.
– Клод говорит, вы настоящий художник.
Откуда, черт побери, он узнал? Она терпеливо ждет ответа.
– Скорее, любитель, – признается он с пылающими щеками. – Просто пытаюсь запечатлеть то, что вижу.
Ее большие глаза цвета каштанового меда согреты сиянием рубинов. В отличие от Клода, отчужденного и надменного, ее взгляд прям и любопытен. Впрочем, у губ он замечает жесткую складку, которая пропадает, когда она улыбается.
– Масло?
– Акварель, – отвечает он. Она ждет. – Я… э, мне нравится загадка, непредсказуемость того, что возникает.
– Вы рисуете портреты? – спрашивает она, склонив голову набок.
Интересно, она отдает себе отчет, что позирует? Она не стремится вызвать неловкость, а, напротив, хочет сгладить ее.
– Иногда – да. Я… в Мадрасе столько всего привлекает внимание. Лица на улицах, женщины в своих сари. Дерево баньяна, пейзажи… – растерянно мямлит Дигби, жестом указывая на картины на стенах.
Она подается ближе и шепчет:
– Дигби, скажите честно, каково ваше мнение об этих картинах?
– Э, что ж… они не так уж плохи.
– То есть вам нравится? – Каштановые глаза пристально смотрят на него. И он не может солгать.
– Ну, так далеко я не стал бы заходить.
Она радостно смеется.
– Они принадлежали родителям Клода. На мой взгляд, они отвратительны – картины, я имею в виду.
Впервые за весь вечер ему становится спокойно.
– Могу я показать вам кое-что? – Она вновь кокетливо наклоняет голову и направляется в другую комнату, не дожидаясь ответа. Он идет следом, не сводя глаз с ее затылка, где тонкие волосы образуют узорчатую беседку.
В гостиной возле лестницы висит простая картина на холсте. Примерно двенадцать на шестнадцать дюймов, в скромной деревянной раме: сидящая индийская женщина, голова повернута в одну сторону, плечи развернуты в другую. Рисунок примитивный, почти детский, но одновременно очень тонкий и выразительный. Без претензий на анатомическую точность или реалистичность, но завораживающе убедительный. Дигби внимательно изучает картину.
– Невероятно! – выдыхает он наконец. – Я хочу сказать, эта линия носа, овалы глаз… эти изгибы, передающие складки сари, позу… – он водит руками, рисуя в воздухе контуры фигуры, – и всего три цвета, но возникает женщина! Вроде бы незамысловато, но это подлинное искусство. Это ваше?
И вновь звонкий смех. Плавный изгиб ее шеи словно повторяет рисунок на картине. Впечатление высокого роста, которое она производит, в основном и создается этой линией да еще длинными худыми руками. Ее изящество граничит с нескладностью, и ему это кажется очаровательным.
– Нет. Это рисовала не я. Но это принадлежит мне. Пришлось побороться, чтобы выставить эту картину на обозрение. Это живопись калигха́т, искусство, которое я видела, когда девочкой росла в Калькутте. Там их штампуют для паломников, приходящих на поклонение из самых отдаленных мест. Обычно на них изображены персонажи Махабхараты или Рамаяны. Будь моя воля, я бы выкинула на помойку то чудовищное старье и выставила вместо них вот это. (Они смеются вместе.) Да, у меня есть целая комната калигхат. – Она поднимает руку, запястье изгибается, когда она раскрывает веером пальцы, словно разбрызгивая калигхат по стенам. Его взгляд скользит по выпуклости трицепса, вниз по скату предплечья, изгибу запястья, костяшкам суставов и от полированных ногтей вновь к стене. Перед внутренним взором возникает комната, увешанная этими своеобразными яркими портретами.
Дигби заставляет себя вновь обратиться к картине. Кончиком пальца обводит в воздухе фигуру, стараясь запомнить.
– Она так поэтична, – замечает он. – Даже если художник и штампует их десятками. Простой, но красноречивый словарь.
– Именно! Невероятно: крестьянин совершает грандиозное паломничество, на такое решаются только раз в жизни, а потом тратит заработанные тяжким трудом деньги на сувенир, который родом из его же деревни! Это деревенское ремесло, как плетение корзин, но тут ремесленник переехал в город, чтобы удовлетворить запросы паломника. И вот он продает свое изделие бывшему соседу, а тот вешает картину на стену в деревне, где все это и началось!
– Или ее демонстрируют в гостиной самой… проницательной англичанки, – говорит Дигби. И краснеет. Слово “прекрасной” повисает невысказанным.
– Убеждена, что вы стараетесь мне польстить, Дигби, – мягко произносит она. Но не выглядит недовольной. Следует долгое молчание. – У меня есть еще калигхат. Но их бессмысленно показывать этим людям. Они сочтут это экзальтированностью. – Она беспечно взмахивает рукой, но в уголках губ опять проступает горькая складка. – Итак, вам нравится Мадрас?
– О да! Хирургическая практика потрясающая. И люди очень доброжелательные.
Он вспоминает Мутху, который заботится о нем с такой любовью и с такой гордостью выполняет малейшие поручения. Спустя несколько месяцев Мутху, стесняясь, привел познакомиться свою жену и двух маленьких ребятишек. И теперь они ему как семья.
– Дигби, вы бывали в Махабалипурам? – изучающе смотрит она на него.
– Я слышал о нем. Скальные храмы, верно?
– О, трудно описать одним словом… – Она задумчиво отводит взгляд. – Это мое любимое место. Знаю, вам понравится. Вы мне верите?
– Безусловно.
– Представьте себе длинную полосу прекрасного песчаного пляжа. – Волшебные руки вновь сплетают образы в воздухе. – И внезапно вы натыкаетесь на природное скальное образование. Валуны больше этого зала, а некоторые раз в двадцать больше этого дома. Одни из них утоплены в воде, другие тянутся вдоль пляжа. И в них древние мастера вырезали храмы – крошечные, размером с кукольный домик, и огромные, как театр вместе со зрительным залом. Вытесаны из скалы, представляете? Считается, что там некогда учились скульпторы. Махабалипурам – это словарь храмовых образов. Каждый жест имеет определенное значение. Там и все боги собрались – танцующий Шива, Дурга, Ганеша. Львы, буйволы, слоны – животных больше, чем в зоопарке.
Дигби переносится на этот пляж и уже видит, как бриз раздувает волосы над ее шеей, а позади в полумраке силуэты древних храмов; он ощущает соленые брызги на лице, запах океана смешивается с ароматом ее духов. Он глубоко вдыхает.
– Вижу, – говорит он.
– Правда? – Палец указывает куда-то вперед: – А теперь всмотритесь туда, за кромку прибоя. Видите темную массу под водой? Это храмы, Дигби! Целая цепь храмов. Поглощенных морем. До поры до времени. Вещи имеют свойство возвращаться, когда мы думаем, что они утрачены навеки.
Взрыв бурного смеха возвращает их на землю, песок уступает место деревянному полу и полной народу гостиной, где Радж веселится вокруг рождественской ели, бокалы с виски подают официанты в тюрбанах и никто не подозревает, что празднику скоро настанет конец.
– Это было великолепное путешествие, миссис Арнольд.
– Селеста. Прошу вас. От “миссис Арнольд” я чувствую себя старше, чем подводный храм. Мы с вами должны туда съездить. Здешняя публика никогда не посетит Махабалипурам. – Она поворачивается лицом к нему. – Я так рада, что вам здесь нравится. В этом не принято признаваться, не знаю почему. Долгое время я думала, что наше пребывание здесь временно. Клод был уверен, что его переведут в Калькутту, где я выросла. Или в Дели. Поэтому я не спешила обживаться тут.
Дом выглядел более чем обжитым. Но она здесь не к месту. Дигби представляет ее в маленьком дворце Четтинада[86]: внутренний двор с декоративным бассейном, окаймленным каменными лавками, на которых можно отдохнуть, тиковые качели на двоих, спальни, овеваемые бризом…
– Скоро будет двадцать лет, неужели вы не знали?
– Уверен, скоро он получит повышение, – запинаясь, бормочет Дигби.
– Боже упаси! Раньше я, может, и хотела бы этого. Но мне здесь нравится. Мои дети считают это место своим домом, хотя и появляются лишь раз в два года. Зачем уезжать? Если мы и уедем, Клод останется Клодом, а я останусь… – Она отворачивается, внимательно разглядывая картину, как будто она тут гостья, которой показывают хозяйскую коллекцию.
Он запоминает силуэт: бровь, нос, изгиб верхней губы с луком Купидона, переходящим в алую кайму нижней губы, взгляд скользит по щитовидному хрящу, перстневидному, к нежной выемке над грудиной. Ему хотелось бы обвести пальцем этот контур.
Селеста поворачивается как раз вовремя, чтобы заметить, как он покраснел. Она внимательно смотрит на него, и он не может понять выражение ее лица. Затем она оглядывает гостиную. Шум вечеринки кружит вокруг, но не проникает внутрь их кокона. Они замечают Клода, щеки его раскраснелись, веки отяжелели.
– Почему я рассказываю вам все это, юный Дигби Килгур? – едва слышно произносит она. Вопросительно приподняв бровь, ждет ответа.
– Потому что вы знаете, что мне не все равно, – искренне отвечает Дигби.
Зрачки ее резко расширяются. Рубины на груди приподнимаются. Глаза вспыхивают. И после паузы она говорит:
– Вы ведь не повторите моей ошибки, правда? – Взгляд смягчается и теплеет, тоски как не бывало.
– Какой ошибки… Селеста?
– Ошибка, Дигби, в том, чтобы пытаться увидеть в своей будущей половине больше, чем свидетельствует очевидность.
Глава 17
Расы врозь
1935, Мадрас
Оуэн и Дженнифер Таттлберри – англо-индийские друзья Онорин, а теперь и Дигби; Дженнифер работает телефонисткой на коммутаторе, а ее муж – машинист паровоза. Оуэн целыми днями стоит на рулевой площадке своей “Бесси”, громадной свистящей “подружки”, перед ним множество приборов, манометров и рычагов – свершившаяся мечта мальчишки. Маршрут до Шоранура[87] редко дает ему возможность присесть.
– Я вижу, как солнце встает над Бенгальским заливом, – рассказывает Оуэн. – А потом вижу, как оно садится над Аравийским морем. Ну разве я не самый счастливый человек на свете?
Дигби озаботился поисками нового транспортного средства. Машина – слишком дорого, а вот подержанный мотоцикл вполне подошел бы. Оуэн обмолвился, что у него имеется подходящий и по цене, которая устроит Дигби. И Дигби с Онорин отправились на джатке в железнодорожную колонию Перамбур. Этот англо-индийский, обнесенный стеной анклав на окраине города напоминает детскую игрушечную деревню, он весь утыкан маленькими одинаковыми домиками. На центральной поляне мальчишки играют в крикет теннисным мячом. Подростки собираются вокруг качелей под бдительным присмотром взрослых. В поле зрения никаких сари или мунду – сплошь платья, брюки и шорты.
Перед домом Таттлберри стоит автомобиль неведомой марки, некрашеный и с заметными швами от сварки. Онорин сразу направляется в дом, а Оуэн ведет Дигби на задний двор знакомиться с “Эсмеральдой”, которая за умеренную сумму может перейти в его руки. Цена действительно выгодная, хотя Дигби и сомневается, вправду ли она “стопроцентная жемчужина!”, как уверяет Оуэн. Оуэн обещал поднатаскать Дигби в механике – тут он не силен, в отличие от устройства человеческого тела. Формально “Эсмеральда” – это обычный английский “Триумф”, но Оуэн признается, что топливный бак, руль, передняя стойка, опора двигателя, шасси, выхлопная система и деревянная коляска были изготовлены в депо Перамбурской железной дороги, так что технически этот мотоцикл – отчасти локомотив. Родной у него только одноцилиндровый двигатель.
– Она неприветлива, пока не познакомишься поближе, – признается Оуэн. – Но будет верна тебе как никто другой. Я так сильно ее люблю, что готов всю жизнь быть твоим механиком. Обещаю.
С Оуэном в коляске в роли инструктора Дигби заводит “Эсмеральду” и делает несколько кругов по анклаву. А когда они возвращаются к дому, он уже влюблен в мотоцикл.
– Она же как семья, Дигби. Если бы у меня теперь не было машины, ни за что бы с ней не расстался. Видел мою тачку? Красотка, да? Только покрасить надо.
Они должны остаться на ужин, “никаких возражений”. Онорин усаживают рядом с широкоплечим парнем в безукоризненно отглаженных черных брюках и безупречно голубой рубашке, рукава которой закатаны достаточно высоко, чтобы демонстрировать могучие бицепсы. Дженнифер представляет его как своего брата Джеба. Он светлее сестры, шатен. Сжимая руку Дигби в своей могучей ручище, он говорит:
– Док, а мой зять, должно быть, любит вас, если решился расстаться с “Эсмеральдой”.
– Док, – вмешивается Оуэн, – вы пожимаете руку будущему олимпийскому чемпиону, запомните мои слова. Если уж Джеб не попадет в нашу хоккейную команду, тогда уж не знаю кто, черт побери.
– Не сглазь, бога ради, – улыбается Джеб.
– Мой братец не отличит билет от баклажана, но числится билетным контролером. – Дженнифер ослепительно улыбается, ровные зубы оттеняет красная губная помада. – Его каждое утро пичкают сырыми яйцами, кормят бараниной на обед, и весь день он играет в хоккей. Чем не жизнь, а?
Контраст между светлым Джебом и его темнокожим зятем поразительный. Оуэн, с его руками, черными от загара, с вечной полоской машинного масла под ногтями, вдобавок еще и простодушный добряк.
Джеб живет с матерью в нескольких домах отсюда. Она вскоре присоединяется к ним, как и тетушка Оуэна, двое детей Таттлберри и племянница. Вся семья собирается за столом вместе с почетными гостями. Дигби очарован этой картиной семейного уюта: детишки устроились на коленях у взрослых, их дядя Джеб разливает по рюмкам домашнюю настойку, сшибающую с ног почище любого локомотива, а Дженнифер подает еду, которую называет “пиш-паш”, – рис, баранина, картофель, горошек и много специй, тушенное все вместе, пальчики оближешь.
Оуэн явно гордится женой.
– Она настоящая находка, а, Док? Кто бы подумал, что такая девушка пойдет за такого чернявого, как я!
Оказавшись за пределами железнодорожной колонии, “Эсмеральда” проезжает мимо кучки жалких хижин и убогих лачуг, сколоченных из всего, что подвернулось под руку. Контраст ошеломляет: анклав англо-индийцев, в котором нет места туземцам, хотя одновременно и сами обитатели анклава исключены из общества правящей расой, и в этом отношении они не отличаются друг от друга. Но тогда и он такой же. Дигби Килгур – угнетенный в Глазго, угнетатель здесь. Мысль повергает его в отчаяние.
Глава 18
Каменные храмы
1935, Мадрас
Автомобиль Селесты останавливается перед жилищем Дигби. Из соседнего дома доносится дребезжащий старческий голос, выводящий мелодию, которую подхватывают юные девушки, – “Супрабха́там”[88]. Краткая нотная азбука религиозного песнопения, ее мелодия и синкопа вошли в плоть и кровь Селесты. Джанаки – тамильская а́йя[89], которая живет с ней еще с тех пор, когда она маленькой девочкой росла в Калькутте, – напевает эту молитву, расчесывая волосы Селесты. В знаменитом храме в Тирупати[90] этот гимн поют, пробуждая божество, Господа Венкатешвару.
После смерти родителей Селесты ее единственной семьей стала Джанаки. Много лет спустя, когда Клод, несмотря на ее возражения, отправил мальчиков в пансион в Англию, для Селесты словно сама жизнь покинула дом. Чтобы вывести ее из депрессии, Джанаки повезла Селесту в Тирупати. Босые, они присоединились к тысячам людей, взбиравшихся на гору по ступеням, отполированным миллионами паломников прошлого, и она вновь слышала “Супрабхатам”. Единение с великим множеством преданных, каждый из которых нес свои горести, придало ей сил. Когда Джанаки подставила голову под бритву цирюльника, пожертвовав храму свои волосы, Селеста последовала ее примеру. По мере того, как локоны падали на землю, скорбь разжимала свои когти. А когда после долгих часов в очереди она смогла наконец узреть Господа Венкатешвару, то почувствовала, как кожа покрывается мурашками. Десятифутовое, усыпанное драгоценными камнями миролюбивое существо больше не было идолом, изображением, но воплощением самого Вишну, излучающим такую мощь, что Селеста ощутила, как гора дрогнула под ногами, и жизнь ее перевернулась.
Когда Клод вернулся из Англии, он вполне мог бы узнать, что в ней изменилось, о ее обете се́ва, если бы спросил. Но он лишь молча уставился на стриженую голову жены. “Сева” означает избавление от эгоизма посредством служения. Для Селесты служение принимало разнообразные формы, в частности, ежедневной добровольной работы в Мадрасском детском приюте.
Дигби появляется с тряпочной санджи́[91] через плечо, такую сумку решались носить очень немногие англичане. Немножко вздернутый и взволнованный, он забирается в машину. Как школьник, собирающийся на пикник, думает Селеста.
В окошко автомобиля просовывается темная рука с жестяной коробкой.
– Саар[92] забыл самосы, – сообщает Мутху.
– Можно? – Селеста с любопытством приподнимает крышку жестянки. Надкусывает самосу, начинка исходит паром. – Божественно. – Она чуть наклоняется вперед, чтобы крошки не просыпались на ее оранжевую ку́рту[93]. – В жизни ничего вкуснее не пробовала.
– Если мисси нравится, я приготовлю много, – улыбается Мутху.
Они отъезжают, и Селеста хохочет:
– Он назвал меня “мисси”. Как школьницу.
Дигби лишь молча усмехается.
На подъезде к Адьяру, когда они пересекают реку и едут мимо обширного болота, Дигби неуверенно начинает:
– Признаюсь, я прошлой ночью почти не спал.
– А что случилось?
– Переживал, что ввел вас в заблуждение, представив дело так, будто бы что-то понимаю в искусстве. Я не получил такого воспитания, как, думаю, вы. Я не видел великих музеев Европы и всякого такого. Те несколько месяцев, что провел в Лондоне, я не выходил из больницы. Ну вот, я должен был сбросить камень с души. – Признавшись, он покраснел.
– Дигби, я вас разочарую. В моем детстве не было никаких великих музеев. Мои родители служили миссионерами в Калькутте. Мы жили в доме из двух комнат. И у нас была только одна айя, а не десяток слуг, как у прочих наших знакомых. Не нужно делать такое лицо. Это был подарок судьбы! Поскольку мы были слишком бедны, чтобы отправить меня в Англию, я избежала душевной травмы разлуки с родителями в пятилетнем возрасте. Вы же знаете, это считается обычным делом – отослать ребенка за океан в пансион, именно это Клод проделал с моими мальчиками. Раз в два года повзрослевший ребенок сходит с судна в Индии. И нет никакого шанса, что это по-прежнему твой малыш. Он пожимает тебе руку и говорит: “Здравствуйте, мама”, потому что “мамочку” он уже не помнит.
Свободная подвеска автомобиля заставляет их раскачиваться в унисон – ритм, располагающий к откровенности.
– Мне еще повезло, что они вообще приезжают домой. Некоторые дети проводят каждое лето в Илинге или Бэйсуотере[94] с “бабулей” Андерсон или “тетушкой” Полли, которые за умеренную плату играют вашу роль. Невыразимая жестокость.
– Но тогда зачем?
– Зачем? Потому что существует признанное медицинское мнение, что если ребенок останется в Индии, он непременно сляжет с тифом, проказой или оспой. А если доведется уцелеть, он станет слабым, ленивым и лживым. И неважно, что множество из нас отлично выживают. И эту чушь можно прочесть в руководстве для Гражданской службы! “Качество крови ухудшается”, согласно утверждениям сэра Болвана Такого-то и Такого-то, члена Королевского медицинского колледжа. А здесь, прошу заметить, просто образцовые школы. Но в таком случае мои несчастные сыновья вынуждены будут учиться вместе с англо-индийцами. У них появится акцент полукровок, чи-чи, как у их матери, за спиной их будут называть “пятнадцать анна”, хотя они даже не англо-индийцы.
В рупии шестнадцать анна, а быть Селестой означало быть на одну меньше. Горечь ее слов потрясает Дигби, но и он удивляет Селесту. Он слушает всем своим существом, как ей кажется, предлагая чистый холст своего разума для ее мыслей. Боже, да он, кажется, влюблен. Будь бережна с ним.
– Я не могу представить, – говорит он, – англичанку, нога которой никогда не ступала на землю Англии.
Когда Клод упомянул между делом, что у него появился новый ассистент-хирург, он сказал лишь, что это католик из Глазго. Вот и все, что Клод считал существенным для характеристики человека. Но мужчина, сидящий рядом с ней, гораздо сложнее. Она, не отдавая себе отчета, тянется к его щеке и касается рваного шрама. Он густо краснеет, как будто она обнажает в нем нечто непристойное, хотя намерения у нее были ровно противоположные. Она поспешно продолжает разговор, скрывая их обоюдное замешательство:
– Вообще-то я бывала на родине. Когда я окончила школу, друг моих родителей оплатил поездку. Было ужасно любопытно.
Она вспоминает, как корабль входил в холодную туманную бухту Тилбери и свое первое впечатление от Лондона. Величественные здания, которые она так мечтала увидеть, оказались серыми и закопченными из-за дыма угольных печей. В унылых провинциальных городках крохотные домишки тесно жались друг к другу, как халва в кондитерской. Даже белье на веревках было серым.
– Я получила стипендию в школе, где из девочек готовили миссионерок. Хотите верьте, хотите нет, но я жаждала изучать медицину. Но через несколько месяцев после моего отъезда из Индии родители умерли. Холера, – буднично добавляет она.
Она смотрит на океан, как раз появившийся по левую руку. Навстречу движется другой автомобиль, и обоим приходится разъезжаться медленно и аккуратно, чтобы не застрять в песке.
Обернувшись, она видит, что Дигби внимательно изучает ее, как художник – свою модель.
– Я тоже осиротел, – застенчиво говорит он.
В Махабалипурам Селеста ведет Дигби через дюны. Молочно-белую ленту пляжа, лежащего перед ними, разрывают темные глыбы скал, похожие на разбитые остовы кораблей.
– Вон те пять фигур, вырезанных из одного валуна, называются ра́тхас, – рассказывает Селеста. – Потому что они имеют форму колесниц. Целая процессия. И… – Она обрывает сама себя. – Нет ничего хуже экскурсий. Дигби, ступайте и смотрите. Я буду ждать вас около пятой фигуры, там рядом каменный слон. Увидите.
Он подчиняется без колебаний. Она даже немножко разочарована, что он не стал протестовать.
Перед первой ратхой стоит на страже пара колоссальных пышных женских фигур, полоска ткани едва скрывает их соски, а другая – лобковую область. Селеста видит, как Дигби достает блокнот. Что этот сирота из католического Глазго – как зловеще звучит, однако, – думает о чувственной скульптуре на священном сооружении?
Она садится в тени пятой ратхи, снимает темные очки, разглядывая округлости статуй. Первое посещение этого места подвигло ее к изучению всего, что возможно, о храмовом искусстве. Что, в свою очередь, несколькими годами позже привело к организации выставки южноиндийских художников. Венгерский дилер, купивший множество работ, восхищался ее галерейной деятельностью. Он посоветовал “покупать то, что нравится и что можно себе позволить”. Так она стала коллекционером.
Неужели поэтому я здесь? А Дигби – часть коллекции?
Проходит немало времени, прежде чем она замечает Дигби, вынырнувшего из четвертой ратхи, как кролик из шляпы. Он видит Селесту, и тревожная тень омрачает его улыбку – он заставил ее ждать? Они идут по дюнам к северу, туда, где в тени палисандра их ждет шофер с корзиной для пикника. Она расстилает плед. Прямо перед ними возвышается гигантский валун песчаника высотой в пятьдесят футов и вдвое длиннее, поверхность его представляет собой пространный рассказ о богах, людях и животных. Дигби глаз не сводит с изображений, одновременно уничтожая сэндвичи с помидорами и чатни, уже совершенно не стесняясь.
– А это что такое? – спрашивает он с набитым ртом.
– Происхождение Ганги. Вот эта расщелина – это Ганга, пролившаяся в ответ на мольбы правителя, но если бы она излилась прямо на землю, это перевернуло бы мир, поэтому Шива пропустил ее через свои волосы – видите, вон он, с трезубцем? А вон те летающие на самом верху пары мои самые любимые. Гандха́рвы. Полубоги. Мне нравится, как свободно они парят. А дальше видите – пахари, карлики, садху… Видите, кошка стоит на задних лапах, прикидываясь мудрецом? И мышка, идущая к ней на поклон? Здесь и юмор, и трагедия, и всякий раз что-то новое.
Дигби торопливо приканчивает свой сэндвич, тянется за блокнотом.
– Мы можем задержаться здесь еще немножко?
– Конечно! У меня есть книжка. – Она прислоняется спиной к стволу дерева и раскрывает роман.
Проснувшись, видит, что Дигби разглядывает ее. Когда она успела задремать? Она садится, требовательно протягивает руку:
– Позволите?
Он колеблется, но все же уступает. Он делал быстрые наброски, три-четыре на странице. Глаз художника в сочетании со знанием анатомии рождает предельно точную картину всего, что он видит.
– Вот это да, да вы мастер сисек! Ой, простите, рисунка! Клянусь, я хотела сказать “рисунка”.
Дигби вовсе не подчеркивал грудь, не больше, чем сам скульптор, но за него это сделали карандаш и белая бумага. Он уловил и запечатлел каждый жест, каждую мудру – словарь танцовщика.
– Дигби, нет слов. Какой талант!
Она переворачивает страницу – женщина в темных очках, с тончайшей щелкой между приоткрытыми губами, сквозь которую она впитывает воздух во сне. Она чувствует себя вуайеристом, заглядывающим в храм сластолюбца на покое. Ее образ на бумаге рядом с высеченными в скале фигурами слил воедино эпохи. Селеста рассматривает себя со стороны. Лесть – не правильное слово для описания портрета. Эмпатия – качество, что присутствует и в окружающих их скульптурах. Художники древности были в первую очередь преданными, верующими. Без любви к предмету изображения они стали бы просто резчиками, ремесленниками, их обожание – вот что оживляет камень. Она чувствует, как пылает лицо. Дигби целомудрен, но он разбирается в женском теле благодаря своей профессии, которая предполагает многие часы внимательных наблюдений вкупе с чудовищной степенью близости.
Дигби волнуется.
– Мне нравится, – признается Селеста, но эти слова словно произносит совсем другой человек. – У вас дар…
А Клод, стремился ли он когда-либо воздать ей должное? Сейчас ей нестерпимо хочется порвать с прежней жизнью.
– Бегство, – слышит она Дигби, точно тот читает ее мысли.
– Простите? – вспыхивает она вновь.
– Это бегство, а не дар. Мальчиком я рисовал воображаемые миры, которые были счастливее, чем мой. Лица. Фигуры. Ровно то, что я вижу здесь.
Неужели стремление творить сопровождается стремлением разрушать? Дабы воссоздать вновь?
– Бегство от чего, Дигби?
Лицо его застывает, как скала. Как будто она опять коснулась его шрама. Наконец он отвечает, и голос звучит слишком звонко и радостно, отвлекая от дальнейших расспросов.
– А они не стеснялись обнаженного тела, да? Это сразу заметно. Для них это было естественно. – Дигби смотрит на нее в упор.
– Верно, – кивает она. – Вместе с моей айей, Джанаки, я бывала в храмах Кхаджурахо на севере. Поразительные изваяния совокупляющихся пар, куртизанок… скажем так, воображению места не остается. Паломники, приходящие туда, были бы оскорблены, увидев подобное на киноафишах. Но на стенах храма это священные изображения. Скульптуры просто повторяют священные тексты. Их основная мысль: “Это и есть жизнь”
– И уж точно это не прокатило бы в Хай Кирк[95] в Глазго! – Дигби невольно выпускает из-под контроля свой акцент. И вознагражден ее смехом. – Серьезно, – продолжает он. – В христианстве мне всегда не нравилось, что все начинается с того, что мы грешники. Если бы я получал пенни каждый раз, когда моя бабуля говорила, что все мальчишки вороватые лживые распутники, и я не исключение… Простите, Селеста. Надеюсь, моя вера – или ее отсутствие – вас не оскорбляет.
Селеста мотает головой. Разве после смерти родителей она может цепляться за веру? Они с Дигби окружены призраками, и не только древних скульпторов, оставивших отметины на этих камнях.
– Дигби, как умерли ваши родители? – Вопрос парит в воздухе, как гандхарва. Лицо Дигби темнеет; маленький мальчик пытается сохранить мужество перед лицом невыразимого. – Забудьте, что я об этом спросила, – торопливо поправляется она. – Забудьте.
Губы Дигби приоткрываются, как будто он собирается заговорить. Но затем снова плотно сжимаются.
По пути домой оба молчат. Селеста испытывает удивительное послевкусие путешествия во времени – дар, который Махабалипурам преподносит своим гостям. Она беспокоится о своем спутнике. Они оба выкроены из ткани потерь. Она украдкой поглядывает на него, на твердый подбородок, крепкие мускулистые плечи. Да ради всего святого, вовсе не из фарфора он сделан. С ним все будет в порядке.
– Селеста… – начинает Дигби, когда они подъезжают к его дому, голос хриплый от долгого молчания.
Она берет его за руку, прежде чем он успевает продолжить.
– Дигби, спасибо за прекрасный день.
– Но я это и хотел сказать!
Она улыбается, хотя сердце ее переполняют печаль и желание. Она сжимает его пальцы, удерживая свое тело в узде, выпрямляется. Взгляд падает на их соединенные руки.
– Вы хороший человек, Дигби, – говорит она. – Прощайте. Вот, я сказала это за нас обоих.
Глава 19
Пульсация
1935, Мадрас
Дигби клянется не думать о ней. И постоянно только о ней и думает. Она высечена в его памяти, как скальная скульптура; мысли о Селесте занимают весь дождливый сезон, который не заслужил своего названия, и тайфун, который, безусловно, заслужил, и “весну”, промелькнувшую в мгновение ока. Он по-прежнему чувствует запах прибоя, вкус сэндвича с чатни и вызывает в воображении лицо спящей Селесты – лицо, в котором читается все, что она пережила, пускай ее шрамы менее заметны, чем его.
У него есть только одно утешение – “Эсмеральда”. До сих пор она оправдывала рекламное заявление Оуэна насчет “стопроцентной жемчужины”. Она капризна, но щедро вознаграждает терпеливого владельца. По выходным она сопровождает его к новым впечатлениям, обследуя окраины города: гора Святого Фомы, пляж Адьяр и даже Тамбарам[96].
Хотя радиус его поездок существенно увеличился по сравнению с былыми велосипедными деньками, круг друзей остается небольшим: Онорин, Таттлберри и Равичандран. Лена Майлин пишет Дигби пространные письма: она быстро поправляется, а Франц передает приветы. Лена шлет соблазнительные фотографии их гостевого домика в поместье “Аль-Зух”, где, как она говорит, Дигби сможет расслабиться и порисовать. Он пообещал приехать летом, когда Мадрас становится абсолютно невыносимым.
Дигби и Онорин стали гостями Таттлберри на осеннем балу Железнодорожного института; Дженнифер назвала это событием, которое “никак-нельзя-пропустить”, – как выяснилось, нельзя пропустить никому из англо-индийской общины. Седовласые дедули и бабули вместе с младенцами клевали носом по углам, не обращая внимания на “Дензел и Дьюкс” на сцене, наяривавших все подряд, от джаза до польки. На “Апрельских ливнях” и “Звездной пыли”[97] к ним присоединилась знойная певичка. Дигби наблюдает за пожилой парой, ловко маневрирующей на забитой людьми танцевальной площадке, они женаты так давно, что их тела словно отпечатались друг в друге.
Дженнифер тянет Дигби танцевать, не обращая внимания на возражения.
– Я научу тебя, не переживай, – уверяет она. – По сравнению с хирургией это ерунда.
Дигби, впрочем, предпочел бы гастрэктомию.
– Двигай бедрами, – командует Дженнифер.
Появление ее брата Джеба в сопровождении свиты симпатичных приятелей вызывает небольшой переполох.
– Принц Перамбура почтил нас своим присутствием, – насупившись, хмуро бросает Дженнифер.
В тот же миг какая-то молодая женщина резко отодвигает стул и вылетает из зала, ее родители, братья и сестры следуют за ней, бросая злобные взгляды на Джеба. Джеб стоит в сторонке – смиренный, вежливый, глаза в пол. Дженнифер, грустно качнув головой, объясняет:
– Мэри и Джеб были вместе с тех пор, как еще подгузники носили. Он даже подарил ей кольцо. А месяц назад мой братец взял и бросил ее. Я до сих пор в ярости.
Со своего места Дигби видит, как Джеб проплывает по залу, словно босс, инспектирующий офис, как он машет “Дензел и Дьюкс”, которые приветствуют его, как королевскую особу. Он проходит мимо Дженнифер, презрительно фыркнувшей в сторону брата, но потом внезапно возникает у нее за спиной, подхватывает под руку, поднимает и увлекает на танцпол. “Дензел и Дьюкс” играют ча-ча-ча, все взгляды устремлены на брата с сестрой, Джеб мастерски ведет, едва касаясь партнерши кончиками пальцев, плавно покачивая бедрами. Дигби завидует умению, которым ему точно никогда не овладеть. Опять его удивляет контраст между голубоглазым шатеном Джебом и Дженнифер с ее угольно-черными глазами и смоляным пучком волос со свисающим слева локоном. В сари, с окрашенным хной пробором[98] и потту на лбу, она могла сойти за тамильскую жену, в то время как Джеба легко принять за загорелого англичанина, только что вернувшегося с летних каникул в Италии.
Джеб, изящно закружив напоследок, подводит улыбающуюся сестру обратно к ее креслу, но тут же нацеливается на скромную юную красотку в эффектном белом платье, разрисованном крупными красными розами и скроенном так, чтобы продемонстрировать роскошное декольте. Но нет – оказывается, целью была ее громадная мамаша. В брюках с высокой талией и белой сорочке с жабо Джеб похож на матадора, когда профессионально ведет тетушку по залу, всячески демонстрируя благоговение перед ее скрытыми талантами, а она подтверждает, каждым движением доказывая, что двадцать лет назад была горячей штучкой… а тем временем скромная дочурка все больше нервничает, сидя на своем месте, потому что знает то, что Дигби заметил только сейчас, – с того момента, как Джеб вошел в зал, все прочее было лишь маскировкой, сплошным дымом и зеркалами, потому что жребий брошен и для него существует только одна девушка на свете, вот эта очаровательная тетушкина дочка в белом с розами платье, эта любовь-с-первого-взгляда-драгоценная-дорогая, и забудь-все-россказни-обо-мне, это гадкая клевета, распускаемая этой задницей Мэри и ее Чарли-Билли-бала-болы братцами, деревенщина, сплетни, вздор, лягушки, угодившие в ведро и норовящие утянуть с собой на дно отважную душу, которая стремится увидеть мир…
Дигби почти не удивлен, узнав от Оуэна, что новую пассию Джеба зовут Розой. Он невольно представляет, как понравилась бы Селесте эта драма и этот вечер. Но Селеста – всего лишь мечта, а тут настоящие женщины из плоти и крови проплывают мимо в облаке духов, взглядами зовут к приключениям. Час спустя, когда Дигби и Онорин собираются уходить, танцы в самом разгаре.
Дигби едет неторопливо, с той единственно возможной для “Эсмеральды” скоростью, если в коляске пассажир, а это немногим быстрее велосипеда. Морской бриз бодрит и очищает. Дигби сдвигает очки на лоб, волосы Онорин развеваются за спиной, и сестра улыбается.
– Все розы для Джеба, – кричит через плечо Дигби; образ кружащегося платья, усеянного красными розами, еще жив в памяти.
Ему хотелось бы поговорить о Селесте, но, разумеется, он никогда не упоминает ни о ней, ни об их поездке, никогда не произносит вслух ее имени.
Онорин смеется и кричит в ответ:
– Розы жутко раздражали бы, если бы не увядали и не засыхали со временем. Красота и состоит в том, что она недолговечна.
Джеб это наверняка знает, думает Дигби. А вот знает ли Роза? И если красота столь эфемерна, как насчет прекрасных вещей, которыми вы не можете обладать? Возможно, именно такая красота сохраняется навеки.
Наступление летней жары знаменует собой начало очередного года в “Лонгмер”, Мутху отмечает это событие в кухонном календаре.
Проходя через предоперационную и утирая носовым платком едкий пот со лба, Дигби узнает пациента на каталке. Мужчину с голубыми глазами и слегка загорелой кожей можно принять за англичанина – редкое зрелище, если дело касается хирургических пациентов в “Лонгмер”.
Дигби заглядывает в список Клода и видит там только одно имя – Джеба.
– Пустяки. – Джеб смущен встречей с Дигби. – Просто абсцесс. – Он показывает на пылающий красный желвак на шее. – Подумал, что доктор Арнольд вычистит его. Клод любит спортсменов, приходит на каждый наш матч.
– И давно он у тебя? – спрашивает Дигби, хотя на самом деле хочет сказать: “Я бы не доверил Клоду выдавить прыщ у меня на заднице”. Внимательно вглядывается в желвак.
– О, уже много месяцев. Но теперь мешает, сволочь.
Когда появляется Клод забрать Джеба в операционную, тот беспечно машет Дигби на прощанье.
Много месяцев? Мысль не дает Дигби покоя. А потом ему становится не по себе.
Он отправляет стажера попросить Онорин прийти в операционную, если она не занята. Переодевается, моет руки и заходит взглянуть на больного еще разок. Хлороформ уже подействовал, глаза Джеба закрыты. Вздутие на шее красное, воспаленное – очень похоже на абсцесс. Может, я и ошибаюсь, думает Дигби. Но когда прикладывает ладонь к коже, она вовсе не горячая, как должно быть при абсцессе. И, к ужасу Дигби, пульсирует, с каждым ударом сердца приподнимая и чуть раздвигая его пальцы.
– Неужели это доктор Килгур? – появляется из-за его спины Клод, уже полностью готовый к операции, и одновременно с ним в операционную проскальзывает Онорин, прижимая маску к лицу. До полудня еще далеко, но Дигби чувствует отчетливый запах алкоголя. – Разве нам недостаточно работы с туземцами? Пришли взглянуть? – Если на лице Клода и присутствует улыбка, то она надежно скрыта хирургической маской, а уж в глазах ее точно не видать.
– Прошу прощения. Просто мы с Джебом знакомы, – оправдывается Дигби. – Он брат моего друга. И я случайно увидел его в предоперационной. – И продолжает, понизив голос: – Я подозреваю… я уверен, доктор Арнольд. А что, если это не абсцесс, а аневризма?
Глаза Клода становятся ледяными. Откровенная ненависть во взгляде пугает Дигби. На миг ему кажется, что это из-за Селесты, но все грехи, в которых его можно обвинить, существуют лишь в его голове.
Клод берет себя в руки.
– Чепуха, дружище, – говорит он. – Вы ведь здесь уже достаточно давно, чтобы узнать абсцесс. Этот разбух от гноя. А пульсация передается от сосудов, расположенных позади него. Мы же в тропиках. Гнойные абсцессы здесь встречаются чаще, чем прыщи.
Каждое слово отчетливо и уверенно. Клод всегда прав.
– Просто он даже не теплый… – лепечет Дигби. – Возможно, пункция тонкой иглой для начала могла бы прояснить…
– Это гнойный абсцесс, – невозмутимо констатирует Клод. – Я вскрывал эти штуки, еще когда вы пешком под стол ходили! Отойдите отсюда и смотрите.
Антисептик не успевает высохнуть, как доктор Клод Арнольд взрезает скальпелем вздутие. Наружу вытекает гной, густой и вязкий, и Клод оборачивается к Дигби, уже открыв рот, чтобы сказать: “Видишь?” – как в следующее мгновение струя крови, яркой артериальной крови, ударяет в лицо Клода. Он отпрыгивает, ошеломленный, но все же недостаточно быстро, потому что его настигает следующий залп, мощный фонтан, бьющий в ритме сердца Джеба.
Клод, шарахнувшись назад, спотыкается о табурет. Дигби бросается вперед, голыми руками хватает хирургические салфетки, зажимает ими аневризму, потому что это именно она: очаговое ослабление стенки каротидной артерии. Онорин отбрасывает маску и спешит на помощь.
Разрез, проделанный Клодом, настолько длинный и глубокий, что простым зажимом не зачинить брешь в дамбе. Салфетки становятся алыми, как и пальцы Дигби, кровь капает со стола и собирается в лужицу на полу. Дигби орет, требуя зажим и нитки. Лицо Джеба уже обрело мертвенную бледность. Когда Дигби вытаскивает салфетки, кровь из рваного разреза пульсирует не так интенсивно. Он яростно зашивает сосуд, но к тому времени сердце Джеба уже остановилось, потому что не осталось крови, которую нужно перекачивать. Пациент истек кровью. Скончался от кровопотери. Глаза Джеба полуоткрыты, и Дигби кажется, что он смотрит прямо на него, словно спрашивая: “Почему ты позволил ему сделать это?”
Звук падающей на пол табуретки собрал всех, находившихся в пределах слышимости. В операционной стоит небольшая толпа, разглядывая жуткую картину.
– Да уж, черт меня побери! – с расстояния в шесть футов мямлит Клод, нарушая повисшее в операционной безмолвие.
Клод бледен почти как Джеб, не считая пятен крови на лице. Все глаза устремлены на Клода Арнольда, жалкое зрелище.
– Эта чертова штука все равно убила бы его. Вреда не причинено, – бормочет он, вываливаясь в коридор.
Глава 20
В стеклянном доме
1935, Мадрас
Сквозь церковное окно видно кладбище. Клод, сколько душ ты сюда отправил? Этот человек на следующий день вернулся на “работу” как ни в чем не бывало. Дигби вздрагивает, когда внутренний голос предупреждает: Не суди строго, Дигби. Все хирурги ошибаются.
Службу пришлось перенести из Перамбура в более просторное место в Вепери[99]. Собралось все англо-индийское население; женщины в шляпках и черных вуалях. Алтаря почти не разглядеть под венками, обступившими гроб. Фотография потрясающе красивого Джеба, опирающегося на хоккейную клюшку, напомнила Дигби Рудольфо Валентино. В церкви жарко, служба долгая, воздух насыщен приторным ароматом гардении.
Когда команда Джеба, строй парней в синих блейзерах и белых брюках, несет по проходу гроб, женский вопль разрывает тишину и звуки рыданий разливаются под церковными сводами.
На улице Дигби окликают по имени. Оуэн хватает его за руку. Он ссутулился и выглядит так, будто давно не спал.
– Док, мы все знаем, что случилось в операционной. Знаем. И знаем, что вы пытались это предотвратить.
Дигби никому ни слова не говорил.
– И я хочу, чтобы вы знали, – произносит Оуэн, расправляя плечи. – Мы встречались с главным врачом больницы. Скользкий говнюк! Он беспокоился, только как бы прикрыть Арнольда. Сам начальник Железной дороги обратился с ходатайством к губернатору от имени семьи. Губернатор позвонил директору Индийской медицинской службы. Тот обещал расследовать дело. Мы этого так не оставим, Дигби. – Он внимательно изучает его лицо. – Я знаю, что он ваш босс и все такое. Но, док, не надо защищать ублюдка.
– Оуэн, если меня спросят, я скажу всю правду, – говорит Дигби прямо.
Оуэн кивает.
– Джеб не был святым. Ему нужно было время, чтобы перебеситься, взяться за ум. Но такого он не заслужил.
Дигби решился задать вопрос, беспокоящий его:
– Оуэн, а почему Джеб не обратился в Железнодорожный госпиталь?
Причиной оказалась, как выяснилось, его новая пассия, Роза.
– Роза – дочка чертова главного врача. А Джеб, он типа Ромео, вы же в курсе. Короче, когда Роза узнала, что он крутит с другими девчонками, она устроила сцену ревности. И ее папаша вмешался в это дело. Хуже всего, что этот сукин сын живет напротив нас. Заявился к нам домой, закатил скандал, а потом еще и его сынок начал подтявкивать, направо и налево брехать, что, мол, наша семья такая-разэтакая, а следом случилась чертова гумбало́да Гови́нда[100], с хоккейными клюшками, камнями, костями и все такое. Даже моей матери досталось несколько тычков. Так что сами понимаете, док. Железнодорожный госпиталь Джебу не годился.
Редактору “Мэйл”.
Смерть Джеба Пеллингема, олимпийской надежды нашей хоккейной команды, это национальная трагедия. Но то, как обошлись с его семьей, это национальный позор. Мистер Пеллингем скончался из-за преступной некомпетентности хирурга больницы “Лонгмер”, но, несмотря на обещание губернатора провести расследование, прошло уже два месяца, а сроки его так и не назначены. Меж тем семья и представители англо-индийской общины не могут получить копию заключения патологоанатома.
Мистеру Пеллингему не повезло попасть в руки хирурга, чья репутация настолько дурна, что его уволили из Государственной центральной больницы. Ни один из европейцев не обращается к нему за помощью. Но тем не менее он продолжает работать в “Лонгмер”, получает приличное жалованье, ничего не делая, а то, что делает, угрожает жизни пациентов. Неравнодушный гражданин обязан спросить: неужели это потому, что один из его братьев является главным секретарем вице-короля, а другой – губернатором Северного округа? По какой иной причине покрывают этого убийцу?
Когда-то мы, англо-индийцы, были гордыми сынами и дочерьми граждан Британии, со всеми привилегиями этого гражданства. Но времена изменились. Если Индия получит самоуправление, мы, без сомнения, будем полностью лишены гражданских прав. Тем не менее страна полагается на нас во имя бесперебойного функционирования своего механизма. Англо-индийскому сообществу пора пересмотреть свою безоговорочную поддержку правительства: вспомним мятеж 1857 года, когда героически выстояли мальчики из колледжа “Ла Мартиньер” в Лакхнау, или Брендиша и Пилкингтона из телеграфной конторы Дели, которые, несмотря на страшную опасность, не сбежали и сообщили британцам, что мятежники вошли в город. Во время Мировой войны три четверти англо-индийского населения служили с отличием. Но больше мы держаться не станем.
В лице Джеба Пеллингема Индия потеряла достойного человека и, возможно, верный шанс получить олимпийское золото. Равнодушие к его смерти и отсутствие расследования – это удар в самое сердце англо-индийской общины. Мы этого так не оставим.
Искренне Ваш,
Veritas
Селеста роняет газету на стол. Внезапно она оказалась в стеклянном доме на виду у всего Мадраса. Раздел “Письма” в “Мэйл” популярнее передовицы. В прошлом месяце умы читателей были заворожены полемикой вокруг проблемы приема квалифицированных индийцев в Индийскую гражданскую службу. Изменение в правилах призвано было умиротворить индийцев, но старая гвардия британских офицеров ИГС была в ярости из-за разбавления их рядов туземцами. “Индия без «Стального каркаса» британской ИГС рухнет”, – утверждалось в одном письме, в то время как в другом возражали, что “хорошо известно, что брамины терпят неудачу, когда их допускают к высшим должностям”. Поступило множество писем от офицеров ИГС (подписанных только инициалами), о которых говорили как о “Белом мятеже”, к огромному неудовольствию вице-короля.
Письмо от “Веритас” несло на себе печать истины, хотя и обвиняло ее мужа практически в убийстве. Человек, который может быть равнодушен к мольбам жены и отрывает маленьких детей от груди матери, должно быть, столь же чудовищно бездушен в своей работе. Она где-то прочла, что секрет лечения заключается в заботе о пациенте, и если это действительно так, Клод точно полный ноль в своей профессии. Он тоже родился в Индии, но в семье военных. Долгое время Селеста считала, что он травмирован тем, что его совсем маленьким отправили в Англию, вырвали из рук его айи. Но ведь то же самое произошло и с его братьями, а они выросли заботливыми, великодушными и успешными. Клод был столь же многообещающ, когда они познакомились, она была очарована его внешностью, его уверенностью и решимостью заполучить ее. Прошло время, прежде чем она поняла, что в нем кое-чего не хватает, и эта недостающая часть стоила ему и счастливого брака, и профессионального роста.
Тем вечером она сидит в гостиной, когда Клод, в белоснежном теннисном костюме, возвращается домой. Взгляд его падает на “Мэйл”, лежащую на столе перед ней. На жену он не смотрит. Подходит к подносу с виски и наливает себе.
– Газон очень сухой. Поговоришь с маали, дорогая? – безмятежно произносит он.
И направляется со стаканом в свой кабинет, неуклюже прикрывая телом бутылку с виски, которую потихоньку стянул с подноса.
На следующее утро за завтраком мешки под глазами Клода массивнее, чем обычно. Он срезает верхушку с вареного яйца, внезапно откладывает нож и уходит. Кажется, его расстроило что-то в “Новой Индии”, лежащей рядом с его тарелкой. Но нет, дело в телеграмме, скрытой газетой.
ПИСЬМО ВЕРИТАС ОПУБЛИКОВАЛА БОМБЕЙ КРОНИКЛ ТОЧКА ТОБИ НАВЕЛ СПРАВКИ ТОЧКА НЕ ОБРАЩАЙСЯ К ТОБИ И КО МНЕ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПУТЕМ ТОЧКА
Это от брата Клода, Эверетта, губернатора Бомбейского округа. Тоби, второй брат, упомянутый в телеграмме, – главный секретарь вице-короля.
В последующие дни раздел “Письма” в “Мэйл” вдохнул жизнь в проблему смерти Джеба. Клода не упоминают, зато звучат имена вице-короля, его главного секретаря и губернатора Бомбейского округа, что, разумеется, не доставляет им удовольствия.
Две недели спустя вице-король прибывает в Мадрас с запланированным визитом, о наличии которого в планах он очень жалеет. Специальный вагон вползает на Центральный вокзал, полуодетый вице-король чуть отодвигает шторку в спальном купе и приходит в ужас, когда видит строй хоккеистов в форме с черными лентами на рукавах. Позади них толпа в сотню человек держит плакаты с именем Джеба и призывом ОПУБЛИКУЙТЕ ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ! И все молчат, как призраки.
Взбешенный вице-король задергивает занавеску. Именно этого он и боялся и приказал, чтобы вагон отцепили в депо, задолго до платформы. Машинист каким-то таинственным образом не получил этого распоряжения, и таким же чудом за всю ночь по пути перед поездом ни разу не загорелся красный светофор благодаря англо-индийским начальникам станций. В результате поезд прибыл не в восемь, а в шесть утра. Нигде не видно полицейских отрядов, которые должны сопровождать вице-короля, да и в любом случае они встречали бы его в другом месте.
В толпе присутствуют репортеры и фотографы всех индийских газет. В конце концов багровый вице-король, с остатками крема для бритья на мочке уха, появляется в дверях вагона, наклоняется ровно настолько, чтобы высунулась голова, но не выходит наружу. Он милостиво принимает петицию из рук матери Джеба. Откашливается, готовясь произнести речь, но едва выдавливает слова “судебный процесс”, как голос откуда-то из толпы вопит: “Чаа![101] Это мы уже слышали, да, парни?” Женщина кричит: “ПОЗОР, ПОЗОР, ПОЗОР”, толпа подхватывает ритм. Сверкают вспышки фотокамер, и вице-король ныряет обратно в вагон, только чтобы подвергнуться дополнительному унижению – хоккейные клюшки колотят по металлическим стенам, оглушая находящихся внутри. Газеты описывают эту сцену в мельчайших деталях, сопровождая выразительными фотографиями.
Тем вечером главный секретарь вице-короля является к ним домой, застав Селесту врасплох. Тоби самый привлекательный из трех братьев, но ростом пониже Клода. Не обращая внимания на Клода, он целует Селесту и протягивает ей подарок, перевязанный ленточкой. Она сразу же открывает.
– Это старинная шкатулка из слоновой кости, – улыбается он. – Я приметил ее в Джайпуре и сразу понял, что должен подарить ее своей любимой невестке.
– Твоей единственной невестке, Тоби. О, скажу тебе, это же…
– Селеста, – перебивает ее Клод, – вели бою подать напитки. Мы пойдем в кабинет…
– Что за спешка, Клод? – раздраженно бросает Тоби. – И забудь про напитки.
Улыбка застывает на лице Клода, как яичный желток, но он молчит. Обычно, когда братья собираются вместе, Клоду позволяют играть роль старшего. Теперь Селеста задумывается, а не из жалости ли поступают так братья, понимая, что превосходят его в остальном.
Тоби не выпускает ее руки.
– Селеста? Передай мои теплые приветы Джанаки, хорошо?
Тоби, по всей видимости, не желает идти в кабинет, потому что, когда она поднимается по лестнице, слышит, как он говорит тоном, разительно отличающимся от того, каким только что обращался к ней:
– Да что за бред, Клод! Ты что, действительно думал, что вице-король пожелает выслушать твою версию событий? Ты что, не понимал, что это поставит его в еще более дурацкое положение? И меня заодно? (Ответ Клода не разобрать.) Нет, это ты послушай. Нет! Ровно наоборот. Я пришел сообщить, что по распоряжению вице-короля слушание дела состоится. У нас связаны руки. – Она не слышит, что мямлит в ответ Клод, но Тоби перебивает его: – Прекрати! Ни слова больше. Я хочу иметь возможность с чистой совестью заявить, что пришел в гости к Селесте и никогда не обсуждал с тобой данную тему. Не смей впутывать ни вице-короля, ни братьев. Не присылай телеграмм и не звони. Вбей уже это себе в голову, Клод. Это не формальность. Вице-король хочет знать правду. – Следует долгое молчание. Потом она слышит, как Тоби уже мягче произносит: – Прости, Клод. Все внимание будет обращено на тебя. Прошлое непременно всплывет. Взгляни на себя честно. И ради всего святого, держись подальше от бутылки с виски, пока все не закончится.
В дверях Тоби оглядывается и замечает Селесту, застывшую на верхней площадке лестницы. Лицо его невыразимо печально.
В газетах сообщают, что вице-король распорядился выплатить пособие семье Пеллингем за причиненный ущерб и назначил комиссию под председательством бывшего губернатора, в которую вошли два активных представителя англо-индийской общины, глава Индийской медицинской службы и два знаменитых профессора хирургии из Бомбейского и Калькуттского медицинских колледжей. Слушание должно было состояться через два месяца. Комиссия имеет право вызывать свидетелей; ее решение будет обязательно к исполнению.
Следующие несколько дней они живут каждый своей отдельной жизнью. И если Селеста вся на нервах, то можно представить, как себя чувствует Клод. Долгие часы он проводит в клубе, несмотря на то что стал объектом пересудов. Наверное, оставаться дома наедине с ней ему еще сложнее; в клубе он находит убежище в одном из темных закутков, в одиночестве или компании собутыльников, допившихся до бесчувствия и потому не способных судить его строго.
В конце этой долгой недели, вернувшись ближе к вечеру, Селеста с удивлением застает Клода дома. Он любезно встает навстречу жене. Прежде чем она успевает снять шляпку, посылает прислугу за чаем. От него крепко несет джином.
– Дорогая, – начинает Клод. – Скоро начнется это слушание. (Она молчит, руки неподвижно лежат на коленях.) Это все политика, ты же понимаешь. В хирургии случаются неприятности, да. Надеюсь, мне удастся убедить комиссию. У меня есть план. – Он ослепительно улыбается. – Нужно иметь веру. Никогда нельзя сдаваться.
Под глазами у него появились новые мешки. Тонкая сеточка капилляров на щеках и носу стала заметнее. Она, возможно, пожалела бы его, покажи он хоть немного раскаяния или если бы не пытался так отчаянно скрыть свой страх.
– Дело в том, дорогая, что дело может скверно обернуться. В том случае, если твой приятель Дигби решит опорочить меня.
– Он твой коллега, Клод, – возмущенно отвечает она. – Я всего лишь свозила его в Махабалипурам, давным-давно, и, кстати, рассказывала тебе об этом.
– А кто, по-твоему, написал то письмо? Кто этот Veritas? Это точно он.
– Ты сошел с ума. – Ее глаза изумленно распахиваются. – С чего бы ему прикидываться англо-индийцем? – И это первое, о чем они заговорили в связи с его неприятностями. Возможно, именно потому Селеста чувствует, как в ней закипает гнев.
– Ну вот и причина, дорогая. Ревность, что же еще? Он хочет занять мое место. Он случайно сунул свой нос в операционную, когда этот… когда произошло непредвиденное осложнение. Он неверно истолковал то, что увидел, и вот уже местные сплетники начинают распространять лживые слухи. Вот этого я не хочу допустить. Если он будет придерживаться своей версии, это может потопить наш корабль.
Он ждет. Селеста готова расхохотаться ему в лицо. Личина его любезности дает трещину.
– Ради всего святого, Селеста, каким образом, по-твоему, мне удержаться на плаву? Все эти годы ты жила в довольстве и комфорте. Но колодец может оказаться мельче, чем ты думаешь… (Селеста видит лица своих мальчиков, представляет, как они возвращаются из Англии, потому что Клод не может больше платить за пансион. Мысль ее радует, а Клод, очевидно, вовсе не это имел в виду.) Если меня уволят из Медицинской службы, если я потеряю пенсию – черт побери, Селеста, это будет конец всему.
А когда мои дети вернутся, у меня не будет абсолютно никаких причин оставаться с тобой, Клод.
– Видишь ли, дорогая, я должен быть уверен, что юный Дигби не даст ложных показаний.
– Чего ты хочешь, Клод? – тихо спрашивает она. – Бога ради, просто скажи, чего ты хочешь.
– Ничего! Я… от тебя я ничего не хочу, бедняжка моя. Но должен признаться… я намерен сообщить Дигби, что объявлю его ответчиком в бракоразводном процессе.
В первый момент фраза кажется бессмысленной. Но затем она понимает.
– Клод, как ты смеешь использовать меня? В качестве разменной монеты в твоей гнусной афере!
– Но, послушай, до этого не дойдет! Дигби быстро сменит тон. Надо просто напомнить ему его место. Кто поверит человеку, который опустился до того, чтобы улечься в постель с женой начальника?
– Улечься в постель с… со мной? – Она поражается собственному самообладанию. Его слова настолько омерзительны, что кричать на него в ответ было бы чересчур благородно. И поэтому она просто долго пристально смотрит на него, наблюдает, как он корчится, извивается как уж на сковородке. Она улыбается, что в нынешней ситуации ранит его сильнее, чем если бы она дала ему пощечину. – Клод, я столько вытерпела от тебя за эти годы. А теперь ты хочешь спасти свою шкуру ложью, которая превращает меня в прелюбодейку? И это все, на что ты способен? Забудь пока о Дигби; ты с такой легкостью готов оклеветать меня? Или быть рогоносцем? Или замазать в этой дряни моих сыновей? Неужели и в самом деле под этой приличной внешностью в тебе нет ни чести, ни достоинства? Недостающая деталь. У твоих братьев она есть, и в этом все дело, разве ты не видишь?
Приводить в пример братьев означает провоцировать его. До какого же жалкого состояния он дошел, если не реагирует, не вздрагивает, а вместо этого смотрит на нее молящими глазами.
– Уверяю тебя, до этого не дойдет, Селеста. Это просто тактический ход, – скулит он. – Черт возьми, Селеста, ну придумай вариант лучше? Я ведь именно о будущем детей и думаю. О нашем будущем…
– В прошлый раз, когда ты угрожал мне разводом, это тоже было “ради детей”, – бросает она с отвращением. – Какой же я была дурой, что позволила запугать себя тем, что отберешь их. Больше такого не повторится.
Она встает, намереваясь уйти. Он хватает ее за запястье. Она вырывает руку и резко разворачивается, глядя на него в упор. Он отшатывается.
Тихим субботним вечером на пороге спальни Дигби появляется Мутху, с вытаращенными глазами. Дигби приподнимается, отрываясь от чтения. Он весь день в апатии водил кисточкой по бумаге и долго спал.
– Саар, гости! Мисси, саар! – выдыхает Мутху и убегает.
Что еще за мисси? Озадаченный Дигби умывается и надевает свежую рубашку. Снаружи на веранде замечает женский велосипед.
В гостиной, узнав, кто пришел, он жалеет, что не сменил заляпанные краской брюки. На фоне прилива адреналина каждый звук усиливается, от звяканья тарелок в кухне до щебета соловья на улице. Она стоит к нему спиной. Интересно, что она подумала о декоре его жилища, терракотовых лошадях на веранде? Он видел их гигантские версии, когда ездил на “Эсмеральде” по деревням, – подношение Айнару, защитнику от голода и эпидемий. На полу его гостиной лежит сотканная вручную тростниковая циновка из Паттамадай[102]. Но, разумеется, взгляд ее прикован к стене, в которой должны быть окна. Но вместо этого стена от пола до потолка увешана картинами калигхат в грубых деревянных рамках, каждая не больше почтовой открытки. На Селесту смотрит целая деревня калигхат. Руки она притиснула к груди, застыла в первом миге изумления.
После долгой паузы она поворачивается к нему.
Дыхание перехватывает. Она даже прекраснее, чем в его воспоминаниях. Оранжевый отблеск заходящего солнца освещает левую половину ее лица, как у женщин на полотнах Вермеера. Он вспоминает ее прощальные слова тогда, в машине, много месяцев назад, такие решительные и бесповоротные.
Чтобы избавить ее от этого бремени, Дигби заговаривает первым:
– Я купил их в Калькутте. – Он подходит ближе и становится рядом с ней. – Меня отправили сопровождать домой жену губернатора Бенгалии, которая здесь почувствовала себя дурно. Я провел там всего одну ночь, успел попасть в храм Кали, который на…
– На берегу реки, – шепчет она. – Я жила совсем рядом.
– Торговцы прямо набрасывались на паломников. А я и был паломником… я хотел увидеть дом, в котором ты выросла, твою старую школу, навестить могилы твоих родителей…
Она кивает, руки теребят вышитый носовой платок.
Ее присутствие, запах ее благовоний опьяняют.
– Я заглянул в мастерские художников, – продолжает он. – Репертуар у них гораздо шире, чем религиозные сюжеты. Вот это, например, – он показывает, – известная трагедия, британский солдат и его индийская возлюбленная. Или эти театральные сценки. Видите занавес, как в европейском театре? Но с танцующим Шивой. Запад и Восток в нескольких штрихах кисти.
Они подошли к тому порогу, за которым слова теряют смысл. Так близко к ней, в собственном доме… на свете нет никаких слов, которые он хочет произнести, кроме ее имени. Он примеряется, как оно прозвучит в темноте, отражаясь от пола и стен. Селеста. Селеста. Последний слог зависает в углах комнаты, подобно пойманному в паутину шепоту. Теперь он хочет произнести вслух. Рука, словно по собственной воле, потянулась к ее руке. Он не может знать, что совсем недавно ее муж так же потянулся к ее запястью, а она отдернула руку.
– Селеста, – почти поет он ее имя. – Селеста, вы должны взглянуть и на другие картины.
Ее пальцы находят убежище в его ладони.
Не разнимая рук, они переходят в соседнюю комнату, его “студию”, в прошлом столовую. Картины, законченные и незаконченные, скромного размера калигхат, но с неизменным сюжетом: одна и та же женщина. Она возникает из нескольких штрихов и цветов: каштановые глаза; копна каштановых волос; изгиб длинной шеи; чуть неправильный прикус, подтверждением чего становится пухлая верхняя губа, которую Дигби считает самой прекрасной на свете. Селеста помнила наброски, которые он делал в тени скалы в Махабалипурам. Художник видит в модели гораздо больше красоты, чем сама она замечает в себе.
Ее рука вздрагивает в его ладони. Он увлекает ее в спальню.
В стране, где попугаи предсказывают будущее, вытаскивая карту из колоды, где браки заключают в соответствии с гороскопами, предчувствие Селесты, к чему все это приведет – не в следующий миг, но спустя много дней и недель, – побуждает высвободить руку, но уже поздно. Он привлекает ее к себе, прижимает теснее, и она со вздохом позволяет себе утонуть в его теле.
Никто из них не знает, что всякий раз, когда они украдкой в послеполуденной жаре будут жаждать друг друга, начинаться все будет, как и сегодня, перед стеной с деревенскими портретами, где каждая фигура в рамке издает свою ноту, поет ра́гу[103], которая принадлежит только им. Его язык скользит по ее губам и ниже к подбородку, по средней линии мимо щитовидной железы, перстневидного хряща, к маленькой впадине над грудиной. Раздев ее, он сделает шаг назад и поведет ее, как танцор, поворачивая, вращая, словно на крутящемся пьедестале. Он будет жадно вбирать взглядом высокую худощавую фигуру; маленькую грудь; нежную выпуклость ниже пупка; разлет тазовых костей, которые, подобно крыльям, парят над длинными, как у газели, ногами; хрупкий подъем и, наконец, пальцы ног, изящный зазор между большим и вторым пальцами. Он впитывает всю ее, запоминая каждую деталь…
У Селесты был один муж и один любовник, последний, как и она, скиталец в пустыне несчастливого брака, и роман не помог ни одному из них притерпеться к своему положению. Она уступает искренности и застенчивости Дигби, его невинности и чистоте, которые дают ему право обладать, как и смелые линии, которые он рисует в блокноте. Его страсть обжигает кожу, вдыхает в нее жизнь. Кто не захочет, чтобы его любили вот так?
Она не в силах сейчас говорить о цели своего визита. Она пришла не просить его о молчании, на что, вероятно, рассчитывал Клод, но предупредить о вероломном и очевидно ложном обвинении, которое вскоре дойдет до его слуха, – что они якобы любовники.
Если она ничего не скажет, если они не остановятся… обвинение перестанет быть ложным. Почему она молчит? Почему он ни о чем не спрашивает?
Она должна рассказать. Должна.
Глава 21
Тот, кто предупрежден
1935, Мадрас
Спустя четыре дня после того, как они стали любовниками, Селеста еще раз приезжает к Дигби. Она пересекает железнодорожные пути, ведущие в Килпаук, минуя центр города. Уворачивается от коровы, догоняет рабочего, толкающего тачку, доверху нагруженную металлоломом. Она смотрит на Мадрас новыми глазами, ведь она уже не та Селеста, какой была пять дней назад.
Кучка неулыбчивых индийцев провожает ее взглядами. Они стоят рядом с Саткар Лодж, высоким узким зданием на Миллер-роуд. Наверное, клерки или студенты, в “современной” одежде: белые дхо́ти[104], одним концом пропущенные между ног, и твидовые пиджаки – абсурдный выбор, учитывая погоду, но не более абсурдный, чем льняные костюмы и галстуки офицеров ИГС. Их “ганди-пилотки”, заостренные впереди и сзади, символизируют борьбу за самоуправление. Один из них восклицает: “Ва́нде Ма́тарам”, Слава тебе, Родина, – лозунг, что на устах у всей страны. Спящий гигант просыпается.
И вам Ванде Матарам, хочется крикнуть в ответ. Я родилась здесь. Это и моя родина тоже. Но что, если это ложь? Какое имеет значение, что она чувствует себя более индианкой, чем англичанкой, если все ее привилегии – ложь? А самая большая ложь – жизнь с Клодом. Страх потерять детей парализовал ее, не давал уйти от мужа. Этот страх изменил ее, превратил в иное существо, но она больше не в силах покорно терпеть. И все же каким-то образом трусливая подлая ложь Клода в стремлении спасти свою шкуру стала правдой – у нее действительно роман с Дигби. Почему это случилось? Разве тело может объяснить? Может ли разум найти причины постфактум? Она благодарна Дигби, что разбудил ту часть ее, что дремала, подлинную ее часть. Он восхищался ею в портретах, он заставил ее вновь почувствовать себя живой, он любил ее. Неужели для того, чтобы существовать, ей необходимо подтверждение от него или еще от кого-нибудь? Если бы пришлось начинать все сначала и будь она моложе, Дигби вполне мог бы стать тем, кого она ищет. Но сейчас? Любовь?
Она крутит педали все быстрее. Побег от чего или к чему? До дома Дигби она добирается, вся взмокнув. Несколько минут спустя, слившись с его телом, двигаясь с ним как одно целое, она недоумевает, как смогла продержаться так долго в браке, где близость случалась лишь время от времени. Прикосновения Дигби как наркотик; его свежесть, его вожделение превращают все в могучую силу. Их растущая потребность друг в друге как скульптура из песка, которую они создают вместе. Она не узнает эту требовательную бесстыдную женщину, которая командует своим молодым любовником, поворачивая его так и эдак, даже кусая в порыве страсти.
Но пылкие ласки заканчиваются, и скульптура оседает. Мир и его страдания напоминают о себе. Рано или поздно придется сесть за трапезу последствий. Чувствуя слабость в ногах, Селеста встает и одевается. Дигби лежит на кровати, любуясь ею, глаза умоляют не уходить, никогда, остаться навеки. Они не упоминают имени ее мужа. И вообще почти не разговаривают. И он не спрашивает, когда увидит ее вновь.
Вскоре влюбленные окончательно теряют голову. В те дни, когда она не может прийти, ему кажется, что он сойдет с ума. Возбуждение приводит его в клуб Адьяра, сыграть в теннис – недавнее его увлечение. Мадрасский клуб – место обитания Клода. В клубе Адьяра, вернувшись с корта, Дигби обнаруживает в раздевалке письмо, оставленное кем-то в кармане его брюк.
Килгур. Пожалуйста, простите за этот способ передачи информации. Сами решайте, что с нею делать. Всем известно, что Ваши показания могли бы погубить Клода Арнольда, и автор сего послания не будет лить по нему слезы. Но Вам следует знать, что Арнольд намерен подать на развод и назвать Вас ответчиком. Это, конечно, бред. Тем не менее, обвинив Вас, Арнольд поставит под сомнение Ваши показания. Нет оснований полагать, что миссис Арнольд часть этого плана. Эта женщина – настоящее сокровище. Думаю, она не в курсе, что затеял ее муж. Это лишь доказывает, какой он мерзавец. Арнольд намерен заставить Вас отступить. А если нет, это человек настолько низкий, что он готов пойти на что угодно. Имейте в виду, что он из тех, кто с радостью сфабрикует улики. Если Вас признают виновным, суд может обязать Вас заплатить существенные убытки. Praemonitus, praemunitus[105].
Тот, кто считает, что Вам следует знать.
Тот, кто предупрежден, вооружен, точно. Но что ему делать с этим предупреждением? И почему письмо анонимно? Кто из случайных знакомых, которых он завел в клубе, написал эту записку?
Дигби складывает листок и кладет обратно в карман. Его возмущение и ярость сходят на нет от того, что обвинения Арнольда справедливы. По пути домой он со всех сторон рассматривает содержание письма. На краткий миг даже задумывается, а не сам ли Клод его написал и подбросил. Нет. Это слишком уж изощренно.
Подъезжая к дому, он говорит вслух, обращаясь к автору письма: “Я намерен дать показания. У меня нет выбора. Я видел то, что видел. Мне наплевать на свое доброе имя, карьеру или что там люди скажут”. А если Клод разведется с Селестой, она станет полностью моей.
Глава 22
Натюрморт с манго
1935, Мадрас
В четыре тридцать, когда Селеста пьет чай в прохладе библиотеки, она видит, как подруливает “модель Т”. Из “форда” вываливается Клод. Натыкается на стоящий “роллс”, шарахается в сторону, по пути к двери опрокидывает горшок с жасмином. Похоже, муж пил с самого утра. Заметив жену, Клод удивленно таращит глаза. Тщетно пытается взять себя в руки, но не способен сфокусировать взгляд.
– Как прошел день? – старательно произнося слова, вопрошает он, но все равно язык заплетается.
Селеста не скрывает отвращения.
– На что ты, черт побери, уставилась? – наконец выпаливает он мерзким тоном, отбросив все претензии на любезность, даже не дожидаясь, пока шофер выйдет из комнаты.
В былые времена она в любых обстоятельствах могла рассчитывать на его вежливость. Разве это не признак английского воспитания, в противовес ее туземному? Он, может, и планирует выволочь ее за волосы на площадь и четвертовать, но до тех пор будет вежливо подвигать ей стул за обедом.
– Сделай мне выпить, Селеста, – командует он, нависая над ней.
Слава богу, без “дорогая”. Она поднимается, чтобы уйти, его близость отвратительна. Клод, полагая, что жена направляется к подносу с напитками, великодушно взмахивает рукой:
– И себе налей.
– Слишком рано, – отвечает она. – И ты угомонись, Клод. Тебе точно хватит пить.
Он дергается, будто она залепила ему по физиономии.
– Селеста! – орет Клод, шатаясь и тыча пальцем в воздух в бестолковой попытке указать на нее. – Ты должна знать… – Тут он теряет равновесие и падает, стукнувшись головой о кофейный столик. Касается рукой лба, и пальцы его окрашивает кровь. – О господи! – испуганно восклицает он, а потом его рвет прямо на кофейный столик.
Муж смотрит на нее жалким взглядом, ниточка слюны свисает из угла рта.
Она лишь горько смеется:
– Клод, раньше твой единственный подлинный талант состоял в том, что ты мог держать себя в руках. Не понимаю, зачем я так долго жила с тобой.
Селеста выходит и садится на велосипед. Есть еще один человек, с которым она должна быть честной.
В сумерках она врывается к Дигби, напугав его. Дигби у себя в студии, с голой грудью, моет кисти в керосине. Парафиновая свеча отбрасывает призрачный свет на натюрморт: причудливый глиняный сосуд и три манго на деревянном верстаке. Рядом с сосудом словно случайно брошено изумрудное шелковое сари, ткань водопадом спадает вдоль ножки стола, складки образуют на полу небрежный букет.
Селеста залпом осушает стакан воды. Глядя в лицо Дигби, чувствует: что-то изменилось. Он ему сказал? Скользит взглядом по комнате, как будто стараясь запомнить, а затем поворачивается к Дигби.
Дигби видит ее лицо и сразу понимает, что она пришла проститься. Внутри все обращается в камень. Стрела вонзается прямо под ребра, в солнечное сплетение.
Неужели она часть заговора?
В конце концов Селеста решается:
– Дигби… – Глаза блестят от слез. – Я…
– Не надо! Не сейчас. Подожди… не говори ничего.
Он подходит ближе, вдыхает ее запах, замечает капельки пота над бровями, след, оставленный шляпой. В медицинской школе он видел выступление алиениста Гарри – тот вытаскивал человека из публики, а потом, прижав палец к виску, открывал остолбеневшим зрителям все подробности его жизни.
– Ты решила остаться с Клодом, да? – Он не в силах скрыть горечь в голосе.
– Нет. Как раз наоборот.
Он тут же отказывается от своего сценария. Лицо его светлеет.
– Дигби, я пришла рассказать тебе, что Клод намерен подать на развод и обвинить тебя…
– Я знаю.
Теперь ее черед удивляться:
– Как? Откуда?
– Получил анонимное письмо с предупреждением. В клубе Адьяра. От кого-то, недолюбливающего твоего мужа. Но я хочу знать, Селеста, откуда Клод узнал?
Ее смех похож на щелканье кнута.
– Он ничего не знает о нас, Дигби! Это лишь уловка. Поскольку он не может угрожать тебе напрямую, он решил пожертвовать мной, чтобы дотянуться до тебя.
– Постой… И поэтому ты пришла сюда тогда, когда мы в первый раз… В тот день, когда ты внезапно явилась в гости? Ты пришла по его просьбе просить меня отказаться от показаний?
– Боже, нет! Я пришла предупредить тебя. Когда он признался, что именно намерен сделать – выставить меня изменницей, чтобы выгородить себя, – я была в ярости. Я ушла от него, бросила. Села на велосипед и поехала куда глаза глядят. И оказалась здесь. Да, я собиралась предупредить тебя. – В голосе появляются сердитые нотки. – И так и не сделала этого, если помнишь.
Слова Дигби полны ехидства:
– Почему же? Решила, зачем страдать за просто так? Или сказала себе: “Пересплю-ка я со стариной Дигсом, чтобы утихомирить его”? А может, ты и сейчас работаешь на него. – Дигби повышает голос.
– Дигби, остановись! – Она спокойна, собранна… и уязвлена его словами. – Если ты будешь кричать, я уйду. На сегодня с меня достаточно. – Селеста гордо выпрямляется, побелевшие пальцы вцепляется в сумочку, как будто это поможет безопасно перебраться к тому, что будет дальше.
В свете парафиновой свечи она напоминает натурщицу художника. Художник отводит взгляд. Художника берет оторопь.
– Прости, – лепечет он, пристыженный и раскаивающийся.
– Клод пойдет на что угодно, лишь бы защитить себя, он с легкостью принесет меня в жертву. Все что угодно, лишь бы очернить тебя. Но он думает, что до этого не дойдет. Думает, что если пригрозит, ты сломаешься и отступишь, – умоляю, не отступай. Возможно, он решил, что я сломаюсь и начну уговаривать тебя. Но со мной это не сработает. Я хочу развода…
Смеет ли он торжествовать? Отчего же она не торжествует вместе с ним?
– Селеста… Тогда для нас нет препятствий… мы можем быть вместе.
Она отрицательно качает головой.
– Селеста, я не понимаю… Я люблю тебя. Я никогда не говорил этого ни одному человеку на свете, кроме матери. Я люблю тебя.
– Дигби, я хотела бы сказать, что тоже люблю тебя. Но я не понимаю, кто эта я. Мне нужно это узнать. Я хочу жить своей собственной жизнью и самостоятельно, чтобы выяснить это.
Глаза у него умоляющие, как у ребенка. Она кладет ладонь ему на щеку, но он отстраняется.
– Куда ты отправишься?
Она вздыхает.
– У меня был план, хотя я не подозревала, что расставание примет такие формы. Я откладывала деньги. Понемногу, конечно, но почти за двадцать лет набралось вполне достаточно. У меня есть драгоценности, которые он дарил в первые годы. У меня есть сарай, полный произведений искусства, и я знаю, какие из них кое-чего стоят уже теперь, а какие будут представлять ценность в будущем. Я могу снять комнату у Теософского общества. Мы с Джанаки, если будем жить вдвоем, можем обходиться малым и быть счастливы. Единственный крючок, на котором он меня держал, это дети, но они уже достаточно взрослые, я надеюсь, чтобы разобраться, что за тип их отец. Достаточно взрослые, чтобы захотеть познакомиться со мной поближе. Когда я выясню, кто я такая.
Дигби переваривает ее слова. Он ей не нужен – она же это хотела сказать? Он злится на себя, что позволил себе размечтаться.
Дверь открывается, и на пороге возникает Мутху; он явно удивлен, застав Селесту, застав их стоящими лицом друг к другу, словно оба готовы броситься в драку. Он складывает ладони перед грудью:
– Добрый вечер, мисси, я не слышал, как вы пришли.
– Мутху, – кивает она, не сводя глаз с Дигби.
Мутху растерянно переводит взгляд с одного на другого.
– Дигби саар… Я уезжаю к родным. Я говорил раньше? Я уезжаю только на два дня. – Дигби продолжает сверлить взглядом Селесту. Тогда Мутху обращается к ней: – Мисси желает что-нибудь поесть, пока я не ушел? Мне приготовить самосы?
– Мутху, – вздыхает она, и голос внезапно звучит очень устало, очень хрипло. – Мисси желает двойной виски, пожалуйста. И еще один для него.
– Да, мисси! – автоматически отвечает Мутху, но не двигается с места.
Она наконец поворачивается к нему, приподняв бровь:
– Мутху?
– Простите, мисси… У нас нет виски.
– Тогда джин?
Он мотает головой:
– Доктор саар не пьет…
– О, ради всего святого, Дигби… – почти взвизгивает Селеста так, что все трое пугаются.
– Но виски быстро-быстро будет, мисси! – поспешно говорит Мутху, огорченный тем, что из-за него у Дигби неприятности. И выбегает за дверь.
Они остаются вдвоем. С улицы слышны голоса, Мутху огрызается злобным тоном, совсем на него не похожим. Вскоре Мутху, несколько взъерошенный, возвращается с подносом, на котором два стакана, ведерко со льдом, сифон с содовой и бутылка виски, на четверть пустая, как будто все это богатство дожидалось за дверью. Он ставит поднос, стараясь не встречаться взглядом с потрясенным Дигби.
– Молодец Мутху, – благодарит Селеста.
Она подозревает, что Мутху ворвался к соседям и утащил их выпивку.
– Да, мисси, – кивает Мутху, заходит за спину Селесты и открывает ящик, где Дигби держит деньги.
Он никогда прежде ничего такого себе не позволял. Мутху отсчитывает несколько банкнот, демонстрирует их Дигби.
– Саар, я объясню потом. Прошу, просто оставьте поднос и все прочее на веранде, саар. Я вернусь через два дня.
Мутху выходит через переднюю дверь, и они сразу слышат мужской голос, кричащий что-то на тамильском, женский голос, тоже на повышенных тонах, и Мутху, успокаивающий обоих. Вопли стихают до глухого бормотания.
Селеста наполняет стаканы, протягивает Дигби. Все это время оба стоят. Уязвленный, не решаясь встретиться с ней взглядом, Дигби берет выпивку. Еще несколько минут назад он и представить не мог жизни без Селесты. А она, оказывается, с готовностью представляет жизнь, в которой ему вообще нет места. Каким образом мечта, где нужны двое, может существовать усилиями одного?
Замешкавшись, он чокается с ней. Залпом осушает. Виски обжег горло. Как странно пытаться утопить боль в пламени. Левую щеку и лоб Селесты освещает парафиновая свеча; оранжевое сияние, просочившееся сквозь слои муслина, рождает оттенки охры и горчицы, которые подкрадываются исподволь, прежде чем утонуть в темноте ее глазниц. Селеста, кажется, готова заговорить. Но он не желает слушать. И останавливает ее уста своими губами.
Он медленно расстегивает ее платье, прямо перед мольбертом, словно готовится прикрепить ее к нему. Перед ее обнаженной красотой растворяется боль принесенной ею вести. Она больше не Селеста, чьи слова причиняют горе, но чудо природы, великолепное тело, скрывающее под покровом кожи целое созвездие органов. В сравнении с их беспорядочными бурлящими эмоциями тело всегда неизменно и надежно.
Он окунает указательный палец в неразбавленную краску на палитре – мареновый розовый. Селеста тихонько ахает, когда палец замирает над ее грудью. Глаза ее расширяются. Неужели он решится? Она выдыхает, когда палец касается тела. Да, решится. Он обведет ее органы, действуя медленно, дабы отсрочить неизбежное – что она покинет его. Он вырисовывает левый желудочек, торчащий из-под грудинной кости и достигающий соска. Может, лучше желтым? Ее сердце изменницы? Нет, это слишком грубо. Кроме того, несмотря на всю метафорическую нагрузку, сердце – орган, лишенный воображения, два последовательно работающих насоса, один из которых проталкивает кровь через легкие, а другой – через все остальное тело. И ее сердце ничем не отличается от его.
Она могла бы воспротивиться, если бы захотела, но не хочет, захваченная его священнодействием, осознавая, какую боль причинила ему, с облегчением отказываясь от слов. Селеста отпивает из своего стакана, наблюдая за ним. Дигби обводит дугу аорты. Отбирает у нее стакан, улыбается и нежно укладывает Селесту на кусок парусины, развернув его на полу. Пристраивает палитру ей на лобок, на венерин бугорок, где та рискованно покачивается. Свет свечи подрагивает на женской коже. Он обводит печень, ведет линию выше и правее, добирается до соска в пятом межреберье. Селеста покрывается мурашками, сосок напрягается. Дыхание учащается. На очереди селезенка, почки.
Дигби оглядывает шедевр ее тела, которое он теперь еще и украсил. Или осквернил? Вывернул ее наизнанку. И внезапно чувствует раскаяние. Он зашел слишком далеко. Это все виски? Он не привык к спиртному.
– Прости меня, – говорит Дигби. – Мне больно думать, что мы не можем быть вместе. Но это не мешает мне любить тебя. – Он пробует на вкус слезы на ее лице – слезы, которые могут быть и его слезами.
Она приподнимает голову, чтобы взглянуть на его работу, на холст своего тела. Изумленно качает головой.
– Ты помог мне найти себя, ты понимаешь? – шепчет она.
Тогда почему ты уходишь? Я готов украшать твое тело до конца дней. Он так любит ее, что готов произнести это вслух. Она приняла решение. Дигби одновременно и возбужден, и обижен, что она готова уйти от того, что есть у них обоих. Она читает его мысли. Тянет его вниз. Впускает в себя.
После они лежат в изнеможении, обливаясь цветным потом, их оргазм как наркотик, который не дает сползти с парусины на прочный пол и добраться до постели. Они погружаются в сон, их тела – сложенные вместе смазанные холсты.
Почему я ухожу от него? Была какая-то причина, но сон настигает Селесту прежде, чем она вспоминает. Она поворачивается на бок, высыхающее тело остывает, ей становится зябко. Она стягивает со стола изумрудное сари – будь он проклят, этот его натюрморт, – и заворачивается в ткань.
Дигби просыпается с гудящей головой; требуется огромное усилие, чтобы открыть глаза. Комната необычно светла, в пляшущей эфирной дымке. Краски буйствуют на его обнаженном теле, ярость их тревожна.
Он чувствует запах дыма. Поворачивает голову, и тайна рассеивается: они, должно быть, опрокинули во сне парафиновую свечу. Дигби шарит вокруг, пытаясь нащупать ее, но тут замечает, словно издалека, оптическую иллюзию: рука у него синяя, и кожа свисает, как мед, стекающий с уступа. Все синее: пол, парусина, на которой они уснули, мольберт, холст на нем. Ему хочется рассмеяться при виде такой дурацкой картины. Рассмеяться недоверчиво. Расплавленный парафин нашел кучу пропитанных скипидаром тряпок, и синее пламя взметнулось по стенам.
Повернувшись, Дигби видит еще более странное зрелище: шелковое сари, которое он использует как задник, лежит на полу, но оно живое, оно корчится и извивается. Оно коралловое, имбирное, оливково-зеленое, а под ним – наконец замечает он – Селеста, рвущаяся на свободу. Он бросается к сари, стягивает его, хотя горящий плавящийся шелк прилипает к коже, но нет, он не отпустит ее. Если только сумеет содрать ткань, вернуть тончайший шелк на место, туда, где он изящными складками лежал рядом с глиняным сосудом, рядом с фруктами и ниспадал к полу, если сможет восстановить все как было, как должно быть – натюрморт с манго, – тогда все будет хорошо. Он в этом уверен.
Часть третья
Глава 23
Что познал Господь, прежде нежели мы вышли из утробы[106]
1913, Парамбиль
После кончины ДжоДжо Большая Аммачи, чувствуя себя выброшенной из колеса жизни, изо всех сил пытается найти свой ритм. Но петух по утрам кукарекает раньше, чем она готова проснуться; цирюльник приходит в дом, прежде чем она вспомнит, что уже первое число месяца. Если бы не мама, которая взяла на себя кухню, они добывали бы себе пищу, как дворовые куры.
Парамбиль потерял единственного наследника-мужчину, потерял дитя, которое она считала своим первенцем, пускай он и не вышел из ее утробы. Но это не только ее утрата. Когда она спустилась в погреб, с полки над головой ни с того ни с сего упала пустая банка из-под солений. Она успела заметить краем глаза и отдернуть голову в последний момент, посудина разлетелась вдребезги у ее ног. Аммачи взлетела вверх по лестнице и наткнулась на испуганный взгляд своего бесстрашного мужа, который смотрел в проем погреба за ее спиной. Так ты все это время знал, что она там? Выражение его лица приводит ее в ярость. Как смеет этот дух, к которому она относилась так радушно, стращать ее мужа? Большая Аммачи решительно бросилась вниз по крутым ступеням, не обращая внимания на осколки, вонзающиеся в ступни. Схватила здоровенный пустой горшок с силой, которой в себе и не подозревала, и поволокла его в дальний темный угол.
– ДжоДжо был и мой тоже! – крикнула она. – И у меня он был дольше, чем у тебя! Если можешь сбросить горшок мне на голову, почему не вытащила ДжоДжо, когда он упал в воду?
Ей чудятся глухие рыдания. И гнев испаряется. С тем она и вылезла из погреба.
Но этим дело не кончилось. Спустя несколько дней Аммачи обнаружила, что банка со сладким сиропом перевернута и погреб кишит огромными красными муравьями, чьи укусы мучительно болезненны. Большая Аммачи обмотала ноги тряпками и, соорудив факел из сухих пальмовых веток, истребила муравьев пламенем, едва не спалив подвал, но успела погасить факел в ведре с водой. Она вымыла полы, а потом еще раз протерла их керосином.
– Будешь продолжать – и я позову аччана. Хочешь, чтобы тебя запомнили такой? Не доброй матерью, а злобным демоном, от которого нам пришлось избавиться?
В подвале воцаряется перемирие, но не на кухне – карри в ее верных глиняных горшках имеют странный привкус, молоко, которое она каждый вечер заквашивает для йогурта, портится. Она терпит эти выходки, и постепенно они сходят на нет. Но сердцебиение Парамбиля по-прежнему неровное. Ни молитвы, ни церковь, ни слезы не восстанавливают ритм.
В этот неустойчивый период, и слишком скоро после утраты, как-то раз ночью муж безмолвно возникает в дверях комнаты, ее мать и младенец крепко спят. Почувствовав его появление, она удивленно приподнимается. Она не готова. Запах ДжоДжо все еще витает в этой комнате, отпечаток его тела по-прежнему на циновке рядом с ней. Муж, кажется, тоже не уверен, он не протягивает ей руку, но лишь стоит, заполняя собой дверной проем. Она не двигается. Его присутствие здесь кажется кощунством. Он уходит. И на следующий день сторонится ее. Тогда она понимает: дело в том, что Парамбилю необходим наследник мужского пола. Но даже если и так, ей самой необходимо время.
Утешение и душевное равновесие Аммачи обретает в садике позади кухни. Впервые оказавшись в Парамбиле, она заметила, как козленок обгрызает ягоды с чахлого кустика у заднего крыльца, а потом начинает резвиться. Она решила проверить, что там такое, и запах ягод открыл ей истину. Сейчас, после тщательной обрезки и удобрения, куст возвышается над ее головой, обеспечивая Парамбиль свежим кофе. У темного напитка маслянистая мерцающая пленка на поверхности и неожиданные едкие нотки во вкусе – напоминание, что сладость жизни неотделима от горестей. Но подлинный восторг – ее банановые деревья. Она начинала с крошечного отростка сорта пу́ван, от Долли-коччаммы. А сейчас у нее плантация, орошаемая стоком с кухонной крыши. Листья защищают от полуденного солнца, шелестят и тихо постукивают на ветру, успокаивая ее. Аммачи снимает грозди еще зелеными, оставляя их дозревать в прохладе кладовой. Миниатюрные пуван приводят в восторг дочку, а отец девочки в один присест может съесть целый десяток. Поразительно, как щедра земля, не имея ничего, кроме воды, солнца и ее любви. Для каждого дерева настает день, когда его приходится срубить, скормив труп коровам и козам. От выводка побегов вокруг старого пня она отсекает все, кроме одного счастливчика, который начинает чудо возрождения, неся в себе память о предках.
Малютку Мол до сих пор не окрестили. В своих диалогах с Богом она избегает этой темы, но чувствует Его неодобрение. И однажды вечером ставит вопрос ребром:
– Как Ты себе представляешь, я смогу пройти мимо могилы одного ребенка, а потом зайти в храм, чтобы крестить другого? – Кроме того, у нее есть сомнения относительно самого ритуала, призванного даровать благодать, которую она понимает как Божью безусловную любовь, милость и прощение. – Благодать не спасла ДжоДжо.
Бог молчит.
Ночью она просыпается и видит мужа, сидящего на циновке у нее в ногах, очень тихо, чтобы не разбудить мать и Малютку Мол. Как давно он здесь? Он протягивает руку, и в этот раз она тянется навстречу. Она чувствует, как привычно обостряются слух и зрение, когда он тихонько поднимает ее на ноги. Она и не сознавала, как сильно соскучилась по близости. Их задача столь же неотложна, сколь и нежна.
Прошло четырнадцать месяцев и много встреч в комнате мужа, прежде чем в конце концов у нее не прекратились месячные. А потом случился выкидыш. Она была потрясена. Такая возможность даже не приходила ей в голову. Она представляла, что скоро, даже если придется подождать, родится еще один ребенок, но вот такое – никогда. Как будто собственное тело предало ее. Муж раздавлен, хотя и не говорит об этом. “Не принимай ничего как должное, – напоминает ей Бог. – Если не хочешь это потерять”. Остается только продолжать, а что еще? И вновь выкидыш. Оправившись, она принимается искать виновных: а вдруг порчу навел дух из погреба? Неужели он настолько коварен? Она спускается в подвал, садится на пустой горшок, нюхает воздух, внимает звукам. К своему удивлению, чувствует, что дух сочувствует ей. И выбирается наверх успокоенная. Одному Богу известно, почему случаются выкидыши. Одному Богу известно – но Он не трудится объяснять.
Когда Малютке Мол исполнилось пять, они едва не потеряли ее из-за коклюша, что следовал по пятам за корью. Как только ребенок выздоровел, Большая Аммачи договаривается о крещении, опасаясь за душу малышки. Она просит Долли-коччамму стать крестной матерью. Долли качает головой в знак согласия, лицо ее озаряется радостью от такой чести, но вслух она ничего не произносит. Описывая этот разговор мужу за ужином, Большая Аммачи говорит:
– Вы с Долли похожи. Скупы на слова и никогда не сплетничаете и слова дурного о других не скажете. – Он лишь хмыкает в ответ. Она продолжает: – Невестка Долли, конечно, будет брюзжать, что я не пригласила ее в крестные.
За годы, прошедшие со времени неожиданного прибытия в Парамбиль их семейства, демонстративная праведность Благочестивой Коччаммы более чем оправдала ее прозвище, чревоугодие, однако, не относилось к числу признаваемых этой женщиной грехов, поэтому теперь она увеличилась в размерах вдвое, лицо слилось с шеей, а тело превратилось в бесформенную бочку. Громадное распятие, которое некогда обвиняюще указывало на каждого, к кому она обращалась, поднялось вместе с ее вздымающейся грудью и ныне было обращено к небесам. Долли-коччамма, несмотря на склоки со своей невыносимой родственницей и соседкой по дому, сохраняет юную фигуру, лицо ее по-прежнему гладко, без морщин, и ее дружелюбный нрав не изменился, а Благочестивая Коччамма, должно быть, воспринимает все это как личное оскорбление.
Большая Аммачи добавляет:
– Благочестивая Коччамма наверняка уверена, что из них двоих она более праведна.
Муж бормочет нечто, от чего она теряется и не успевает прийти в себя, как он уже выходит из-за стола. “Только если измерять праведность в тоннах”. Невероятно, ее муж только что пошутил!
Во время крещения Малютка Мол радуется водичке, проливающейся ей на голову, ДжоДжо такого никогда не выносил. Аччан произносит нараспев крестильное имя, которое она выбрала, и Долли-коччамма подхватывает и повторяет его. Но для слуха Большой Аммачи имя звучит фальшиво, а на языке оно жесткое, как недоваренный рис.
Муж ждал их возвращения из церкви. Он подбросил дочку в воздух, и малышка издала хриплый восторженный вопль.
– Ну и как тебя теперь зовут? – спросил отец.
– Малютка Мол! – Веселый хохот в ответ.
Отец вопросительно взглянул на жену.
– Это правда. В свидетельстве о рождении я записала другое имя, и пускай там оно и остается.
Прошло уже пять лет, а она живет с болью от смерти ДжоДжо, как живут с помутневшим от катаракты зрением или с артритной болью в суставах. Но новокрещеная Малютка Мол – их спасение; даже отец малышки, давно отрекшийся от Бога, наверное, видит божественное в ее постоянной улыбке и великодушном характере. Она всеобщая любимица. Совсем маленькой она обожала, когда ее носили на руках, но ровно так же счастлива была качаться в своем крошечном гамаке. Сейчас, став постарше, девочка любит часами сидеть на веранде, на скамеечке, сделанной специально для нее. Там обнаруживается ее странная способность объявлять о гостях до того, как те покажутся в поле зрения. “Самуэль идет!” – могла она сообщить, и они вроде никого не видят, но через три минуты точно появляется Самуэль. Бабушка считает удивительным, что Малютка Мол редко плачет. Единственный раз, когда она помнит ее плачущей, случился в тот самый ужасный день, когда крошка рыдала до посинения, в тот день, когда Большая Аммачи пожелала, чтобы… Лучше не вспоминать, чего она пожелала. Она знает, что жестокая утрата порождает еще большую жестокость.
В тот год во время муссона они все заболели лихорадкой. Очаг оставался холодным весь день, потому что некому было присмотреть за ним. Последней выздоровела ее мать, но с тех пор она постоянно устает, рано засыпает, а встает, когда солнце уже высоко над головой. Даже подняться с постели для нее тяжкое усилие, и волосы ее в беспорядке, потому что руки слишком слабы, чтобы причесать их. Когда мать в конце концов появляется в кухне, она вялая, апатичная и слишком слаба, чтобы помогать. Самый тревожный знак – затихает безудержный поток маминой трескотни. Они послали за ваидья́ном[107], тот пощупал мамин пульс, осмотрел язык, прописал свои обычные массажные масла и притирания, но ничего не помогает. Маме все хуже. А у дочери хлопот полон рот: она пытается одновременно и заботиться о маме, и вести хозяйство.
Благодать имеет множество форм и размеров, но та, что явилась в праздник Онам, оказалась кривоногой. О ее прибытии возвестила Малютка Мол – “старушка идет” – за несколько минут до того, как кривоногая Одат-коччамма приковыляла к их порогу, словно услышав безмолвный призыв о помощи. Эта седоволосая горбоносая тетка может встать, соединив ступни, а Малютка Мол все равно пролезает между ее колен. Она дальняя родственница Большого Аппачен, как Малютка Мол называет отца (постепенно и все они стали за глаза называть его этим прозвищем). Позже Большая Аммачи узнает, что пожилая женщина странствует по домам своих многочисленных детей, задерживаясь на несколько месяцев то у одного, то у другого. Но в Парамбиле она останется надолго.
– Где ты хранишь лук? – спрашивает Одат-коччамма, входя в кухню; говорит она половиной рта, чтобы не выронить табачную жвачку. – И дай мне нож. Всю жизнь молюсь, чтобы лук резал себя сам и прыгал в горшок, но знаете что? – косится она на каждого с убийственно серьезным видом, – до сих пор чуда так и не случилось.
А потом невозмутимая маска дает трещину, лицо разбегается мириадами морщинок, и за обезоруживающей улыбкой следует гоготанье настолько неожиданное и беззаботное, что оно разгоняет темные тучи над кухней. Малютка Мол в восторге хлопает в ладоши и смеется вместе с ней.
– Боже милосердный. – Заметив выкипающий рис, Одат-коччамма воздевает руки к небу, ну или пытается воздеть, но горб не дает поднять руки выше лица. – Кто-нибудь присматривает за этой кухней? – Выговор смягчают веселый огонек в глазах и добрые интонации в голосе. – Кто тут главный – кошка?
Она сбрасывает с плеча конец тхорта и подхватывает им, как прихваткой, горшок, снимает его с огня, потом высовывает голову за дверь, прикладывает два пальца к сжатым губам и выпускает струю табачного сока. Она возвращается как раз вовремя, чтобы засечь, как кошка ворует жареную рыбу. Застигнутая на месте преступления кошка замирает. Верхняя губа Одат-коччаммы выворачивается, и на свет появляются, будто грязные клыки, грубо вырезанные деревянные зубы – она вынимает протез. Это уже чересчур для бедной кошки, которая стремительно улепетывает, поджав хвост. Протез возвращается на место, и старуха опять весело хохочет.
– Кстати, – театральным шепотом произносит она, озираясь, не подслушивает ли кто чужой. – Это не мои зубы. Тот аппуппа́н[108] бросил их на подоконнике.
– Что за старик? – недоумевает Большая Аммачи.
– Ха! Отец моей несчастной невестки! Кто же еще? Я ушла из их дома после того, как он назвал меня старой козой. Увидела зубы и подумала, аах, если я старая коза, то мне они нужнее, чем ему? Раз он их бросил, значит, они ему ни к чему, а́ле?[109] – с невинным видом поясняет старушка, но взгляд у нее ехидный.
Большая Аммачи безудержно хохочет. И все ее тревоги моментально испаряются.
Одат-коччамма становится тем целительным бальзамом, который так нужен Парамбилю. Старушка неустанно в трудах. Всего за неделю Большая Аммачи привыкает к тому, что над ней хлопочут, уговаривают присесть и отдохнуть или смешат так, что порой трудно не обмочиться. Единственное, что ей не нравится, это то, что после купания Одат-коччамма всегда надевает одно и то же заляпанное куркумой мунду, хотя сама она горячо отпирается:
– Да я только вчера приоделась!
Глубокой ночью до Большой Аммачи наконец доходит, и она злится на себя: у Одат-коччаммы только одна смена одежды. На следующий день она преподносит старушке в подарок два новых костюма со словами: “Мы с вами не виделись в прошлый Онам, эти подарки дожидались вас”.
Одат-коччамма возмущается, брови ее насуплены, пальцы теребят белоснежную ткань, которая никогда больше не будет такой белой, как сейчас. Но глаза выдают ее.
– Ого! Это что такое? Ты что, намереваешься выдать меня замуж, в мои-то годы? Аах, аах. Если б знала, ни за что бы к вам не пришла. Гони жениха прочь! Видеть его не желаю. Поди, урод какой-нибудь, раз мне ничего не сказали заранее. Он что, слепой? Припадочный? Хватит с меня мужиков. Да этот горшок умнее любого мужика! – приговаривает она, вроде как пытаясь всучить одежду обратно Большой Аммачи, но при этом крепко держит обновку, не выпуская из рук.
Едва завидев отца, Малютка Мол сразу мчится навстречу. С ней он терпеливее, чем с ДжоДжо, который в любом случае благоговел перед отцовскими размерами и молчанием, а вот Малютка Мол – ничуть. Она показывает Большому Аппачену свои ленточки и кукол. Однажды дождливым днем, когда ливень не выпускает хозяина из дома, Малютка Мол останавливает нервное хождение отца по веранде и тянет его к своей скамейке:
– Садись! (Он покорно подчиняется.) Почему дождь падает на землю и не поднимается опять в небо? Почему…
Он, оторопев, молчит под канонадой вопросов. А Малютка Мол и не ждет ответов. Она влезает на скамейку, чтобы нацепить на отца шапочку, которую с помощью Одат-коччаммы сплела из пальмовых листьев. Удовлетворенная результатом, хлопает в ладоши. Потом обвивает отцовскую шею коротенькими ручонками и прижимается щечкой к его щеке, сплющивая их лица.
– Теперь можешь идти, – заявляет она. – В шляпе ты не намокнешь.
Он с благодарностью взмахивает шляпой. Большая Аммачи прикусывает губу, чтобы не рассмеяться при виде своего закопченного годами палящего солнца гиганта-мужа, увенчанного крошечной бесформенной шапочкой. Отойдя подальше, когда дочь его уже не видит, он снимает шапочку и внимательно разглядывает ее.
– Не представляла, что доживу до такого, – признается Большая Аммачи Одат-коччамме.
– Аах. Почему нет? Сердце отца всегда открыто для дочери.
Здесь есть и моя заслуга, думает она. Я помогла ему стать мягче. Помогла избавиться от бремени тайны.
Чемачча́н[110], который однажды утром приходит собирать пожертвования, совсем мальчишка, растительность над его верхней губой такая жиденькая, что каждый волосок можно назвать в честь апостола. Голос у него еще ломается. В белой сутане не по размеру и черной камилавке, сползающей на лоб, он кажется актером школьного театра в костюме священника. Семья наверняка “посвятила” его церкви, чтобы мальчика воспитали (и прокормили) в семинарии, – большое подспорье, когда риса на всех не хватает. Таких мальчишек посвящают в сан без разбору, но Большая Аммачи не уверена в искренности их веры.
