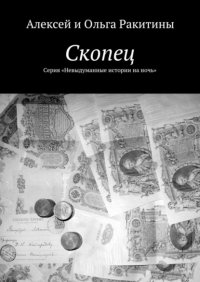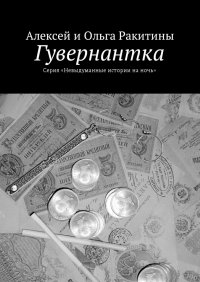Читать онлайн Маятник бесплатно
- Все книги автора: Алексей и Ольга Ракитины
© Алексей и Ольга Ракитины, 2017
ISBN 978-5-4485-8072-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
Наконец-то девочка была мертва. Ее глаза, прежде такие жгучие, потеряли прежнее непримиримое выражение, а алые губы на побуревшем от прилива крови лице сделались похожими на кровоточивый разрез. Изо рта убитой выглядывал край носового платка; вот бы увидеть какими глазами на этакое зрелище будут таращиться те, кто первыми увидят тело! Платок, если всё делать по уму, следовало бы изо рта убитой вытащить, да и самому телу придать более пристойное положение, но к трупу уже не хотелось прикасаться.
Девочка, конечно же, ни в чем не виновата. Её можно считать жертвой обстоятельств никак с ней не связанных. Жертва безумных страстей, о каковых сама жертва даже не подозревала. В такой смерти есть нечто вергилиевское, об этом непременно надо будет подумать как следует, но попозже, не теперь… Просто есть такие минуты, когда тело поет и кровь ликует – и вот сейчас именно такая минута. И размышления способны лишь разрушить тот короткий интимный восторг, что так греет душу. Душу убийцы, ведь теперь я – убийца!
Нельзя останавливаться. Надо затушить свет, надо идти дальше, пусть убийство совершено, но остальную работу ещё только предстоит сделать.
Ведь всякую работу надо делать хорошо, даже если эта работа – убийство.
1
Утро 28 августа 1883 года в Петербурге выдалось ветреным и хмурым. В половине девятого во двор-колодец дома номер 57 по Невскому проспекту суетливой семенящей походкой вошел неказистый на вид мужичонка средних лет, живой, юркий, из тех, кого принято называть пронырой. Он был знаком, почитай, со всеми обитателями этого большого двора, потому как был по натуре говорлив и боек и почти всегда пребывал в бодром настроении. Его тоже знал всякий – это был Пётр Лихачев, скорняк. Поздоровавшись с дворником Анисимом, который занимался обычным своим утренним делом – выметал двор, мужичонка прошел к угловому подъезду.
Лихачев направлялся в ссудную кассу Мироновича, располагавшуюся бельэтаже, дабы получить обещанную давеча хозяином кассы работу. Частенько клиенты ростовщика не выкупали свои вещички – шубы, муфточки, манто, меховые шапки, – и Лихачев в таких случаях нанимался, чтобы сделать мелкий ремонт или перешивку. В дверях подъезда он столкнулся с портнихой Авдотьей Пальцевой. Это была толстая рябая девушка, очень добрая и очень некрасивая, обречённая весь свой век просидеть в девках. Жила она по соседству, в следующем дворе. Оказалось, Пальцева тоже направлялась к Мироновичу, и тоже за работой, только по портняжной части.
Они вместе поднялись по широкой гранитной лестнице к двери в помещение ссудной кассы. Шустрый Лихачев по обыкновению своему забежал вперед, а Авдотья сосредоточенно и неспешно несла свое неуклюжее тело позади. Подойдя к двери, Пётр решительно пару раз крутнул вращающуюся ручку звонка. Где-то за дверью тренькнул звонок. Не дожидаясь появления хозяина Лихачёв потянул дверную ручку. Дверь неожиданно отворилась.
– Странно – не заперто… обычно Иван Иваныч завсегда дверь запирает, – удивился скорняк.
– Что ты дергаешь-то? Подожди, пока тебе откроют, – меланхолично отозвалась Авдотья.
– Молчи, женщина, – осадил ее скорняк, – Я говорю: странно, что дверь отперта.
Он стоял на пороге, не решаясь войти в темную прихожую. Из помещения кассы не доносилось ни звука, казалось, там вовсе никого нет. И это было очень подозрительно, поскольку богатую ссудную кассу невозможно было представить без ее работников и притом с открытой входной дверью.
– Пошли уж, что ли, – предложила Авдотья, – Чего стоять-то на лестнице?
Лихачёв вместе с Пальцевой осторожно вошёл в темную прихожую и снова остановился. Иван Иванович Миронович, хозяин кассы, был человек крутого нрава, самоуправства не терпел, во всем любил порядок и распорядительность. А стало быть, ему бы вряд ли понравилось, если бы в его кассу вот так запросто вошли посторонние люди.
Ссудная касса представляла собой переделанную под контору большую квартиру. Темная передняя, лишенная окон и какого-либо другого естественного освещения, вела в просторную комнату, перегороженную надвое громоздким письменным столом. В этой комнате, вдоль самой длинной её стены тянулась большая стеклянная витрина со стеклянной крышкой, похожая на те, что можно видеть в музее. Витрина эта была наполнена всякого рода мелкими драгоценными предметами – запонками, булавками для галстуков, серёжками, кольцами, браслетами и прочими приятными вещицами – сданными в заклад и невыкупленными хозяевами. Теперь они предлагались к продаже как в обычном магазине. Вдоль других стен стояли видавшие виды шкафы-гардеробы с ободранным по углам лаком, которым очень подошло бы название «рухлядь», если бы не их добротность и основательность. Все их ножки, дверцы, потайные отделения были в исправности, все они запирались на замки, как, впрочем, и всё в этой комнате, включая стеклянную витрину. Пара мягких кресел – таких же обшарпанных, с почти до дыр протертой обивкой, дополняла неказистый интерьер.
Другая дверь из прихожей вела в кухню, из которой налево был вход в дальнюю маленькую полутемную комнатку, обычно заставленную всяким хламом. Направо от входной двери в прихожей были еще три смежные комнаты, которые использовались как жилое помещение и склад.
Лихачев, нарочито громко переминаясь на скрипучих деревянных полах, позвал хозина, но в ответ не услышал ни звука. Это было невиданно! – обычно Иван Иванович Миронович никогда не оставлял дверь в кассу незапертой. Даже когда приходил посетитель, первое, что делал хозяин кассы – запирал внушительных размеров засов на входной двери. Мало ли что! Контора ростовщика – сладкая приманка для всяких проходимцев. Но теперь в кассе, как казалось, не было никого, а это было в высшей степени подозрительно.
– Пойдём-ка, милая, отседова подобру – поздорову. Вишь – дверь открыта, а хозяина-то и нет. Позовем-ка дворника – пусть сам посмотрит…
С этими словами парочка быстренько скатилась по лестнице, выскочила во двор и призвала на помощь Анисима. Анисим стукнул в приоткрытую форточку дворницкой и, дождавшись, когда в окне появится всклокоченная после сна голова его напарника, Варфоломея, сказал тому:
– Слышь-ка, надо посмотреть на кассу Мироновича. Вот, – он указал на портняжек, – говорят, открыто там. Выйди, подсоби мне.
Так, вчетвером, они и вошли в помещение кассы. Было пугающе тихо. Анисим громко позвал:
– Иван Иваныч! Эй, кто-нибудь…! Кто есть, голос подай!
Компания постояла неподвижно, прислушиваясь. Тихо. Тогда Анисим решительно шагнул в большую комнату – никого. Стеклянная витрина была цела, на полу оказались разбросаны какие-то бумажки, но в целом ничего подозрительного в глаза не бросалось.
За Анисимом ниточкой потянулись Варфоломей и Петр. Даже Авдотья не утерпела, заглянула. Пусто.
Тем же маневром они осмотрели кухню и, наконец, отворили дверь в маленькую темной комнатушку за нею.
Там-то они и увидели труп.
Зрелище было ужасным даже для Анисима, которому на своем веку немало довелось повидать покойников. Одно время он был санитаром в анатомическом институте при Медико-хирургической академии на Нижегородской улице, что на Выборгской стороне, и там насмотрелся на тела с колотыми, резаными, огнестрельными ранами, расчлененные поездом и расплющенные паровым молотом. Но сейчас даже Анисим присел на ставших вдруг ватными ногах и мелко перекрестился: «Ух ты, Господи, свят, свят…". Поперек кресла, с перекинутыми через подлокотник широко раздвинутыми ногами, уткнувшись неестественно выгнутой головой в другой подлокотник, лежала девочка, Сарра Беккер, дочка приказчика кассы Мироновича. То, что она была мертва, сомнений не было никаких – отечное лицо, побуревшее от прилива крови, стало совершенно неузнаваемо, полуприкрытые остановившиеся глаза имели дикое бессмысленное выражение, а на лбу, над левой бровью зияла огромная отвратительная рана, вокруг которой на кресле образовалось большое кровавое пятно. Ужасную картину дополнял торчавший изо рта девочки уголок носового платка, который, видимо, был засунут ей в рот почти целиком. В комнате висел специфический запах смерти – нет, еще не запах трупного разложения, а то особое зловоние человеческой утробы, которое вырывается наружу при глубоком посмертном расслаблении кишечника.
Анисим недаром носил звание старшего дворника, он был мужик смышленый, крепкий и грамотный. Не давая приблизиться к трупу своим спутникам, заглядывавшим через его плечо, он резко сдал назад, оттеснив своей спиной всех за дверь. Быстро повернувшись к Варфоломею, он приказал тому, как отрезал:
– Быстро в полицию. У нас тут убийство. Одна нога здесь – другая там. Давай, колченогий!
– Может, посвистеть квартальному? – предложил Варфоломей. Он чувствовал себя не очень хорошо после вчерашнего возлияния, а потому не хотел совершать длительные пешие переходы.
– Угу, тебе квартальный посвистит, когда узнает, что у тебя в ссудной кассе покойник с пробитой головой лежит, а ты тут разговоры разговариваешь! Быстро, я сказал! – рявкнул Анисим, – А вы, – он обратился ск скорняку и портнихе, – тута при мне будете, никуда не уходить! Ждать на лестнице. Полиция явится – расспрашивать начнёт. Тут вы и понадобитесь.
Петр Лихачев пытался выглянуть из-за плеча рослого дворника, чтобы получше рассмотреть девичий труп с разбросанными в разные стороны ногами, и никакого внимания на слова дворника не обратил; Авдотья же только громко ойкнула. Спорить с Анисимом никто не решился, да это, пожалуй, было и ненужно. Вся группа в молчании попятилась к выходу. Очутившись на лестнице, Анисим прикрыл входную дверь в кассу и вытер вспотевший лоб: «Скажи на милость, начался день!»
Первыми прибыли на место преступления квартальный надзиратель и его старший помощник, а буквально через пять минут появился прикомандированный к 1-му участку Московской части сотрудник городского Управления сыскной полиции коллежский секретарь Черняк. Произошло это не в силу некоей особой оперативности сыскной полиции, а единственно благодаря стечению обстоятельств, которые утром 28 августа привели Викентия Александровича в местный околоток по совершенно постороннему вопросу. Узнав, что квартальный отправился на место убийства, Черняк немедленно отправился туда же, благо район Невского проспекта от Николаевского вокзала до Фонтанки находился в зоне ответственности Московской части и расследование любого совершенного здесь серьезного преступления не обошлось бы без его участия.
Черняк застал квартального надзирателя, стоявшего у дверей ссудной кассы и инструктировавшего дворников: «Свет зажгите весь, какой есть, окна отворите, мы подъезд тоже будем осматривать».
– Сколько у нас трупов? – взял быка за рога Черняк.
– Я бегло осмотрел кассу. Труп видел только один, в комнатке за кухней.
– А хозяин где?
– Пока не установлено.
– Ясно. А это кто? – кивнул Черняк в сторону Лихачева и Пальцевой.
– Мы-с свидетели, – важно объявил скорняк.
– Свидетели чего?
– Того, как нашли тело безвинно убиенной девочки.
Черняк на секунду задумался над заковыристым ответом:
– А кто нашел-то?
Лихачев молча ткнул пальцем в старшего дворника, который площадкой выше прилаживал лестницу к высоко расположенному окну.
– Эй, братец, оставь свою лестницу, поди сюда, – позвал его Черняк, – Ты кто таков будешь?
– Анисим Щеткин, старший дворник дома 57, – стал навытяжку Анисим, – По распоряжению господина квартального надзирателя открываю окна в подъезде.
– Не трогай окна, – махнул рукой Черняк, – Рассказывай как было дело.
Разобравшись в обстоятельствах обнаружения трупа, сыщик кратко проинструктировал всех троих:
– Раз уж вляпались в это дело, то будете нашими свидетелями. Сейчас проходите вместе со мною внутрь, смотрите за моими действиями, сами ничего не трогаете, никуда не ходите, не трындите, стоите молча. Потом будет составлен протокол осмотра места преступления и вы в нем будете поименно названы.
Они вошли в помещение кассы. Анисим указал сыскному агенту на дверь в кухню, через которую можно было попасть в дальнюю комнату.
– Там, – коротко сказал он.
Черняк первым прошел в кухню, встал в центре и цепко оглядел её. Ни к чему не притронувшись, он двинулся дальше, в неказистую дверь, за которой виднелось кресло с трупом. За Черняком следовал младший урядник, квартальный же надзиратель остался стоять на лестничной площадке.
Черняк, войдя в комнатку, оглядел кресло с трупом и присел перед ним на корточки. Втянув ноздрями сладковатый противный запах крови и человеческих испражнений, он распорядился открыть окно. В комнатке было небольшое грязное оконце, выходившее во второй от Невского проспекта двор, но Черняк решил его сейчас не трогать. Комната была вся заставлена мебелью: тут были диван, 3 стула с мягкими сиденьями, два кресла – все это было по виду новёхонькое и стояло как попало: диван у окна, к нему, как бы образуя просторное ложе, были приставлены стулья. Одно из кресел, с телом девочки, было придвинуто к дивану, другое же загораживало дверь в маленький чулан, где помещался ватерклозет.
– А что, мебель новая, недавно привезли? – поинтересовался сыщик, не спеша протискиваясь между креслом и стеной и заглядывая во все углы.
– Так точно-с, ваше благородие, третьего дня, 26 августа, – ответил Анисим Щеткин, – Я же сам и помогал носить. Только мы ее не так поставили: хозяин приказал всю её в эту комнату доставить и стулья поставить прямо на диван, говорит, дескать, подожду пока по комнатам расставлять, пусть так похранится.
– А кто же тогда так ее расставил?
– Не могу знать, ваше благородие.
– Скажи, Анисим, а с убитой ты знаком?
– Конечно-с, г-н офицер. («Я не офицер», – заметил мимоходом Черняк) У нас ее тут всякий знает. Это Сарра, дочка Ильи Беккера, приказчика у хозяина кассы. Девчонка совсем, только 13 годков. Эх-хе-хе… – невесело крякнул он. – Вообще-то она со своим отцом жила в кассе постоянно. Раньше их вся семья тут жила – и жёнка беккерова с детями, дак только на лето Беккер семью отвез в Сестрорецк, осталась здесь с ним только Сарра. По ночам с папашей кассу сторожили, а днем она в конторе помогала хозяину. А в эту ночь, вишь, одна осталась – сам Беккер-то в Сестрорецк уехал.
– Хорош сторож, нечего сказать. И часто она здесь ночью в одиночку… сторожила? – продолжал свои расспросы Черняк.
– Да, почитай, постоянно… Иван Иваныч не любил, чтоб касса была без присмотру. Сами-то хозяин, хоть и был здесь, почитай, целыми днями, с утра и до вечера, а на ночь уезжал к себе на квартиру, на Болотную. Когда и Беккер стал отлучаться, хозяин просил и нас, дворников то есть, с Саррой подежурить, а потом… – Анисим опустил глаза, – девочка пожаловалась, что, дескать, шалим-с, и стала ночевать одна.
– Шалите, стало быть, да? – уточнил сыщик, – А как шалите: подол задираете, или магарыч пьете?
– Эх-к-хм… – неопределенно вздохнул Анисим.
Он избегал смотреть на труп. Помимо обычного для нормального человека неприятия смерти его раздражал высоко задранный подол праздничного платья девочки, обнажавший выше колен ее неестественно раздвинуты ноги, свешивавшиеся через подлокотник кресла и придававшие ему непристойно-похотливый вид. Светлая полоска молочно-белой кожи притягивала взгляд и одновременно пугала. Девочка лежала так неестественно, что трудно было вообразить, будто человек может по своей воле принять столь неудобную позу. Скорее всего, это убийца положил ее так и поднял юбку. А нарядные чулочки и высокие лаковые сапожки со шнуровкой, никак не вязались с кирпично-красным страшным лицом и тем безумным ужасом, что застыл в полуоткрытых глазах девочки.
Офицер подошел к креслу и осторожно обыскал карманы шерстяной накидки, наброшенной на плечи девочки. В одном отыскался недоеденный огрызок яблока, в другом – большой ключ. Выудив его, офицер показал Анисиму:
– Что за ключ, знаешь?
– Так точно-с, от входной двери кассы.
Черняк не поленился сходить в прихожую и проверить. Ключ действительно подошел к замку входной двери.
– Что же получается: убили, по всей видимости, еще вечером – тело практически уже остыло и кровь заметно подсохла. А на это требуется около 12 часов, – рассуждал Черняк, то ли обращаясь к уряднику, не отстававшему от него ни на шаг, то ли разговаривая с самим собой, – И преступник ключа не нашел. Как думаешь, почему?
– Не догадался обыскать тело, – бодро ответил урядник, – А может, ему что-то помешало.
– А может, ему этот ключ вовсе и не был нужен, – добавил Черняк, – И всю ночь касса стояла незапертой. Хм…
Сыщик наклонился и, взяв в ладони мертвую руку девочки, медленно разжал ее крепко стиснутый кулачок. В нем оказался зажат клок волос. То, что это были не её, Саррины, волосы, было очевидно сразу – волосы покойницы были длинные черные, вьющиеся, а эти – короткие, едва ли полтора дюйма длиной. Впрочем, Черняк понимал, что сейчас всё равно рассматривать их было недосуг, вот явится полицейский врач, все упакует и представит для экспертизы… С такими мыслями Черняк осторожно вытащил волоски из цепких пальцев девочки, поместил их на лист белой бумаги и положил на подоконник, ибо другого ровного и твердого места в комнате просто не оказалось.
Между тем к 57-у дому по Невскому проспекту постепенно стекался чиновный люд, призванный обеспечивать правопорядок в столице и потому вынужденный посещать места совершения преступлений в силу служебной необходимости. Прибыли старший помощник пристава 1-го участка Московской части Дронов, а потом сам пристав этого участка Рейзин – немолодой, сосредоточенный и малоразговорчивый субъект. Появился представитель прокуратуры, призванный своими глазами удостовериться в происшедшем. Это был еще не следователь – следователя только предстояло назначить после возбуждения уголовного дела. Явившиеся в эту минуту не интересовались конкретными результатами осмотра места преступления, они занимались решением куда более брутальных проблем: назначением сменной охраны ссудной кассы, розыском и оповещением хозяина, организацией вывоза тела погибшей девочки. Тело было решено отправить в морг детской больницы принца Ольденбургского, расположенной сравнительно недалеко – на Лиговском проспекте, в доме N8, но сделать это не представлялось возможным без предварительного осмотра трупа полицейским врачом. Подобный осмотр на месте совершения преступления (в «интерьере убийства») был совершенно необходим, но откладывался из-за задержки медика.
Неожиданно подъехал штаб-ротмистр из канцелярии градоначальника и всем сразу стало ясно, что сообщение о случившемся в кассе Мироновича попадет в ежедневный полуденный доклад Государю Императору о происшествиях в столице. Впрочем, ничего особенно удивительного в этом не было: жесткое убийство девочки в самом сердце города, в его так сказать, деловой части и впрямь было событием экстраординарным.
Больше из любопытства, нежели из служебной необходимости все приезжавшие лица ходили разглядывать тело погибшей, все еще лежавшее с широко раздвинутыми ногами кресле. Общее мнение было однозначным – либо девочку изнасиловали, либо пытались это с нею сделать. Поднятое выше колен платье и раздвинутые ноги по единодушному мнению зрителей свидетельствовали о том, что похоть была одним из мотивов (либо вообще единственным мотивом) свершившегося преступления.
Сколько-нибудь осмысленные и последовательные следственные действия начались с появлением двух сотрудников Управления сыскной полиции – Гаевского и Иванова. Тандем этот был примечателен несхожестью своих членов: первый был поляком, рафинированным и экспансивным, второй – разночинцем из скобарей, коренных жителей псковской губернии, казался человеком простым и даже простоватым. Они постоянно спорили друг с другом, порой весьма едко и иронично, и казались полны непримиримого антагонизма, но это было всего лишь невинное развлечение, игра на публику; на самом же деле Гаевский и Иванов были очень дружны и каждый не раз с риском для жизни спасал другого из опасных передряг.
Разумеется, полицейскими были тщательно осмотрены остальные помещения кассы. В кухне, на плите, почитай, на самом видном месте, лежал обломок газовой трубы, напоминавший палку с неровными, острыми краями. Назначение этого странного в таком месте предмета и время его появления здесь требовали, очевидно, уточнения. Обратила на себя внимание и стоявшая подле керосиновая лампа, почти полностью заправленная керосином и должным образом затушенная. Казалось очевидным, что ею пользовалась накануне погибшая девочка, поскольку в темной квартире она не могла передвигаться на ощупь. Но керосин в лампе не выгорел, а значит, лампа была кем-то затушена. Но кем и в какой момент? И главное – с какой целью? Из трех смежных комнат по правую сторону от прихожей открыта была только первая. Дверь, ведущая в две другие, оказалась заперта на ключ. В этой первой незапертой комнате царил порядок, не было найдено никаких следов постороннего присутствия, во всяком случае таковые следы не обратили на себя внимание полицейских.
Затем полицейские перешли в главную комнату кассы. Шкафы и стеклянная витрина были заперты, замки на них нетронуты. На полу валялись разбросанные в беспорядке десять просроченных квитанций на заложенные в ссудной кассе Ивана Мироновича вещи.
Во время осмотра помещения кассы в полутемной прихожей раздались голоса – один взволнованный, требовательный, другой – примирительно-официальный. Потом дверь в комнату приотворилась и в щель просунулась голова полицейского:
– Ваше благородие, тут хозяин кассы пришел. Прикажите пустить?
Непонятно было к кому он обращался, но поскольку пристав был единственным человеком в полицейской форме, то он и ответил:
– Давай его сюда. Пусть заходит.
В комнату буквально ворвался крепкий, лет 50-ти мужчина, с седеющей курчавой шевелюрой, с нафабренными седыми усами. Невысокого роста, с прекрасным персиковым цветом лица и полными красными губами, он был одет в добротную брючную пару из качественной темно-серой шотландки. Черный велюровый жилет выражал претензию хозяина на элегантность, а толстая золотая цепь от часов недвусмысленно свидетельствовала о его зажиточности. Он производил впечатление человека, который своего не упустит. Отличная осанка и уверенная манера держаться выдавали в нем отставного военного, впрочем, как и усы, которые согласно традициям того времени могли иметь лица, обладающие правом ношения мундира. Иван Иванович Миронович выглядел взволнованным и возмущенным. Ему еще во дворе рассказали о случившемся и он прямиком, не делая попыток взглянуть на труп девочки, бросился к своим шкафам.
– Взгляните, все ли ключи и вещи на месте, не пропало ли чего, – после взаимного представления обратился к нему Черняк.
Миронович подошел к отгораживающему угол шкафу, запустил руку глубоко в щель и выудил связку ключей, которая, по всей видимости, висела на гвозде, вбитом в заднюю стенку шкафа. Взяв связку в руки, он внимательно осмотрел её, убеждаясь, что все на месте. Потом проверил замки на шкафах и витрине – все было заперто. Двигался Миронович быстро, резко, шумно дыша и не переставая рассказывать, как ему только что внизу, во дворе, рассказали и про убийство, и про дверь, стоявшую всю ночь открытой, и про полицию… Выглядел он по-настоящему взволнованным, если не сказать, напуганным.
Пристав Рейзин, наблюдавший за ним безмолвно, вдруг произнес:
– Не желаете ли взглянуть на труп, господин Миронович? Там, в маленькой комнате…
Хозяин кассы не ответил. Он подошел к витрине и внимательно всматривался в предметы, помещенные за стеклом.
– Так и есть! – воскликнул он, – Я же чувствую, что меньше стало! Не хватает! Не все вещи на месте! Пропали часы, да не одни, медальон… еще брошка, портсигар, портмоне для серебряных монет… – принялся он перечислять.
– Это были самые ценные вещи в витрине? – спросил Гаевский.
– Да нет же, нет! То-то и странно, сам не пойму! Вот же, почти рядом – очень дорогая табакерка, финифть, белое золото, посмотрите, ее почему-то не взяли… Странно как-то.
– А замок-то нетронут, – многозначительно проговорил Черняк. Он, вооружившись лупой, рассматривал замочную скважину на крышке витрины. На ней не было ни царапинки, ни щелочки вокруг, замок плотно сидел в своем гнезде.
– Может, вынуть и разобрать? – предложил Гаевский.
– Ну-ка, Викентий Александрович, дайте-ка я попробую, – сказал сыщик Иванов, опускаясь перед витриной на корточки и извлекая из кармана собственную 10-кратную складную лупу.
Пока сыскари – каждый со своей лупой – рассматривали крышку витрины, пристав обратился к хозяину кассы:
– Вам, полагаю, следует составить список пропавших вещей и бумаг. Но с этим можно повременить… Не хотите ли, все-таки, посмотреть на девочку? Как-никак, она была вашей помощницей.
– Да, она была… смышленая, – рассеянно кивнул Миронович, – Да что уж теперь… Нет, на труп смотреть не хочу, увольте… потом…
– Какое страшное преступление – убийство с изнасилованием! – с нажимом произнес Рейзин, глядя на хозяина кассы неприязненно и цепко.
– То есть как?! – взвился при этих словах Миронович, – Какое тут изнасилование, тут изнасилования нет, тут не может быть изнасилования! – громко и неожиданно возбужденно заговорил он.
Крайне озадаченный такой реакцией, Рейзин ответил ему:
– Почему же вы можете знать, что тут нет изнасилования, когда отказываетесь даже взглянуть на убитую?
Миронович, выдвигавший в это время попеременно один за другим ящики стола, отвлекся от своего занятия, строго глянул на пристава и весомо проговорил:
– Полноте, господин пристав, не ловите меня на слове. Оставьте свои детские приемы для голытьбы с Сенной. Я отработал в полиции 12 лет и толк в полицейской работе знаю. Какое тут может быть изнасилование, скажите мне? Зачем грабителям девочку изнасиловать-то?
– Известно зачем: удовольствия ради! – парировал пристав.
– Бандит идет на убийство, рискует угодить в каторгу и на всю оставшуюся жизнь остаться прикованным к пятипудовой тачке! Зачем ему терять время на девчонку? Да он за одни золотые часы, взятые из этой витрины, возьмет лучшую шлюху с Лиговки. А тут – возня, шум, гам. Вы посмотрите какой двор-колодец: здесь в окно крикнешь и весь дом услышит, что на первом этаже насилуют. Да, вот и векселей недостает! Хорошие векселя были, на предъявителя, на большие суммы, просроченные, хоть сейчас к взысканию предъявляй. Да их с руками и ногами оторвут в любой закладной кассе!
Черняк, внимательно выслушавший речь Мироновича, протянул ему несколько бумажек, найденных на полу, попросил посмотреть. Хозяин кассы стал их перебирать, тихо бормоча фамилии закладчиков.
– А векселя Грязнова нет ни в столе, ни здесь. На 50 рублей был вексель. А других вы не нашли?
– Нет, это все, – ответил Черняк.
– Скажите, Иван Иванович, а как вы провели вчерашний вечер? – спросил хозяина кассы Гаевский.
– Да очень просто провел, обыкновенно. Часов до девяти вечера был в кассе, потом поехал домой, на Болотную, дом 4 – там у меня квартира. Да, еще по пути, на Невском, попалась мне старинная знакомая, с ней перекинулся двумя словцами.
– Кто такая? – тут же поинтересовался Черняк, извлекая из жилета маленький блокнотик и такой же маленький остро отточенный карандаш. Он приготовился записать ответ Мироновича.
– Анна Филиппова, мещанка, живет рядом, на Невском, дом 51.
– А позже? – продолжал расспрашивать Гаевский.
– Да как всегда – дома переоделся к ужину. Сели поужинать с семьей. Потом все разошлись, а я еще остался за столом, пил чай. Потом лег спать.
– Прекрасно, – кивнул Гаевский, – И в котором часу вы приехали к себе на квартиру?
– Да я на часы и не смотрел. Наверное, в 11-м. Вы что же, алиби мое выясняете? Так все мои домочадцы могут подтвердить, что вечером я был дома.
Он держался уверенно, абсолютно спокойно, глаз не прятал, но только все равно было в нем что-то подозрительное и даже неприятное – уж больно многословен и активен он был в такой неподобающий момент. Ведь совсем рядом еще лежал труп хорошо знакомой ему девочки. И особенно подозрительным казалось то, с какой аккуратностью и самообладанием преступник действовал в кассе – он не разбил витрину, не сломал замки, лампу керосиновую затушил. Уж не для того ли, чтобы ненароком не устроить пожар? Неужели преступник – жестокосердный убийца! – заботился о сохранности имущества ростовщика-мироеда? Странно это было как-то…
Присутствовавшие в комнате обратили внимание на то, что неожиданно за окном все потемнело. Налетел порыв ветра, сквозняком где-то грохнуло оконную раму – собирался дождь.
– Скажите, Иван Иванович, а как получилось, что Сарра оказалась в кассе одна ночью? – снова задал вопрос Гаевский, – Ведь имущество у вас здесь немалое. На какую сумму, кстати?
– Да уж, на 50 тысяч потянет, – важно ответил Миронович, – место бойкое, проходное, самый центр города, почитай. Что касается Сарры, то обычно здесь с дочкой всегда был Беккер, но 25-го числа приказчик уехал к жене и детям в Сестрорецк. Так что Сарра осталась в городе одна. Она, видите ли, дочка Беккера от первого брака, ну, и ему сподручнее было, чтобы она была здесь. Уж не знаю из каких видов… Вообще-то она расторопная девчонка была, и в конторе мне помогала – я ей 5 рублей платил! А если на ночь оставалась, то была очень осторожна, всегда дверь запирала. Вы видели, что на входной двери кроме замка есть еще большой железный крюк? Так что запрёшься изнутри – и как в крепости, даже если домушник отворит замок, внутрь все равно не попадет.
– Говорят, иногда дворники с ней здесь дежурили?
– Да, я просил их пару раз, но Сарра пожаловалась на них, говорит, выпьют водки и тянет их на подвиги. Вот я и не стал их больше звать – в конце концов приказчик отвечает за сохранность вещей, вот пусть у него и болит голова, как он будет ночью охранять хозяйское добро.
– Что ж, удобная позиция, – кивнул Гаевский, – Скажите, а кто мог знать, что в этот раз Сарра будет ночью в кассе одна?
– Да кто угодно! Ее тут все знали, да и тайны никакой не было в том, что папаша ее уехал…
– А вот мебель в дальней комнате… – неожиданно вклинился Черняк, – не помните, как стулья стояли – на диване или рядом?
Гаевский осуждающе покосился на коллегу, очевидно, вопрос о мебели был задан некстати.
– На диване. Я решил, что мебелью пока пользоваться не буду, так что пусть стулья пока и стоят на диване, как обычно на складе – так места меньше занимают.
– А сегодня их нашли расставленными на полу, рядом с диваном. Кто же это мог сделать? – спросил Черняк.
– Ну, уж не знаю. Ищите! Да-с.
Гаевский при этих словах Мироновича улыбнулся и оборотился к Черняку:
– Вот тебе, Викентий, золотое правило допроса!
– Какое правило?
– На дурацкий вопрос всегда следует дурацкий ответ, – сказав это, Гаевский повернулся к Мироновичу, – Иван Иванович, вы составили список похищенного?
– Пока нет.
– Сядьте, спокойно подсчитайте, своей рукой напишите на листе бумаги. Во сколько, кстати, оцениваете ущерб?
– В общей сложности рублей на 400. Да еще вексель Грязнова на 50 рублей. Но это номинал, так-то поменьше он будет стоить, продается-то с дисконтом. Но тем не менее, пара десяток точно. Ну, и наличными 50 рублей, в ассигнациях.
– А вообще-то на какую сумму потянет содержимое всей витрины?
– Ну, как минимум на 1000 рублей, – не без самодовольства ответил Миронович, – Я вообще работаю только с дорогими вещами, барахло всякое не принимаю.
Хозяин кассы сел к столу составлять опись пропавших вещей, а полицейские прошли в кухню.
– Какой же ты дурак, Викентий! – рявкнул Гаевский, плотно притворив кухонную дверь, – Кто тебя тянет за язык? Что ты начинаешь про мебель молоть?
– Но-но, с выражениями аккуратнее! – огрызнулся Черняк.
– Гаевский прав, – мрачно отозвался Иванов, обычно сдержанный и немногословный, – Вам, Викентий Александрович, не следовало упоминать о перестановке мебели. Очевидно, что о перестановке мебели не могли знать многие, скорее всего, только сам преступник. И если бы на официальном допросе Миронович проговорился, что ему известно как именно стоит мебель на месте преступления, то тут бы следователь и притянул его за язык…
– Теперь не притянет, – раздраженно закончил мысль своего коллеги Гаевский, – Теперь Миронович отопрется, сказав, будто о перестановке услышал от господина Черняка!
Черняк негодующе буравил глазами Гаевского, но ни слова в свое оправдание не промолвил. Да, собственно, что тут можно было возразить? Иванов был прав во всем.
– Кстати, раз уж заговорили о расстановке мебели на месте преступления, – продолжил Гаевский, – Настоятельно рекомендую обратить внимание на то, как поставлено второе кресло.
– А как оно поставлено? – спросил вслух сам себя Иванов, – Перед дверью в ватерклозет.
– Вот именно. Не без умысла.
– Брось, Владислав, – махнул рукой Иванов, – в этом умысла нет никакого. Комната маленькая, кресло поставлено так, как удобнее.
– Ничего подобного, Агафон, – возразил коллеге Гаевский, – ватерклозет мог оказаться для девочки убежищем. Убийца, переставляя мебель, отсекал ей путь отхода.
– Я тебя умоляю, Владислав, замолчи, – замахал на него руками Иванов, – Ты сейчас тут наговоришь и только собьёшь всех с толку, как это уже не раз бывало. Они же ждут от тебя истины в последней инстанции, – последовал кивок в сторону Черняка и пристава Рейзина, – а между тем, следствие еще толком не начато! Подожди со своими умозаключениями. Еще даже неизвестно, будешь ли ты сам привлечен к расследованию.
Трудно сказать, что возразил бы на это поляк, но Гаевскому не дал ответить громкий голос Мироновича, послышавшийся из-за двери:
– Эй, господа сыщики, вы видели это, в передней?…
Через секунду он приоткрыл дверь в кухню и просунул голову:
– Там пятна воска от свечки на полу. Но вчера, когда я из кассы уходил, их там не было, это точно!
Разумеется, все тут же отправились в прихожую. При взгляде на многочисленные потеки воска на полу прихожей становилось ясно, что действительно кто-то жег здесь свечу возле самой входной двери.
– А вы в кассе обычно свечами пользуетесь или лампой? – спросил хозяина Гаевский.
– Да лампой, конечно. Свечи имеются, но так, на всякий случай. Там, в кухне, в шкафу.
– Пойдемте, посмотрим!
Гаевский с Мироновичем сходили на кухню и там хозяин кассы показал где именно хранил свечи. Полдюжина толстых восковых свечей, схваченная толстой суровой ниткой, оказалась на своем месте.
– Ну что ж, очень хорошо, – бормотал Гаевский, – очень даже хорошо-с. А скажите, Иван Иванович, откуда на кухне взялся кусок трубы?
– Какой? – Миронович обвёл взглядом кухню, – Ах, этот… Он тут давным-давно, уж годик-то точно. В подъезде меняли трубы газового освещения, так он валялся ненужный. Не помню уж, кто и принес его. А только я выкидывать его не стал – мало ли, какой недобрый человек зайдет. А труба эта есть не просит – притулилась себе в уголке и стоит тихонечко.
– А сейчас она лежит на плите. Почему, не знаете?
– Да может, это Сарра пол мела, да и переложила?
– Конечно, может, – согласился Гаевский, – А где этот обломок находился обычно?
– Да вот тут, за плитой в уголке, – Миронович подошел к плите и показал рукой.
Дверь из кухни в маленькую комнату была приоткрыта, но Миронович избегал смотреть туда. Он так и не пошел посмотреть на убитую девочку.
2
Полицейские всё ещё продолжали осмотр комнат, когда приехал Илья Беккер. Его появление никак не было связано с ночными событиями, он вернулся из Сестрорецка с утренним поездом сообразуясь с какими-то своими семейными планами и вплоть до появления на пороге ссудной кассы ничего не знал о гибели дочери.
Это был пожилой тщедушный еврей с впалой грудью, весь какой-то заморенный, озабоченный и суетливый. Картуз с треснувшим лаковым козырьком сидел на его плешивой голове кривобоко, каблуки сапог были стоптаны, а остатки волос с заметной сединой торчали во все стороны нечёсанными космами. Когда его подвели к телу Сарры он, увидя убитую дочь, заплакал, жалко затряс головой и, размазывая по морщинистому, усыпанному мелкими пигментными пятнами лицу, слезы, неожиданно завыл. Спина его еще больше ссутулилась, руки задрожали. Урядник, придерживавший Илью Беккер за локоть, смотрел на него с налитыми слезами глазами и, казалось, готов расплакаться сам.
Отцу дали выпить воды, усадили в кресло. Когда он немного успокоился, сыщик Агафон Порфирьевич Иванов в своей скобарской неспешной манере принялся его расспрашивать: кто знал о том, что Сарра оставалась на ночь одна? как могло получиться, что она, обычно такая осторожная, впустила убийцу?
– Да откуда же я могу знать, кто знал? Да любой! Здесь же невозможно скрыть отъезд – соседи, дворники – все видят. Посмотрите какой двор! А вот впустить постороннего, да еще ночью она не могла. Строга была еще почище меня. Нельзя – значит нельзя, – говорил каким-то пришибленным голосом Беккер.
– Скажите, Беккер, а как насчет ключа от витрины – его легко было отыскать среди других? Может, Сарра его при себе носила?
– Нет, нет, он был в общей связке, висел на задней стнке шкафа. Да чужой и не открыл бы витрину.
– Это почему же?
– Да там замок с изъяном, не зная хитрости, его открыть нельзя. Только три человека и могли с ним справиться – я, Сарра и хозяин.
– А что за хитрость можете объяснить?
– Язычок полностью не утапливался если ключ поворачивать обычным макаром. Поэтому если просто сделать четыре оборота ключом. витрина останется запертой. Чтобы открыть замок последний оборот ключа надлежало сделать как бы с ударом, с определенным усилием. Наблавтыкаться надо, так просто не получится.
Иванов и стоявший подле Гаевский обменялись быстрыми взглядами; оба подумали об одном и том же – Миронович, рассказывая об исчезнувших из витрины вещах, ни словом не обмолвился о секрете замка. Ничего хорошего для Мироновича в этом не было.
– Скажите, а вы ничего странного не замечали в последнее время за хозяином?
– Странного? – озадаченно посмотрел на полицейских приказчик. Слёзы его высохли, лицо приняло привычное искательное выражение, – Да. Он подарил Сарре золотые серёжки.
Беккер сказал это и замолчал, выжидательно глядя на сыщиков. Видя, что те встрепенулись и явно заинтересовались, приказчик уже смелее продолжил:
– Это было примерно с неделю назад. А еще до этого я как-то раз зашел в помещение кассы и вижу: хозяин сидит в кресле, а Саррочка у него на коленях и он ее взасос целует в губы…
– И как он среагировал на то, что вы так некстати появились?
– А никак, – Беккер смешался, затеребил пальцами край своего сюртука, – Я тихонько вышел и прикрыл за собой дверь. Но тогда клиентов было – ни души, – как бы оправдался он, хотя было непонятно как присутствие или отсутствие клиентов могло повлиять на проявление естественной отцовской реакции на увиденную сцену.
– А какие отношения были у Мироновича с Саррой?
– Ну, знаете, Иван Иваныч – большой охотник до женского полу, особенно до молоденьких. У него, знаете ли, уж третья жена, вернее сожительница. С первой прожил 20 лет, детей нажил, оставил ее, нашел помоложе себя на 16 лет, с ней тоже пятерых родил, теперь вот живет с третьей, еще моложе прежней, значит. Да и помимо этого он еще успевал на стороне поамурничать. Вот. А Саррочка – девочка красивая… у меня… была…, – он опять начал шумно дышать, словно был готов заплакать. – Он с ней вольности всякие, разговорчики да поцелуйчики… иногда позволял.
– Какие такие разговорчики?
– Ну, так я не упомню… Такие… заманчивые. А после того случая я стал ее бранить, дескать, ты уже не маленькая, тебе уже 13 лет, а она мне ответила: «Что я стану делать, когда он вяжется ко мне, призвал меня к себе, обнял и стал целовать». При этом добавила: «Ну его к черту, он мне надоел, отправь меня лучше в Сестрорецк».
– Пристав, подайте, пожалуйста, трубу с кухни, – обратился Иванов к Рейзину и когда тот принес обрезок газовой трубы, показал его приказчику, – Скажите, Беккер, а вам знакома эта труба?
Приказчик мельком взглянул на неё:
– Да, обрезок валялся на кухне, за плитой. Вы думаете, это им её? … Скажите, – вдруг спохватился он, а вы нашли саррочкино портмоне?
– Что за портмоне? – тут же уточнил Иванов.
– Ну, такое, детское, из плюша с вышивкой. Она его всегда с собой носила, там и денежки свои держала.
– И много денег?
– Да нет, что вы, – замахал руками приказчик, – сущая ерунда, на леденцы… копеек 50, не больше.
Но никакого портмоне ни рядом с трупом, ни в карманах одежды погибшей, ни вообще где-либо в квартире найдено не было.
Илья Беккер еще долго причитал, шумно сморкался, но ничего существенного больше сообщить не смог.
– Итак, что мы имеем, – решил подытожить начало расследования прибывший на место преступления следователь прокуратуры.
Александр Францевич Сакс был крупным, холёным, в меру ретивым блондином, с тем своеобразным апломбом, что так был присущ известной части остзейских баронов. Он был еще молод – 31 год – не так давно закончил юридический факультет столичного университета и весь горел служебным рвением, возможно, показным. С первого взгляда на этого помощника прокурора чувствовалось, что он имеет хороший жизненный план, от исполнения которого не отойдёт ни на йоту и никаким жизненным обстоятельствам, случаям и препонам не позволит себе помешать.
Сейчас Сакс закончил составление протокола осмотра места преступления и собрал сыщиков в штатском, пристава, приехавшего полицейского врача Горского в одной из задних комнат кассы, чтобы провести по его собственному выражению «летучее совещание». Поскольку комната была нежилой и стульев там оказалось всего два, присутствующие разместились кто где смог: на подоконнике, на тумбочке, а пристав вообще опустил свой крепкий зад на хрупкий ломберный столик.
– Уголовное дело возбуждено, я назначен следователем, – буднично начал Александр Францевич, – Работать будем много, но быстро и в хорошем контакте, – Сакс стрельнул глазами в сторону пристава и Рейзин понимающе кивнул в ответ, – Господин пристав, начнём, пожалуй, с Вас: что там у нас относительно паспортного режима семьи погибшей? Как-никак, семья из иудеев…
Рейзин живо привстал, одёрнул обшлаги своего синего полицейского кителя. Он, видимо, чувствовал себя чрезвычайно польщенным тем обстоятельством, что следователь начал именно с него.
– Погибшая – Сарра, дочь Ильи Беккера – учтена в нашем участке по паспорту отца 8 июля минувшего года, – бодро отрапортовал пристав, – Паспорт трёхлетний, выдан лодзинским полицейским управлением. Сарра, дочь Ильи от первого брака. Крещена в православие, как и отец, как и все члены второй семьи Ильи Беккера. Так что никаких нарушений, в смысле самовольного оставления черты оседлости, касающейся иудейского населения, нет.
– Прекрасно, – кивнул Сакс, – Можно считать, что одной проблемой у нас меньше. Не хватало нам только на Невском проспекте непрописанных иудеев, правда? Теперь давайте послушаем нашего доктора…
– Пока я могу говорить только в сослагательном наклонении, – начал Горский, – Определеннее выскажусь после анатомирования. Погибшая хорошо развита телесно, никаких признаков недоедания или побоев на, так сказать, бытовой почве. О возможной половой жизни ничего пока сказать не могу. Что касается обстоятельств смерти, то налицо душение, доведенное как minimum до второй степени и, открытая черепно-мозговая травма. Что ж тут сказать, повреждения тяжелые, говорящие сами за себя.
– Что можно сказать об орудии преступления? – спросил Сакс.
– Это не тот обрезок газовой трубы, что был найден на кухне. На нём нет следов крови, а кроме того, круглый отпечаток, хорошо различимый на лице жертвы, не соответствует размеру трубы.
– Тогда чем же ее ударили?
– Чем-то круглым, либо округлым, весьма тяжелым, с диаметром закругления от полутора до двух дюймов. А что именно это за предмет вы сами должны мне сказать, – доктор пожал плечами. – Я лично теряюсь в догадках.
– Может, бутылка? – предположил Гаевский.
– Может, гантеля? – тут же спросил Иванов, – Что это за бутылка с диаметром донышка два дюйма?
– Узкая бутылка из-под венгерского за два рубля с полтиной, – мгновенно отреагировал Гаевский, – И не делай вид, Агафон, будто не знаешь.
– Из-под венгерского за два с полтиной имеет диаметр донышка два дюйма с четвертью, – уверенно парировал Иванов, – Сия бутылка явно не подходит. А вот гимнастическая гантеля подходит.
– О какой гантеле ты говоришь? – не без ехидства уточнил Гаевский, – Каучуковой, что ли?
Иванов не успел ответить.
– А может, это какая-то техническая деталь, – с умным видом высказался Черняк, – Какая-нибудь шаровая опора?
Все замолчали, ожидая, что Черняк продолжит, но тот тоже молчал.
– Вопрос в том, какая? – спросил его Горский.
– Ну… не знаю, – пожал плечами Черняк.
– Викентий, я тебя умоляю, ты только молчи, – не сдержался Гаевский, – не говори ни слова, не путай!
– Господа, тише, – примирительно поднял руку Сакс, – для нас важно то, что на месте преступления не найдено предмета, которым был нанесен фатальный удар. Очевидно, убийца его унес. И мы не можем пока даже предположить, что это был за предмет. Все согласны? Очень хорошо. Господин доктор, что вы можете сказать о душении жертвы?
– Как я сказал, душение доведено до второй стадии, на что указывают следы фекалий, найденные на белье…
– Умоляю, избавьте нас от физиологических подробностей, – перебил говорившего Сакс.
– Отчего же, – подскочил с подоконника Гаевский, – В них-то самая соль! Это означает, что убийца душил жертву не менее минуты, а скорее всего гораздо больше, ибо он не смог сразу перекрыть ей воздух и для этого ему пришлось засовывать девочке в горло платок. Все это время – минуту-две-три – она отчаянно боролась, возможно, травмировала нападавшего, поскольку погибшая была сильной девочкой. У неё обломаны ногти! Доктор, Вы скажете нам о том, что у погибшей обломаны ногти?! Вот что для нас важно, господин Сакс! А вы говорите «избавьте нас от деталей»!
Помощник прокурора открыл было рот, но не найдя аргументов, молча его закрыл. Тирада Гаевского произвела на всех присутствующих сильное впечатление как своей неожиданностью, так и содержанием. Лишь один флегматичный Иванов, видимо, давно привыкший к эмоциональным всплескам своего коллеги, остался равнодушен к услышанному.
– Господин Гаевский иногда бывает слишком горяч и даже страстен, но это не мешает ему говорить порой дельные вещи, – пробормотал Иванов, – Насчет ранения нападавшего я, пожалуй, соглашусь. Это мог быть укус.
– И если мы осмотрим подозреваемого… – Гаевский замолчал, не окончив мысли.
– В том случае, разумеется, если у нас будет таковой, – отозвался Иванов, – Но не будем перебивать доктора!
Горский несколько секунд молчал, видимо, потеряв нить рассуждений.
– М-да, так вот, – наконец, заговорил он, – Я извлек платок из трахеи девочки, он передан господину следователю, и, насколько я понимаю, оказалось, что платок принадлежал жертве…
– Да, на нем вышивка «Сарра Б.», – кивнул Сакс, – Кроме того, платок опознал отец погибшей.
– Полагаю, убийца осуществлял душение руками, во всяком случае выраженной странгуляционной борозды я не увидел. Определеннее выскажусь после осмотра при лучшем освещении. Сам характер душения – при помощи платка и руками – мне представляется несколько необычным. Но это, полагаю, уже поле сыщиков, а не медиков. Ну, а насчёт обломанных ногтей, то… да, ногти девочки обломаны. Но не факт, что убийца оцарапан. Вы же понимаете, что покойная могла обломать ногти о грубое сукно платья преступника, об обивку кресла, наконец…
Никто не стал возражать доктору. Тот говорил здравые вещи.
– Что можно сказать о часе смерти? – спросил доктора следователь.
– Девочку убили поздним вечером, об этом говорит тот факт, что тело уже остыло, а кровь успела подсохнуть. Как вы все знаете на это требуется примерно 12 часов, с поправкой на температуру воздуха, конечно. Полагаю, смерть наступила до двух часов ночи. Определеннее я скажу, понаблюдав за развитием и последующим снятием трупного окоченения. Ну, кроме того, надо посмотреть на содержимое желудка.
– Прекрасно, сегодня же я назначу комиссию, которая будет проводить вскрытие. Тело повезут в детский морг в больнице принца Ольденбургского, будете работать там. Если назначить вскрытие назавтра, на 10 часов утра, вам будет удобно? – спросил Сакс.
– Да, вполне.
– Прекрасно, я тоже подъеду к этому часу на Лиговку, хочу поприсутствовать.
– Еще один момент, – сказал врач.
– Внимательно слушаем.
– Поскольку рана головы серьезна, обширна и имеет принципальное значение для понимания причины смерти, то, полагаю, потребуется декапитация, – сказал Горский.
– То есть, Вы отрежете голову? – уточнил Сакс.
– Думаю, без этого не обойтись. Конечно, решение будет коллегиальным, но думаю, мнение остальных судебных медиков будет таким же.
– Хорошо, действуйте, – кивнул Сакс.
– Но… – Горский запнулся, – тут есть нюанс. Захоронение тела без головы потребует закрытого гроба. Не будет ли эксцессов на этой почве?
– А, это, – Сакс равнодушно махнул рукой, – Эксцессов не будет, работайте спокойно. Что ж, полагаю, мы услышали достаточно. Не будем задерживать господина Горского.
Доктор, раскланявшись с присутствующими, покинул комнату. Следователь продолжил:
– Создается впечатление, что убийство совершил некто, кого погибшая сама впустила в помещение кассы. Ничто не указывает на попытку взлома входной двери, либо работу отмычкой. Сарра вряд ли пустила бы незнакомого человека! Можно предположить, что смелость убийцы объяснялась тем, что он знал, что в эту ночь девочка останется ночевать одна – и без отца, и без дворников. Далее. Убийца запачкался в крови убитой, ибо не запачкаться не мог, когда душил жертву. Господин Гаевский совершенно справедливо заметил, что процесс душения был растянут во времени. Но запачкавшийся кровью убийца, судя по тому, что он не оставил следов крови ни на витрине, ни на столе, ни на каких других предметах в квартире, вымыл руки. Сие указывает на то, что он действовал спокойно и хладнокровно. Замечу: касса все это время стояла незапертая и теоретически в нее в любой момент мог кто-нибудь войти. Далее: убийца сумел отыскать ключи, которые отнюдь не были на видном месте, а были спрятаны. Он стал рыться в столе и доставать вещи из витрины, причем справился с замком, секрет которого знали только двое, кроме самой жертвы, к тому времени убитой! Далее: преступник аккуратно загасил керосиновую лампу, сделав это, вероятно, во избежание пожара. Возражения есть?
Присутствовавшие переглянулись. Никто ничего следователю не возразил.
– Хорошо, – кивнул Сакс, – Тогда пойдем далее. Все вышеизложенное указывает нам на человека: а) хорошо знакомого жертве, б) знающего, что девочка остаётся на ночь одна, в) сумевшего отыскать спрятанные ключи и открыть хитрый замок витрины, г) не боящегося появления на месте преступления постороннего лица и, наконец, д) заботящегося о сохранности вещей в кассе более, чем о сокрытии улик, коему прекрасно мог бы послужить пожар от лампы. Странный набор качеств для обычного грабителя, не так ли?
– Убийца – дилетант, – веско подитожил Иванов, – Кроме того, он не очень силен физически.
– Опытный в таких делах человек, даже слабый телесно, действовал бы иначе, – кивнул молчавший до того пристав, – Стал бы бить головой об стену… А так, гантелей по голове, да притом еще и душить. Дилетант однозначно!
– Да уж, наш убийца оказался человек страстный, – усмехнулся Гаевский, – Осталось только назвать его по имени.
– Так у нас же еще есть клок волос преступника, – вдруг вспомнил Черняк, – они были зажаты в руке убитой! По волосам мы живо его отыщем. Я сейчас, – с этими словами Черняк бросился вон из комнаты.
Вернулся он через минуту с виноватым видом, держа в руке слегка помятый лист бумаги.
– Вот, положил на подоконник, чтоб на него случаем никто не уселся, а его ветром сдуло. Наверно, когда форточку открывали, – пролепетал он. В эту минуту сыщик был похож на побитую собаку.
– Шта-а-а?! – следователь даже задохнулся от гнева. В течение, наверное, полуминуты он молча поедал глазами Черняка и наливался багровым румянцем, казалось, его сейчас хватит кондрашка, – Вы хотите сказать, что извлекли из руки погибшей улику и оставили ее без присмотра, в результате чего оная оказалась утеряна?!
– Ну да… Я представлю рапорт… Я проводил осмотр, дабы подготовиться и приступить к составлению протокола…
– На каком таком основании вы вообще полезли проводить осмотр без протокола и без участия назначенного следователя?! – казалось Сакс сейчас ударит вызвавшего его негодование сыщика, – Вы искали ценные вещи? Вы спешили их обнаружить до того, как они будут описаны протоколом?
– Помилуй Бог, – Черняк испуганно перекрестился, – В чем Вы меня подозреваете… И в мыслях не держал… Я руководствовался статьей… статьей 258 Устава…
Гаевский, до того молчавший, с шумом выдохнул воздух и пробормотал себе под нос досадливо: «молчал бы ты, Викентий!», до такой степени ответ Чернякя был неудачен. 258-я статья Устава уголовного судопроизводства допускала составление протокола осмотра места преступления и некоторые иные следственные действия чинами полиции только в порядке исключения, когда скорое прибытие назначенных для следствия работников прокуратуры было невозможно, а промедление грозило утерей улик. Эта статья могла быть применима в отдаленной местности, либо в случае производства следственных действий под открытым воздухом, когда непогода могла уничтожить важные следы. Очевидно, что обстоятельства убийства в ссудной кассе в самом центре столицы ни в коей мере не подпадали под действие 258-й статьи. Именно поэтому следователь и заподозрил, что Черняк затеял осмотр с единственной целью: поживиться чем-нибудь ценным до того, как начнется формальная работа по описи имущества и фиксированию следов на месте преступления.
Сакс развел в сторону руки, словно намеревался обнять Черняка, и воззрился на него немигающим взглядом:
– Это не лезет ни в какие ворота. Я официально доложу о происшедшем. И этот факт найдет отражение в протоколе осмотра. Вас, господин коллежский секретарь, после этого инцидента просто-напросто надо увольнять из сыскной части.
Александр Францевич уселся на стул и замолчал, видимо, потеряв нить рассуждений. Выглядел он очень подавленным, было видно, что следователь расстроился ничуть не меньше виновника происшествия.
– Какими хоть были эти волосы: отдельные волосинки или прядь? длинные – короткие? темные? светлые? крашеные? – спросил Иванов.
– Нет, такие короткие, меньше двух дюймов. Ну и цвет такой… темный, – пролепетал Черняк, – Ну, как бы темный… Определенно сказать не могу, не рассматривал, думал, все равно эксперт будет работать. Но точно помню, что волосы были, не как у убитой.
– Да это и ежу понятно, что они были не как у убитой. Не из своей же собственной головы она их надёргала! Но смысла кипятиться нет, – спокойно рассудил Иванов, – В конце-концов, впервой, что ли? Раньше не теряли, можно подумать. Отыщем и без волос… Хотя, конечно, казус.
После продолжительной паузы, собравшись с мыслями, следователь продолжил свои рассуждения:
– Итак, возвращаясь к нашей высокой ноте. Все изложенные мною выше соображения указывают на человека, близкого к кассе ссуд, хорошо знающего обстановку и знакомого девочке. Таковых не могло быть много по определению. Но это только одна версия, исходящая из того, что ограбление действительно имело место. А если все не так? Возможно, никакого ограбления и не было, ведь о пропаже вещей мы знаем только со слов хозяина. Возможна иная версия: девочку убил Миронович после попытки изнасилования, а про пропажу вещей сказал, чтоб от себя отвести. Ведь зачем-то же были приставлены стулья к дивану? В общем так, господа сыскари: надо опросить всех соседей, выяснить поминутно, чем занимались Миронович и Сарра весь остаток вчерашнего дня и вечера. Проверить alibi хозяина, просчитать все возможные маршруты от кассы до его квартиры на Болотной. Ну и само собой, обратить внимание на дворников, вы без меня знаете, что порой именно дворники грешат грабежом с убийством.
Прошло еще не меньше 2-х часов, пока приехал большой крытый черный возок, называемый в просторечии труповозка. Трое пахнущих сивухой санитара-богатыря поднялись в квартиру и забрали тело девочки. Илья Беккер, до той минуты гладивший мраморные руки дочери, порывался поехать вместе с санитарами в морг, но его довольно грубо оттеснили и объяснили, что к телу допуска он более не получит. Несчастный отец понял сказанное так, будто ему даже не позволят похоронить любимое чадо. Он едва не подрался со старшим из санитаров; пришлось вмешаться приставу Рейзину, который разъяснил Беккеру порядок его дальнейших действий. Предстояла процедура медицинского освидетельствования трупа, до проведения которой никто к телу доступа иметь не будет, кроме, разумеется, назначенных прокуратурой анатомов. Только после этого Илье Беккер разрешат похоронить дочь.
Пристав благоразумно ничего не сказал о том, что полицейский врач планировал отделить голову трупа, что соответственно, предполагало похороны в закрытом гробу. Для отца подобное сообщение было бы слишком жестоким ударом и тогда бы рукопашной схватки точно избежать не удалось бы.
Последний неприятный момент произошел тогда, когда санитары, погрузив тело в возок, вернулись в помещение кассы и, представ перед Ильёй Беккером этакими мутноокими богатырями, горестно попросили: «Отец, шкалик бы за работу, а-а?» При этом один из санитаров, тяжко вздохнув и бодро шмыгнув носом, добавил от себя: «Мы оченно скорбим».
Пристав снова вмешался в происходящее, взял старшего санитара за локоток и зашипел: «Ты с кого шкалик требуешь, обормот? Ты не видишь, что дело казённое? Может, ты ещё мне скажешь, чтоб я вам налил? П-т-с-с, брысь отсюда, казна российская на шкалик не подаёт!»
После того, как тело убрали с кресла, где оно пролежало всю ночь, полицейские внимательно осмотрели кровяной подтёк на парусиновом чехле. Затем чехол с кресла был снят и взглядам сыщиков предстало кровавое пятно на обивке сиденья, повторявшее очертаниями пятно на чехле.
– Поглядите-ка, кровь прошла через чехол и запачкала обивку. И, что интересно, контуры обоих пятен в точности совпадают, – многозначительно сказал Черняк.
Он изо всех сил пытался быть полезным и, стремясь загладить свой досадный промах, к месту и не к месту комментировал происходившее.
– Ну да, – ответил задумчиво Рейзин, вглядываясь в очертания почти почти сухого и ставшего кирпично-бурым пятна, – Действительно совпадают. А что это может означать? – Он перевел взгляд в окно. Было видно, что он не ждет ответа, а потому что задал вопрос самому себе, и сам же на него ответил:
– А это значит, что с того момента, как кровь стала вытекать из раны на кресло, обивка под телом не смещалась.
– И что это нам дает? – тихо спросил его помощник Дронов.
– Ничего, – ответил ему помощник прокурора, осматривавший кресло, – Либо, наоборот, очень многое.
– Например то, что кресло не было местом убийства, – быстро закончил мысль Гаевский.
– Посмотрим, там видно будет, – уклончиво пробормотал помощник прокурора и, обратившись к писарю, добавил, – А пока что, голубчик, занеси в протокол: при рассмотрении кровяных пятен на льняном чехле и обивке кресла отмечена их идентичность по месту расположения, размеру и форме.
Опрос свидетелей полиция начала с дворников. Петербургские дворники – это особая когорта людей, совершенно необходимых большому и сложному городскому хозяйству. Дворники не только следили за чистотой вверенных им домов и дворов, но и обеспечивали порядок и покой горожан. Каждый двор закрывался воротами, которые запирались на ночь. Чтобы ночью войти во двор, необходимо было разбудить дворника. Парадный подъезд, как впрочем и все прочие выходы на улицу, тоже запирался на ночь. В каждом доме устанавливалось дежурство дворников по парадной лестнице, чтобы впускать опоздавших жильцов. От внимания дворника не могли укрыться перемещения жильцов, и именно дворники следили за соблюдением паспортного режима – в течение суток с момента появления нового жильца они должны были забрать у вновь прибывшего паспорт и отнести его в околоток для регистрации. Если с жильцами или их имуществом происходила какая-либо неприятность – первым делом на место происшествия вызывался дворник. Обыкновенно в эту категорию работников домохозяева набирали крепких мужчин из отставных солдат. Это были глаза и уши полиции, её первейшие и самые надежные помощники.
В день, когда стало известно о гибели Сарры Беккер, опрашивать местных дворников отправился помощник пристава Дронов.
В доме №57 по Невскому проспекту дворников было аж трое – Анисим Щеткин, Варфоломей Мейкулло и Иван Прокофьев. Расположившись в дворницкой вокруг помощника пристава на табуретах, они охотно принялись вспоминать вечер накануне убийства, 27 августа. Но… мало что смогли рассказать. Беда заключалась в том, что работники метлы и совка отмечали в тот день именины Варфорломея и «запраздновались» до двух часов ночи. И по этой весьма понятной причине к своим прямым обязанностям отнеслись без надлежащего усердия.
По правилам, в 22 часа Иван Прокофьев должен был запереть ворота во двор. Если же кто-то из своих приходил после означенного часа и желал либо попасть во двор, либо выехать из двора то такому запоздалому путнику надлежало позвонить в дворницкую, благо ручки механических звонков были выведены как на Невский проспект, так и во двор. Иван Прокофьев, убедившись, что звонит знакомый ему человек, должен был выйти и отворить ворота. Таким образом, дворник должен был бы видеть всех, кто входил во двор или выходил из двора после 10 часов вечера. Однако, то, что было гладко в теории, на практике выглядело несколько иначе. Иван Прокофьев, как и полагается на праздниках, так напробовался «горькой», «полынной», «табуретовой» и «семихинской», что при всём напряжении памяти не смог даже вспомнить, запирал ли он вообще ворота на ночь.
Его напарник, именинник Варфоломей Мейкулло в ночь с 27 на 28 августа должен был дежурить в парадном подъезде. В отличие от простодушного Ивана Прокофьева, он твёрдо заявил помощнику пристава, что «отчётливо помнит как запер подъезд». Разумеется, такая твёрдость памяти показалась Дронову подозрительной и он заявил о своём недоверии словам Варфоломея. Дворник, почесав задумчиво колтун в волосах на макушке, после некоторой паузы уточнил, что подъезд он запер с некоторым опозданием, а именно, в 23 часа.
Поскольку помощник пристава продолжал сомневаться в точности сказанного, полагая, что дворник просто «порет отсебятину» из страха получить от полиции нагоняй, Мейкулло добавил к своим словам примечательное уточнение: во время дежурства в подъезде он видел, как несколько позже 21 часа Сарра вышла на Невский проспект. Девочка перешла проезжую часть и явно намеревалась войти в мелочную лавку, но тут рядом с нею остановилась коляска, из которой вышла молодая женщина в шляпке с вуалью и желтым шелковым зонтиком. Эта женщина подозвала Сарру, поговорила с ней минут пять, после чего опять села в коляску и уехала. Сарра же спустилась в мелочную лавку, расположенную в цокольном этаже, потом вышла и вернулась во двор.
– Как же ты мог пить в дворницкой и при этом сидеть в подъезде? – не унимался Дронов, не поверивший рассказу Варфоломея.
– А так: забегал, рюмашку хлоп! и обратно в «скворешник», – объяснил Мейкулло, – В дворницкой храпел Иван, а он когда спит, воздух портит неимоверно, рядом находиться невозможно. Вот я и убегал от него.
– То есть, вот так и метался туда-сюда?
– Ну да, так и метался, – кивнул Мейкулло.
– И сколько раз за вечер ты так бегал?
– Ну, раза три-четыре…
– Пять, – добавил Дронов.
– Может и пять. Но не больше.
– И спать не ложился? И как твой дружок Прокофьев без задних ног не дрых до утра? – с нескрываемым скепсисом продолжал уточнять Дронов.
– Говорю же, не дрых, – стоял на своём Мейкулло, – Во-первых, я пью только «полынную». Во-вторых, заедаю ее перчиком. Рюмашку «полынной» и перчик красненький, о-па-а! – ноги пьяные, а голова тверёзая, глаз видит четко, ухи слышат ясно и весь я отчётливый.
– Ну-ну, отчётливый ты наш, пойдем, посмотрим на «скворешник», – предложил Дронов, – Покажешь мне, где Сарра стояла, где пролетка остановилась.
Мейкулло в сопровождении двух других дворников отвел помощника пристава в небольшую комнатенку, два окна которой выходили на Невский проспект. Комнатка, в которую можно было попасть через дверь под парадной лестницей, находилась в цокольном этаже здания, ниже самого низкого из жилых этажей. Как такового подвала дом не имел: сказывалась близость Фонтанки и малая глубина горизонта грунтовых вод. В отличие от просторной дворницкой, выходившей окнами во двор, это узкое, как школьный пенал, помещение именовалось «скворешником». Мейкулло показал на столик возле окна, стул подле него и поклялся, что сидел вчера вечером на этом самом месте.
Дронов уселся на стул, поглядел в окошко и вынужден был согласиться, что место на углу Невского проспекта и Троицкой улицы, где по словам дворника Мейкулло погибшая и стояла, было хорошо видно.
– Ну, ладно, – кивнул помощник пристава, – считай, что убедил меня. Ты раньше видел эту женщину?
– Из пролетки, что ли? – не понял Варфоломей, – Откель? Нет, никогда…
– А лицо разглядел?
– Да ну-у, какое лицо, – махнул рукой дворник, – Я же говорю – в шляпке она была, с вуалью. Зонтик такой дурацкий, жёлтый, шелковый, от солнца. А какое тут солнце, сплошные дожди! Еще юбка у нее была такая… в крупную клетку. По-моему, называется «шотландка».
– А цвет какой юбки? – не унимался Дронов.
– Зелёная с черным, вроде.
Никаких больше ценных сведений из него выудить не удалось.
После этого Дронов подступился с расспросам к старшему из дворников. Анисим Щёткин накануне вечером ушел в гости к своей знакомой – благо был его выходной день – и вернулся только рано утром. Благодаря этому обстоятельству он находился в лучшем положении, чем его напившиеся коллеги. Кроме того, Анисим был в прекрасных личных отношениях с Дроновым, которому несколько лет назад помог в задержании очень опасного преступника. А такие вещи, как известно, полицейскими не забываются: готовность рискнуть головой ради долга во все времена дорого стоила.
– Анисим, когда ты вернулся, гаврики эти спали? – спросил Дронов.
– Спали, Филофей Кузьмич, – со вздохом согласился Щёткин, – Прости их, Филофей Кузьмич, а-а? Ужо я им ухи ободру, а ты прости всё же дураков, а-а?
– Ворота стояли открытые? – Дронов словно не слышал Щёткина.
– Точно так-с, но их и должно открывать в 6 часов.
– А ты, Анисим, когда вернулся?
– Думаю, позже. Шесть на вокзале часы били, когда я Знаменку пересекал. Ну, и здесь еще минут с десяток ходу.
Дронов принялся дотошно выяснять, когда уходил из кассы Миронович. И Щёткин, и Прокофьев вспомнили, как Миронович почти сразу после 21 часа прошёл в ворота на Невский проспект – домой направлялся. Мейкулло, дежуривший тем вечером в парадном подъезде, тоже видел Мироновича, выходящим из подворотни на Невский проспект и направлявшимся прогулочной вальяжной походкой в сторону Знаменья, площади перед Николаевским вокзалом. Больше они его не видели до сегодняшнего утра.
Выслушавший все эти рассказы дворников помощник пристава Дронов поднял указующий перст на Щёткина и со сдержанной яростью в голосе проговорил:
– Ворота ваши оставались открытыми всю ночь. Хоть лбы свои разбейте, а в обратном меня не убедите! Вас, оболдуев таких, поставили дворниками в доме на главной улице Империи; в вашем доме убили ребёнка, а вы пьяные валялись и дело своё не блюли! Если б Государь Император Александр Второй – Царство Ему небесное! – не отменил телесные наказания, я бы самолично вызвался зады ваши отстегать! Прощения вам быть не может, – подытожил Дронов, – Обо всём доложу следователю, ждите, паразиты, взыскания!
Никто из дворников не сказал в оправдание ни слова. Да и что тут можно было сказать, всем было ясно, что будь ворота надлежащим образом закрыты, убийцу Сарры Беккер отыскать было бы куда как проще.
А длинный августовский день шёл между тем своим обычным чередом: во двор высыпала привезённая с загородных дач детвора, въезжали и выезжали повозки то с мебелью, то с какой-то деревенской снедью, то с дровами для каминов дорогих бельэтажных квартир. Постоянно появлялись то торговцы мелочью, то точильщик ножей, сновал по квартирам лоточник-зеленщик. Двор пятьдесят седьмого дома был хоть и небольшой, но в него выходило множество окон – преимущественно кухонь и задних комнат. В этих комнатах могла спать многочисленная прислуга владельцев богатых апартаментов, расположенных в двух нижних этажах пятиэтажного дома. Кроме того, во двор выходили окна спален дешёвых квартир верхних этажей, поскольку двор по определению был местом более тихим, чем Невский проспект. Все те, кто мог находиться ночью в этих комнатах являлись для следствия потенциальными свидетелями и с каждым из полицейским следовало поговорить.
Черняк ходил по квартирам, опрашивал жильцов: вдруг кто-то что-то видел вечером или ночью. Вместе с Черняком ходили и двое полицейских в форме, хотя их интересовало совсем не то, что сыщика. Полицейские, забрав у домоправителя домовую книгу, сличали внесённый в неё списочный состав проживающих с фактически пребывающими в квартирах лицами. Делалось это для того, чтобы исключить возможность проживания в доме (и участия в убийстве Сарры Беккер) разного рода беспаспортных лиц: деревенской родни, бродяг и т. п. Дело это было муторное, долгое, требовавшее многословных объяснений, однако, для розыска совершенно необходимое.
Скорняк Петр Лихачев, стоявший в это время перед дверью в дворницкую, дожидался вызова на допрос. Строго говоря, формальный допрос его следователем должен был состояться на следующий день, сейчас же его намеревался опросить помощник пристава, но для Лихачёва сие обстоятельство было совсем неважно. Всем входящим в подъезд, даже тем, кто его вовсе ни о чём не спрашивал, скорняк загадочно пояснял: «Велено находиться здесь. Да-с… ожидаю приглашения к допросу». Лихачёв весь измаялся от любопытства и ожидания, для его непоседливого характера это было настоящей пыткой. Он очень обрадовался, когда наконец в дворницкую вернулся помощник пристава Дронов.
– Заходи! – приглашающе махнул он скорняку, – Скажи мне, Пётр, зачем ты явился в кассу Мироновича в такой час?
Преисполненный важности от сознания того, что он, быть может, является главным свидетелем по делу (потому как кто же, как не он, Петр Лихачёв, обнаружил труп!?), гордый тем, что ему есть о чем порассказать, Лихачёв принялся отвечал на вопросы Дронова старательно и многословно.
– Так за работой же и пришел. Я у него вообще-то частенько шью в кассе, знаете, как бывает? – подлатать что-то из меха. Скорняки мы… Люди шапки, шубы сдают, иногда вещи починки требуют, вот меня, значит, Иван Иваныч тогда и зовет. Но правда, я еще вчерась к нему приходил. Он меня сам позвал давеча, а вчера когда я к нему пришел в семь часов вечера, он меня быстренько выпроводил, говорит недосуг мне сейчас, уходить должен срочно и кассу запру. Так что, говорит, завтра поутру придешь.
– Тпру-у, подожди! Говоришь, вчера в семь вечера Миронович тебя выпроводил? Сказал, что кассу запирает? – уточнил помощник пристава.
– Так точно-с.
– Так во сколько это было?
– В семь часов пополудни.
– А ты ничего не путаешь? Точно в семь?
– Да точно так-с, не вру. Я когда к дому подходил, в аккурат колокола на церкви били, а я звон их знаю.
– И что же, Миронович действительно ушел?
– Дак я ж не видел, другой работы у меня здесь не было, вот я и не задержался, домой отчалил.
Дронов помолчал какое-то время, обдумывая услышанное.
– Скажи, Пётр, – доверительно наклонившись к свидетелю заговорил, наконец, он, – а каков был Миронович с покойной девочкой, с Саррой, то бишь: ласков ли, строг ли?
– Ласков был, даже оченно! Тут недели две назад такой случай вышел, – скорняк тоже понизил голос и украдкой оглянулся по сторонам, – Сижу я, значит, в кассе, на кухоньке, работаю. Так, хурду-мурду всякую тачаю… горностаевую пелеринку, – уточнил на всякий случай он, – Иван Иваныч Миронович тут же сидит, чай пьет. Заходит Сарра и говорит хозяину, что леденцов для его деток купила – и подает ему коробочку плоскую и сдачу в кулачке. А он ее так ласково-ласково по головушке погладил и в проборчик поцеловал.
– А как она на это отреагировала?
– Глазки потупила, а более ничего. Потом, когда она ушла, я спрашиваю у хозяина, у Мироновича то есть, зачем это Вы, дескать, делаете, она же ещё дитё совсем. А он так засмеялся и говорит: «Может быть, потом пригодится».
Ещё минут пять Дронов расспрашивал Лихачёва, но больше ничего существенного скорняк сообщить не мог. Помощник пристава предупредил скорняка, чтоб из города тот не отлучался и не позабыл явиться завтра к назначенному часу к следователю Саксу для официального допроса. Впрочем, последнее напоминание было лишним, сомнений в том, что скорняк примчится на допрос не было; Лихачева буквально распирала гордость от собственной причастности к такому невиданному приключению.
Между тем Черняк нашел интересную свидетельницу. Её была кухарка Рахиль Чеснова, готовившая для Беккеров. Она жила в этом же дворе, правда, по другой лестнице, арендуя маленькую тёмную комнатёнку на последнем этаже. Это была молодая ещё женщина, черноволосая и востроглазая, быстрая в движениях и острая на язык. Отвечая на вопросы Черняка, она металась по просторной кухне, где у нее в чугунках и кастрюлях что-то булькало, шкварчало, дымило. То и дело забегал на кухню кто-нибудь из детей, которых у нее оказалось трое, дергал мамашу за подол и получал то кусочек французской булочки, то яблоко, то чернослив.
– Да, я знала Саррочку, она была хорошая девочка, рассудительная, скромная, никогда ничего дурного за ней не замечалось. И при том совершенное дитя! – рассказывала сыщику Чеснова, – Тут соседский Колька канарейку на блошином рынке купил, так она эту канарейку из ложки поила. А как семейство их в Сестрорецк перебралось, она каждый день за кушаньями приходила. Я, знаете, живу тем, что людей кормлю: сейчас вот большой ремонт в бельэтаже рязанская артель ведёт, я всех и обслуживаю, девять душ. Так что и десятого человека накормить для меня не проблема. Саррочка как зайдет, бывало, так и примется рассказывать мне про свое житьё-бытьё. Да и то сказать – без родной матери растёт… росла, то есть… а с мачехой-то не ахти как ребёнку сладко. Сам-то Беккер, хоть и добрый человек, а одно слово – рохля, подхалим, все лакейничал перед хозяином. Саррочка мне жаловалась, что Миронович ей всё рассказывал о своих любовницах, да о том, что он со своей женой не живет и что у него несколько любовниц. Разбойник, говорит, ненавижу его.
– За что она его ненавидела? – поинтересовался Черняк.
– Про то не сказывала, врать не буду. Он хотел, чтоб Саррочка в кассе жила, а она говорит… говорила, то есть… что ей даже жалованья не надо – лишь бы не оставаться в кассе. Только из-за старика-отца и работала. Лучше бы, говорит, в Сестрорецк уехать или даже целый день сидеть и работать, скажем, швеёй, чем жить в кассе ссуд.
– А в день убийства Сарра тоже сюда заходила?
– Да, ненадолго. Нарядная такая была! Платьице на ней праздничное, сапожки. Только грустная что-то очень была, говорит, тоска заела.
– А отчего тоска, не объяснила?
– Нет, не объяснила. Мне сказала, что и сама не понимает. Может, просто чувствовала свою близкую кончину? Ох-хо-хо… Сказала, накануне просила отца, когда он в Сестрорецк собирался, чтоб отвез ее туда, а он ей так ответил, что она и повторить не решилась.
– А потом?
– А что потом – ничего. Простилась и ушла.
– А о предстоящем вечере ничего не говорила?
– Нет, не говорила.
– А Мироновича вы вчера видели?
– Нет, во дворе с ним не сталкивалась, а в окно мне смотреть недосуг – видите же, какая у меня круговерть!
– Вот что, Рахиль, всё, что Вы говорите весьма важно. Вас пригласит к себе господин прокурорский следователь и Вы ему всё расскажите, вот как мне сейчас.
– Когда же это будет? – поинтересовалась Чеснова.
– К Вам явится квартальный, либо его помощник и сообщит о дне и часе допроса, скажет куда явиться и кого найти – одним словом, всё объяснит. Ваша задача всё правильно выполнить и повторить этот рассказа.
– Мы люди маленькие, закону не перечим, коли надо, так явимся и повторим.
Спускаясь по черной, пропахшей кислыми щами лестнице, Черняк представил себе, как вот точно так же вчера шла по этой лестнице Сарра Беккер – маленькая еврейская девочка, у которой сердце сжималось от необъяснимой тоски. Может, и в самом деле человеку дано почувствовать свою близкую смерть? А может, она всем нутром чувствовала угрозу, исходящую от хозяина? Черняк был очень рад тому обстоятельству, что появился важный свидетель и что именно ему, Викентию Черняку, довелось его отыскать.
3
Между тем важнейшим моментом расследования была проверка alibi хозяина ссудной кассы. Следователь Сакс отрядил на это дело Гаевского с Ивановым. Те взяли извозчика, на котором и проехали весь путь из кассы на Невском до дома номер 4 по Болотной улице, где квартировал Миронович. Вообще в Петербурге Болотных улиц было пять, а кроме них также два Болотных переулка и даже Болотный проток; Миронович жил на Болотной, расположенной в Московский части, в тихом питерском районе, известном под названием Коломна. Чистое время езды до его дома составило 23 минуты, правда, как рассказывал Миронович, он не сразу поехал домой, а какое-то время провёл на Невском проспекте, разговаривая со знакомыми. Стало быть на эти 23 минуты следовало накинуть еще сколько-то.
– Надо будет знакомцев Мироновича отыскать и порасспросить, долго ли они языки на Невском чесали, – заметил Гаевский, отпустив извозчика.
– А я о другом подумал, – ответил Иванов, – Видишь, подъезд к дому очень неудобен. Надо бы на конке проехать.
– Извозчик всегда быстрее конки.
– Ну да, ну да, – покивал Иванов, – только русские не зря говорят: прямо короче, а в обход быстрее. Так что обратную дорогу проделаем на конке.
На Болотной Миронович жил в большом доходном доме, занимая просторную квартиру во втором этаже по парадной лестнице. Осмотрев дом снаружи, сыщики отправились за квартальным надзирателем и сначала порасспросили его о Мироновиче. Квартальный ничего толком сказать о ростовщике не смог, что само по себе было и неплохо; с его слов стало ясно, что Миронович не напивался, не буянил, никогда не шумел, столкновений с полицейской властью не имел.
Затем, в сопровождении квартального сыщики направились в квартиру ростовщика.
Как оказалось, вместе с ним проживала мещанка Мария Фадеевна Фёдорова и двое их детей. По всему было видно, что в доме царит достаток и жизнь в нём течет сытая и упорядоченная. Мария Фадеевна была ещё молодой и притом весьма привлекательной женщиной, о таких говорят – «бабёнка в соку» – она была пышнотела, румяна, имела прекрасную кожу. По-видимому, её нисколько не тяготило положение неофициальной жены, она выглядела и вела себя как настоящая купеческая жена. Пригласив визитёров из полиции к столу в большой зале, она кликнула прислугу, девочку Машу:
– Сбегай в дворницкую за самоваром. И Надежде скажи, пусть сладости несёт: пастилу, зефир, пряники, господа чай будут пить!
Маша, нескладный подросток с лицом сплошь усеянном конопушками, со всех ног помчалась исполнять приказание, и через пару минут самовар уже дымил на столе, уставленном раной снедью.
– Угощайтесь, господа, у нас чай особенный, с липовым цветом. А вот и варенья накладывайте: брусничное, малиновой, вишня, – хозяйка услужливо подвигала к гостям узорные стеклянные вазочки, – Хотя, что же это я? Сейчас по рюмашечке коньяку сделаем, а ежели господа не откажутся, то можно и по две!
– Нет-нет, мы коньяку не будем, – моментально отозвался Гаевский, – у господина Иванова изъязвления желудка, а у меня полипы на гортани… но вот господину квартальному надзирателю, пожалуй, рюмашечку можно.
Квартальный, явно смущенный тем обстоятельством, что сыщики отказались выпить, тоже принялся отнекиваться, но Гаевский его остановил:
– Ты не артачься, выпей. Мы с господином Ивановым в окно будем смотреть, скажем, что ничего не видели.
Квартальный явно не понимал манеры Гаевского шутить с серьезным лицом и потому терялся.
– Да я уж знаю-знаю вашу службу полицейскую. – с улыбкой отозвалась Фёдорова, – Мой Иван Иваныч тоже в полиции послужил изрядно. Неплохое место. Впрочем, человеку с головой везде будет тепло, правда ведь? А коньяк, кстати, очень хорош, Иван Иванович в нём толк знает…
На столе появился хрустальный графин с полуштофом жидкости чайного цвета.
– А в каком чине ваш муж вышел в отставку? – поинтересовался Иванов.
– Ой, этого я вам точно не скажу. Но форма ему оченно даже шла к лицу. Вы его видали? Он собой мужчина представительный. – женщина говорила охотно, как человек, нашедший, наконец, благодарного слушателя.
– Хороша у вас квартира, Мария Фадеевна, – начал издалека Гаевский, – А сколько платите?
– Пятьдесят пять рублёв и за полгода вперёд, тогда домовладелец даёт хорошую скидку, – отозвалась Фёдорова, – Мы с Иван Иванычем живём на этой квартире всего-то год с небольшим, а до этого жили на Невском, там сейчас касса ссуд. Это вообще-то было моё помещение, батюшкино наследство, но Иван Иваныч говорит, давай откроем ссудную кассу, место проходное, Невский проспект, вокзал неподалёку, публика богатая ходит… Что ж, вот и открыл. А и то сказать – предприятие доходное, надёжное! Не прогадали!
– Хороший доход даёт касса? – подкинул новый вопрос Гаевский.
– Да, хороший. Нам на жизнь хватает. Не бедствуем.
Сказанное было правдой. Во всем облике этой квартиры, с ее парчовыми гардинами, хрусталём в полированной горке, зеркалах в оконных проёмах, столовом серебре, с которого хозяйка потчевала гостей, ощущались сытость и полное довольство жизнью.
– А что, касса требовала много сил? – не унимался Гаевский.
– Как и всякое серьёзное дело. Сначала сами вертелись, потом Иван Иваныч нанял приказчика, и стало полегче. Но все равно он целыми днями там пропадал. Уедет, бывало часов в полдевятого утра, а приедет – уж ночь на дворе, часов в 10, а то и 11 вечера.
– А вчера он во сколько вернулся?
– Да так же, в 10 с хвостиком. Мы уже отужинали. Я Машку за самоваром в дворницкую послала. Он переоделся в халат, обувь переменил и вышел к столу. Я еще чуток с ним посидела, да и спать пошла, а он тут еще оставался, чай пил, с Машкой разговаривал.
– Вы уж меня извините, Мария Фадеевна, что в душу лезу, – с улыбкой проговорил Гаевский, – но раз уж заговорили об Иване Ивановиче, так скажите: он с прислугой добрый человек? не обижает домашних-то?
– Не-ет, не обижает. Не та у него натура. Строг, конечно, требует чтоб лишних свечек не жгли, да хозяйство чтоб разумно велось – так на то ж он и хозяин дома! А детям и гостинцев всегда привезет, и меня не забудет. Слова плохого о нём никто не скажет.
– А вы знали Сарру, дочку приказчика?
– А на что она мне? Я в кассу не езжу, в дела мужа не суюсь. Слышала, что убили ее. Жалко, конечно, девочка ещё совсем была.
Гаевский стрельнул глазами на Иванова. Последний, сидевший до того с отсутствующим видом, мгновенно оживился.
– А от кого Вы это слышали? – спросил Иванов.
– Так Иван Иваныч заезжал домой пообедать и рассказал, как кассу ограбили. И про дочку Беккера тоже. Дело-то такое… как смолчать!
Сыщики мгновенно переглянулись.
– А когда же это он приезжал? – поинтересовался Иванов.
– Да недавно, часу ещё не прошло. Похлебал зелёного супа без хлеба и даже не прилёг после обеда, умчался куда-то. Сказал, что дело, видно, на месяц-другой придётся прикрыть, пока касса будет опечатанной стоять. Поехал в газету объявление давать о досрочном возврате залогов. Видимо, это необходимо.
– Да, таков порядок. Касса не сможет какое-то время работать и залоги следует предложить клиентам досрочно выкупить, – кивнул Иванов, а потом неожиданно перескочил на другое, – Скажите, а как Вы время определяете?
– Так вот же ходики, на стене висят.
– И Вы пришли в эту комнату и на них посмотрели, когда Иван Иваныч вчера вернулся?
– Да нет, – смущенно отвела глаза Мария Фадеевна, – я вчера на них и не смотрела вовсе. Просто знаю, что все было, как обычно, как каждый вечер бывает. Вот и все.
– Мария Фадеевна, а отчего вы живете невенчанные? Уж простите меня за такой вопрос, но наверное, многие интересуются… – продолжал расспрашивать Иванов.
Нить разговора перешла к нему. Его манера вести беседу резко отличалась от манеры Гаевского: сухо, без улыбки он выстреливал мало связанные между собой вопросы и как будто даже не слушал ответы. Подобное впечатление, разумеется, было неверным; просто выработанный многими годами опыт научил его скрывать от собеседника конечную цель своих расспросов.
– Да что уж… Кому б другому не простила. Но вы-то я знаю, не из пустого любопытства интересуетесь – работа у вас такая. А не венчаны потому, что он уже венчался, да только с женой уже давно не живет. Но вы не подумайте ничего такого – он ей даёт на содержание, и детям тоже. Чай, не чужие, своя кровь. А мне и не жалко. У него до меня еще одна жена была, уже после той, первой. И её с детьми он тоже не пустил по миру. А иначе и не по-христиански вовсе!
– Что ж вы, такая молодая, красивая женщина, сошлись с таким… в годах уже…
Мария Фадеевна хитро и довольно глянула на сыскного агента и, сложив губы трубочкой, подула на поднесенный в блюдце чай. Выдержав паузу, она проговорила кокетливо:
– Да разве в мужчине важна молодость? Я вот раньше чего хорошего в жизни видала? В няньках у чужих людей служила. А теперь вот у меня и дом, и детки, и муж. Ну, разве что не венчанный… А вообще Иван Иваныч – мужчина хоть куда, даром что усы седые. – она мелко засмеялась, показав ровные белые зубы.
– А как он был вчера одет?
– В то же, что и сегодня. Одежду не сменил.
Предупредив сожительницу Мироновича о возможном вызове на допрос к следователю, полицейские откланялись и вышли во двор. Отослав квартального на розыск местных дворников, Гаевский повернулся к Иванову:
– Что-то много у нас проколов, Агафон. Как же это может быть, что Миронович спокойно ушёл с места преступления и предупредил домашних, а-а? Куда пристав смотрел?
– Пристав сидел на ломберном столике, – усмехнулся Иванов, вспомнив «летучее совещание», устроенное Саксом, – Но это, конечно, бардак какой-то. Главное состоит в том, что Миронович обернулся туда-сюда и никто из полицейских в кассе не заметил его отсутствия. А ведь он должен был отсутствовать не менее часа!
– Хороший у него тыл, правда? – спросил Гаевский, имея в виду поведение Фёдоровой.
– Я в этом даже не сомневался. К этой женщине через сожителя пришло богатство. Она его не сдаст.
Дворницкая располагалась в самом углу двора в полуподвальной комнате, изгибавшейся буквой «Г». Одна дверь в нее вела из-под лестницы первого этажа подъезда, а другая – со двора. Несмотря на настежь открытые форточки, в ней было душно от трех закипавших самоваров, установленных в ряд на длинной печи. Солнце совсем не проникало в тёмные оконца, выходившие в тесный двор, застроенный дровяным и каретным сараями.
Дворников оказалось двое, оба лет пятидесяти, рослые, немногословные.
Старший из них, Егор Шишкин, смуглый мужчина с насупленными черными бровями, придававшими ему хмурый вид, возился с печкой, и отвечал на вопросы полицейских словно по принуждению, вяло. Младший, вызванный квартальным с улицы, примостился на колченогом табурете, смотрел на визитёров выжидающе.
– Да, г-н Миронович вернулись вчера в 22.30. Это точно, – уверенно сказал Шишкин.
– Вы на часы посмотрели? – Иванов демонстративно оглядел помещение. Никаких часов не было в помине. – Откуда время-то могли знать?
– Напротив нас, через дорогу – гостиница «Александрия», так её как раз на ночь запирали. А они всегда закрываются в пол-одиннадцатого.
– Ну, хорошо, а сам Миронович в каком расположении духа был? разговорчив?
– Да я его только через окошко и видел, – подал голос сидевший на табурете дворники, – У него от парадной свой ключ, он сам вошёл. Я ещё и говорю Егору – счас за самоваром пришлют. И точно!
– А он что, пешком был, не на извозчике?
– На извозчике он не часто приезжает. К нам подъезд неудобный. Чаще всего Миронович пешком от остановки конки ходит, – продолжал отвечать младший дворник, – Иногда, правда, на своем шарабане ездит. Он тут у нас, во дворе в каретном сарае обычно стоит. Но вчерась господин Миронович был пешком- это точно.
– Ты его хорошенько разглядел? – Иванов повернулся к дворнику всем телом.
– Да как сказать «хорошенько»? Темно уж было, а у нас фонарь перед подъездом когда зажигается, светит входящему в спину, лица не особенно видно.
– Так что, ты не уверен? Может и не он был?
– Почему не уверен? Уверен. Вроде он. По всему, по фигуре, по одежде…
– А ворота на ночь закрываете? – неожиданно спросил Гаевский.
– Конечно-с, как же без этого? Никто не войдет с улицы, пока мы засов не отопрем.
– А выйти со двора можно?
– Вообще-то да. И выйти, и даже выехать. Потому что изнутри и в воротах и в калитке есть крюк, который любой выходящий может открыть.
– Ну-ка, пошли, покажешь где шарабан Мироновича стоит! – скомандовал сыскной агент.
В сопровождении обоих дворников полицейские вышли во двор, подошли к большому квадратному каретному сараю. Из четырёх больших двустворчатых дверей лишь одна закрывалась новым навесным замком; перед ней-то дворники и остановились. Иванов подошел, неизвестно зачем подёргал его за дужку, хотя и так было ясно, что замок исправен.
– Открывай! – коротко скомандовал он.
– Никак нельзя-с, – с достоинством ответил Шишкин, – Без ведома хозяина открыть не имею права. Вот кабы разрешение…
Иванов только плечом повёл:
– Открывай, говорю!
Дворники стояли не шелохнувшись.
– Шишкин, ты откуда родом? – поинтересовался Иванов.
– Люберецкие мы, из Подмосковья.
– Я тебе обещаю, что отселю тебя из Питера в двадцать четыре часа в административную ссылку, – спокойно проговорил Иванов, – И не в Люберцы, и даже не в Олонец, а… знаешь куда?
Дворники молчали. Иванов, казавшийся до того расслабленным и похожим на ленивого толстого кота, вдруг стремительно и с неожиданной силой ударил старшего дворника ладонью в ухо, да так, что опрокинул здоровенного мужика на четвереньки. Шишкин только охнул да схватился обеими руками за повреждённое ухо.
– Ты, Шишкин, кому чинишь помеху? Агенту сыскной полиции при исполнении им служебных обязанностей… Я ж тебя, дурака, в порошок сотру.
Обернувшись ко второму дворнику, немо наблюдавшему за происходившим, Иванов негромко скомандовал:
– Эй, ты, живо тащи ключи!
Повторять более не пришлось. Через минуту дверь была открыта. Гаевский и Иванов внимательно осмотрели лёгкую одноосную коляску, стоявшую внутри, развешенные в разных местах элементы упряжи, разложенный на большом столе слесарный инструмент. В принципе, ничего подозрительного сыщики не нашли, по-настоящему их заинтересовали только двери. Недавно смазанные петли позволяли массивным створкам двигаться абсолютно беззвучно. Гаевский до такой степени заинтересовался этим открытием, что несколько раз их полностью открыл и закрыл. В конце-концов он поцокал языком и пробормотал:
– Честное слово, восемь лет живу в Петербурге, а первый раз вижу в каретном сарае такие двери!
Покончив с осмотром оба сыщика вышли из сарая.
– А где содержится лошадь, которую Миронович в шарабан запрягает? – спросил Гаевский у младшего дворника.
– Да вот тут же и стоит, – дворник указал рукой на соседнюю постройку, – Трое наших жильцов имеют свои экипажи, все кобылы тут. У Мироновича каурая двухлетка, справная лошадка!
Дворник Шишкин уже стоял на ногах, придерживаясь за ушибленное ухо рукой. Он с ненавистью посмотрел на полицейских. Гаевский, перехвативший его взгляд, не без издёвки заметил:
– Считай, что легко отделался, Шишкин. Сыскной агент Агафон Иванов был лучшим кулачным бойцом во Пскове, через этот свой талант и в Питере устроился. Глаз у него верный, а кулак – пудовый. Когда убийца с погонялом Петька Кирпатый напрыгнул по дурости на Агафона с кулаками, тот ему одним ударом пять зубов выбил и челюсть в двух местах сломал. Так что считай, что Агафон тебя просто погладил.
Выйдя за ворота, открытые в этот дневной час, сыщики отпустили квартального и остановились, решая куда направиться далее: в Управление сыскной полиции на Гороховую улицу, назад в ссудную кассу, в полицейскую часть или к следователю в прокуратуру. Уже первые шаги по расследованию принесли неожиданные открытия, о которых надлежало сообщить Саксу.
– Что же это получается, – рассудил Иванов, – Миронович вышел из кассы в 21 час с минутами, а домой приехал только в 22.30. Езды тут всего минут 20, ну, от силы – 30. Где же он болтался все время после выхода из кассы?
– Кроме того, в его распоряжении оказалась пролётка, – отозвался Гаевский, – Ума не могу приложить, зачем она нужна при его работе.
– М-да, и шарабан-то на ходу, в прекрасном состоянии, оси в солоде, запрячь кобылу – дело двух минут.
– И ворота какие ладные.
– Мироновичу, чтобы метнуться ночью на Невский и конка не нужна была.
Поговорив ещё немного, сыщики разделились: Гаевский отправился на Гороховую, доложить об обстоятельствах дела по убийству Сарры Беккер, а Иванов поехал конкой на Невский проспект, в надежде отыскать помощника прокурора в ссудной кассе.
Интуиция не подвела сыскного агента. Александр Францевич Сакс действительно оказался в ссудной кассе, которая во второй половине дня сделалась своеобразным штабом розыска «по горячим следам». Иванов появился как раз в ту минуту, когда вернувшийся с обеда следователь принимал первые доклады полицейских, обходивших жильцов дома.
– Александр Францевич, есть свидетельница, которая утверждает, будто Миронович «вязался», как она говорит, к убитой, – бодро рапортовал Черняк, – Это кухарка Рахиль Чеснова, с ней Сарра каждый день общалась.
– На какой почве они общались? – уточнил Сакс.
– Мачеха Сарры была в отъезде, в Сестрорецке, и Сарра столовалась у Чесновой.
– У меня та же картина, – присовокупил помощник пристава Дронов, – Скорняк Лихачев подтверждает, что Миронович обхаживал девочку, оказывал ей особые знаки внимания.
– Ай да Миронович, – следователь покачал головой, – Бес в ребро, так что ли?
– Есть ещё интересные показания: две соседки, – Черняк заглянул в свой небольшой блокнот, сверяясь с записями, – некие Любовь Михайлова, белошвейка, и Наталья Бочкова, шляпница, у них своя мастерская в этом же дворе, но по другой лестнице, рассказали, что Миронович очень большой любитель женского полу – ни одной юбки не пропустит. И к ним тоже цеплялся – а они дамочки видные – проходу им не давал – то в мастерскую заявится – и не выставить его, – то в помощники набивается. Только они его отшили.
– И давно это было? Я имею ввиду – когда отшили? – уточнил Сакс. Он что-то быстро записывал карандашом в толстую линованную тетрадь в переплёте из кожи с каким-то замысловатым тиснением.
– Говорят, по весне. Так вот, – продолжал Черняк, – особенно Миронович падок до молоденьких, над ним так даже за глаза все посмеивались, что такой даже на сноху готов залезть.
– У Вас что-то есть? – следователь обратился к ещё одном помощнику пристава, по фамилии Чернавин, который тоже принимал участие в обходе квартир.
– Да, Ваше превосходительство, есть интересные показания одного соседа, у него еще фамилия такая… чухонская… – казалось, Чернавин с трудом разбирает собственные записи в блокноте, – … а-а, вот, Казимир Лацис, он тоже из отставных, но только не полицейский, а военный, штабс-капитан, проживает по парадной лестнице в бельэтаже. Так вот, он хороший знакомец Мироновича. И тот вчера днем к нему заходил. Они разговорились, то да сё, слово за слово… Лацис спросил Мироновича: где, дескать, ночуешь сегодня? в кассе? А тот ответил: «Да нет, дворника посылаю». А сегодня днём, уже после того, как девочку нашли, Лацис опять с Мироновичем столкнулся на проспекте, случайно, и спросил: «Как же так? Девочку убили, а где же дворник был?» И Миронович простодушно так отвечает, что дворника он, оказывается, не посылал. Лацис этому крайне поразился и стал дальше спрашивать – как же, дескать, ты мог оставить ребенка одного в кассе на ночь? На что Миронович и ответил: «Да она сама сказала, что никого присылать не нужно». Но Лацис считает такой ответ совершенно неубедительным.
– Очень хорошо, очень хорошо, – следователь что-то быстро писал в свою тетрадь, – Всех этих людей обязательно будем допрашивать. Так… а кто у нас ходил к бывшей сожительнице Мироновича?
Черняк поднял вверх зажатый в руке карандаш:
– Я ходил. Анна Яковлевна Филиппова, бывшая ремесленница, живет в доме 51 по Невскому проспекту. С Мироновичем прожила лет 15 или 16, их связь началась, когда он еще жил с женой. От Филипповой у него пятеро детей. Филиппова подтверждает показания Мироновича относительно некоторых обстоятельств вчерашнего вечера. Она действительно встретила его 27 августа после 9-ти часов вечера на Невском. Он шел не торопясь, как бы прогуливаясь, в сторону Знаменской площади, а она ему навстречу, в сторону Аничкова моста. Остановились, поговорили.
– Они договаривались о встрече? – уточнил Сакс.
– Нет, совершенно случайно встретились. Они вообще, как я понял, часто виделись, поскольку соседи, почитай, через два дома живут.
– И о чем говорили?
– Она сказала – «потрындели за жизнь». Что-то там по поводу старшего сына, его в ремесленное учение определили, так она денег попросила на форму – занятия, говорит, через 3 дня начинаются, а китель и пальто форменные мальчишке не пошиты.
– И что, Миронович дал денег?
– Дал. Она вообще характеризовала его как человека не скупого и даже щедрого, особенно по первости, покуда жил с ними. Потом, уже уйдя к новой сожительнице, меньше стал давать на детей, но голодные и разутые они никогда не ходили. И за учение троих старших платит. М-да, так вот, сначала они просто постояли на тротуаре, а потом он пошел её до дому проводить. Так, за разговорами, и дошли. Он ей показался веселым, довольным.
– А дальше?
– А дальше она вошла в свой двор, ворота были еще не заперты. Она видела, как её бывший сожитель заговорил с неким портным по фамилии Гершович, тот как раз проходил по тротуару Невского. Миронович знает Гершовича много лет, свою одежду обыкновенно заказывал у него. И вроде бы Миронович повернул назад, но в этом Филиппова не уверена. Что происходило после этого, она не знает. Ах, да, еще говорила, ревнив был очень. Как порох загорался, если кого из мужчин рядом с ней видел.
– Ревнив, стало быть? – протянул Сакс задумчиво, – Так далеко можно зайти. Может и Сарру к дворникам ревновал, оттого и перестал их звать? Нафантазировал там себе насчёт девочки. Ревность, она ведь, знаете ли, не лечится…
В комнате повисла тишина. Слышно было, как о стекло бьётся муха, а за окном кто-то нудно рассказывал, как его пытались обсчитать в трактире.
– Как Вы, господин Иванов, съездили на Болотную? – обратился следователь к молчавшему до той поры сыскному агенту.
– Результат двойственный, – ответил сыщик, – Во-первых, оказалось, что Миронович вернулся сегодня домой до нашего появления, – он сделал паузу, давая присутствующим время проникнуться важностью этого известия, – Поэтому сожительницу его, Фёдорову Марию Фадеевну, мы врасплох не застали. Хотел бы я знать, почему Мироновичу позволили покинуть место преступления? Впрочем, теперь это сугубо риторический вопрос. Фёдорова утверждает, будто Миронович появился на Болотной вчера чуть позже 22 часов, а примерно в 22.30 лёг спать. Во-вторых, мы установили, что в каретном сарае во дворе дома на Болотной стоит лёгкий одноосный шарабан, на котором Миронович частенько разъезжает. Двери каретного сарая хорошо смазаны, думаю, запрячь в него ночью лошадь и незаметно выехать со двора не составит труда. При известной сноровке, разумеется.
– Ай да Иванов! – Сакс откинулся на спинку стула и, не удержавшись, прихлопнул от удовольствия в ладоши, – Молодцы сыскари, хорошо отработали! Считай, вы Мироновича нам на блюдечке поднесли.
– Ну, покуда не поднесли. Его еще «колоть» надо.
– Ещё что-то интересное нашли?
– Можете отметить в своих записях, что по нашему хронометражу дорога от ссудной кассы до дома на Болотной улице, в котором проживает Миронович, занимает 23 минуты, если ехать на извозчике и 27 минут, если воспользоваться «конкой» со Знаменской площади.
– Прекрасно-прекрасно, – пробормотал Сакс, делая записи в своей тетради, – Давайте теперь подведём первые итоги. Дело нам попалось, господа, неординарное. Совершено жестокое… даже больше того: беспрецедентно жестокое убийство 13-летней девочки и есть все основания подозревать похоть в качестве основного мотива этого убийства. Случилось это не где-нибудь на выселках, а в престижной части столицы Империи. О произошедшем поставлен в известность Государь Император, выразивший пожелание видеть это убийство раскрытым в кратчайшие сроки!
Сакс торжественно выдержал паузу и обвёл присутствовавших внимательным взглядом. Следователь в эту минуту упивался происходящим. Даже самому тупому, самому ограниченному полицейскому сейчас должно было стать ясно, что тот шанс карьерного прыжка, который появился теперь, выпадает всего раз в жизни, да и то далеко не каждому. Самые высокие чины министерств юстиции и внутренних дел будут пристрастно и взыскательно следить за расследованием убийства Сарры Беккер; за результаты его будет серьезный спрос, но будет и большая награда.
– Для каждого должностного лица, прикосновенного к расследованию, благоприятный исход оного будет иметь самое немаловажное значение, – добавил Сакс и опять замолчал. Что подразумевалось под «благоприятным исходом» каждый мог судить как ему заблагорассудится.
– Определённо можно заключить, что к убийству Сарры Беккер прикосновенно лицо неслучайное. – внушительно продолжил следователь, – Мы уверены в том, что в доме не проживали незарегистрированные лица. Сие ограничивает круг подозреваемых сравнительно небольшим количеством мужчин, знакомых как с организацией работы кассы, так и с жертвой преступления. Напомню, что Сарра самочинно запустила убийцу внутрь помещения. Очевидно, в круг подозреваемых попадают дворники дома номер 57, а также сам хозяин кассы. Некоторые вопросы вызывает поведение отца покойной, но покуда Илья Беккер имеет в наших глазах надёжное alibi, связанное с его отсутствием в городе в момент убийства дочери. Возможно, уже завтра, по получении ответа от полиции Сестрорецка, мы будем знать точно, подтверждается ли это alibi фактически.
Сакс выдержал новую внушительную паузу. В этом человеке явно умер большой трагик. Может быть, помощник прокурора не очень хорошо умел выражать свои мысли, но вот молчал он на редкость выразительно.
– Начало расследования было омрачено весьма неприятными… м-м… казусами. Я имею в виду и утерю волос, зажатых в руке жертвы, и бесконтрольное оставление Мироновичем кассы, что позволило ему предупредить свою сожительницу о скором визите полиции… Но дело имеет все шансы быть раскрытым. Выражаю надежду на то, что слаженная работа всех, прикосновенных к расследованию должностных лиц, позволит впредь избежать повторения подобных инцидентов.
Всё сказанное произнесено было подчёркнуто многозначительно. Сполна насладившись произведённым эффектом, следователь самым будничным голосом отдал распоряжения, касавшиеся планов назавтра.
День клонился к вечеру. Из открытой форточки потянуло сыростью. Лето уже кончилось. И хотя днем еще иногда проглядывало солнце, оно было уже обманчивым – не таким высоким, не таким горячим. А вечерами становилось уже совсем прохладно. Начиналась самая печальная, самая гнусная питерская пора – промозглая осень. Впрочем, для тех людей, кто занимался расследованиями убийств в силу своей профессиональной обязанности, любой сезон года был одинаково печален.
4
Насколько давеча Александр Францевич Сакс излучал всем своим видом многозначительность и важность, столь же растерянным он выглядел к полудню следующего дня, когда явился в Московскую полицейскую часть для снятия официальных допросов с вызванных к этому часу жильцов дома №57. По пути в полицию он заехал на Лиговский проспект, дом №8, в детскую больницу принца Ольденбургского, где ему пришлось присутствовать при весьма тягостной процедуре анатомирования тела Сарры Беккер. Служебный долг требовал от следователя своими глазами проследить за всеми манипуляциями прозектора и убедиться в наличии всех тех повреждений, которые врачу-анатому впоследствии надлежало указать в протоколе вскрытия. Сакс честно пытался свой долг исполнить, но когда дело дошло до декапитации (отделения головы), Александр Францевич извинился перед присутствующими и покинул морг, чтобы назад уже не вернуться.
Впрочем, не только эта мучительная процедура испортила настроение брезгливого следователя. Куда неприятнее оказалась содержательная часть анатомирования, его результат. Хотя протокол осмотра трупа к полудню 29 августа, разумеется, еще не был оформлен, основные результаты вскрытия доктора изложили Саксу устно. Они-то и повергли Александра Францевича в тягостное недоумение.
Пройдя прямиком в кабинет Рейзина, следователь поинтересовался, явились ли вызванные к полудню Анна Филипова, Рахиль Чеснова, Любовь Михайлова и Наталья Бочкова. Услышав положительный ответ, Сакс распорядился:
– Приглашённые пусть ждут, а Вы пригласите пока сюда сыскных агентов.
Когда в кабинете расселись Гаевский, Иванов, Черняк и Рейзин, Сакс заговорил тихо и задумчиво:
– Я, господа, приехал прямо с анатомирования. Новости, признаюсь, несколько неожиданные. Вкратце, результат сводится к следующему: Сарру Беекр не насиловали, причиной смерти явилось удушение рвотной массой. Убийца, проталкивая в горло жертве носовой платок, спровоцировал рвоту. Она-то и привела к тому, что девочка задохнулась. Вместе с тем, рана на голове признана несомненно смертельной. Собственно, как таковых ран, причинённых округлым тяжёлым предметом с затупленными краями, аж даже три. Убийца трижды ударил девочку этим тяжёлым предметом. И непременно убил бы, если бы она не задохнулась раньше. Далее: за левым ухом рваная рана, если точнее – надрыв кожи. Доктора предположили, что убийца держал жертву за уши. Вы все были на месте преступления и видели обстановку там. Думаю, согласитесь, что убийство было процессом не скорым. Повторюсь, никаких следов изнасилования не обнаружено.
Сакс задумался, намереваясь, очевидно, что-то добавить, но вместо этого лишь пробормотал:
– Будут какие-то мысли по этому поводу?
– Может быть, на половых частях девочки найдены потёртости? – тут же отозвался Гаевский, как всегда быстрый на язык и чрезвычайно сообразительный, – Может быть, убийца осуществил не классический половой акт, а какие-то иные манипуляции?
– Нет, ничего такого, – ответил Сакс.
– Вы уверены, что нет никаких повреждений, скажем, заднепроходного отверсия? Может быть, есть какие-то следы спермы на лице, шее или руках девочки? – не унимался Гаевский.
– Я же говорю: ничего такого. Анатомов было четыре человека, плюс прозектор. Один контролировал другого. С лупами осмотрели всё тело, работали досконально, никто не полагался на соседа. Дело на контроле и градоначальника, и полицеймейстера столицы, я об этом предупредил врачей. Так что, на их заключение можно полагаться. Более того, упреждая возможные в будущем обвинения в недостаточной точности осмотра, я потребовал консервации в формалине половых частей погибшей: у тела вырезали и анус, и вагину, так что любой медицинский эксперт может убедиться в точности заключения.
Сакс замолчал, нервно постукивая пальцами по крышке стола.
– Я не знаю, что и думать. Вы все видели позу трупа: изнасилование – это очевидное предположение! – наконец, воскликнул он.
– Труп имел ту позу, которую ему придал убица, – здраво заметил Иванов, – Давайте зайдём с другой стороны: изнасилования нет, но отменяет ли это похоть, как мотив нападения?
– Если преступник сделал жертве непристойные предложения и она… – вдруг заговорил Гаевский, перебивая Иванова, но последний неожиданно резко осадил его:
– Владислав! Не трынди, дай сказать!
Гаевский моментально умолк. А его друг и напаник продолжил свои рассуждения спокойным, негромким голосом:
– Можем ли мы предположить, что преступник руководствовался побуждениями похоти, но сопротивление жертвы изменило его планы? Очевидно, да. Например, в процессе борьбы жертва нанесла насильнику удар в пах и сия неприятность сделала изнасилование в тот момент невозможным… Владислав, поправь меня, если я неправ.
– Ты прав, – коротко ответил Гаевский.
– Спасибо, я это знаю. Есть и другое обстоятельство: возраст преступника.
– Объяснитесь, – попросил Сакс.
– Господин следователь, давайте называть вещи своими именами: у нас есть хороший подозреваемый. Я бы даже сказал: отличный подозреваемый. Это Миронович. Мужчина в возрасте за пятьдесят. Половая функция слабеет. Да, когда-то он был ретив и горяч и не одну юбку не пропускал мимо, но теперь… теперь-то инструмент сточился. Похоть Мироновича нуждается в искусственной стимуляции: Мироновичу нужна настоящая опытная шлюха, дабы привести его плоть в боевое состояние. Вместо этого он видит испуганную, отчаянно сопротивляющуюся девочку. Куда уж тут до постельных подвигов!
– Всё складно, Агафон, – заметил Гаевский, – Только мы ничего не знаем о половой слабости Мироновича. Зато мы уже достаточно слышали о его половой силе.
– А-а, – отмахнулся Иванов, – Это всё творимые легенды. Миронович не может смириться со своей половой слабостью и потому продолжает по инерции волочиться за всеми и сразу. Но я уверен, он сам уже боится того, что получит согласие на свои предложения.
– Ну да, – подхватил Сакс мысль сыскного агента, – Есть даже такая, знаете ли, гламурная шутка: делая непристойное предложение даме будьте готовы к тому, что она согласится! Да-да-да, господин Иванов, Ваша мысль мне показалась очень разумной!
Сакс выглядел странно возбуждённым и при том, чрезвычайно довольным. Он откинулся на спинку стула и поднял обе руки вверх, призывая всех к молчанию. Впрочем, присутствовавшие и так молчали:
– Господа, давайте остановимся на следующем: мы не отказываемся от версии, согласно которой похоть убийцы явилась мотивом убийства. Полностью согласен с высказанной здесь мыслью о том, что у нас фактически уже есть хороший подозреваемый. Хотя предложу покамест воздержаться от высказываний на сей счёт при посторонних. Соответственно, наши задачи я вижу в следующем: во-первых, господин Черняк при помощи полицейских в форме заканчивает в кратчайшие сроки опрос всех обитателей дома номер 57. Я подчеркиваю – ВСЕХ, – Сакс произнес это с нажимом, обведя присутствующих немигающим взглядом, – что означает не только тех, кто живет там постоянно, но и тех, кто приходит в этот дом на работу или был в гостях в тот злополучный вечер 27 августа. Во втором этаже, я видел, идёт большой ремонт: обратите внимание на артельщиков, меня интересует где они ночуют, что едят, как обстоят дела с их паспортами, учтены ли? где учтены? Далее, господин Черняк, по-прежнему в Ваш огород камень: необходимо опросить швейцаров, дворников, уличных торговцев и вообще обитателей домов в округе по Невскому проспекту. Наверняка, кто-то видел Мироновича тем вечером, как он шел по Невскому. Сожительница Мироновича сообщила о том, что он после разговора с нею вроде бы вступил в беседу с неким портным… кажется, Гершовичем, – следователь сверился со своими записями, – Да, именно так. Этого Гершовича надо непременно найти, пусть подтвердит или опровергнет слова Филипповой. Надо в точности восстановить маршрут Мироновича и затраченное им на дорогу домой время. Господин пристав, поручение Вам: во всём оказывать всестороннюю помощь агенту Черняку. Людьми и так далее. Чтобы жалоб на несогласованность действий или обоюдное недопонимание не поступало. Третье: железная дорога на конной тяге. Дворник дома на Болотной заявил, будто Миронович вернулся на конке. Прекрасно, будем проверять. Господин Гаевский, Вам надо взять расписание и проехать этим маршрутом, засечь время, опросить кондукторов, установить, во сколько именно ехал Миронович.
В дверь постучали и тут же бодро вошёл вошел младший чин, с явным намерением что-то сказать приставу Рейзину. Тот зашипел на подчинённого:
– П-т-с…! Ну-ка, за дверь!
Полицейский тут же шмыгнул обратно.
– Далее, – Сакс задумался, – очень бы хотелось кое-что прознать о прошлой жизни Ивана Ивановича Мироновича. Это уже к Вам, Агафон, – следователь посмотрел на Иванова, – Вы у нас человек очень дотошный, недоверчивый, при всём том, собеседника к себе расположить умеете. Вам, как говорится, и туз в манжете. Поищите… Служебный формуляр, конечно, документ интересный, но мне требуется нечто… м-м… выходящее за рамки формуляра. Понимаете меня?
– Так точно-с, г-н следователь, – отозвался Иванов, – Постараюсь сделать всё в лучшем виде.
– От помощников пристава я хотел бы сегодня, чтобы они доставили мне Мироновича. Скажем, к шестнадцати часам. Мы устроим ему маленькое освидетельствование, для чего пригласим и полицейского врача. Так что Мироновича доставьте в полицейскую часть, но о цели посещения, разумеется, ничего не говорите.
Дронов и Чернавин синхронно кивнули. Получилось это несколько комично, так что следователю пришлось пожевать губы, дабы не улыбнуться:
– И напоследок: нам противостоит умный преступник. Если это действительно Миронович, то нельзя забывать, что он служил в полиции, стало быть, является тёртым калачом. Он знает методы работы следствия уже в пореформенное время. Это ведь до 1864 г. разоблачение убийцы базировалось в основном на поличном и сознании, а после реформы 64-го года теория уголовного процесса получила заметное развитие. Миронович имеет представление о доказательной базе – уликах, алиби и прочих важных моментах. Свои знания он будет использовать для запутывания следствия, направления всех нас на ложный след. Поэтому, господа, настройтесь на тщательную работу, чтоб ничего не упустить, чтоб комар носа за нами не подточил. Приступайте!
Войдя во двор дома №57 по Невскому проспекту, Викентий Александрович Черняк поймал себя на странном ощущении – будто знает этот двор давным-давно, прожил тут полжизни, сроднился с ним, и двор надоел ему до отвращения, до желудочного спазма. Смешанный запах тушеной брюквы, щей, черных лестниц, кошек, мочи раздражал чувствительное обоняние молодого полицейского. Вообще, петербургские дворы-колодцы – совершенно уникальное явление столичной архитектуры, да и не только архитектуры – а и столичного быта в целом. Такой двор образовывался как бы внутри большого дома, вытянутого не только и не столько вдоль фешенебельного фасада, сколько вглубь квартала. Но если фасадная часть дома была изыскано украшена – там можно было видеть и высокие окна с узорчатыми наличниками, и вычурные пилястры на фальшивых колоннах, и изысканную лепнину, и парадный подъезд (а то и не один) с этаким необыкновенным узорчатым крыльцом и богатыми массивными дверями, то вид, открывавшийся внутри тесного двора-колодца отнюдь не радовал глаз. Стены без всяческих украшений, хорошо, если оштукатурены и штукатурка не осыпалась, а иной раз просто кирпичные; оконца небольшие, лестницы гораздо скромнее, а некоторые и просто «черные» – исключительно для прислуги богатых квартир. По этим черным лестницам выносились помои и сливали их прямо под дом в устроенный под такой лестницей колодец. В болотистом грунте, в условиях неглубокого залегания в дельте Невы горизонта почвенных вод эти нечистоты подвергались быстрому естественному рассасыванию, но запахи, витавшие на этих черных лестницах и волей-неволей проникавшие во двор-колодец, были таким же обязательным атрибутом этих дворов, как и постоянное отсутствие солнца на его дне, как золотушные дети, как невольное выставление обитателями своей жизни напоказ перед соседями. А куда скроешься от взыскательного глаза доброго соседа, если в твои окна глядят такие же окна и справа, и слева, и спереди, и сверху? Теснота позволяла разглядеть, что готовится у соседа на обед и какого цвета у соседской жены пеньюар под халатом.
Войдя во двор, Черняк попал в атмосферу ссоры, что происходила у самых ворот – дворник Иван Прокофьев выяснял с посторонним возницей, куда сгружать привезенную мебель – новёхонький комод красного дерева и железную кровать с шишечками. Вокруг столпились несколько человек «болельщиков», поддерживающих ту или другую сторону. Дело явно шло к доброй рукопашной: возница намеревался разгрузиться и уехать, оставив мебель под окнами заказчика, а Прокофьев запрещал оставлять имущество во дворе и желал видеть грузчиков, которых, разумеется, почему-то не было. Черняк из чисто мужского любопытства тоже остановился, но позади остальных – решил понаблюдать кто же кому и как даст в лоб. Можно сказать, что в эту минуту обычный обыватель победил в нём полицейского. Тут к нему сзади неслышно подошел старший дворник, Анисим Щёткин и тихо произнес: «Ваше благородие, Вы спрашивали жильца из 8-й квартиры, которого давеча днём не застали – так вот он стоит, Семен Константинов» – Анисим кивком указал на рослого дюжего мужика в косоворотке с деревянным ящиком с ручкой в руке, в каких обычно мастеровые носят свой инструмент.
Черняк подошел к указанному мужчине, сказал, что, дескать, надо поговорить, и они поднялись в квартиру №8. Про себя Черняк отметил, что ссора во дворе с появлением Анисима как-то сразу свернулась и пошла на убыль.
С этим свидетелем, Константиновым, Черняку опять повезло. Это был плотник, мастер по остеклению фасадов, работал по соседству, а ночевал всегда дома. Семён провел полицейского на кухню, выходящую единственным окном во двор, и на вопрос «не видел ли он Мироновича вечером в субботу, 27-го, или в ночь с субботы на воскресенье?», рассказал следующее:
– Ночью я проснулся (вообще-то я обычно крепко сплю) оттого, что меня разбудил кот, поганец. У меня в кухне мыши водятся, так он их ловит по ночам, что сказать? дело обычное… А в ночь с субботы на воскресенье, мерзавец, свалил ушат. Ну, тот и загремел. Звук был такой, словно весь мой железный инструмент вместе с коробом на кусочки разлетелся. И это ночью-то, в тишине! Я проснулся, конечно, подскочил, пошёл на кухню посмотреть. Глянул в окно (а у меня как раз за окном ледник), смотрю, а возле ледника шарабан стоит.
Черняк, стараясь не показать внезапно накатившего волнения, не спеша подошёл к окну, выглянул во двор. Действительно, прямо под окошком выглядывал скат крыши ледника – холодного подвала, где обычно хранят продукты.
– Какой шарабан? – спросил Черняк внезапно осипшим голосом.
– Обычный, одноосный. Запряженный в одну лошадь.
– Понятно… Как думаешь, Семён, чей это был шарабан?
– На этом месте всегда только Миронович свой возок оставляет, – ответил плотник. – Как-то раз, помню, скандал вышел из-за того, что уголь привезли и телегу сюда поставили, а Миронович приехал – место его занято. И ну, давай шуметь!..
– А в котором часу это было?
– Не знаю. Часов у меня нетути.
– А этот шарабан, тот, что ночью стоял, именно мироновичёв был?
– Вот уж не знаю. Не ловите меня на слове, Ваше благородие. Но скажу, что очень похож. Я когда увидел, подумал – надо же, и какая нелегкая принесла Мироновича ночью?
– А кто и когда уехал на этом шарабане, видел?
– Нет. Я воды попил, кота сапогом шваркнул и спать пошел. Это все, уж извиняйте.
Но и этого было немало. Черняк, по-настоящему возликовавший от всего услышанного, не стал продолжать обход дома и помчался с докладом прямиком в полицейскую часть.
Между тем помощник пристава Филофей Кузьмич Дронов отыскал портного Гершовича. Портной с такой фамилией проживал в доме №61 по Невскому проспекту, разумеется, не в парадном подъезде, а по лестнице, ведущей из двора-колодца, похожего на двор дома №57. Только двор этот был еще более тесным, стены его казались еще более закопчёными, а в дальнем углу возвышалась куча слежавшейся, утрамбованной детскими ногами золы. Зимой дети устраивали на этой куче импровизированную горку, а сейчас она бесхозным мусором занимала часть и без того тесного пространства двора. Окна квартиры Гершовича выходили как раз на эту непривлекательную «горку».