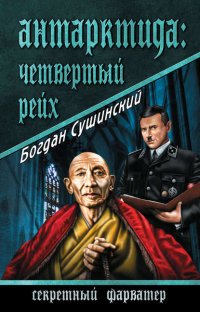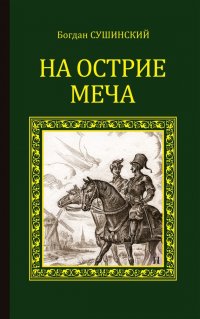
Читать онлайн На острие меча бесплатно
- Все книги автора: Богдан Сушинский
© Сушинский Б.И., 2014
© ООО «Издательство «Вече», 2016
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru
Об авторе
Богдан Иванович Сушинский родился 10 апреля 1946 года. В 1969 году с отличием окончил Одесский госуниверситет им. И. Мечникова. Служил в советской армии, в Белоруссии. Длительное время пребывал на журналистской работе. Он – академик, заслуженный журналист Украины; вице-президент Украинской ассоциации писателей; член Национального союза писателей Украины (в прошлом – член Союза писателей СССР); член Международной ассоциации писателей баталистов и маринистов. Кроме того, в течение 12 лет он возглавлял Одесскую областную организацию Союза писателей, являлся членом Президиума правления Союза писателей Украины; заместителем председателя Литфонда Украины.
Богдан Сушинский постоянно выступает в прессе как писатель, ученый и публицист. Он – автор более 150 книжных изданий, появлявшихся в издательствах Москвы, Киева, Риги, Одессы, Львова, Донецка, Йошкар-Олы и др. городов, и около 3 тысяч публикаций в антологиях, сборниках, альманахах, в периодике. Его произведения переведены на 17 языков мира. Он – лауреат премии им. А. Фадеева, а также многих международных и всеукраинских литературных премий.
Богдан Сушинский известен как идеолог возрождения европейского рыцарства. Он – автор первой в мире «Всемирной истории рыцарства», презентация которой состоялась в 2001 году, на съезде рыцарей в Ароне (Италия). За вклад в пропаганду и развитие европейского рыцарства он отмечен итальянской церковно-рыцарской медалью «Св. Амброзия», а также рядом рыцарских наград. Б. Сушинский – один из основателей первого в Украине рыцарского ордена Св. архистратига Михаила и ряда других орденов; у него рыцарский титул графа. Сам Богдан Сушинский происходит из древнего польско-украинского аристократического рода, который обладает своим собственным родовым гербом, засвидетельствованным старинными польскими гербовниками.
Ему принадлежат: литературная (в прозе) интерпретация на украинский язык древней летописи «Велесова книга» и исследование истории ее появления, которые опубликованы в его монографии «Велесова книга предков»; а история древнейшего карпатского монастыря Скита Манявского и первый перевод летописи начала ХVII века о его основании – поданы в исторической монографии Богдана Сушинского «Слово о Ските Манявском». Писатель много работает в архивах и музеях, со старинными книгами, документами, летописями…
Он является создателем первой в мире «Всемирной казачьей энциклопедии», в которой отражены сведения об основных казачьих организациях мира всех времен. Участие украинских казаков в 30-летней войне (1618–1648) на стороне Франции отражено в его 6-томной эпопее: «На острие меча», «Французский поход», «Костры Фламандии», «Рыцари Дикого поля», «Саблями крещенные» и «Путь воина». Его перу принадлежит уникальная 2-томная монография «Казацкие вожди Украины», за которую он удостоен престижной премии им. историка Д. Яворницкого. Он длительное время был Верховным атаманом Черноморского казачества, затем возглавлял 12 казачеств Юга Украины; является генералом армии Украинского казачества. Большой резонанс вызвала его книга «Казацкая Украина: Хмельниччина». Ему же принадлежит уникальное 2-томное издание «Князья и полководцы Древней Украины», отмеченное Международной премией им. Короля Даниила Галицкого.
В 2002 году, за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой культуры, Американский биографический институт наградил Богдана Сушинского золотой американской медалью Чести, а в 2009 году его имя (биография) занесено в Зал Славы этого института. В 2007 году Б. Сушинский избран почетным профессором и членом ученого совета старинного Университета «Львовский Ставропигион», ровесника Киево-Могилянской академии; а также стал автором фундаментальной 2-томной истории этого университета – «Львовский Ставропигион: между прошлым и вечностью». Особой популярностью пользуется его своеобразное пособие для молодых писателей – «Беседы у литературного камина: как стать писателем».
Очень плодотворным является сотрудничество Б. Сушинского с издательством «Вече», где издается его 25-томная эпопея «Война империй», причем в основе каждого из романов – одна из тайн Второй мировой войны; а также романы других циклов (более подробно об этом – в биографии на сайте издательства).
Живет в Одессе; над книгами в последнее время предпочитает работать в тихом зеленом городке Кодыме (на севере Одесской области), в своем писательском офисе, который его друзья и пресса уже называют «Северной резиденцией» писателя. Он – Почетный гражданин этого города. Кстати, у Б. Сушинского правило: в какой бы стране ни происходило действие его книг, основные главы рождаются именно в этой стране. Так в его творческой биографии появились США, Франция, Италия, Германия, Греция, Чехия и др.
Избранная библиография Богдана Сушинского:
«На острие меча» (1994)
«Французский поход» (1994)
«Костры Фламандии» (1994)
«Путь воина» (1994)
«Субмарины уходят в вечность» (2008)
«Секретный рейд адмирала Брэда» (2008)
«Гибель адмирала Канариса» (2009)
«Альпийская крепость» (2010)
«Воскресший гарнизон» (2011)
«Саблями крещенные» (2012)
«Рыцари Дикого поля» (2012)
Часть первая
На острие меча
Честь и хвала тебе во веки веков, великое священное прошлое…
Генрик Сенкевич
1
Вершины холмов были похожи на врастающие в землю купола православных храмов, и зарождающийся где-то вдалеке заунывный звон колокола отрешенно возносился к охладевшим ко всему земному небесам поминальным плачем по живым и заупокойной песнью по мертвым.
Обугленные деревья, окружавшие сожженные усадьбы хуторян, источали тлен пожарищ; птицы кричали голосами умерщвленных душ, а все дороги, откуда бы они ни исходили и куда бы ни вели, слезились на солнце соленым потом воинов и чумаков и проступали тоской прощальной поступи окровавленных невольничьих ног.
По мере того как отряд князя Одара-Гяура втягивался в лесистую гряду холмов, умолкали закованные в сталь и отчаянное мужество воины; затихало ржание и фырканье лошадей, глуше становился перестук их копыт.
На склонах котловины, по которой двигался отряд, то здесь, то там появлялись обезумевшие от ран и страха, облаченные в какие-то полуистлевшие рубища люди, чтобы, завидев отряд, тотчас же исчезнуть в кустарниках и оврагах.
Прямо на вершине кремнистой горы, восставшей посреди котловины, вдруг, словно сброшенная c небес, возникла пылающая повозка. Ошалевшие кони понеслись на отряд, и ринувшиеся им навстречу воины едва сумели остановить их частоколом тяжелых пик и ударами длинных мечей.
Не в силах преодолеть плотину из лошадиных крупов и человеческих тел в безрукавных татарских тулупах и легких казачьих жупанах, речушка вышла из берегов и потопно поглощала камышовые заводи, усеянные камнями окрестные луга и древние, поросшие густым лозняком руины.
Увидев загаченную телами переправу, Гяур приказал пятерым дозорным обогнуть крутой, оголенный склон белесой горы, открывавшейся в конце долины, между изгибом реки и лесом, и разведать, что там за ним происходит. Предчувствие не подвело его. Едва достигнув иссеченной ветрами грани этого склона, разведчики вновь остановились.
Возглавлявший разъезд рослый плечистый всадник в короткорукавной кольчуге, с навешенными на нее спереди и сзади небольшими щитами, и копной ржаных волос, прикрывающих голову вместо шлема, сразу же вернулся и, до предела взволнованный, попытался что-то объяснить князю. Однако слова, которыми он должен был передать увиденное, застревали в его горле, словно расплавленный свинец, и Гяур едва смог разобрать отдельные слова: «Князь! Там! Князь…», которые он выкрикивал, ошарашенно оглядываясь и показывая мечом куда-то за склон горы.
Князь и его личная охрана из десяти воинов-шведов, которых в отряде называли норманнами, поскакали вслед за ним, но, обогнув гору и взлетев на спускающуюся к переправе возвышенность, тоже вынуждены были попридержать коней. То, что они увидели, способно было потрясти кого угодно. Впереди, прямо перед ними, медленно, заупокойно поскрипывал широкими крыльями большой ветряк, на каждом крыле которого пылали обвязанные пучками соломы тела обреченных. С сатанинской необратимостью перемалывал он муки и души преданных Богом и людьми страдальцев, являя собой наглядный образчик всей бесчеловечности того мироздания, посреди которого их сжигали.
– Кто ж это их, Господи?! – не сдержался один из дозорных. – Войны творить тоже ведь надо по-людски.
– Как и молитвы, – машинально добавил князь и вдруг взорвался: – Не причитать! Никаких причитаний!
Норманны с высокомерным презрением взглянули на «причитавшего» – совсем юного славянина, и демонстративно, словно по команде, повернули коней: мельница с пылающими людьми на крыльях ветряка их больше не интересовала. Как и «причитающий» воин-славянин.
– Варвары, сотворившие это сатанинское поганство, рыщут где-то поблизости! – вновь заговорил Одар-Гяур. – Будьте внимательны. Осмотрите все вокруг, чтобы не полыхать потом на степном ветру, как эти, – указал острием меча на факелы из тел.
– Степные шакалы, – хрипло прорычал командир норманнов Олаф – плечистый рыжебородый увалень, кожаная куртка, кольчуга и нагрудный щит которого, казалось, давно срослись с могучим телом, превратившись в его естественную оболочку. – Только так они и могут воевать. Христианский мир давно должен был истребить их. Всех до единого.
…Однако звон, который воины слышали еще издали, доносился не от пылающего ветряка, а из-за ограды церкви, колокольня которой возвышалась на пологом холме уже по ту сторону реки, как бы благословляя каждого, кто въезжает в освященный ею городок без меча и гнева, а покидает его, не оставляя после себя горечи невинной крови и черного безумия пепелищ.
– Хозар! – обратился совсем еще молодой князь к ржановолосому русичу, указывая острием меча на судные факелы. И пятерка дозорных помчалась к ветряку.
– Улич! – крикнул он такому же рослому, но худощавому воину, из-под шлема которого выбивалась прядь седых волос, а от плеча к плечу пролегла изящно сплетенная, прикрепленная к панцирю золотистая цепь.
И по острию меча Улич определил, что десяткe его воинов следует скакать к церкви, над которой тоже взвивался черный шлейф дыма.
Но как только его отряд, объезжая устилавшие берег иссеченные тела, начал переправляться чуть пониже разрушенного моста, Гяур не удержался и, чтобы не терять времени, повел оставшиеся две с половиной сотни воинов вслед за ним.
На подступах к церковному холму; у ограды, которую защитники использовали как крепостную стену; у часовни, на подворье между могилами – везде тела сражавшихся, кони с распоротыми брюхами, изломанные копья, исщербленные в сечи сабли…
И над всем этим – густой, зычный бас священника:
- Отче наш, великий и праведный!
- Воизмени гнев Свой яростный
- На милость христианскую:
- Спаси землю Свою святокровную Украйну
- И народ ее грешномуче-ни-чес-кий!..
– Где он?! – крикнул Гяур, прислушиваясь к молитвенному басу. – Он не в церкви! Найти! Взломать дверь.
Ухватив лежащее под оградой бревно, воины Улича бросились с ним, как с тараном, к мощной церковной двери.
2
Огонь разгорался. Воины мерно били в пылающую дверь, а колокол отзванивал и тех, кто погибал в храме, и тех, кто врывался в него, пытаясь спасти все, что еще можно будет спасти.
И лишь еще раз внимательно прислушавшись, Гяур убедился, что густой протоиерейский бас этот действительно зарождается не в пылающем храме и не на колокольне. А где-то позади нее. Перескакивая через изрубленные тела, поваленные кресты и затоптанные могилы, конь его с трудом пробился в зацерковную часть подворья.
- Избавь, Отче, край сей от орды лютой,
- Яко от чумы насланной!
- От палача-султана неверного,
- Из-за морей-окиянов пришедшего!
- Укрепи волю мужей Твоих ратных,
- Дай силы воинам веры святой православной
- Землю Твою, Украину, отстояти-и-и!
Священник оказался зависшим между крышей храма и землей. Руками его привязали к колоколу, ногами – к седлу коня с подсеченными задними ногами. Время от времени конь пытался подняться, чтобы отойти подальше от пылающей церкви, от молитвы и тревожного звона, однако при каждой такой попытке дергал за веревку, обвязывающую священника, с предплечья которого свисала стрела, и при этом снова и снова заставлял оживать старинный, полуоглохший от собственного гула мощный колокол.
Подоспели встревоженные исчезновением князя три воина-норманна во главе с Олафом. Разрубив веревки, они небрежно опустили священника на землю и грубо, не церемонясь, выдернули из его тела стрелу. Пока воины проделывали все это, священник протягивал здоровую руку к могучему, закованному в латы и ниспосланному ему во спасение самим Господом Богом воину, на голове которого был греческий, похожий на шлем царя Леонида, только с меньшей гривой, княжеский шлем, и все тем же могучим басом вопрошал:
– А ты слышал, нет, ты слышал, какой молитвой облагочестивил меня Господь?! На какие слова Божьи надоумили меня Бог и колокол храма святого?!
– Бери в руки меч. Молитвы пусть творят твои враги, – грозно произнес князь. Наклонился, снисходительно окинул взглядом фигуру еще довольно молодого, плечистого священника и лихо прогарцевал вокруг него на своем арабском скакуне. – Молитвы пусть творят наши враги! Стоя на коленях!
– Перед нами? – спросил священник.
– Не перед богами же! – рассмеялся Одар-Гяур. Озаренные каким-то внутренним сиянием голубые глаза юного князя, круто выпяченный волевой подбородок, могучая атлетическая фигура – и самого его делали похожим на славяно-норманнского бога.
– И все же не меч, нет, не меч спасет этот народ! – задержал на несколько мгновений князя турий рык священника. – Не меч, но Господний посох Мессии! Как спас он, освященный Богом, в руках Моисея народ вифлеемский! Не меч воина, но посох пророка поведет этот народ от престола княжекиевского до царствия Божьей мудрости!
– Посох? – вновь воинственно рассмеялся юный князь. – Посохов на этой нищей земле всегда хватало. Вот только пророков что-то не видно. Как и мессий.
– Неправда. Он уже грядет, этот пророк-мессия! Уже грядет!
– Улич, – приказал Гяур подскакавшему к нему седовласому воину, – покажи свое божемудрие: перевяжи рану этому лжепророку. Мессия из него вряд ли получится, зато появится еще один человек, способный не только бубнить замусоленные библейские молитвы, но и сотворять новые.
– О-дар!
– И запомни, – крикнул Гяур, потрясая мечом; причем крикнул таким же молитвенным протоиерейским басом, каким только что говорил с ним священник. – Пророку неоткуда будет взяться, если мы не защитим наши храмы! Ни один пророк не возродится в наших храмах, никакой посох не будет ниспослан нам, пока не освятим землю и храмы свои вот этими мечами!
– Землю и храмы – освятить мечами?! – изумленно и в то же время осуждающе переспросил священник, как бы восклицая при этом: «Бога побойся: кому и когда удавалось освятить ее грешной смертоубийственной сталью?!»
– Только мечами! Потому что само право на эти храмы добыто мечом, и сколько будет существовать этот мир, надеяться, молиться нам не на кресты – на острие меча.
И, считая, что в этой крестомечной полемике он уже победил, Гяур с достоинством отъехал, предоставив священника его собственным, им же сочиненным и сотворенным молитвам.
– Там поругание, князь! – пошатываясь, вышел из храма молодой воин. В одной руке он держал шлем, другой судорожно сжимал горло, пытаясь сдержать подступающую к нему тошноту. – Женщины там. Все воины погибли здесь, в бою. Там – только женщины. И поругание.
– Так выведите их!
– Нельзя, – помотал головой воин, все еще сжимая рукой предательски пульсирующее горло.
– Тогда вынесите!
– Нельзя. Поругание, князь. Мертвы они.
– А ты говоришь: «Посох спасет этот народ»! – Зло швырнул в ножны свой пока еще не освященный вражеской кровью меч князь Одар-Гяур и как бы мысленно возвращаясь этим к спору со священником. Однако в храм заглянуть не решился. – Дескать, не меч, но посох! Хватит! Домолились! Не страна, а сплошное азиатское поругание».
3
Кардинал Мазарини[1] стоял у горящего камина и всматривался в багряно-лиловое пламя с такой презрительной ненавистью, словно перед ним был костер, на который наконец-то удалось возвести последнего еретика, оказавшегося, по странной случайности, лично его, первого министра Франции, злейшим врагом. Он стоял, низко наклонившись над огнем, однако отблески пламени уже не могли изменить пергаментно-серого цвета его лица, как, впрочем, никогда не отражались на нем ни чувства самого этого человека, ни пламя тех страстей, которые постоянно бушевали вокруг королевского дворца в смутные времена несовершеннолетия короля Людовика XIV; ни мрачные тени пересудов, сплетен и заговоров.
Наоборот, казалось, что само пламя камина постепенно угасает сейчас под его леденящим взором, как угасли под ним помыслы многих, оказавшихся лицом к лицу с кардиналом, нечестивцев. Что это на отблески огня накладывается его невозмутимый, обласканный папскими благословениями профиль любимца-кардинала, как накладывался он в эти годы на всю жизнь, все бытие Франции, на саму ее историю.
Одетый по-дорожному – в высоких черных ботфортах и черном, плотно облегающем камзоле, охваченном инкрустированным узорами из черненого серебра поясом, – этот слегка располневший человек больше был похож на стареющего гвардейского офицера, нежели на благочестивого служителя церкви.
Правда, в последние годы он куда преданнее служил мирским помыслам королевы, чем Богу. А молитвам явно предпочитал государственные хлопоты. Именно с ними первый министр Франции кардинал Мазарини и предстал сегодня утром перед королевой. Гонец Анны Австрийской перехватил его во время немного затянувшейся верховой прогулки по окрестностям Парижа и передал просьбу королевы срочно прибыть в ее загородную резиденцию.
Причина столь неожиданного вызова стала ясна сразу же, как только Мазарини увидел в приемной королевы генерала де Колена.
«Опять этот обозный воячишка, – мысленно возмутился кардинал, смерив генерала, занимающегося от имени главнокомандующего поставками действующей армии, насмешливо-убийственным взглядом. – Сразил бы его кто-нибудь на дуэли, что ли! Сколько истинных воинов погибло в этих дурацких схватках только в этом году!»
Судя по всему, генерал уже успел побывать на аудиенции у королевы, поскольку Анна Австрийская никогда не позволяла себе томить в приемной представителей ставки главнокомандующего, подчеркивая тем самым, что решающаяся на полях сражений судьба Франции так же близка и понятна ей, как и генералам. И вот теперь он нервно прохаживался в приемной, ожидая появления первого министра, а значит – сколько-нибудь вразумительного ответа, который должны были сочинить для главнокомандующего королева и кардинал. Их-то Колен и вызывал – уже в который раз! – на свою фуражирскую дуэль.
– Похоже, воинская удача окончательно отвернулась от нашего обласканного ранней славой Бурбона-Македонского, – Мазарини произнес это со скорбью в голосе, как произносят слова искреннего сочувствия родственникам безвременно почившего. – А, как вы считаете, наш доблестный генерал?
– Что поделаешь, испанцы скоро высадят свои десанты по всему северному побережью Франции, ваша светлость, – растерянно пролепетал бледный генерал, не решаясь вдаваться в рассуждения относительно звезды полководца.
Де Колен предпочитал придерживаться того мнения, что, после впечатляющей победы над испанцами, которую двадцатидвухлетний принц Конде Луи де Бурбон герцог Энгиемский преподнес недавно королеве в битве под Рокруа, он продолжает оставаться самым талантливым полководцем сегодняшней, не столь уж и богатой на громкие имена, Франции.
– И высадят. Почему бы им не высадить, если оно беззащитно?
– Они обстреливают приморские позиции наших войск из корабельных орудий, высаживают десанты вместе с артиллерией, не только укрепляя свои плацдармы под Дюнкерком, но и расширяя их, – не уловил раздраженной иронии кардинала увлекшийся докладом генерал. – Именно оттуда, из-под Дюнкерка, они стремятся выйти в тыл наших войск и продвинуться далеко на юг.
– И выйдут, – охотно пожал плечами кардинал. – Почему бы им не выйти, если для этого не понадобится ничего, кроме желания? А если уж выйдут, то и продвинутся. Далеко, на самый крайний юг. Почему бы не продвинуться? Тут мы вполне верим вам.
– Видите ли, тактика, которую они применяют…
И генерал вдруг принялся обрисовывать ситуацию с такими профессиональными подробностями, словно предстал перед военным советом накануне решающей битвы. Осекся он лишь тогда, когда наткнулся на умилительную улыбку кардинала. Тот смотрел на генерала со столь подобострастным видом, будто, изумленный докладом, тотчас же хотел наградить высшим орденом Франции. Именем королевы, разумеется.
– Вы поражаете мое сугубо гражданское воображение, генерал, – все тем же скорбным голосом, мгновенно погасив улыбку, изрек Джулио-Раймондо Мазарини. – Выслушав ваши соображения, королева будет растрогана.
– Она уже выслушала их, – вежливо сообщил генерал и вдруг, почувствовав себя виноватым в том, что поспешил изложить свои тревоги королеве, не дождавшись появления первого министра, извиняющимся тоном добавил: – Понимаю, но… Время не ждет. Мне было приказано, во что бы то ни стало добиться аудиенции королевы.
– Единственный приказ, который генералы принца де Конде еще хоть как-то исполняют: пробиться к королеве! Приемную королевы они все же научились штурмовать. Извините, генерал Колен, но… Впрочем, вас это вообще не касается. Это я так, в порядке общих рассуждений…
– Но если бы я не пробился к ее величеству…
– Да не в этом дело, генерал, – сухо и почти раздраженно объяснил ему наконец Мазарини. – Совершенно не в этом.
– У нас уже давно не хватает войск! – вдруг возмутился де Колен. – Сейчас на вооружении у наших врагов испанцев новейшие английские ружья. Там заряды с пистонами. Они значительно скорострельнее наших. В то время как у принца де Конде не хватает солдат, не хватает артиллерии; у него вечные проблемы с фуражом, продовольствием для солдат и выплатой им жалованья. Шпаг – и тех не хватает. Трофейными сражаемся.
– Вам не кажется странным, господин генерал, что у испанцев, которым буквально каждую пулю приходится привозить за сотни миль, морем, ежечасно рискуя при этом столкнуться с нашими кораблями, абсолютно всего хватает? Нет, действительно, вас это никогда не интриговало? Так вот, лично мне, господа генералы, – обратился он во множественном числе, подчеркивая, что адресует эти слова не только де Колену, – это кажется в высшей степени странным. О чем и придется откровенно сказать ее величеству.
– Но вы не совсем правильно воспринимаете все то, что происходит сейчас на севере Франции, – пытался хоть как-то оправдать генералитет всей действующей армии де Колен.
Однако Мазарини не пожелал бы выслушивать его даже в том случае, если бы не появился секретарь Анны Австрийской и не объявил, что ее величество готова принять их обоих.
Впрочем, королеве он тоже ничего не говорил. Обесславливать генералов и самого принца де Конде? Перед кем, в чьих глазах? В глазах женщины, у которой само упоминание о молодом главнокомандующем порождает всплеск надежды и обаяния?
Конечно, то, что юный король все еще оставался не у дел, развязывало Мазарини руки при решении многих государственных дел. С Анной Австрийской ему нетрудно было уладить любой вопрос. Или, в крайнем случае, просто-напросто проигнорировать ее мнение, как это все чаще делает обласканный королевой главнокомандующий. Но все же случалось, что и он, «железный кардинал», вдруг явственно ощущал ностальгию по сильной руке, без которой, окруженная врагами, раздираемая религиозными и придворными распрями, Франция переставала быть той Францией, каковой ей завещано быть от Бога.
Слишком юный и словно бы не спешащий расставаться со своей непорочной придворной юностью, король-наследник пока что бессилен и безвластен, да к тому же вечно поглощен баталиями своих оловянных солдатиков. А он, Мазарини, всемогущий кардинал Мазарини, – всего лишь первый министр. Которому ни сейчас, ни когда бы то ни было в будущем так и не занять полупустующий трон. Никогда! Кардиналу вполне хватало реализма осознавать это, хотя и не хватало мужества смириться с подобным положением вещей.
Однако это уже его собственные проблемы. А тут еще этот, ни на одной из парижских дуэлей все еще не убитый, обозно-фуражирный генерал де Колен…
4
Последняя схватка под стенами Дюнкерка показалась д'Артаньяну совершенно бессмысленной. Уже понимая, что у него нет сил взять крепость, главнокомандующий французскими войсками принц де Конде все же бросил остатки своих полков на бастионы и стены цитадели. Он решился на этот отчаянный, но бессмысленный штурм, давая возможность своим закаленным в боях воинам с честью погибнуть, но не даря при этом никакой надежды на победу.
И не проявились при этом натиске ни полководческий замысел, ни командирская хитрость, ни особая солдатская отвага. Ничего не было в нем, кроме безумного безрассудства молодого маршала, рано познавшего предательское легкомыслие побед, но не успевшего осенить себя мудростью поражений.
Битва длилась целый день. И хотя выдалась она не слишком кровавой, но зато была безнадежно изнурительной. У французских гвардейцев и мушкетеров не хватало сил, чтобы сломить сопротивление гарнизона Дюнкерка. Но и вышедшие из-за городских стен испанцы тоже не в состоянии оказались добиться сколько-нибудь заметного успеха. Лишь когда подоспел высаженный с моря испанский десант, а со стороны форта Мардик прибыл батальон подкрепления – французы начали отходить. Однако отходили они осмотрительно, сдерживая врага, чтобы ни один историк не решился потом заявить, будто бы временами их отступление напоминало бегство.
Как только французская пехота откатилась к пологим склонам возвышенности, артиллеристы, установившие свои орудия на холмистом плато, сумели проредить лавины испанцев и саксонских наемников, прикрывая своих соотечественников завесой из камней, песка и осколков. Их огонь оказался столь плотным, что настал момент, когда пятиться начали испанцы, и мушкетеры кое-где даже перешли в контратаку.
Однако опытные командиры вовремя сумели сдержать их, давая возможность пиренейским идальго восвояси убраться под защиту крепостных бастионов. Принц и его генералы благоразумно решили: если прекратить битву сейчас, она уже не может считаться проигранной. Еще один неудавшийся штурм мощной крепости с достойным, хорошо вооруженным гарнизоном – только и всего. Какому полководцу неведомы подобные полупобеды-полупоражения?
– Не встречался ли вам в этой кутерьме мой друг виконт де Морель, досточтимый барон фон Вайнцгардт? – все еще пытался не терять присутствия духа д’Артаньян. Но даже ему это удавалось сегодня все хуже и хуже.
– Видел его. Отбивался прикладом мушкета, – мрачно пробубнил спешенный драгун. – По-моему, остался без шпаги. Впрочем, для мушкетеров это обычное дело. После каждого боя можно собирать полные повозки мушкетерских шпаг.
– Никогда не замечал чего-либо подобного, досточтимый барон, – миролюбиво возразил д'Артаньян. И, опираясь на ножны шпаги, словно на посох, начал устало подниматься по склону.
Лейтенанту мушкетеров явно перевалило за тридцать, русые волосы кое-где покрылись легкой проседью, однако отмеченное печатью мужества, смуглое утонченное лицо и лучистые черные глаза продолжали удерживать лихого офицера в седле отдаляющейся, но все еще не остывшей молодости.
– Я тоже… не замечал, – совершенно неожиданно сознался барон, нисколько, впрочем, не удивив этим д'Артаньяна. Он знал, что многие солдаты и офицеры держались на пределе сил, а потому сорваться могли в любую минуту, из-за любого пустяка. – И вообще, будь оно все проклято, – простонал драгун.
Трава на возвышенности посерела и казалась мертвой, а бесцветные цветы отъявленно источали пороховую гарь.
– Уж не ранены ли вы, лейтенант? – тоже чуть ли не простонал д'Артаньян. Его серый плащ с некогда белым лотарингским крестом – знак принадлежности к «серым» королевским мушкетерам – был основательно изорван и прожжен, шляпу сорвало пулей. А спрашивая драгуна, не ранен ли он, д'Артаньян не смог бы с уверенностью ответить на вопрос, не ранен ли он сам.
– Кажется, вы правы: я ранен.
Только сейчас д'Артаньян обратил внимание, что мундир Вайнцгардта перепачкан кровью, длинная драгунская сабля, которую он все еще держал в левой руке, тоже покрылась бурыми пятнами, словно ржавчиной, а правую руку, от пальцев до кисти, перепахивала багряная отметина.
«На этом месте появится чудный шрам! – черно позавидовал ему мушкетер. – Сабля в руке, окаймленной такой отметиной, покажется еще страшнее, да и цветы, предназначенные для дамы сердца, величественнее. А как умопомрачительно сможет демонстрировать ее Вайнцгардт на самых престижных балах Парижа и Дрездена!»
– Это я не от раны застонал, граф д'Артаньян, – от обиды. Да, какой-то нахрапистый саксонец, кажется, действительно пощекотал мне бок. Но не думаю, что вся эта кровь, – отрешенно осмотрел себя барон, – обязательно должна принадлежать мне одному. Что-то же должно было остаться и от сраженных мною врагов.
– Не сомневаюсь, барон.
– Вы обратили внимание, я сказал: «врагов», – болезненно поморщился лейтенант-драгун, ухватившись за плечо д'Артаньяна. – Но хотелось бы знать: кто они – эти мои враги? Как назло, весь день попадаются если не саксонцы, так пруссы. Как вы думаете, что должен ощущать саксонец, воюющий за короля Франции, когда он убивает в бою саксонца, сражающегося под знаменами короля Испании?
– Он должен помнить, что не имеет права задумываться над такими вопросами. В этом его спасение.
– Вы – сама мудрость, граф.
– Но в любом случае постарайтесь сохранить этот мундир, чтобы поразить его видом принца де Конде. Больше всего главнокомандующий любит лицезреть окровавленных храбрецов.
Ядро, посланное из крепостного орудия, пролетело в нескольких метрах левее их и, взорвавшись, подняло в воздух остатки полуразрушенной санитарной кибитки. И хотя осколки и щепки вспахали землю в нескольких шагах от них, офицеры даже не пригнулись, лишь устало взглянули на то, что осталось от повозки да истерзанных крупов двух еще ранее убитых лошадей.
– Глядя на вас, командующий, тоже, конечно же, прослезится, – не потерял нить разговора Вайнцгардт. – Нет, это уже не война, граф. На эти стены, – оглянулся на укутанный дымом город, – нельзя посылать ни одного солдата. Стянуть артиллерию, всю, какая только имеется в пределах Франции, и расстреливать сто дней подряд. До тех пор, пока их проклятая крепость не превратится в вавилонские руины.
– Подбросьте эту идею главнокомандующему, – грустно улыбнулся д'Артаньян. – Разжалует всех артиллерийских офицеров. О, да вон и мой друг де Морель, – показал шпагой на сидевшего на борту поверженной повозки мушкетера. – Жив. Вопреки всем моим страхам и гаданиям – жив.
– Какая неподдельная радость, – съязвил Вайнцгардт.
– Вас это удивляет?
– Заставляет вспомнить, что не далее как вчера, в роще неподалеку от позиций, вы, граф, сражались на дуэли. Причем не с кем-нибудь, а с виконтом де Морелем.
Мушкетер мог бы возразить, что на самом деле это была всего лишь замаскированная под дуэль фехтовальная разминка, да к тому же прерванная адъютантом главнокомандующего, явившегося, как всегда, некстати. Однако утруждать себя подобными объяснениями не стал.
Еще один снаряд вошел в землю где-то далеко позади, но взрывная волна все же достигла офицеров, обдав пылью и холодом смерти. При виде отступающего противника испанские бомбардиры, кажется, совершенно забыли о счете снарядов и палили ему вслед с такой сатанинской яростью, словно кто-то сумел убедить их, что бой этот – последний и что пальбой своей они похоронят всю армию.
– Потому и рад видеть, что завтра утром опять представится возможность сразиться на дуэли. Все с тем же виконтом де Морелем. Почти стихи, а, барон? Жаль, Сирано де Бержерак не слышит – оценил бы.
– Вы знакомы с этим злоязычным рифмоплетом? – слабеющим голосом спросил барон, забыв на какое-то время о Мореле.
– С мушкетером Савиньеном Сирано де Бержераком я имел честь встречаться под стенами Арраса. Я тогда служил в роте королевских гвардейцев. Но мы были друзьями. Поэт и дуэлянт – редкое сочетание. Лично меня оно вполне устраивало.
– Презренный поэт и не менее презренный дуэлянт, – процедил Вайнцгардт. – Можете мне поверить.
– Но верю и тому, что слышал и видел во время осады крепости Аррас[2].
– Неужели и там не нашлось шпаги, которая проткнула бы глотку этому бездарному пииту?
– Шпаг хватало. Не оказалось той, достойной глотки поэта, – заметил д'Артаньян, не желая выяснять, откуда у саксонца столько злобы на Бержерака.
Де Морель все еще сидел на борту полуразрушенной, с перебитыми колесами артиллерийской повозки и ждал их приближения.
– Приветствую истинного героя Дюнкерка! – поспешил к нему д'Артаньян и не видел, как лейтенант Вайнцгардт вдруг резко осел и, пройдя несколько шагов на коленях, словно все еще пытаясь догнать мушкетера и сказать ему что-то очень важное, упал в высокую, уже основательно увядшую траву.
– Неужели вся эта кровь – действительно моя? – пробормотал он, потянувшись взглядом к небу. – Когда же меня так ранило? И в отношении Сирано я тоже несправедлив. Не-спра-вед-лив…
Словно предчувствуя что-то неладное, д'Артаньян оглянулся и с удивлением отметил, что Вайнцгардт исчез. На склоне, где он оставил драгуна, не было никого, кроме раненой, с развороченным брюхом лошади, которая все еще призывно ржала, напоминая о выстреле милосердия – последней милости артиллеристов, которым она долго и преданно служила.
Правда, по дороге, извивающейся у подножия возвышенности, неспешно пылила сильно поредевшая колонна волонтеров-пехотинцев. Однако мушкетеру не верилось, что Вайнцгардт успел спуститься к ней и затеряться среди солдат.
– Ждите меня здесь, виконт! – крикнул он де Морелю и, путаясь в траве, побежал назад, стараясь следовать по им же проложенному следу.
Саксонец лежал в небольшой лощине, в шатре из цветов и трав, и ветер посыпал его лицо разноцветьем листвы и полуистлевших стебельков.
«Какая изысканная смерть! – мелькнуло в солдатском сознании мушкетера. – Идеальная могила воина. Даже погибающий конь – рядом».
Но Вайнцгардт все еще был жив. Взвалив его на плечи, д'Артаньян поспешил вниз. Кто-то из отставших от колонны пехотинцев бросился ему на помощь.
Еще через несколько минут барон фон Вайнцгардт лежал на груженной фуражом повозке, увозившей его в лазарет.
– Вы, граф? – узнал он д'Артаньяна, придя на несколько минут в себя.
– Клянусь пером на шляпе гасконца.
– Вернулись и спасли?
– Обычная дань вежливости.
– Нет, вы все же вернулись… И спасли. Я запомню это, – успел произнести барон, прежде чем снова погрузился в блаженное беспамятство. – Да, кстати, где моя сабля?
Д'Артаньян огляделся вокруг. Сабли не было и быть не могло. Он даже не помнил, лежала ли она где-нибудь рядом с раненым там, в «идеальной» полевой могиле.
– Не огорчайтесь, барон. Вашу саблю привезут на повозке. Вместе с позабытыми саблями многих других драгун.
– Какая изощренная месть! – озорно сверкнул глазами саксонец, теряя сознание.
5
Виконт де Морель был поглощен какими-то своими мыслями. Мушкет он нес на плече, как дубинку, а вот шпаги у него действительно не было – на этот раз Вайнцгардт оказался прав. Жаль только, что ему не дано было насладиться своей правотой. Впрочем, шляпы у виконта тоже не наблюдалось. Да и плащ казался настолько изодранным, словно де Морель несколько километров пробирался терновником.
– Но не так же быстро, мсье де Морель! – устал догонять его д'Артаньян. – Вы же видите: на ваш темп равняется вся армия. Не поспешили бы вы от стен Дюнкерка, вся она еще находилась бы там.
– Те, что отступили первыми, уже далеко впереди, – угр разом вы умудрились потерять перед самым началом битвы свою шпагу. Но это уже пустяки. Драгуны, как и гвардейцы, – им всегда и все нужно объяснять.
– Я не потерял ее, граф. Она переломилась почти у самого эфеса. Минут пять я отбивал натиск испанца этим куском. До сих пор не верится, что уцелел. Уже потом под руки мне попался чей-то мушкет. Вы же знаете, я терпеть не могу мушкетов.
– Как истинный сержант пьемонтского полка. Немудрено. Они тяжелые. К тому же стреляют.
– Я просил бы вас, граф…
Виконт не любил стрелять. Он не переносил ни звуков пальбы, ни запаха порохового дыма. В роте мушкетеров это было известно всем.
– Пардон, пардон, – ухмыльнулся в усы д'Артаньян.
– И вообще, нам пора серьезно…
– Не утруждайтесь, виконт. Перчаток у вас все равно нет. Дуэль в семь вечера, сразу после ужина. Шпагу я вам достану. Подарю свою. Не возражаете?
Усевшись под кроной клена, они около часа отдыхали, не произнеся ни слова.
– Лейтенант д'Артаньян! – вдруг донеслось со стороны стоявшей на соседнем холме артиллерийской батареи. – Лейтенант мушкетеров граф д'Артаньян!
– Это вас! – недовольно проворчал виконт. – Посыльный командующего. Вам повезло.
– Я здесь! – отозвался граф. – К вашим услугам.
– Лейтенант д'Артаньян! Срочно к командующему. Со мной запасной конь. Да, и вот еще письмо. Его просил передать барон фон Вайнцгардт из госпиталя. Он ранен, но будет жить. Письмо продиктовал.
– Ну вот, так всегда, – виновато взглянул граф на де Мореля. – А какой приятной выдалась беседа!
– Просто вы радуетесь, что опять избежали дуэли, – окинул его высокомерным взглядом де Морель.
– Судьба, виконт, судьба! – вздохнул д'Артаньян, садясь на коня. – Но клянусь пером на шляпе гасконца…
6
– Там небольшая крепость, – указал Хозар на возвышенность, к которой от храма вела полуразрушенная опустевшая улочка. – Один из штурмовавших ее татар жив.
– Тем хуже для него, – тронул поводья князь.
Предводитель норманнов Олаф, выполнявший роль его оруженосца, приподнял лежавшее поперек седла копье Гяура, но движением руки тот остановил его. Это странное, приводящее в изумление каждого, кто видел его впервые, оружие, изобретенное еще прадедом Гяура, было даже не копьем, а своеобразным копьем-мечом. Одна сторона его закованного в тонкую сталь древка увенчивалась острием копья, другая – коротким обоюдоострым мечом, по бокам которого виднелись два заостренных крюка. К тому же посредине древка красовались две прикрытые металлическими щитками рукояти, позволявшие воину разить слева и справа от себя. А между ними мастер-оружейник умудрился приковать еще одно, небольшое копье, рассчитанное на прямой удар от груди, которое князь часто использовал, отбивая рукоятью сабельные натиски.
Диковинное это копье-меч было несколько короче копий других воинов княжеской дружины, значительно тяжелее их и казалось не очень удобным в походе. Зато в бою Гяур управлялся с ним с непостижимой ловкостью ярмарочного жонглера, прокладывая себе путь в любой гуще врагов и наводя на них ужас.
То, что Хозар назвал крепостью, на самом деле оказалось небольшой сторожевой башней, огражденной полуразрушенным и поваленным теперь частоколом из бревен, в который было встроено еще две привратные башенки. Бой здесь выдался особенно упорным. Воины лежали вповалку. Некоторые тела были буквально иссечены, возможно, уже мертвыми.
Но давно привыкшего к таким зрелищам Гяура больше всего удивил не вид окровавленных тел, а то, что два воина, проткнувших друг друга копьями под стенами башни, оказались славянами. Хотя один из них одет так, как обычно одеваются татары. Еще несколько таких же воинов с европейским типом лица – то ли молдаван, то ли венгров – лежали порубанными у ворот.
– А этот скрывался, – вытолкал Олаф из форта парнишку лет восемнадцати – босого, в коротких изорванных штанах и в пробитом, снятом, очевидно, у кого-то из погибших польских драгун, панцире. – Под полом башни отсиживался.
– Надел панцирник и спрятался, гнев Перуна? – с напускной суровостью уставился на него Гяур.
– Когда ордынцы ворвались сюда, – ответил парень. Короткая, с надломленным острием сабля в его руках лишь оттеняла трагедию, которую приходилось переживать всему этому беззащитному городишке, всему югу Подолии, страдающему то от чамбулов перекопского мурзы, то от жадных буджакских горлорезов. – Не спрятался – посекли бы, как этих, – кивнул в сторону груды тел. – А так, видите, жив.
– Разумно. Как зовут?
– Корзач.
– Будешь воевать в моем отряде, Корзач, – не спросил, а скорее приказал Гяур. – Выбери себе на этом побоище саблю, два пистолета, щит, а главное – изловчись поймать осиротевшего коня. Остальному тебя научат.
– И куда мы пойдем? – тотчас же поинтересовался Корзач, прижимая штанину к кровоточащей ноге.
– Прятаться, чтобы жить, ты уже научился. Теперь будешь учиться жить так, чтобы не прятаться, – резко ответил князь. – Все, иди. Где раненый татарин?
Двое спешившихся воинов метнулись вовнутрь форта и вскоре, держа под руки, вытащили оттуда ордынца.
– Кто вы такие: крымские татары, буджакские ногайцы? Отвечай! – по-турецки заговорил с ним Гяур, приподнимая кончиком меча подбородок пленника. Стоять тот не мог, воины-русичи все еще подпирали его плечами.
– Мы не ордынцы, да продлит Аллах дни твои, – на удивление охотно, хотя и с большим трудом, заговорил татарин. – Мы – кайсаки.
– Кайсаки?
– Да. Но в этот раз были с ордынцами. Они брали ясырь… там, в местечке. И жгли его.
– Жгли только они? Вы, кайсаки, – нет?!
– Нам приказали перебить тех, что засели в церкви, а также здесь, в крепости.
– Постой, ты сказал «кайсаки»; и что, ты – кайсак? Не казак, а именно кайсак? – оглянулся Гяур, отыскивая глазами Улича, который был при нем и лекарем, и советником, и телохранителем. – Это что, племя такое?
– Нет такого племени, князь, – объяснил невесть откуда появившийся Улич, вертя в руке красивый кривой кинжал с золоченой рукоятью. – Он – татарин. И говорит по-татарски. Потому и язык тебе понятен.
– Мы действительно татары, – тотчас же подтвердил пленный, уяснив, что именно сбило князя с толку. – Однако не подчиняемся хану. Перекопскому мурзе и буджацким беям тоже не подчиняемся. Мы – кайсаки.
– Кайсаками называют себя шайки степных грабителей и живодеров, князь, – выступил вперед старый воин из той сотни, которую Гяур набрал из плененных турками украинцев и придунайских русичей. – Я слышал о них. Кайсаки действительно не подчиняются ни хану, ни султану, ни Богу, ни шайтану. Но и человеческое слово для них – что камень, брошенный в мертвый колодец.
– Вот оно что. Кто же у вас за предводителя, атамана? – резко спросил Гяур.
– Бохадур-бей, да спасет тебя Аллах, премудрейший, – пробормотал татарин, облизывая потрескавшиеся губы. – Бохадур-бей – так он называет себя.
– И много вас у Бохадур-бея?
– Было три с половиной сотни.
– Куда же ускакали те, кто уцелел?
Пленник закрыл глаза и запрокинул голову. Гяуру показалось, что он умирает.
– Куда ускакал отряд Бохадур-бея?! – еще ниже нагнулся князь, почти вонзаясь мечом в горло кайсака.
– Туда, – махнул пленник ослабевшей рукой в сторону реки, на берегу которой пылал уже весь ветряк.
Гяур пристально всмотрелся в открывавшуюся его взору стену леса, что темнела сразу за мельницей, подступая одним краешком к горе, которую они недавно обогнули, другим – к речному утесу.
– Значит, они еще не ушли в степь, – подумал он вслух. – Не отошли с ордой. Почему? Неужели совсем страх потеряли? Ну что ж, им виднее… Олаф, этого – к Аллаху, – пренебрежительно указал на татарина.
– Повинуюсь.
Двое норманнов, не медля ни секунды, подтащили татарина к частоколу, швырнули на острие бревна, словно на плаху, и один из них коротко взмахнул мечом.
– Эй, Корзач! – глазами поискал Гяур парнишку.
– Здесь, ясновельможный! – вынырнул юноша откуда-то из-за башни. Теперь на нем, чуть пониже искореженного панциря, чернел турецкий пояс, из-за которого выглядывали рукояти двух пистолетов и кинжала; в руке отливала булатной синевой короткая гусарская сабля, а ноги укрывали от взгляда остроносые татарские сапоги.
– Как давно появились в ваших краях эти кайсаки? Что это за племя? Раньше ты что-нибудь слышал о них?
– Давно слышал, пан князь, – неумело поклонился Корзач. – Наш сотник говорил, что это отряд, отбившийся от крымчаков. Потом к нему пристали ногайцы, ушедшие из буджакской орды, и еще какие-то люди, бежавшие из польского плена, – молдаване, угры. Да и наших, с Украины, десятка два набралось.
– Выходит, Бохадур-бей принимает любого?
– Хочет сколотить войско, чтобы с его помощью стать ханом степной орды, кочующей между Бугом и Днестром. Об этом сам сотник говорил. Кстати, кайсаков наши люди в селах и хуторах боятся хуже ордынцев.
– В этом мы уже убедились, гнев Перуна.
– Они не берут ясырь, как ордынцы, никого не милуют и не отпускают за выкуп. Бохадур-бей похваляется, что опустошит всю Южную Подолию, чтобы на краю ее, кажется, здесь, в нашем городке, основать свою столицу. Так говорил сотник. Сам слышал.
– Ну хоть слава богу, что они не называют себя казаками.
– Это иноземцы путают их с казаками, ясновельможный князь. Когда буджацкая орда идет в поход, она приглашает и чамбулы кайсаков. Буджацких татар кайсаки не опасаются. Боятся только мести крымского хана. Но сотник говорил, что Бохадур-бея поддерживает сам султан. Пусть, мол, основывает свое ханство; ему, султану, легче будет с казаками воевать.
– То есть все это – кровавые следы Буджацкой орды и Бохадур-бея… – задумчиво осматривал Гяур открывавшиеся с высоты холма камышовые заросли по ту сторону реки. – Ну что ж…
– Они где-то рядом, князь, где-то рядом… – поддержал его замысел старый воин. – Орда сразу уходит, пока не подоспели казаки и польские жолнеры. А кайсаки – нет.
– Почему? Из-за упорства?
– Просто им некуда уходить. У них нет своей земли, как у татар, они бездомные, как степные волки. Бродят неподалеку, выжидают, пока все угомонятся, чтобы опять напасть.
7
Услышав о вызове в ставку главнокомандующего, д'Артаньян взбодрился. Посыльный офицер сказал, что не знает, для чего именно он понадобился принцу де Конде, но граф ясно представлял себе, что понадобиться он мог лишь для какого-то очень важного поручения. А значит, появится возможность вырваться из мушкетерского полка, хоть на несколько дней побыть вне войск, столь же упорно, сколь и безнадежно осаждающих Дюнкерк.
И дело вовсе не в том, что д'Артаньяну хотелось держаться подальше от опасности. Просто фронт был не его стихией. Смерть от испанского ядра или пули во время атаки, когда ты идешь среди сотен воинов, а осколок или пуля выбирает тебя, и ничего при этом не зависит ни от твоего умения владеть шпагой и мушкетом, ни от твоей отваги, – казалась ему абсолютно бессмысленной. Он предпочитал честную схватку с противником.
– Что это вы приуныли, господин граф? – ворвался в его сосредоточенное молчание голос лейтенанта Дортье – так звали посыльного. – Смысл поручения главнокомандующего мне неизвестен, однако адъютант обмолвился, что речь пойдет о Париже.
– А я как раз обдумываю план захвата Дюнкерка, – проворчал д'Артаньян, словно бы не расслышал о Париже. Он слишком дорожил минутами одиночества, пусть даже сугубо внутреннего, и слишком ценил минуты молчания, чтобы позволять кому-либо врываться в них.
– У вас какой-то особый план? – без тени иронии поинтересовался Дортье. – Тогда принц не зря вызывает вас к себе.
– У меня гениальный план. Я решил в одиночку сражаться против всего гарнизона.
– Хотел бы я видеть, как это у вас получится, – скривил губы лейтенант, поняв, что мушкетер намерен поиздеваться над ним.
– Очень просто. Каждое утро я буду подходить к воротам крепости и вызывать на дуэль одного из испанских офицеров. Как только погибнет последний из них – часть испанских солдат в панике бросятся к кораблям, а часть выйдут с белыми флагами и бутылками шампанского.
– А что, в этом что-то есть от настоящей боевой стратегии, – рассмеялся Дортье. – Готов разделить с вами славу освободителя Дюнкерка. Испанцам придется выходить по двое.
И надолго умолк. Убедившись, что разговорчивость лейтенанта на этом иссякла, д'Артаньян вспомнил о письме барона Вайнцгардта. Непростительным неуважением к раненому барону было то, что оно до сих пор лежало у него в кармане непрочитанным.
«Господин д'Артаньян, – обращался к нему лейтенант-драгун. – Еще раз подтверждаю, что я обязан Вам жизнью. Даже умирая, хотел бы считать Вас своим спасителем. Вы сделали все, чтобы вернуть меня к жизни. Говорят, я потерял много крови, но рана не тяжелая. Врачи обещают вновь поставить меня в строй. Правда, не думаю, что это произойдет так скоро, как бы мне этого хотелось.
Господин граф, Вы оказали бы мне еще одну неоценимую услугу, если бы, побывав в Париже, смогли навестить мою сестру, баронессу Лилию Вайнцгардт. Наши родители умерли. Оставшись без родительского попечительства, семнадцатилетняя баронесса прибыла в прошлом году в Париж, чтобы оставаться поближе ко мне.
Передайте, если будет на то Ваша воля, что повидаться с ней в ближайшее время, как обещал, я не смогу, командир полка не разрешает мне убыть из части. О ранении, естественно, ни слова: ложь во спасение. И еще. Самое важное. Буду вечным должником, если вы окажетесь в состоянии внести плату за обучение и содержание юной баронессы. Сумму назовут в пансионате Марии Магдалины маркизы[3] Дельпомас. Он находится в пригороде, в “Лесной обители” маркизы. Это в лесу, неподалеку от южных ворот. Деньги я верну сразу же, как только смогу выйти из госпиталя. А пока что, извините, поиздержался. Заранее благодарен. Верю, что Вы не оставите Лили в беде, как не оставили меня.
С искренней признательностью. Барон фон Вайнцгардт».
А чуть ниже подписи барона, тем же, слегка дрожащим, женским почерком было выведено: «Со слов барона – сестра монастыря кармелиток Стефания».
– Барон, как я понимаю, ваш друг? – спросил д'Артаньян гонца-лейтенанта.
– Не смею утверждать это. Познакомились мы совсем недавно и совершенно случайно. Если я верно понял, Вайнцгардт саксонец, а это народ замкнутый и заносчивый.
– Как же тогда это письмо попало к вам? Ведь мы расстались с бароном какие-нибудь два часа назад.
– По пути к вам встретил повозку с бароном. У колодца. Там собралось несколько повозок с ранеными, их поили и перевязывали. Узнав, что мне приказано разыскать вас, Вайнцгардт попросил минут пять подождать, а перевязывавшую его сестру Стефанию усадил за лист бумаги. Я посмел предположить, что речь может идти о вашей поездке в Париж, и это его вдохновило.
Д'Артаньян на мгновение представил себе окровавленного, едва пришедшего в себя барона, диктующего письмо сестре милосердия. Не хотел бы он разделить участь Вайнцгардта. Графу уже приходилось бывать в госпитале. Страх перед кошмаром палат, очевидно, будет преследовать его всю жизнь.
– Как барон чувствовал себя? Письмо есть письмо, а в жизни…
– Я не доктор. Скажу только, что это послание стоило ему больших усилий. Очень больших. Но даст Бог… Госпиталь недалеко отсюда, в городке, рядом с монастырем. Наверно, Вайнцгардт уже там. Навещу, как только вернусь из Парижа. Правда, этот визит окажется менее приятным, чем визит к баронессе Лилии Вайнцгардт. Извините, барон диктовал довольно громко. Жаль, что поездка в Париж предоставляется не мне.
– Вы забыли уточнить, барон, что речь идет о визите к очень юной баронессе, – напомнил д'Артаньян, вздохнув по поводу своего возраста.
8
Сирко проснулся от грохота колес. Отфыркиваясь, встряхнулся, словно вынырнул из холодной глубины реки, и сразу же привстал в стременах.
Разбитая каменистая дорога круто сбегала в широкую, обрамленную огромными валунами и малахитовыми россыпями кустарника долину. Передние повозки, идущие вслед за авангардной полусотней Гурана, уже были далеко внизу. Его же конь, словно почувствовав, что всадник впал в полуобморочную дрему, отошел в сторону, забрел в проход между двумя гранитными утесами и теперь мирно жевал траву.
– Не отставать, панове, не отставать! – строго прикрикнул полковник на челядь растянувшегося двадцатиподводного обоза. – Крыжань, подогнать задних! Сотник, останови обоз! – приказывал Сирко, уже пуская коня вскачь.
Этот скалистый каньон напоминал ему шрам от глубокой, недавно зажившей раны. Сам вид его навевал ощущение неизъяснимого беспокойства и опасности. А весь боевой опыт подсказывал полковнику, что если где-то следует ожидать засады татар или шайки кайсаков, то именно здесь, в этой малахитовой преисподней.
В Южной Подолии опять становилось неспокойно. Только недавно на Украине утихла волна кровопролитных восстаний против Речи Посполитой, а уже то тут, то там создавались новые отряды повстанцев, уже закипала кровь у запорожской серомы. Да и король Польши Владислав IV начал усиленно набирать войско, будучи твердо уверенным, что оно пригодится ему, если не для подавления казачье-крестьянского бунта, то для усмирения единокровной шляхты. Прежде всего, упорно распускающей слухи, будто король готовится лишить ее давно добытых шляхетских вольностей.
И он действительно собирался. Какой король откажет себе в таком удовольствии? Собирался, однако не лишал. А тут еще слух – что его, Владислава IV, здоровье все ухудшается и ухудшается; вслед за которым неминуемо следовал намек: дескать, пора, давно пора подумать о более жизнеспособном престолонаследнике!
И поскольку слух этот тоже был недалек от святой истины – он-то, прежде всего, и отзывался в душе короля грустной болью беспомощности. Ну а спасение свое он видел в том, в чем видели все властелины мира сего до него и при нем сущие, – в могучей преданно-послушной армии.
«И кто, будучи в здравом уме, посмеет упрекнуть в этом своего короля? – с мрачной безысходностью оправдал его Иван Сирко. – Не он устанавливал этот лад в мире, а значит, изменять тоже не ему. Но тогда кому же?!»
Чувствуя приближение нового восстания, а возможно, и войны, чамбулы[4] перекопского мурзы Тугай-бея проникали все дальше и дальше вглубь Подолии, достигая чуть ли не земель Галиции. Небольшие отряды казаков пытались преграждать им путь, тут и там нападали на обремененные ясырем татарские конвои. Однако серьезно противостоять им так и не смогли. Сирко прекрасно понимал: чтобы истребить эту «азиатскую саранчу», как называли татар в польских аристократических салонах, нужны значительные силы казаков. Но их не было. А еще нужны были хорошо вооруженные и вышколенные польские войска. Но король хотя и следил за татарскими навалами нервно и даже зло, но отвечал разве что грозными посланиями хану, то есть по существу оставался безучастным.
Крымский хан Ислам-Гирей тоже внимательно следил из своего Бахчисарая за этими рейдами перекопского вассала. И тоже пока что выжидал, не решаясь ни поддерживать Тугай-бея, ни одергивать, требуя, чтобы он придерживался условий недавнего польско-крымского и польско-турецкого соглашений. Нужно было время. Лишь недавно, буквально захлебываясь кровавой борьбой и интригами, хан сумел выиграть схватку со своим братом Махмуд-Гиреем и захватить его трон.
Захватить-то он его захватил. Однако несколько ближайших сторонников свергнутого правителя сумели бежать в Буджацкую орду[5] и, укрывшись там, готовили самозванцу такой же бесславный конец, какой был уготовлен им для Махмуд-Гирея.
А тут еще Тугай-бей, будучи в сговоре с несколькими другими мурзами и богатыми татарскими родами, до сих пор не признал нового хана и вообще не желал смириться с его приходом к власти. К тому же в Крыму второе лето подряд выдалось неурожайным; крестьяне в улусах жили впроголодь, и роптание их доносилось уже не только до ханской столицы, но и до Стамбула, где появление в Бахчисарайском дворце Ислам-Гирея и так восприняли с недоверием и подозрительностью. Да, и с подозрительностью, хотя в свое время султан просто-таки вынужден был дать согласие на его восхождение на трон. При дворе султана отлично понимали: Ислам-Гирей никогда не был и никогда не станет сторонником того, чтобы Крым оставался вассалом Османской империи. Так нужен ли такой хан?
Удачный поход на Украину, в который были бы вовлечены все крымские и белгородские мурзы, – вот то единственное, что могло укрепить сейчас авторитет Ислам-Гирея и в глазах мурз, и в глазах великого султана. Когда на землях Речи Посполитой начиналась очередная война между украинцами и поляками – тем и другим славянам уже было не до вражды с татарами. Чаще всего, наоборот, каждая из сторон стремилась заполучить крымскую орду в виде союзницы. А значит, границы королевства по существу оставались беззащитными.
Но разве не переживает сейчас Речь Посполитая именно такое смутное время? Так достойно ли хана упустить случай?
Зная все это, Сирко чувствовал, что опять надвигается погибельная волна восстаний и набегов, угона на невольничьи рынки и бездарных, тоже по существу грабительских, походов воинства[6], которому обычно отводилась роль защитников трона, его карателей и мстителей.
Тем не менее пока что он, как офицер реестрового казачества, пребывал на службе у польского короля. И с отрядом в сто казаков направлялся для укрепления гарнизона Каменецкой крепости[7], получив при этом приказ провести туда под охраной обоз с деньгами и оружием. Тяжелогруженые повозки двигались медленно, да и сам переход выдался до безумия утомительным. Привыкший к быстрым казачьим рейдам Сирко чувствовал себя заложником этого обоза, понимая, что в случае нападения татар его отряд не будет иметь возможности ни маневрировать, ни преследовать врага. Однако изменить что-либо в этом течении событий и обстоятельств он тоже был не в состоянии.
– Сколько верст до крепости, сотник? – подъехал он к Гурану. Передние повозки остановились, и теперь отставшая часть обоза медленно, с грохотом скатывалась в котловину, присоединяясь к общей кавалькаде.
– Верст, наверное, тридцать. Где-то здесь, наверное, должен быть родничок или озерцо. Надо бы передохнуть.
– Разбивать лагерь только на равнине. Я не хочу, чтобы половина казаков погибла под камнями, которые будут сбрасывать на нас с этих круч, – повел Сирко взглядом по гребню каньона.
– Места, конечно, смертомогильные, – неохотно согласился Гуран.
Этот сильный, до грубости властный сотник не привык, чтобы ему перечили. Еще меньше он привык к тому, чтобы менять свои решения. Однако сейчас вынужден был согласиться с Сирко. И не потому, что тот был полковником, а потому, что его словами говорила сама воинская мудрость.
– Правда, татарской коннице здесь тоже не развернуться, не то что в степи.
* * *
С одной из скал взлетел старый орел. Устало распластав огромные косматые крылья, он пошел прямо на Сирко, словно понимал, что именно этот человек привел сюда обоз, чтобы нарушить его спокойствие. И в какое-то мгновение полковнику показалось, что хищник действительно нападет на него, он даже машинально схватился за рукоять пистолета.
Но орел лишь на несколько мгновений приостановил свое величественное парение, нацелившись при этом на вожака человеческой стаи рыжеватым клювом и изношенными, потрескавшимися когтями, и полетел дальше, беспечно зависая над вспотевшими, такими заманчивыми мясистыми крупами лошадей. А когда обоз наконец-то был собран и охрана заняла отведенные ей полковником места, орел важно, словно выполнивший свою миссию командующий, снова удалился к шатру скалы, чтобы оттуда, с господствующей возвышенности, наблюдать за тем, что будет происходить дальше.
– Опять этот чертов орел. Плохая примета, – проворчал Гуран, вытирая раскрасневшееся, со слегка обвисающими потными щеками лицо тыльной стороной ладони. – Не терплю, когда над обозом появляются орлы и воронье. Эй, стрелки, кто пометче! Злотый тому, кто снесет со скалы эту стервятину! – указал он саблей на вершину.
– Прекратить! – вмешался Сирко. – Никакой стрельбы! Это дьявольское провалье мы должны пройти как можно скорее и тише. Не привлекая татарское воронье.
Однако и он тоже на какое-то время засмотрелся на величественного, по-королевски восседающего на скале-троне, могучего орла. В эти минуты Гуран обратил внимание – что-то орлиное есть и в профиле самого Сирко: скуластое, обожженное степными ветрами лицо, тонкий, по-орлиному изогнутый нос, большие, слегка навыкате глаза, источавшие пронизывающий, гипнотизирующий взгляд. Да и вся худощавая, жилистая фигура полковника сливалась с седлом так, словно Сирко готов был вспарить вместе с конем.
Несколько ружей все же поднялись вверх, но так и застыли. И не потому, что казаков испугал запрет полковника. Просто каждый из стрелков вдруг со страхом и тоской подумал, что именно его пуля может погубить этого степного патриарха.
9
Принца де Конде в ставке не оказалось, и д'Артаньян искренне пожалел о несостоявшейся встрече. Ему нравился этот главнокомандующий. Молодой, дерзкий, скептически относящийся к давно устаревшим канонам войны – принц вполне был достоин страны, чью армию возглавлял, и армии, которую эта страна с трудом, но все же сумела выставить.
До сих пор д'Артаньяну приходилось сталкиваться с принцем лицом к лицу всего трижды. Но всякий раз явственно ощущал, что человек, который стоит перед ним, уже давно принадлежит истории. Независимо от того, чем закончится эта распроклятая война, на чем остановится в своем стремлении оттеснить Францию от ее северного побережья Испания; погибнет ли де Конде или же доживет до глубокой старости в одном из своих замков где-нибудь на берегу Луары или Сены. И то, что он беседует с этим человеком, – тоже частица истории, пусть даже летописец, приставленный к принцу королевой-регентшей Анной Австрийской, не занесет их беседу в бессмертные анналы.
«Принадлежать истории, частица истории…» – в последнее время граф д'Артаньян начал размышлять об этом все чаще и чаще. Беспечный дуэлянт и храбрый воин, он все же время от времени заставлял себя задумываться над смыслом своей бурной жизни. Над тем, какой след оставит на этой многобренной и грешной земле, погибнув то ли в бессмысленной дуэлянтской схватке, то ли в одной из битв, после которой тело его окажется среди сотен и сотен таких же истекших кровью, изуродованных снарядами тел друзей и врагов искореженного оружия и развороченных лошадиных крупов.
– Граф д'Артаньян? – наконец-то объявился на крыльце молодой адъютант, которого вызвал постовой офицер.
– Честь имею, господин капитан!
– Вам предстоит важная миссия, от которой, возможно, зависит исход всей военной кампании, – капитан-гвардеец был непозволительно молод для своего чина, однако д'Артаньян не уловил в его голосе ничего такого, что могло бы порождать недоверие к нему.
– Я в одиночку должен взять штурмом Дюнкерк? – воспользовался паузой д'Артаньян. – Нет, прикажете вызвать на дуэль испанского короля? Приказывайте, капитан, приказывайте!
– Вам повезло. В данном случае приказываю не я, – горделиво вздернул подбородок адъютант. – Всего лишь передаю приказ главнокомандующего. Так вот, вам надлежит отправиться в Париж, – очередной паузы, выдержанной капитаном, оказалось вполне достаточно, чтобы мушкетер мог по достоинству оценить всю важность задания, которое ему предстояло выполнить.
– Значит, штурмом предстоит брать все же не Дюнкерк, а Париж, – извлек вывод мушкетер. Однако теперь тон его соответствовал по серьезности тону адъютанта. – Пожалуй, это будет посложнее. И что же господин главнокомандующий прикажет мне делать в Париже?
– Вы должны доставить важный пакет лично первому министру Франции его высокопреосвященству кардиналу Мазарини.
«Доставка пакета грозному кардиналу теперь уже воспринимается принцем и его адъютантами как смертельно опасное военное задание? – продолжал рассуждать д’Артаньян в свойственной каждому истинному гасконцу ироничной манере. – Правда, слухов о том, что гонцов, приносящих недобрую весть с войны, кардинал Мазарини, подобно Чингисхану, казнит, – пока что не появлялось. Тем не менее…»
– Ну что ж, господин капитан, если сей жребий выпал лейтенанту мушкетеров д'Артаньяну… Клянусь пером на шляпе гасконца. Пакет будет вручен кардиналу при любых обстоятельствах.
– Но учтите, в наших тылах рыщут испанские лазутчики и банды дезертиров.
– Я готов доставить его даже в том случае, если понадобится пробиваться через два полка испанцев, – сдержанно пообещал д'Артаньян. – А, не заполучив этого пакета, испанцы так никогда и не узнают, что их войска давно теснят нас и что мы, французы, так до сих пор и не сумели взять штурмом Дюнкерк.
Теперь уже настала очередь капитана смерить мушкетера подозрительным взглядом. Однако лицо д'Артаньяна оставалось невозмутимым, как того и требовала воинская дисциплина.
Адъютант передал мушкетеру пакет. Тот сунул его во внутренний карман, застегнул пуговицы и еще раз преданно посмотрел в глаза адъютанту.
– Поскольку дорога на Париж небезопасна, советую взять с собой трех-четырех мушкетеров или гвардейцев. На ваш выбор.
– Одного мушкетера, – уточнил граф. – Вместо троих гвардейцев. Да простит меня вся доблестная гвардия его величества. И клянусь пером на шляпе гасконца…
Адъютант недоверчиво взглянул на то самое, «клятвенное», перо на шляпе гасконца, которую д'Артаньян держал в руке. Этим полуоблезлым, изломанным пером гасконец мог клясться, ничем при этом не рискуя. Кроме самого пера.
– Кстати, выступать следует немедленно, – пророкотал гвардейский капитан таким зычным басом, словно отправлял свои полки на шестой штурм Дюнкерка. Пять предыдущих, как известно, оказались безуспешными.
– Лишь только разыщу своего спутника, господин капитан. А я найду его, и, клянусь пером гасконца…
Виконта де Мореля д'Артаньян разыскал на окраине местечка. Юный мушкетер отрешенно восседал на вершине небольшого холма, вокруг которого уже чадно дымились костры да стояли повозки с убитыми, коих готовили к погребению.
В полумиле от этого холма французские пехотинцы вместе с наемниками рыли окопы, насыпали валы, создавали некое подобие редутов, на которых могли бы располагаться батареи. Однако де Мореля все это уже вроде бы не касалось. Он напоминал отлученного от армии полководца, который, начисто проиграв битву, был обречен теперь на то, чтобы, сидя на вершине холма, завистливо наблюдать, как его истрепанные полки готовит к бою другой, более талантливый, а главное, удачливый командующий.
– Примите мои сочувствия, виконт, – поднялся к нему на вершину д'Артаньян, оставив коня у подножия холма. – Проиграть такую битву… Но что поделаешь: судьба иногда немилостива даже к Ганнибалам.
– Это опять вы, д'Артаньян, – угрюмо констатировал виконт, подпирая подбородок запыленными кулаками. – Оказывается, это все еще вы…
– Я понимаю, согласно вашим личным представлениям о войне, меня уже давным-давно не должно было существовать.
– Согласно моим – не должно, – согласился де Морель.
– Пока вы утешаете себя тем, что это не последнее сражение, которое вам придется проиграть, дослуживаясь до полевого маршала[8], я утешу вас еще одной пренеприятнейшей вестью: вам суждено сопровождать стоящего перед вами лейтенанта мушкетеров до самого Парижа.
Истекло не менее минуты, прежде чем до виконта, наконец, дошел смысл того, что сказал д'Артаньян. Но и после этого де Морель всего лишь недоверчиво покосился на него, не решаясь как бы то ни было реагировать на это более чем странное сообщение.
«Сопровождать до Парижа! Разве что сбежав с фронта! Впрочем, от д'Артаньяна можно ожидать чего угодно… Кроме одного: он не способен сбежать с фронта», – заставил себя быть более справедливым в отношении земляка-гасконца де Морель.
– Вы так задумались, наш юный виконт, – уже более жестко проговорил д'Артаньян, – что позволили себе не расслышать приказа.
– Да? Это следует считать приказом? – медленно, неуверенно поднимался на ноги де Морель. – Отправляться в Париж? Но здесь невозможно получить такой приказ, уважаемый граф. Здесь, в проклятой Фландрии, или как там называется эта земля, такой приказ не способен отдать нам даже Господь Бог.
– Вы правы: никто, кроме главнокомандующего, принца де Конде. Он как раз может позволить себе такое, уж поверьте старому служаке-гасконцу. Даю вам полчаса на то, чтобы разыскать своего коня и прибыть к таверне.
10
Огонь действовал на Мазарини вдохновляюще. Он пробуждал в нем твердость и непоколебимость римского легионера, спокойно воспринимающего мысль о смерти, но не допускающего мысли о поражении. Да, огонь возрождал в нем дух предков-римлян.
Завороженный пламенем, он не заметил, как в кабинете появился секретарь Франсуа Жермен – монашеского вида пятидесятилетний человек с лицом философствующего аскета. Франсуа вошел из боковой двери, за которой была его конторка, и, сделав несколько неслышных шагов, дабы не отвлекать кардинала от самолицезрения на фоне «ритуального костра», взглянул на лежащие на столе свитки и пакеты – почту первого министра.
Даже беглого взгляда было достаточно, чтобы убедиться: Мазарини еще и не приступал к знакомству с ней. Поняв это, секретарь молча уставился в спину первого министра, решая для себя, каким образом вернуть размечтавшегося кардинала к бренности его государственных дел.
– Я просил вас пригласить графа де Брежи[9], – не оборачиваясь, сухо произнес кардинал, уловив его присутствие.
«Конечно, кардиналу куда проще напоминать о моих обязанностях, чем приниматься за выполнение своих», – вздохнул Жермен.
– Он прибыл, ваша светлость, и около часа ожидает в официальной приемной.
– Вот как? Тогда пригласите его, Франсуа, пригласите. Это же граф де Брежи. Он не должен слишком долго ждать вашего соизволения.
– Уже приглашаю.
– Что еще? – поинтересовался первый министр, обнаружив, что секретарь все же не торопится выполнять его распоряжение.
– Вашей аудиенции добиваются также графиня де Корти и барон…
– Графиня и барон подождут, – прервал его кардинал.
– Помнится, вы обещали графине, что…
– Мало того, – еще резче отреагировал первый министр, – подготовьте их к мысли, что ждать придется не менее двух часов. Извинившись при этом и сославшись на государственные дела. Неотложные государственные дела, Франсуа, – поучительно добавил Мазарини, все еще стоя спиной к секретарю.
– Им так и будет сказано, ваша светлость, – застыл в поклоне секретарь. – Постараюсь подготовить их к самому безнадежному исходу.
– Понимаю: ничто не доставит вам, Франсуа, столько удовольствия, как неудачный визит ко мне графини де Корти и ее дядюшки-барона.
«Как и вам – сведение усилий графини к полному фиаско», – мысленно ответил секретарь, однако высказывать это вслух не решился.
– Что еще, радетель вы наш государственный? – язвительно поинтересовался кардинал.
– Должен доложить, только что прибыл гонец из ставки принца де Конде. Он сообщает, что у стен Дюнкерка…
– Военные донесения, какими бы они ни были, я предпочитаю выслушивать из уст самих гонцов, – вновь резко перебил его кардинал, повернувшись, наконец, лицом к секретарю. – Тем более что мне прекрасно известно, что происходит сейчас у стен этого злосчастного Дюнкерка. Где гонец? Граф де Брежи пусть тоже какое-то время подождет.
11
Пустив впереди обоза сотника Гурана с десятком казаков, Сирко теперь сам возглавил колонну. Немного подремав в седле, широкоплечий, худощавый тридцатилетний полковник выглядел бодрым и готовым к любым неожиданностям. Новый, еще не искореженный копьями, не исполосованный сабельными шрамами панцирник его вызывающе поблескивал на солнце, и лишь неосмотрительно привязанный к седлу шлем свидетельствовал о том, что полковник все еще не рассчитывает на скорую схватку.
Впереди каньон резко расступался, открывая широкую каменистую долину, и Сирко заметил, что у сосновой рощи к их дороге пробивается еще одна колея, сбегающая с правого склона. На ней-то и появился небольшой отряд польских гусар, окружавший довольно скромный обоз из кареты и трех повозок.
– Отряд полковника Сирко с обозом! – рванулся к гусарам Гуран. – Кто такие?! Куда держите путь?!
– Ротмистр гусарского полка кварцянского войска Радзиевский, – доложил офицер подъехавшему вслед за сотником Сирко. – Приказано сопровождать до Каменецкой крепости подданную французского короля графиню де Ляфер с ее обозом.
– К крепости? – переспросил полковник. – Сопровождать? Мой отряд движется туда же. Что, графиня настолько важная особа?
– Два года назад бежала из Франции, где до сих пор воспринимается как участница заговора против кардинала Ришелье. Неудачного, следует сказать, заговора.
– Ого! Оказывается, графиня еще и слывет заговорщицей! Теперь она считает, что кардинала Ришелье удобнее всего интриговать, сидя за стенами подольской крепости на Украине?
– Господин полковник… – укоризненно посмотрел на казака ротмистр. – Кардинал Ришелье давно умер. И теперь, как и все кардиналы-предшественники, по воскресеньям мирно беседует с самим Богом.
– Неужели действительно умер? Вот видите, как долго к нам в степь идут вести из Парижа, – нашелся Сирко. – Значительно дольше, чем из степи в Париж. Надеюсь, умер он своей смертью, без помощи графини де Ляфер?
– Своей, как это ни странно.
– Понимаю. По этому поводу у графини траур. Плач отшельницы на стенах пограничной крепости, – продолжал мрачно иронизировать полковник, с любопытством поглядывая при этом на карету. Графиня все еще не появлялась, однако присоединение к ним отряда Радзиевского все же обещало скрасить их утомительное путешествие под заунывный скрип повозок. – Или, может быть, теперь она плетет заговор против нового кардинала? Кстати, кто этот несчастный?
– При дворе несовершеннолетнего Людовика XIV первым министром Франции является кардинал Мазарини. На которого регентша короля, королева-мать Анна Австрийская, так упорно не уживавшаяся с Ришелье, теперь просто молится, – с не меньшей иронией просветил далекого от европейских дел казачьего полковника Радзиевский.
– Вижу, графиня де Ляфер потратила немало времени, посвящая вас во всевозможные дела и тайны парижского двора, ротмистр, – улыбнулся обычно сдержанный Сирко. Скуластое худощавое лицо его с изогнутым тонким носом казалось настолько же привлекательным, насколько и мужественным. Однако улыбка редко нарушала степную гармонию его евро-азиатского облика. – Хотя мне не совсем понятно, – не обращал он внимания на побагровевшее лицо ротмистра, – почему, в таком случае, заговорщица все еще разъезжает в кибитках по дорогам Подолии, вместо того чтобы готовиться к придворному балу в Париже?
– Во Франции у нее все еще слишком много влиятельных врагов, – суховато, но все же ответил ротмистр. – Настолько много, что графиня опасается, что Мазарини не сумеет спасти ее от ареста, если на этом настоят наиболее яростные недруги.
– Теперь становится понятно, что на самом деле она преследовалась как участница заговора против короля, а не против Ришелье. Но тогда выходит, что в Польше у нее должны быть столь же влиятельные друзья.
Ротмистр оглянулся на карету, чтобы убедиться, что графиня все еще не явила свой лик казачьему каравану, а значит, не сможет услышать его слов.
– Среди них – даже посол французского короля, граф де Брежи. А следовательно, большая часть двора его величества Владислава IV. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов мадам д’Оранж.
– А это что за особа? – поморщился полковник. Всякое упоминание о любой варшавской мадам он считал недостойным мужского общества.
– Ну… – замялся ротмистр, не зная, как бы получше представить эту женщину. – Мадам д'Оранж – это мадам д’Оранж. Честно скажу, я с ней не знаком. Но о ней говорит вся Варшава. Вернее, вся Варшава опасается говорить о ней. Кстати, графине покровительствует и сама королева. Не будем забывать, что она тоже француженка.
– Так бы сразу и сказал, – вмешался в разговор сотник, как-то слишком уж резко утрачивая интерес к заговорщице. – Все они, чертовки, или заговорщицы, или француженки.
И, отъехав в сторону, махнул рукой возницам, разрешая двигаться дальше.
* * *
Снова появился орел. В этот раз он был настроен менее воинственно. Облетев два обоза, хищник величаво спланировал на близлежащую скалу и, распластав могучие крылья, изобразил собственный родовой герб: орел на фоне солнечного круга.
– Такая знатная особа, и вдруг – посреди украинской глуши, при столь незначительной охране? – как бы про себя проговорил Сирко, отводя взгляд от этого гранда степей. – Не слишком ли рискованное путешествие?
– Но, господин полковник… Я считаю, что охрана у графини достаточно надежная, – высокомерно парировал ротмистр. Ему было около тридцати, располневший, розовощекий… Сирко он показался одним из тех офицеров, которые добывают себе чины, неся службу в охране какого-нибудь замка в центре Польши, и при этом вряд ли когда-либо участвовали в настоящем бою. – Тем более что мы находимся на земле Польского королевства.
– Совсем упустил из виду, – иронично ухмыльнулся Сирко.
– И все же будет приятно, если господин полковник позволит присоединиться к его отряду, – вдруг занервничал ротмистр, побаиваясь, как бы Сирко не увел свой обоз, снова оставив их без действительно надежной охраны. – Говорят, в этих местах разгуливают татары.
– Об этом мы уже договорились. Мои казаки ваших гусар в обиду не дадут. Не говоря уже о графине де Ляфер.
Казаки рассмеялись. Ротмистр еще пуще побагровел и даже машинально схватился за эфес сабли. Но вовремя отдернул руку и, прокашлявшись, мужественно промолчал.
– Однако заболтались мы, ротмистр, совершенно забыв о самой графине, – подъехал Сирко поближе к карете. – Показали бы ее, что ли?
– Пока довольствуйтесь лицезрением ее слуги, Кара-Батыра, – плеткой указал Радзиевский на широкоплечего татарина. В кольчуге, с небольшим круглым щитом на груди, Кара-Батыр выглядел довольно воинственно. – Судя по всему, графиня переодевается.
– В бальное платье?
– В походное. Узнав о появлении здесь татар, она попросила подать ей оседланную лошадь. Два пистолета у нее есть, лук с колчаном стрел – тоже, подарок этого литовского татарина. Кстати, хотя он и слуга, но происходит из весьма знатного татарского рода. Там у них целое сословие уланов, то есть знати, принадлежащей к огромному ханскому роду.
– Тогда, панове казаки, нам вообще нечего опасаться татар. Графиня просто-напросто расстреляет орду, – не стал выяснять родословную Кара-Батыра полковник.
– Дай-то Бог, чтобы не распугала ее своим видом, – мрачно заметил Гуран, все это время подозрительно поглядывавший на ротмистра и его стоявших чуть поодаль вояк.
Ни для кого в обозе не было секретом, что сотник не питал особого уважения ни к польским гусарам, ни к полякам вообще. Да и сам ротмистр вызывал в нем какое-то особое неприятие.
12
К тому времени, когда д'Артаньян появился в таверне «Приют беглецов», посетители ее успели разделиться на две компании. В одной, уже опьяневшей и состоящей в основном из горожан, – всеобщее внимание привлекали две красотки, очень смахивающие на цыганок. Судя по тому, с каким интересом подвыпившие мужчины присматривались к ним, как прилаживались грубыми руками к вызывающе высоким грудям и с какой настойчивостью допытывались, откуда и куда они следуют, – избранницы почитателей Бахуса только что появились в городке и еще не успели ни надоесть местным ухажерам, ни обрасти сплетнями.
Вторая компания, копошившаяся в дальнем углу, показалась мушкетеру более пристойной. В ней он сразу заметил нескольких офицеров и местных чиновников. А сотворилась она вокруг сидевшего в самом углу рослого посетителя, с виду иностранца, лет тридцати пяти – широкоплечего, загорелого, с довольно привлекательным волевым лицом слегка состарившегося римлянина.
Граф не имел намерения присоединяться ни к одной, ни к другой компании. Однако подсел поближе к столу иностранца. Внимание его привлекло то, с какой почтительностью слушают этого, очевидно, случайно забредшего сюда путника.
В «Приюте беглецов», кажется, не заведено было принимать какие-либо заказы от посетителей. Появившийся хозяин и так знал, что на стол перед путником нужно выставить все лучшее, за что он способен уплатить. А уж по части определения возможностей любого забредшего сюда он был тончайшим знатоком, почти оракулом. Вино и жареная, сочно приправленная говядина появились на столе д'Артаньяна с такими извинениями, словно хозяин действительно не мог простить себе, что дожидаться заказанного гостю пришлось слишком долго.
– Эти удивительные воины вообще никому не подчиняются, кроме вождей, которых сами же избирают, – донеслось до д'Артаньяна. – Ни один король, султан, хан или князь не имеет над ними абсолютно никакой власти. Вся их жизнь посвящена походам и войнам. Представьте себе: огромная река Борисфен[10], а посреди нее, за каменными скалами, которые там у них, на Украине, называют порогами, есть несколько островов. Так вот, казаки устроили себе лагерь на одном из них, назвав его Сечью, и чувствуют себя в нем, словно в неприступной крепости. Добраться до них можно лишь на лодках да кораблях, однако из лагеря, сидя за высокими земляными валами, на которых установлены орудия, казаки способны отбить любой штурм, потопить любой корабль.
– Так кто же эти люди, коль никому не подчиняются? Разбойники – так следует полагать?
– Нет, это войско. У них есть командиры, и существует воинская дисциплина. Не хуже, чем во французской армии.
– Но кому же тогда служит это войско? – допытывался один из офицеров, загоревшую лысину которого перепахивал давний пепельный шрам. – Кто ему платит жалованье? Не может же армия существовать сама по себе, господа! Без службы королю, без жалованья, без государственного провианта!
Рассказчик задумался. Чувствовалось, что он и сам себе еще не ответил на этот в общем-то обычный вопрос: «Кому служат казаки?»
– Одно твердо знаю, господа, – они защищают свой край. Без какого-либо жалованья. Да, смею вас заверить, без жалованья и провианта. Они рады возможности спасать от врага отечество – вот все, что я могу вам сказать по этому поводу. Кстати, на Борисфене есть тринадцать порогов с убийственными водопадами. Так вот, настоящим казаком может считаться только тот, кто на утлой лодчонке способен преодолеть все эти пороги, а потом, на чуть большем челне, вместе с другими запорожцами переплывет Черное море. Для казаков это то же самое, что для рыцарей, желающих стать членами Мальтийского ордена, совершить трудное, связанное со множеством опасностей, паломничество на Восток. Причем всяк переплывший море казак тут же получал право именоваться черноморцем. В казачьей среде это воспринимается как рыцарский титул.
– Но позвольте, мсье, – подключился к разговору тучный чиновник, – неужто вы станете утверждать, что эти парни всю жизнь проводят только на островах и в походах? Разве ни у кого из них нет дома, они не имеют семей?
– Вступая в рыцарский казачий орден, они как бы дают обет безбрачия. Казак, умудрившийся завести семью, просто-напросто изгоняется из Сечи. Можете верить этому, я провел там почти два года. Именно так, господа, два года в краях, где непрерывно идут войны и где тебя каждый день подстерегает смертельная опасность. Это не бравада, это история, да освятит меня звезда путника.
Только сейчас д'Артаньян понял, что человек этот вовсе не иностранец. И дело здесь не в его отличном французском языке. Скорее всего, он принадлежал к тому отрекшемуся от бренного мира племени вечных путешественников, представителей которого можно встретить сейчас в любом конце света.
– На нескольких больших лодках, похожих на ладьи викингов, в каждой из которых может разместиться, в страшной тесноте, не более шестидесяти человек, они решаются пересекать море, высаживаться на турецком берегу и штурмовать крепости, не имея ни осадных орудий, ни обоза; не рассчитывая на какую-либо помощь в людях, порохе или провианте. Но самое удивительное то, что эти воины совершенно не знают страха смерти. Да, смею вас заверить: воины Дикого поля, как называют их степи, совершенно не знают страха. В мире нет страны, воины которой столь мало ценили бы свою жизнь и с таким презрением относились бы к смерти. Именно этим и объясняется удивительная храбрость и стойкость казаков.
– С презрением к смерти? – саркастически смеясь, спросил все тот же офицер со шрамом. – Мне не раз приходилось встречать людей, способных изобразить некое подобие такого презрения. Но именно изобразить. На самом же деле смерть устрашает любого. Нет человека, который бы не страшился пыток и смерти, – это говорю я, старый солдат.
– Но речь идет о людях, имеющих особое воспитание, господин офицер. Большинство из них появилось на Сечи еще в раннем юношестве или даже в детстве и почитает за честь умереть в бою, не доживая до дней, когда руки уже не способны будут держать оружие. Они рождаются и умирают воинами. А характер их закаляется в битвах с самыми жестокими воителями мира сего – турками и татарами.
– О да… – согласился второй офицер, поправляя повязку, на которой покоилась его раненая левая рука. – Военная закалка воли и характера – на войне это многого стоит. Ну а что касается врагов, с которыми приходится воевать казакам… О татарах мне сказать нечего, с ними судьба меня не сводила. Вот османы – те давно известны своей жестокостью.
– Если я верно понял вас, мсье, – обратился к рассказчику д'Артаньян, – вы только что вернулись из Польского королевства. Ибо казаки, насколько мне известно, нашли себе приют на землях польского короля.
– Я бы посмел уточнить, что они нашли приют на своей земле, которую называют Украиной. Они помнят, что ранее эта земля была захвачена польскими королями, и довольно часто восстают, пытаясь избавиться от милости его величества, которого так и не признали своим. Однако ваш вопрос, – поднялся рассказчик, – свидетельствует о том, что вам тоже приходилось бывать в Польше.
– Так уж случилось, что однажды я оказался в свите посла его величества в Польше графа де Брежи. И пробыл в Варшаве около полутора лет. Даже немного говорю по-польски.
– Де Брежи? Слышал об этом достопочтенном господине. Но, освети меня звезда путника, так и не имел чести познакомиться с ним.
– Если снова решитесь пройтись по землям казаков, я осмелюсь отрекомендовать вас графу де Брежи. Его покровительство в этом бунтарском крае никогда не покажется лишним. А посему позвольте представиться: мушкетер его величества граф д'Артаньян.
– Пьер Шевалье[11], – вышел путешественник из-за стола, чтобы в знак дружбы подать своему новому знакомому руку.
– И куда же вы теперь держите путь, досточтимый Шевалье? – вежливо улыбнулся д’Артаньян, поднимаясь ему навстречу.
– Звезда путника ведет меня в Париж. Я тороплюсь. О чем весьма сожалею. Мне всегда есть о чем поговорить с человеком, хотя бы однажды побывавшим в Польше. Но сегодня мне чертовски повезло: достался трофейный конь, подарок генерала д'Анжу.
– Сегодня вам повезло еще больше, чем вы себе это способны представить, поскольку вашими спутниками станут два мушкетера: я и мой приятель виконт де Морель. Уверен, что это путешествие не покажется вам опасным, а тем более – скучным.
Все, кто присутствовал при этом, шумно поднялись со своих мест. В их тостах ощущались и радость за людей, которым удалось так удачно познакомиться перед дальней дорогой, обретя друг в друге интересного спутника, и зависть – как-никак этим людям суждено еще раз побывать в Париже. А суждено ли такое кому-либо из них, остающихся в нескольких милях от вражеских позиций?
– Жаль, что я ничего не написал, да и вряд ли смогу когда-нибудь написать о мушкетерах, – покаялся Шевалье. – Звезда путника повела меня в дикие степи Украины. Познав бытие казаков, а также и их извечных врагов и соседей татар, я решил: «Кто же еще опишет жизнь этого воинства, его нравы, обычаи казачьих и татарских земель, если этого не сделаю я?»
– В Польше мне тоже пришлось кое-что слышать о воинах Дикого поля. Однако впервые встречаюсь с человеком, который бы загорелся идеей стать историографом украинских казаков, – с уважением признался д'Артаньян.
– Их первым историографом[12], – уточнил Шевалье. – Заметьте: первым.
– Догадываются ли об этом предводители казаков?
– Вряд ли, – снисходительно взмахнул руками путешественник.
– А зря, казаки должны знать своего Гомера, а значит, оказывать ему помощь и всяческие почести.
– Это не столь уж важно. Все равно они ничем не смогут помочь мне. Единственное, что от них теперь требуется, так это чтобы ни один из них, пусть даже по чистой случайности, не пальнул в меня из своего пистоля. А все, что они смогли написать сами о себе, – уже «написано» их саблями.
– «История, написанная саблями». Такому названию своей драмы позавидует любой драматург. Уступаю идею, мсье Шевалье. И да освятит вас своим сиянием во всех трудах ваших звезда путника.
13
Увлекшись разговором, Сирко не заметил, как на подножке кареты, держась рукой за дверцу, появилась молодая женщина с распущенными пшеничными волосами, покрывающими ее голову золотистой накидкой. Взглянуть на нее полковника заставили сотник и ротмистр, которые вдруг умолкли и уставились на графиню.
Однако еще какое-то время девушка не обращала на них внимания. Слуга-татарин отвязал идущего за каретой коня и подвел госпоже, одетой сейчас в брючный костюм, мало чем отличающийся от мундира польского офицера.
Сирко проследил, как она легко, по-мужски, как человек, давно привыкший к верховой езде, вскочила в седло, и удивленно качнул головой: он-то ожидал, что из кареты выплывет располневшая салонная дама.
«Ну да… За такой заговорщицей легко может пойти вся польская гвардия, – молвил про себя полковник, приученный к тому, что женщины не должны оказываться в казачьих обозах, а тем более в боевых лавах. – Такая не успокоится, пока не добьется если не самого трона, то, по крайней мере, титула первой придворной дамы».
Пока графиня растыкивала по седельным кобурам поданные слугой четыре пистолета и навешивала на себя колчан со стрелами (лук уже был пристроен в специальный, притороченный к седлу кожаный подлучник), мужчины оцепенело рассматривали ее, не решаясь произнести ни звука. Возницы и охрана обоза тоже выворачивали шеи, как бы стремясь насмотреться на это непонятно откуда свалившееся на них степное видение.
На слегка загорелом, ангельски чистом лице графини еще не оставили своего следа ни болезненная будуарная бледность, ни любовные переживания, ни тем более раннее женское увядание. Круглолицая, с ювелирно выточенным римским носиком и мастерски вырезанными божьим резцом яркими чувственными губками, женщина эта была создана Всевышним даже не для чувственных игр и уж, конечно, не для плотской любви, а единственно для того, чтобы служить эталоном женской красоты каждому, кто способен или хотя бы пытается постичь ее.
– Что это за войско, ротмистр? – по-польски, с приятным французским акцентом спросила графиня, закончив свое вооружение и направляясь к офицерам. – Надеюсь, мы еще не числимся пленными у этих доблестных витязей в турецких шароварах.
– Полковник реестрового казачества господин Сирко, сотник Гуран и их люди, ясновельможная графиня, – вежливо представил новых попутчиков Радзиевский.
– Рада видеть вас хотя бы с сотней солдат, – холодно бросила графиня, останавливаясь напротив Сирко. – А то, глядя на разрушенные, сожженные села, у меня создавалось впечатление, что на этой земле вообще не осталось ни одного воина, способного держать в руке саблю.
– Побойтесь Бога, графиня, – обиженно поджал губы Сирко.
– В трех селах подряд нам сообщали, что в крае лютует банда каких-то татар-кайсаков. Вторую неделю хозяйничает здесь, а защитить крестьян некому. Так кто, по-вашему, должен бояться Бога?
– Воины на этой земле были всегда, – ответил Сирко. – Другое дело, что защищали они чужеземных королей и князей, которые мало заботились о защите самой этой земли. Но теперь Украина видит и своих собственных защитников, – повел рукой в сторону тронувшегося в дорогу обозного арьергарда. – Уже сейчас эти рыцари наводят ужас на турецких янычар, крымских и белгородских ордынцев.
– Так уж и «наводят ужас»?! – грустновато улыбнулась Диана. – Кто бы мог подумать?! Разве вашим предводителям неизвестно, что татары – прекрасные лучники? На один выстрел вашего пистолета они способны ответить пятью-шестью выстрелами из лука. Так почему вы не вооружаетесь луками сами и не вооружаете ими своих крестьян? Почему вы позволяете небольшим, примитивно вооруженным татарским отрядам тысячами угонять соплеменников в рабство?
Полковник молча поиграл желваками. Он и сам не раз задумывался над тактикой борьбы с татарами, которые всегда оставались для Украины гибельной саранчой. Множество раз в беседах с местными польскими шляхтичами он говорил о том, что каждое село в пограничных землях следует обвести земляными валами, каменными или бревенчатыми оградами, создавая при этом вооруженные ружьями и луками отряды сельской самообороны.
«Сколько татар прибыло в украинскую землю для очередного грабежа – столько и должно было в ней остаться!» – вот тактика, которую он исповедовал, размышляя об обороне пограничных территорий. Но ведь поляки опасались, что в украинских полевых крепостях тут же станут зреть вооруженные бунты против их владычества. Как объяснить воинственной француженке, что эта земля все еще находится под владычеством чужеземцев? Да и стоит ли вдаваться в подобные объяснения?
– В ваших словах немало правды, графиня, – смиренно признал он. – Но вы должны понять, что отношения украинцев с поляками выглядят еще сложнее, нежели французов с испанцами.
– Не говоря уже об англичанах, – с той же смиренностью согласилась графиня де Ляфер.
И вновь Сирко задержал на ней взгляд значительно дольше, чем следовало. Это было замечено всеми, и прежде всего Радзиевским. Однако ничего поделать с собой полковник не мог. В свои походные сорок он действительно никогда не видел женщины подобной красоты.
– Потому и говорю: пройдет еще немного времени, и мир признает в казаках лучших воинов Европы, – спокойно, убежденно произнес полковник, понимая при этом, что не в состоянии отвести взгляда от своей новой попутчицы. Он прекрасно понимал, что говорит явно не то, совершенно не к месту, но всячески пытался продлить беседу с этой изумительной женщиной.
– Весь мир? Лучшими воинами Европы? – с иронией переспросила графиня, по-детски сморщив носик. – Для начала попытайтесь убедить в этом хотя бы меня… полковник! – крикнула она, пришпоривая коня.
– Вот и все, полковник, – не мстительно, скорее сочувственно, подытожил их короткую словесную стычку ротмистр, давая понять, что ему тоже приходится нелегко с этой парижской дамой.
– Не думаю.
– Все, рыцарь степей, все. Тут уж поверьте. Трогаем. К ночи нужно добраться если не до крепости, то хотя бы до ворот какого-нибудь заезжего двора.
– День, когда эта заговорщица покинула пределы Франции, наверное, был самым счастливым в жизни кардинала, – задумчиво проговорил Сирко.
– И не только, – охотно согласился ротмистр, желая поддержать беседу. Но был удивлен, обнаружив, что Сирко как-то сразу умолк и замкнулся в себе.
Тем временем разросшийся обоз продолжал двигаться. Скрипели и громыхали на каменистых уступах повозки, ржали уставшие, томимые жаждой кони, перекрикивались извозчики и казаки охраны. Уже довольно высоко поднявшееся солнце по-степному жарко опаляло вершины подольских холмов, выжигая яркость их зелени и осушая легкие дуновения ветра.
– Кстати, влюбляться, полковник, тоже не советую! – вдруг ожил голос ротмистра Радзиевского, о существовании которого Сирко успел просто-напросто забыть.
– Возможно, вы правы. Такие, как ваша графиня, наверное, существуют не для того, чтобы мы утешались любовью с ними, а для того, чтобы содрогались от их нелюбви ко всему окружающему миру. Хотя кто знает…
– Слабость наша перед женщинами в том и заключается, что всякий раз мы завершаем свои размышления этим неопределенным «Хотя кто знает…» Суровости нам не хватает, полковник, суровости…
14
Виконт де Морель появился вместе с каретой, на передке которой восседал седоусый сержант-пехотинец из квартирьерной команды. Карета была старой, пробитой в нескольких местах пулями, зато в пирамидке за спиной кучера красовались четыре заряженных мушкета, а сзади поблескивали нацеленные в небо кавалерийские пики. Да и четверка разномастных лошадей выглядела довольно свежей.
– Карета – это предмет снисходительной любви моего дядюшки, квартирьера Шербурского полка, – объяснил юный мушкетер появление атрибута дорожной роскоши, который не полагался армейским гонцам и курьерам. – Из трофейных, как вы сами понимаете.
– Поклянитесь, виконт, что эта карета никогда не принадлежала английской королеве, – потребовал д'Артаньян, восторженно осматривая вместе с Шевалье свалившийся с неба транспорт. – Иначе я просто не сяду в нее. Такая карета недостойна наших мушкетерских седалищ.
– Испанскому королю она тоже не принадлежала, – с убийственной серьезностью объяснил де Морель. – Хотя и реквизирована квартирьерами у испанцев.
– Значит, до Парижа едем в карете? – озабоченно спросил Шевалье. – Обычно я стараюсь обходиться без карет. Иногда и без лошади. Ночую тоже не в заезжих дворах. Странствующему летописцу, как и цыгану, нельзя привыкать к удобствам и всяческим негам, иначе он теряет всякое пристрастие к путешествиям.
– На сей раз вы не успеете потерять его, господин Шевалье, – заметил де Морель. – Карета нам дарована лишь до Компьеня.
Все рассмеялись. Успокоенный этим сообщением, Шевалье бережно положил в экипаж татарский лук, колчан и кожаную пастушью сумку, потом втиснулся сам. Причем садился он настолько неуклюже, что д'Артаньян поневоле улыбнулся: «А ведь он действительно разучился ездить в каретах».
– Знаете, как украинские казаки закаляют свое тело? – не дал им позубоскалить Шевалье. – Раз в неделю вымачивают его в очень соленой воде. Такой, что кожа грубеет и становится невосприимчивой ни к холоду, ни к хворям. Говорят, они переняли этот способ у татар. Но, возможно, все наоборот: татары у них, – повел свое повествование странствующий летописец таким непринужденным тоном, словно продолжал рассказ, прерванный в таверне. – Татары ведь никогда не были охочи до мытья. В походе казаки не признают никаких шатров: спят на голой земле. Но, что самое странное, – завидев, что на них движется лавина турок или закованная в железо польская конница, казаки, в большинстве своем не признающие ни щитов, ни панцирников, не только не ищут способа хоть как-то защитить свое тело, но и снимают рубахи, чтобы идти в бой оголенными по пояс.
– Уж не хотите ли вы сказать, что мир получил армию самоубийц? – недоверчиво проворчал д'Артаньян.
– Самоубийц? О нет. Я хочу сказать, что он получил армию, не похожую ни на какую другую. Казаки – это воины с особым представлением о рыцарстве, особым проявлением храбрости. Понимаю: мои рассказы убоги. Но в этой кожаной сумке лежит рукопись с описанием всего того, что мне пришлось увидеть и пережить в украинских степях. Я работал над этой рукописью несколько лет.
– И решаетесь повсюду возить ее с собой? – удивился де Морель.
– Теперь уже только до Парижа. Нужно найти издателя. Хорошего издателя, понимающего, что держит в руках не просто кучу исписанных листов, а саму историю. Причем историю страны, здесь, во Франции, почти неведомой и не менее загадочной, чем Индия.
Мушкетеры задумчиво помолчали. По обе стороны дороги зеленели не тронутые войной поля. Никто не способен был убивать под такими голубыми небесами, в стране с такими живописными перелесками, на коврах из заливных лугов.
Наблюдая эти вроде бы давно знакомые, но по-прежнему чарующие пейзажи, д'Артаньян безуспешно пытался представить себе страну казаков Украину, с ее жестокими воинами, варварско-рыцарскими обычаями, бескрайними выжженными степями и порожденным набегами несметных орд безлюдьем. Даже неукротимая фантазия гасконца не позволяла вообразить весь тот далекий и неправдоподобный мир, который должен был предстать перед ним благодаря захватывающему рассказу странствующего летописца.
Тем не менее он очень внимательно выслушивал все новые и новые истории, которые приключались с Пьером Шевалье в тех далеких краях, и предчувствие подсказывало ему: судьба неминуемо сложится так, что он тоже побывает в дивной «казакии», тоже познает многое из того, во что, хоть и с трудом, но все же верит или, наоборот, решительно, принципиально не верит.
– Кажется, я смогу помочь вам, – сказал д'Артаньян, выслушав от Шевалье еще одну, совершенно невероятную историю о том, как, отправляясь в поход, татары питаются кониной, которую «пекут», а точнее, размягчают под своим седлом. А пикантной приправой к этому блюду служит конский пот, которым пропитывается мясо во время скачки.
Д’Артаньян даже не стал уточнять некоторые детали, показавшиеся ему сомнительными в этом гастрономическом процессе. Не захотел интересоваться и тем, приходилось ли самому странствующему летописцу питаться подобным «деликатесом».
– Не смею рассчитывать на это, граф, – произнес Шевалье.
– Поэт Савиньен Сирано де Бержерак, вместе с которым я имел честь служить в гвардии его величества и даже сражаться под стенами Арраса, как-то познакомил меня с издателем Клодом Барбеном. Уж не знаю, что представляет собой этот господин как издатель, – ибо знакомство было случайным, а высказываться по этому поводу наш пиит не торопился. Однако замечу, что типография его, «Под знаком креста», лучшая в Париже. Об этом говорят многие.
– Хотите заверить, что под вашу рекомендацию и поручительство Барбен, возможно, согласится и финансировать издание моих трудов? – вопросительно улыбнулся Шевалье, помня, что во время беседы с любым спутником очень важно вовремя вернуться в мир деловых связей и приличествующей его положению вежливости.
15
По мере того как отряд втягивался в долину, воины Гяура становились все молчаливее и все настороженнее всматривались в серые гребни скал, нависающих над ее склонами с такой окаменевшей яростью, словно готовы были вот-вот обрушиться на них, чтобы навеки погрести под обвалом.
– Нужно было бы обойти эти погибельные места, князь, – негромко проговорил Улич, приближаясь к Гяуру. – Лучшего места для засады и черти не отыщут.
– Я уже понял это, гнев Перуна. Но что ты подскажешь, верховный советник: вернуть отряд, потому что долина страшноватая? – с мрачной иронией поинтересовался полковник, взглянув на Улича. – А потом объехать село, в котором тоже может оказаться засада? Убежать от показавшихся вдали всадников: вдруг за ними целое войско?
– Не гневи богов, князь.
– Мы должны пройти эту долину, – резким, мужественным тоном проговорил Гяур. – Даже если перед нами разверзнется преисподняя. Даже если преисподняя, советник!
– Я не советник. Воин! – поиграл желваками Улич. – Мы уже не раз говорили об этом, О-дар!
– Однако Тайный совет Острова Русов приставил тебя ко мне как верховного советника. Чтобы ты возникал со своими советами именно тогда, когда они уже бесполезны. – Гяур еще раз бросил ироничный взгляд и пришпорил коня.
Улич запрокинул голову. Несколько мгновений держал ее так, уставившись полузакрытыми глазами в высокие, подернутые лазурью, голубовато-белесые облака. Это, почти ритуальное, «обращение к небесам» он совершал каждый раз, когда Гяур или кто-либо другой, то ли умышленно, то ли по неосторожности, наносил ему душевную рану. Воля его не была настолько сильной, чтобы в любой ситуации оставаться невозмутимым. Это была одна из самых очевидных и страшных слабостей Улича, зная о которой, Тайный совет долго сомневался: стоит ли доверять ему роль верховного советника молодого князя Одара-Гяура.
И сомнения Тайного совета были справедливы. Улич и сам отлично понимал это. Познав многие виды человеческой деятельности, он, тем не менее не овладел искусством подчинять гордыню собственной воле. А чего стоит вся ученость верховного советника, если в трудную минуту он не способен сдержать обиду, ненависть, гнев?
Ритуал «обращения к небесам» – простой, но удивительно облагораживающий – был подарен ему самим верховным волхвом племени, древним князем Божедаром. За ним, за волхвом, и было последнее слово при назначении Улича. Тем не менее советником к Гяуру он был приставлен лишь потому, что найти более подходящей кандидатуры совет уже не мог. Для подготовки ушло бы слишком много времени.
Похоже, что Гяур тоже знал о сомнениях совета. Каким-то образом узнал о них, хотя совет никогда не разглашал тайн. И, очевидно, князь не одобрил его выбора. Впрочем, начать нужно с того, что Гяур вообще не нуждался ни в каких советниках. Демонстративно, вызывающе не нуждался. Он всегда чувствовал себя свободным рыцарем, эдаким «вольным стрелком». Не зря, прежде чем прийти на Украину, он уже успел хоть недолго, но послужить султану, императору и еще нескольким правителям.
Впрочем, ритуал длился всего несколько секунд. Едва успев завершить его, Улич махнул рукой предводителю норманнов, и тот помчался со своей десяткой рослых, закованных в сталь, шведов к Гяуру, чтобы прикрыть его, прежде чем князь успеет доскакать до скалистой теснины. Прикрыть мощными щитами, толстенными, под стать только этим богатырям, копьями, панцирями и своими жизнями. Таковой была воля Тайного совета, нанявшего их. Такова собственная воля этих отборных воинов. А значит, и их судьба.
Словно предвидя это решение Улича, князь погнал коня как можно быстрее и, прежде чем норманны успели настичь его, промчался через теснину, оказавшись перед широкой долиной, в которую с разных сторон стекалось несколько дорог и тропинок.
Склоны этой части долины тоже оказались усеяны валунами. Однако здесь они «произрастали» не так густо, и низинное ложе было покрыто не щебнем, а большими синевато-зелеными, с желтым переливом, коврами из травы и цветов, излучающими успокоительную поднебесную прохладу.
– Князь! Там впереди бой, князь! – показался из-за гряды камней Хозар, посланный вперед вместе с двумя опытными воинами-лазутчиками, Кострой и Назирисом, в разведку.
– Бой?! – осадил коня Гяур. – Кто же там сражается?! У них большие силы?
– Обоз под охраной сотни казаков. И еще какая-то карета. Кажется, с ней несколько польских гусар.
– Так с кем же сражаются эти польские гусары, гнев Перуна?! С казаками?!
– Похоже, что на них напал отряд Бохадур-бея! На гусар и казаков!
– Ну что ж, значит, Сварожичу все же угодно было свести меня с этим Бохадур-беем, – рассмеялся Гяур, протягивая руку, в которую Олаф тотчас же вложил его грозное копье-меч. – Далеко они отсюда?
– За рощей. Туда подходит еще одна долина. Там река. Небольшая река, князь.
– К роще движемся бесшумно. Попытаемся ударить внезапно, – негромко наставлял свои сотни Гяур. – За мной, русичи-гяуры!
– О-дар! – негромко, но все же дружно откликнулись воины только им известным боевым кличем предков-уличей.
16
Как ни гнал сержант-кучер лошадей, тем не менее вечер настиг их у небольшого заезжего двора, расположенного у подножия горы в двух милях от ближайшего селения.
В трактире, кроме д'Артаньяна и его спутников, ужинала лишь семья проезжего священника. В номерах тоже царила тишина, а весь вид заведения мсье Оржака, как представился его хозяин-горбун, свидетельствовал, что оно пребывает в запустении и вот-вот должно быть описано за долги.
Настораживало и то, что хозяин несколько раз поинтересовался, действительно ли они останутся у него на ночь и согласны ли уплатить за ночлег прямо сейчас, а не утром. Держался он при этом слишком скованно, воровато посматривая то на дверь, то на темнеющее окно, за которым фиолетовой занавесью опускалась ночь; переминался с ноги на ногу и почти непрерывно сокрушался: «Проклятая война. Каждый наживается на ней, как может, только мне одному разорение, только мне…»
– Но почему вам-то разорение? – не сдержался д'Артаньян. – Фронт довольно далеко. Испанцы этих краев не достигают. На дорогах множество офицеров, которых честь заставляет платить как полагается.
– Так ведь… дорога, – все так же сокрушенно сказал Оржак. – Не спорю, на ней случаются и хорошие люди. Но на сотню порядочных посетителей достаточно одного злодея, чтобы она превратилась для трактирщика в ад. И будь проклят день, когда черт дернул меня строиться здесь, вдали от села, у этой разбойничьей дороги.
Он хотел добавить еще что-то, но в это время дверь открылась, и в трактир вошел рослый детина в давно не стиранном, изношенном мундире пехотинца. Увидев его, хозяин тотчас же сник, горб еще больше обострился, так что, казалось, вот-вот вспорет засаленный малиновый кафтан. Молча указав солдату место за столом, справа от двери, он поспешно вышел, успев едва слышно проговорить: «Опять этот дезертир!»
– О, да здесь гости в плащах с лотарингскими крестами, – желчно ухмыльнулся вошедший, проходя между д'Артаньяном и де Морелем, уже поднявшимися из-за стола. – Что, отвоевались? В карету – и в Париж? Молитвенно, молитвенно… Честь имею представиться: Серж. Отставной сержант.
– А чем заняты в этих краях вы, доблестный воин лесов и дорог? – в свою очередь поинтересовался д'Артаньян.
– Так ведь сам себе и ответил, мушкетер, лотарингский крестоносец, – все так же бесцеремонно осматривал Серж мундир де Мореля и запыленный плащ Шевалье, словно уже приценивался к ним. – Война – что волчица: каждый щенок сосет ее, как может. Вот так вот, ромулы марсовы, – смачно икнул он, оскалив гнилостную желтизну зубов. – Молитвенно, молитвенно… Эй, горбун, мяса и вина!
Поужинал солдат-оборванец очень быстро и, не расплатившись, – мушкетеры заметили это, – исчез. А еще через несколько минут сержант-кучер, вернувшись из конюшни, сообщил, что неподалеку рыщет небольшая, человек на семь-восемь, банда дезертиров, которая тиранит хозяина, грабит постояльцев да буйствует на окрестных дорогах. Об этом, побаиваясь гнева горбуна, поведал ему работник-конюх.
– Мушкеты я уже зарядил, – добавил сержант, давая понять, что решение он видит только одно: готовиться к нападению.
– С вашими двумя мушкетами, господа мушкетеры, у нас их шесть. Хватит на целую роту. Я с мушкетом и пистолем спрячусь в конюшне. Конюх обещал подсобить вилами. Кто-то из вас может засесть в карете. Солдат, который приходил сюда, околачивался возле нее и видел, что она пуста. Проверять они вряд ли станут.
– В карете улягусь отдыхать я, – предложил Шевалье. – Одного мушкета мне хватит. Остальное сделает татарский лук. Шпагой владею плохо, но стреляю – дай Аллах такую меткость хоть хану, хоть перекопскому мурзе. Да освятит меня звезда путника.
На лестнице, ведущей на второй этаж, появился хозяин. Он успел провести в отведенные им комнаты кюре с женой и дочерью-толстушкой, которую родители везли к известному лекарю в Амьен, и сумел подслушать разговор остальных своих воинственно настроенных постояльцев.
– Вы что, в самом деле собираетесь противиться этим бандитам? – спросил он дрожащим голосом. – Они не убивают. Только грабят. Не убивают, если им не сопротивляются, – медленно спускался он вниз, произнося на каждой ступеньке два-три слова. – Поэтому вам лучше покориться. Их не менее девяти.
– Только потому, что вы постоянно покоряетесь, они и зверствуют в этих местах, – заметил Шевалье.
– Как только мои постояльцы узнают о дезертирах, они просто-напросто убегают отсюда. Даже ночью. В селе стоит заезжий двор моего «доброжелателя» – польского еврея Абрама Люблинецкого. Так вот, бегут они в основном туда. Мои деньги и мое разорение теперь в его кошельке.
– С конкурентами вам придется справляться одному, – огорчил его д'Артаньян. – А вот с бандой дезертиров, если только она появится тут ночью, мы поможем. Сколько у вас работников-мужчин?
– Трое. Да еще конюх.
– Сюда их. Вооружайте, как можете. Встречать грабителей будем здесь, в кабачке. Дверь черного хода забаррикадируйте. Окна тоже.
– На окнах у меня решетки. На всех.
Вооруженные пистолем, топором и кавалерийской саблей, работники собрались в зале в ту минуту, когда неожиданно вернулся Серж.
– Вы пришли, чтобы расплатиться, доблестный воин? – оголил шпагу д'Артаньян.
Дезертир отскочил, отбил саблей нацеленное на него оружие, но, увидев у лестницы вооруженных работников и де Мореля с наведенным на него пистолем, смирился.
– Молитвенно, молитвенно, – пробормотал он. – Зачем? Я ведь расплачусь. Не впервые.
– Поэтому, злодей, ты расплатишься не только за сегодняшний ужин, но и за десятки завтраков и ужинов, которыми потчевали тебя здесь раньше, – появился из кухни горбун и, бросившись к дезертиру, ударил его по руке увесистой кочережкой с двумя крюками в конце. – Вязать его! – почти прорычал он, когда сабля Сержа упала на пол. – Чего вы смотрите на него? Сейчас его бандиты будут здесь, и тогда они нас не пощадят!
Серж наклонился, чтобы поднять саблю, но горбун сумел еще раз ударить его, теперь уже по голове. А двое работников набросились на отставного сержанта сзади.
– Молитвенно, молитвенно… – хрипел Серж, все еще пытаясь сопротивляться. Но это уже было бессмысленно.
– Он пришел сюда, чтобы открыть дверь остальным, – свирепел горбун, истерично суетясь вокруг лежащего, пока работники связывали руки и ноги Сержа. – Его подослали! Он должен был открыть им дверь и первым напасть на вас.
Горбун снова и снова норовил ударить дезертира своей железкой по голове, но каждый раз д'Артаньян или де Морель вовремя останавливали его, не позволяя бить лежачего.
– Но свечи в номерах горят, – успел сказать горбун между этими попытками. – Пусть думают, что вы бодрствуете. Кюре я предупредил.
Все помолчали, отдаваясь воле судьбы и случая.
– Сколько человек в вашей шайке? – сурово спросил д’Артаньян, как только Серж оказался связанным и немного пришел в себя.
– Говори, – занес свое грозное оружие над его головой Оржак.
– Восемь человек. Их будет восемь, – ежился дезертир в предчувствии удара.
– И что они намерены делать? Каков план их нападения?
Стараясь проявить характер, Серж упорно молчал.
– Ив, положи эту железку в огонь, – отдал Оржак свою клюку работнику. – Распеки конец, сейчас мы развяжем язык этому висельнику.
– А ведь ты действительно будешь пытать, – приподнялся на локте Серж. – Ты, горбун проклятый, жалости не знаешь. Мы не вздернули тебя только потому, что надо же было кому-то содержать этот чертов притон.
– Так что твоим бандитам нужно здесь? – повторил д'Артаньян.
– Им нужны ваши деньги. Ваши кони. И мундиры мушкетеров.
– И каким же образом они намерены получить наши мундиры? Неужели считают, что мы любезно отдадим их? – возмутился де Морель.
– Молитвенно, молитвенно… – снисходительно посмотрел на него Серж. – «Отдадим – не отдадим». Снимут. Не с живых, так с трупов. Но лучше с живых.
– Как они вооружены? – продолжал допрос д'Артаньян.
– Саблями. Один пистоль.
Не успели затащить связанного Сержа в чулан, как во дворе послышались приглушенные голоса. Оржак сразу же исчез. Мушкетеры и двое работников притаились, кто где мог. Дверь они умышленно оставили незапертой.
Сначала вошел один из дезертиров. Неуверенно ступая, он осмотрел зал.
– Где гости? – спросил работника, оставшегося убирать со столов.
– Какие гости? – спросил тот, стараясь не обращать на него внимания.
– Ну, какие-какие… Мушкетеры.
– А, мушкетеры. Где ж им быть? В номерах, – указал пальцем на лестницу, ведущую на второй этаж.
– И Серж с ними?
– Пригласили. Пьют. Нам нужно было убирать, так они в номерах.
– Убирать пока еще рано. Эй, вольные стрелки, – негромко позвал он, вернувшись к двери. – Заходите. Нас приглашают поужинать.
Работник невозмутимо проследил, как пятеро грабителей один за другим подошли к стоявшему в углу, возле лестницы, столу, за который садились почти каждый вечер. Он оставался невозмутимым, как о том просил его д'Артаньян.
– Зови хозяина. И быстро накрывай на стол, – скомандовал ему предводитель.
– Хозяин у мушкетеров.
– Тоже пьянствует? Почему не здесь? Эй, горбун! – подошел предводитель к лестнице. – Ты что, настолько не уважаешь гостей, что даже не желаешь встречать их?!
В это время во дворе кто-то яростно закричал от боли. И сразу же прогремел выстрел. Грабители повскакивали с мест, но прежде чем они сообразили, что происходит, прозвучал пистолетный выстрел уже здесь, в трактире, и главарь рухнул на нижние ступеньки лестницы.
– Бросайте оружие! – приказал д'Артаньян, стоя на лестнице с пистолетом в одной руке и шпагой – в другой.
Ответом тоже стал выстрел, но пуля раздробила перила рядом с рукой мушкетера. А в следующее мгновение стрелявший повалился на стол, хватаясь при этом за пронзившую ему грудь стрелу, выпущенную из-за входной двери.
Четверо оставшихся в живых, с саблями в руках, отскочили за столы и приготовились к схватке. Однако мушкетеры их воинственный пыл не поддержали. А когда вторая стрела, выпущенная Шевалье, ранила одного из них в плечо – крик его слился с грозным ревом, с которым, держа наперевес свой крюк, ворвался в зал хозяин. Вид раскаленного железа буквально парализовал исхудалого, получахоточного дезертира, оказавшегося на его пути. Воспользовавшись этим, горбун мгновенно вонзил свое страшное оружие ему в живот.
Нечеловеческий вопль несчастного настолько поразил остальных троих, что двое тотчас же бросили сабли и опустились на колени.
Третий, широкоплечий коротыш, сумел проскочить мимо Оржака и попытался пробиться по лестнице наверх. Д’Артаньян успел ответить только на первый удар его сабли, потому что и этот дезертир был сражен наповал топором одного из работников.
– Их нельзя оставлять в живых! – кричал Оржак, потрясая остывающим крюком над все еще стоящими на коленях грабителями. – Они не должны жить! Францию нужно очистить от них! Весь мир нужно очистить от этой погани!
И только вошедший в трактир с луком в руках Шевалье помешал ему расправиться с людьми, которые уже не рассчитывали на милосердие горбуна. Впрочем, он спас грабителей от гнева Оржака лишь для того, чтобы утром горбун передал их в руки местных жандармов. Грабители хорошо знали, что приказ принца де Конде относительно дезертиров был лаконичен: «Вешать!»
– То, что происходило здесь вчера вечером… Такая история, дорогой Шевалье, способна поразить воображение любого читателя, – мрачно проговорил д'Артаньян, садясь ранним утром в отсыревшую за ночь карету. – Так зачем, рискуя жизнью, странствовать в поисках подобных историй по далеким землям Польши, Украины, Татарии?
– Это не история, граф. Наблюдаемое нами вчера не имеет никакого отношения к истории. Это всего лишь мрачный отпечаток алчности на ладони человеческого бытия. Клеймо каторжника на челе грешной Франции. А что касается вашего покорного слуги, то Господь призвал его быть историографом. То, что я описываю, есть борьба народов. А значит, истинная История.
– Уж не знаю, где «истинная История», а где «клеймо на челе Франции», – заметил де Морель. – Но во всей мрачной истории трактира Оржака существует деталь, которая поразила меня. Один из работников кое-что поведал мне сегодня на рассвете о жизни самого медведеподобного горбуна. Оказывается, когда-то он тоже был дезертиром, и горб у него образовался оттого, что однажды, поймав на грабеже, мужики переломили ему позвоночник. Однако по-настоящему несчастным этого человека сделало даже не уродство, а то, что всю свою жизнь он мечтает стать… палачом.
– Палачом?! – изумился д'Артаньян. – Горбун Оржак, этот жалкий, доведенный до отчаяния трактирщик – мечтает стать палачом?!
– Вообще-то из него получился бы неплохой диктатор. Но мечтает он пока лишь о секире палача. Как только услышит, что в каком-либо городе объявляется вакансия палача, бросает все и спешит туда. Вот только никто не решается нанимать в палачи горбуна… Не понимая, очевидно, что перед ними как раз и стоит тот самый, первородный в своей жестокости, прирожденный, самим дьяволом ниспосланный им… палач.
17
Как только графиня де Ляфер умчалась вслед за сторожевым разъездом казаков, Сирко, ротмистр Радзиевский и сотник Гуран молча переглянулись: кому скакать вслед? И не поскакал никто. В конце концов, графиня имеет право побыть в одиночестве. Ни в отдельности, ни все вместе они не должны опекать ее на каждом шагу – таковой была их молчаливая договоренность.
И тогда произошло то, что удивило и даже рассмешило всех троих: один из юных челядников, который пристал к обозу, чтобы добраться вместе с ними до родного Каменца, вдруг отвязал от повозки запасного коня и, прихватив копье, погнался за француженкой.
– О, наш беглый художник Войтек решил, что наконец-то настала и его пора, – смеясь, прокомментировал эту скачку Гуран.
– Художник? – переспросил полковник, мечтательно глядя ему вслед. Знал бы кто-нибудь, какого труда стоило ему самому удержаться от того, чтобы не присоединиться к златокудрой парижанке! – К тому же – беглый?
– Да, челядники утверждают, что Войтек – сын одного каменецкого мельника. Отец узрел в нем талант иконописца и направил в науку к какому-то знатному каневскому маляру, который, по слухам, расписывал храмы то ли в Новгороде, то ли в Суздале.
– Но, видно, малярная наука не очень-то привлекает его, – хитровато прищурился полковник.
– Точно, не приглянулась ему наука иконописная. Не легла на душу. Помаялся, червивая его душа, несколько месяцев в учениках и сбежал. Учитель, видите ли, не тот попался. Не такие лики выписывает, какие Войтеку нравятся.
Сирко и слушал, и не слушал его. Что-то встревожило полковника. Какое-то предчувствие вдруг вселилось в его сердце, да только не мог понять опытный воин, чем оно порождено.
– Лики святых, говоришь, не нравятся этому богомазу? – спросил полковник, лишь бы продолжить беседу. Сам он в это время внимательно всматривался в очертания возвышенности, которая вырисовывалась посреди долины.
– Словом, пригрели его наши челядники. А то ведь собирался пешком паломничать до самого Каменца.
– Захотелось обратиться в веру отца и стать мельником? Но как только увидел графиню Диану – снова вспомнились лики непорочной Девы Марии? – подхватил Сирко. – Решил, что будет рисовать иконы Богоматери, любуясь личиком грешной француженки. А, ротмистр? – попытался расшевелить угрюмо умолкнувшего поляка.
– Был бы он гусаром, сегодня же вызвал бы его на дуэль. Впрочем, француженка совершенно неблагосклонна к нему.
* * *
Заслышав позади себя топот копыт, графиня сначала решила, что это кто-то из офицеров, однако еще какое-то время продолжала скакать не оглядываясь: ни одного из них своим «рыцарем сердца» она не избирала – мужчины уже должны были понять это.
– Госпожа графиня! Я буду сопровождать вас! – вдруг раздался звонкий юношеский голос, совершенно не похожий на голос ни одного из офицеров. – Вам нельзя одной, госпожа графиня, я готов охранять!
Диана недовольно оглянулась. Вслед за ней трясся на неоседланном коне худощавый, с почти детским, прыщеватым лицом парнишка лет семнадцати. Неопрятные, слипшиеся волосы его, очевидно, могли оказаться русыми, однако давно потеряли цвет и свисали грязными космами. Расхристанная рубашка заляпана, словно о нее много раз вытирали кисти; штаны разорваны, ноги босые и, судя по всему, давно не знали никакой обувки.
– Наконец-то и у меня появился защитник. – Она насмешливо скользнула взглядом по самодельному копью, взятому юношей у кого-то из челядников, ратище которого казалось слишком тяжелым и толстым для тонких пальцев «рыцаря»; по болтающейся в деревянных ножнах сабле. – Откуда Бог ниспослал мне вас, дикий рыцарь благородных степей?
– Я пришел с обозом полковника.
– Так и поняла. Оружие вы похитили у дядьки-обозника, на повозке которого ехали?
– Почему же похитил? Нет, попросил. Он сказал: «Бери и скачи, коль уж…» – парнишка замялся и не решился повторить то, что услышал от старого обозника.
– А на рубашке следы крови противников, убитых на дуэли?
– Краска это, – простодушно объяснил парнишка. – Я был учеником монаха-маляра, богомаза. Да только чему у него, пьяницы всегрешного, научишься? Краски растирал, ставни у старшины местечковой раскрашивал – вот и вся моя «наука».
– Вы, конечно, претендуете на нечто большее?
– Я найду себе другого учителя. Который учил бы писать лики святых точно так же, как их пишут византийские мастера. Или флорентийцы.
– Господину недоученному иконописцу приходилось видеть работы великих флорентийцев? Интересно, как это вам удалось, доблестный ратник?
– Мой отец очень хочет, чтобы я стал художником-иконописцем. Возил меня в Киев, показывал иконы в местных храмах…
– Ах, в Киев… – окончательно потеряла интерес графиня. – Работы византийцев. Бедная Флоренция! Несчастные ее мастера. Кажется, мой достойный, вы вызвались охранять меня. Не поленитесь-ка прогнать своего монгольского скакуна вон до того холма. Вдруг за ним засада?
На самом деле о засаде графиня не думала. С той поры, как их обоз слился с обозом полковника Сирко, она чувствовала себя достаточно защищенной, чтобы не побаиваться за безопасность дальнейшего путешествия. Отослать юнца на разведку – всего лишь один из вежливых способов избавиться от ненужных знаков внимания.
– Вы правы: часть казаков разъезда поскакала за правый склон, часть – за левый, осматривают степь, – со всей возможной серьезностью согласился Войтек. – А впереди – никого, так что поеду посмотрю.
– Да хранит вас Господь, – иронично благословила его графиня, сочувственно наблюдая, как неуклюже трясется на косматом неоседланном коньке этот худосочный юнец.
18
Горбун Оржак сам суетился возле кареты мушкетеров, помогая слугам запрягать лошадей. Лично проследил, чтобы кони гонцов были накормлены, а подпруги целы и хорошо подтянуты.
Вначале д’Артаньян воспринимал это как проявление обычной благодарности – в конце концов, они ведь избавили хозяина от бандитов. Но все оказалось не так просто.
– Вы всем довольны, господин лейтенант? – подошел к нему Оржак, когда настала минута прощаться.
– Еще бы! – вежливо ответил д'Артаньян. – Где бы мы еще столь приятно и безмятежно провели время?
– У меня тоже нет претензий к вам. Приют и харч вы сполна оплатили своими шпагами.
– Не заставляйте нас молиться на шпаги, как на кормилиц, – недовольно поморщился мушкетер. – Хотя на самом деле так оно и есть.
Он уже хотел садиться в карету, но Оржак упредил его.
– Тем не менее просил бы вас задержаться еще на пять минут. Думаю, судьбы Франции они не решат.
Ничего не объясняя, он увлек д'Артаньяна в трактир, оставив всех остальных на улице. Графу показалось, что хозяин желает отблагодарить лично его, поэтому настроился воинственно. И был крайне удивлен, когда увидел, что у стола, за лестницей, ведущей на второй этаж, в покаянных позах стоят Серж и еще какой-то рослый детина-разбойник, которого д'Артаньян во вчерашней сутолоке как-то не приметил. Руки обоих грабителей, как и полагается, оставались связанными.
– К вам хочет обратиться Серж, вы помните его. Этот вот, отставной сержант, – проговорил Оржак голосом престарелого кюре.
– С просьбой о помиловании? Но я не судья. И даже не прокурор.
– И все же он хотел бы обратиться именно к вам, господин граф.
Д'Артаньян снисходительно пожал плечами.
– Ну что ж, «молитвенно, молитвенно», как изволил выражаться сам сержант-дезертир Серж. Слушаю тебя, грабитель, – тут же обратился к сержанту.
– В шайке грабителей я был всего лишь несколько дней. Оказался в ней случайно, никого ограбить не успел. Кроме того, я, как и вот мсье Чемпан, не дезертир. Я действительно отставной сержант. Но приткнуться мне некуда. Кажется, у вас нет слуги? К крестьянскому житью я не приспособлен, всю жизнь прожил в городе. Зато солдат из меня был неплохой.
– Вчера ты убедил нас в этом, Серж.
– Понимаю вашу иронию. Но вчера – особый случай. Грабитель из меня не получился – это ясно. Но ведь солдат – не грабитель. Вы как офицер должны понимать меня.
– Итак, ты просишься ко мне в слуги?
– Вы получите слугу, способного оголять оружие вместе с вами. В тех случаях, естественно, когда будет позволять ваша честь.
– И я должен верить тебе? Человеку, явившемуся вчера с бандой лесных грабителей?
– Осмелюсь заверить, – подключился к разговору Оржак, – что этот солдат говорит правду. В банде он всего несколько дней. Я опросил других грабителей.
– Да-да, святая правда, – затараторил Чемпан, побаиваясь, что его тотчас же прервут. – Я готов присягнуть хоть перед вами, хоть на Библии перед судом. Этот человек рожден не для грабежей. Он – мастеровой: плотник, каменщик, даже портной. Что ни дайте ему, починит. А готовит не хуже господских поваров. И даже грамоте обучен.
– Что до клятвы на Библии, то, думаю, тебе это еще предстоит, – заверил Чемпана д'Артаньян. – Мне действительно нужен слуга, – обратился он к Сержу. – Прежнего я недавно уволил. Но слуга, а не наемный убийца и не волк в клетке, постоянно высматривающий дорогу к лесу.
– Вы спасли меня от гибели. Теперь можете спасти от виселицы и бездомных скитаний. Этим и дадите себе гарантии.
Задумавшись, д’Артаньян прошелся по трактиру. Все трое внимательно следили за каждым его шагом, каждым движением.
– Насколько я понял, вы, Оржак, тоже за то, чтобы я взял этого… – удержался граф от слова «грабитель», – отставного сержанта к себе в слуги? В чем ваш интерес? Вчера вы готовы были растерзать его.
– Если вы возьмете Сержа в слуги, я со спокойной совестью возьму себе в работники Чемпана. Который уже как-то заходил ко мне и каялся. С грабителями ему не сладко. Он-то и попросил замолвить слово за своего бывшего сержанта.
– Могу засвидетельствовать хоть перед вами, хоть на Библии перед судом, – вновь протараторил раскаявшийся грабитель.
– То есть я буду уверен, что вся эта вчерашняя история останется между нами, – продолжал Оржак, держась подальше от Библии. – И никто не узнает, что Чемпан стал моим работником. А заодно и охранником. Оружия в моем доме теперь не меньше, чем у гарнизона Дюнкерка. Научен. Будете молчать вы, граф, и ваши спутники – будем молчать и мы.
«Хитер несостоявшийся палач, хитер», – мысленно согласился д'Артаньян. Но ответом Оржака не удостоил.
– Собирайся, – приказал Сержу. – Оказывается, хороших слуг следует искать в лесах среди грабителей. Я-то этого не знал. Развяжите его, мсье Оржак.
Горбун тотчас же выхватил из-за пояса нож и одним взмахом освободил Сержа от веревок. Еще двумя взмахами вызволил из плена Чемпана.
– Конь у тебя найдется? – спросил лейтенант Сержа.
– Один из тех, которые достались мне от грабителей, – ответил за него Оржак. – В виде компенсации за весь тот ущерб, как вы понимаете. Кроме того, Чемпан обещает привести из конюшни лесника еще троих бандитских рысаков.
– Не посвящайте меня во все тайны вашего двора, мсье Оржак. Мне это ни к чему. На коня, Серж. Прихвати продуктов на дорогу. И запомни: сытной и денежной жизни не обещаю. Как и спокойной. Виселица еще не раз покажется тебе божьим избавлением от службы у меня.
– Молитвенно, молитвенно… – проворковал Серж. И только ему и Богу было известно, какой смысл он вкладывает в эти слова.
* * *
Лес встретил их пьянящим запахом хвои и птичьим перезвоном сосновых крон. Солнечные лучи превращали небольшие поляны в поросшие травами озерца. А сами стебли трав казались усыпанными разноцветным жемчугом.
Вспомнив о событиях прошлой ночи, лейтенант вдруг всполошился и, выглянув из кареты, позвал своего новокрещеного слугу.
– Слушаюсь, господин граф, – приблизился тот к карете.
Снаряжая его, Оржак расщедрился и на более или менее пристойную одежду, так что теперь Серж смахивал на опрятного слугу крайне обедневшего провинциального дворянина. Но к его одежде и манерам лейтенант решил обратиться несколько позже.
– В суете я так и не поинтересовался у Оржака кое-какими подробностями. Хорошо, он тебя отпустил, Чемпана нанял в работники. А что с остальными плененными грабителями? Ведь если они предстанут перед судом, то расскажут и о вас.
– Не волнуйтесь, ваша светлость, не предстанут, – успокоительно улыбнулся слуга, заставляя д’Артаньяна удивленно взглянуть на него. – Мсье Оржак избавил их от этой неприятной процедуры.
– Тоже в работники нанять решился или вообще отпустил, – кивнул лейтенант и, считая тему исчерпанной, велел остановить карету и подвести его коня. В такое прекрасное утро ехать в седле куда приятнее.
– Ну что вы, – разочаровал его отставной сержант. – Их нельзя было отпускать. Это отпетые злодеи.
– Запомните, Серж, я не терплю недомолвок, – нахмурился д'Артаньян.
– Когда все улеглось и вы уснули, мы отвели их в лес и казнили.
– То есть как это – «казнили»?
– Известно как, одного повесили, другого зарубили саблей. Слишком уж упирался…
– Так это вы их казнили: ты и Чемпан?
Серж укоризненно посмотрел на графа: «Зачем ему все эти подробности?»
– Казнил, собственно, мсье Оржак. Нужно сказать, что он мастер этого дела. Мы всего лишь помогали. Но вам лучше бы не знать обо всем этом.
– А после казни он снова связал вас, чтобы могли предстать передо мной в ипостаси пленников?
– Важно было убедить.
– То есть вас он уже не опасался. Заставив казнить товарищей, он, таким образом, связал вас куда надежнее любой веревки: обетом молчания, в сохранении которого заинтересован теперь каждый. Если бы мне было известно это, слугой моим ты бы не стал.
– Будем считать, что вы наняли меня в благодарность за то, что помог избавить лес, всю округу от грабителей. Пока мы довезли бы их до городка и сдали полиции, они могли бы убежать.
– Ну и хитер же ты, отставной сержант, висельнично хитер.
– Дело не во мне, а в трактирщике. Во всей этой истории я всего лишь случайный свидетель.
– Почему в трактирщике? Хочешь намекнуть, что я еще не знаю всей правды о нем?
– Считайте, что вы пока вообще ничего не знаете о горбуне, – заверил его Серж.
– Тогда какого дьявола ты испытываешь мое терпение, сержант?
Серж подождал, пока приблизятся остальные попутчики, и только тогда поведал:
– Начну с того, что это уже третья шайка, которую Оржак истребил при помощи случайно прибившихся к нему военных.
– Нужно же ему было как-то защищаться, – вступился за трактирщика де Морель. Однако отставной сержант саркастически улыбнулся и резко помахал пальцем буквально перед его носом.
– Секрет как раз в том и состоит, что сам же он эти шайки и создавал. К нему нередко прибиваются дезертиры и прочие бродяги. Он выбирает из них будущего вожака и по секрету договаривается о том, что тот создает шайку и грабит его постояльцев. При этом часть награбленного бандиты отдают ему, то есть попросту делятся. Но как только эти грабители начинают чувствовать, что награблено ими уже немало, а значит, надо уходить из этих мест и как-то устраивать свою жизнь в тех краях, где их никто не знает, Оржак расправляется с ними, отбирая все то, что они накопили.
Мушкетеры вопросительно переглянулись. Сейчас они чувствовали себя людьми, которых долго водили за нос, как деревенских простачков.
– Кстати, большую часть награбленного члены шайки прячут в самом трактире или где-то во дворе, – окончательно добивал их сержант, – будучи уверенными, что за его сохранность Оржак отвечает собственным имуществом и даже головой. Собственно, он у них выступает в роли казначея. Питаются они тоже у него, расплачиваясь награбленным. Уже дважды кто-то доносил на Оржака полиции, но всякий раз трактирщик выставлял десятки свидетелей того, как сам он оказывался в роли жертвы грабителей.
– А какие у него виды на Чемпана? – спросил Шевалье.
– Считайте, что это будущий главарь. Правда, на сей раз Оржак клятвенно пообещал, что с ним расправляться не будет, только с его подручными. Может, действительно понял, что это неразумно – лишаться прирученного главаря шайки. Нового найти и обучить не так-то просто. Так, значит, вы приказали подать коня, господин граф? – тут же сменил тему сержант. – Молитвенно, молитвенно…
«Странно, что так недооценил этого несостоявшегося палача Оржака, – подумал д'Артаньян, согласившись с тем, что его собственное участие в разгроме шайки лесных грабителей не такой уж большой грех. Скорее избавление края от еще более страшных грехов, которые они могли бы содеять. – Явно недооценил».
– Здесь, в лесах, свои законы и свои суды, ваша светлость! – крикнул Серж, отвязывая коня д'Артаньяна. – Нам ли менять их?!
19
Леди Стеймен появилась на пороге «усыпальницы» маркизы Эжен Дельпомас неслышно, словно ночной призрак. Маркиза узнала о приходе воспитательницы лишь по отражению в зеркале и, хотя сразу же признала в ней одну из сотрудниц пансионата Марии Магдалины, все же от неожиданности вздрогнула.
– Могу направить вам пансионессу Амелию де Мюно, – сообщила Стеймен вкрадчивым голосом камердинера, объявляющего о приходе важных гостей, которые уже стоят за спиной. – Француженка. Шестнадцати лет. Девственна и непорочна, как Дева Мария накануне святого зачатия.
– Она… подготовлена? – так же негромко, доверчиво поинтересовалась маман Эжен. – Я имею в виду: достаточно ли она подготовлена?
Прежде чем ответить, Стеймен ступила несколько шагов. Для маман Эжен не было секретом, что англичанка прибегла к этому, чтобы, при своей близорукости, получше рассмотреть ее четко просматривающееся через прозрачную белую накидку тело. Тем не менее не одернула леди. Наоборот, расправила плечи и повертелась перед зеркалом:
«Любуйся, любуйся, старая закоренелая мастурбантка, – мстительно улыбнулась она. – В свои сорок я все еще выгляжу женщиной, которой могут позавидовать двадцатилетние».
Это было правдой. По-девичьи стройная, с туго налитым, слегка смугловатым, под легкий крестьянский загар, телом, маман Эжен не могла не привлекать внимания мужчин и не вызывать зависти женщин. Тем более что одежда, которую она носила, всегда плотно, вызывающе контрастно облегала ее тело. А слегка удлиненное, благородное лицо с не совсем правильными, но довольно привлекательными чертами все еще обходилось без морщин, по крайней мере, глубоких, удивляя своим естественным, здоровым цветом. Вполне приличествующим женщине, большая часть жизни которой прошла в пределах ее загородного имения «Лесная обитель».
– Подготовлена-то она неплохо. Но, смею заметить, строптива.
– Тем не менее пройдет через то же, через что проходят все остальные. Вы объяснили ей, что встреча и беседа со мной – одно из испытаний на подготовленность пансионессы к трудному «пути к короне»?
– Еще бы, госпожа маркиза! Самым тщательнейшим образом.
– Что это важнейшее испытание…
– Сейчас она в этом убедится.
– …которое выдержали многие наши воспитанницы, добившиеся теперь значительного веса не только в парижском свете, но и при дворах иностранных монархов.
Эжен запрокинула голову, осмотрела в зеркало свою длинную смуглую шею, зная, что именно она, скорее любой другой части тела, предаст ее перед ликом старости, и, лишь убедившись, что особого повода для тревоги пока нет, вновь метнула взгляд в сторону леди Стеймен.
– И даже назвала имена некоторых из них. Например, графини д’Оранж, придворной дамы королевы Польши.
– О да, пример, достойный подражания, – насмешливо подтвердила маман Эжен.
– Как, впрочем, и графиня де Ляфер.
– Это – другое дело. Эта еще заявит о себе. И не только в Варшаве. В общем, вы начинаете понимать истинный смысл подготовки пансионесс к предначертанному всем им пути. Кстати, как ведут себя побывавшие здесь до Амелии?
– Молчат, – брякнула Стеймен то, чего, собственно, маман Эжен и добивалась от нее. – Что там у них на душе – меня не интересует. Главное, что они молчат.
Маркиза слегка поморщилась и устало покачала головой: она явно поспешила хвалить Стеймен. То, что она по простоте своей выложила в самой неприкрытой форме, следовало преподносить более завуалировано.
– Если точнее, никаких лишних эмоций. Молчат и прелюбодействуют. Разбившись на пары, втайне от меня.
– Они постигают, миссис Стеймен, постигают… И теперь им ничего иного не остается, как молчать.
– Я утверждаю то же самое.
Леди Стеймен была ирландкой. Приняв фамилию мужа – англичанина, с которым давным-давно рассталась, – она прибыла во Францию, потому что только здесь могла осуществить мечту детства: выдать себя за чистокровную англичанку. Вот и старалась теперь вести себя так, как умеют только достойные лондонские леди. В Париже она нанималась гувернанткой и давала уроки английского дочери одного молодого дипломата. В пансионат же попала по настоянию герцогини де Лонгвиль[13], которая считала, что пансионесс должны быть знакомы и с нравами соседних королевских дворов, их высшего света, поэтому и преподавать им должны не только француженки, но и иностранки. Она готовила своих воспитанниц к тому, чтобы они способны были завоевать любой европейский двор, подступаться к любой европейской короне.
«Пока императоры безуспешно пытаются завоевывать мир с помощью пушек и беспутных солдат, я завоевываю его с помощью ножек своих распутных девиц», – не раз провозглашала герцогиня, ибо таковым было ее кредо.
– Вводите пансионессу Амелию, миссис Стеймен, вводите. Пусть постигает…
20
Оглянувшись, Диана увидела, что обоз медленно подползает к руинам мельницы, которые она только что осмотрела. Ее удивляло, что ни в самой долине, ни за склонами ее не виднелось ни одного дома. Даже руин. Было что-то пугающее в этой каменистой пустоши, словно графиня попала в долину, где каждый валун – околдованный, превращенный в камень путник.
«Это предчувствие, – сказала себе де Ляфер. – Что-то должно произойти, обязательно что-то должно произойти… Однако изменить что-либо ты не в состоянии. Поэтому положись на ангелов-хранителей».
Она проезжала мимо невысокого холма, и, медленно ступая, конь время от времени дотягивался до сочной травы на склоне. Диана не мешала ему. Закрыв глаза, она бредила Парижем – его балами, его улицами и дворцами; предместьем, в котором располагался особняк ее тетушки, польской графини Кремпской, и где в детстве Диана проводила почти каждое лето… Это благодаря Кремпской уже к шестнадцати годам она довольно сносно владела польским. Но дольше всего перед очарованным воспоминаниями взором ее представал старинный замок графского рода Ляферов, мрачной громадиной возникающий над каньоном реки Уазы, неподалеку от Компьеня.
Даже открыв глаза, она все еще продолжала видеть четырехгранник сторожевой башни замка с огромным металлическим щитом родового герба на крыше; часовенку недалеко от ворот, у подъемного моста; огромный древний дуб, выросший прямо посреди дороги, так, что крона его, подобно зеленому шатру, затеняла и часовенку, и две охраняющие подступы к мосту крепостные башни.
Правда, время от времени мысленному взору ее открывался особняк «Лесная обитель» мадам Дельпомас и стоящий рядом с ним пансионат Марии Магдалины, куда она попала после смерти матери, когда нынешняя владелица пансионата маркиза Дельпомас была еще совсем молодой, почти юной. Впрочем, предаваться своим «пансионатным» воспоминаниям ей не очень-то хотелось. Даже в самых откровенных экскурсах в прошлое должны существовать какие-то нравственные запреты. Исходя из них, три года, проведенные в пансионате мадам Дельпомас, несомненно, подлежали самому суровому табу.
Тем временем беглый богомаз достиг вершины небольшой возвышенности, которая смахивала на естественную, природой созданную плотину, и осадил коня. Всмотревшись в приближающуюся конную лаву, он даже помотал головой, словно пытался отогнать возникшее перед ним речное марево. Однако это было не видение. Молча, без единого возгласа, к возвышенности подкрадывались конники в черных, вывернутых овчиной наружу безрукавных тулупах, островерхих шапках и с копьями наперевес.
Войтек открыл было рот, чтобы крикнуть: «Татары!» – однако слово будто застряло в глотке. И он уже не способен был ни выкрикнуть его, ни закрыть рот. Тем не менее все же хватило мужества развернуть коня, слететь в долину и лишь потом, оглянувшись и не увидев позади себя страшного видения, прокричать:
– Татары! Братове, татары! – потрясал он своим копьем. – Спасайтесь! Они уже за холмом!
– Он кричит: «Татары»? – на всякий случай переспросил Сирко.
– Именно это, – подтвердил ротмистр.
– И, похоже, не шутит, – добавил Гуран.
– Но откуда им здесь взяться?
– Выходит, они появились не со стороны степи, а со стороны Каменца.
– Да померещилось ему!
У Сирко, однако хватило благоразумия не тратить времени на бесплодные рассуждения. Весь его опыт подсказывал, что татары могут появляться где угодно и с какой угодно стороны. Но для тех, кто наладил охранение так же неумело, как это сделали они с ротмистром, чамбулы крымчаков чаще всего появляются из-под земли, и тогда загнать их обратно под землю бывает крайне трудно.
– Татары! – повторил он возглас парнишки, осаждая своего коня. – Обоз к реке! Повозки – в круг! Табор закладываем у руин!
– К реке!
– В табор!
– Повозки в круг! Татары! – сразу же прокатилось по всему обозу, и доселе полусонное движение его было взорвано ржанием лошадей и руганью рвущих узду обозников, пытающихся почти на месте развернуть тяжелогруженые возы, дабы направить их к берегу реки.
Чтобы поскорее наладить формирование лагеря, Сирко помчался к руинам, на луг, на котором когда-то останавливались крестьянские повозки, привозившие на мельницу зерно, и, приподнявшись в седле, очерчивал саблей вокруг себя некое подобие круга.
– Выпрягайте коней! Всем спешиться! Ротмистр! – обратился он к Радзиевскому. – Ведите гусар к табору, в круг! Не губите зря людей!
– Мои гусары за повозками не прячутся, пан полковник! – с гонором ответил ротмистр, гарцуя на пегом жеребце у самых руин, словно у ворот поверженной им крепости. – Они сражаются в чистом поле, как подобает рыцарям.
– По-рыцарски умирать под стрелами татар ваши гусары уже научились – это верно! Самое время учиться по-рыцарски побеждать их! А полевые оборонные лагеря воздвигали еще римские легионеры! Или, может быть, по сравнению с вашими гусарами римляне уже не рыцари?
21
Наконец Войтек и графиня оказались между лагерем и отрядом татар. Они гнали лошадей к обозу, стараясь поскорее соединиться с казаками из охраны, которые уже бросились им навстречу.
Но значительно ближе их были несколько татар, которые, обогнув возвышенность, прошли по ближнему склону между двумя холмами. Заметив девушку, передний татарин привстал и, размахивая луком, закричал:
– Ясыр! Золотой ясыр! – скалился он. – Не стреляй! – остановил он спутника. – Не надо арканить! Золотой ясыр!
Пригнувшись к гриве коня, Диана выхватила из колчана стрелу, вставила ее в лук и, выждав еще несколько секунд, когда мчавшийся наперерез татарин уже буквально дотягивался до узды ее лошади, вонзила ему стрелу прямо в горло. И пока он падал с коня, парнишка храбро вогнал копье в бок второго, несколько подрастерявшегося воина, обличьем своим вовсе не похожего на татарина.
– Кто научил ее так стрелять?! – прокричал Сирко, ведя за собой еще одну группу казаков и гусар.
– Я же говорил: почти год ее обучал всем премудростям войны этот литовский татарин! – ответил ротмистр, показывая клинком на вырвавшегося вперед слугу графини.
Кара-Батыр уже был рядом с госпожой. На полном скаку он сбил стрелой татарина, который бросился с саблей на копье Войтека. Придержав коня, графиня послала стрелу в ближайшего преследователя, но на этот раз промахнулась, потеряв к тому же драгоценное время. И уже не видела, как Войтек сумел прикрыть ее своим телом в то последнее мгновение, когда он еще успевал принять предназначенную ей стрелу.
– Спасайтесь, ясновельможная! – прокричал он, приподнимаясь на коне и изгибаясь под мучительной тяжестью расколовшей его спину стрелы. – Спасайтесь! Пусть хранит вас Господь!..
Стрелявший в нее татарин уже рядом. Еще мгновение – и он дотянется до ее плеча острием клинка. И вот тогда, не оборачиваясь, как бы из-под руки, графиня стреляет из пистолета прямо в запененную морду его коня. Отброшенный выстрелом и болью, конь вздыбился, отплясал на задних ногах предсмертную лошадиную пляску и вместе со всадником завалился набок.
А еще через мгновение добрый десяток казаков и гусар окружили графиню и, прикрывая ее своими телами, отстреливаясь из луков и пистолей от появившегося на склонах возвышенности основного отряда кайсаков, помогли отойти к руинам, под защиту таборного ограждения из повозок.
Поняв, что они наткнулись на хорошо охраняемый обоз, кайсаки из передового отряда скрылись за возвышенностью и подарили казакам и гусарам еще несколько минут для подготовки лагеря к обороне.
– Отведи графиню вон к тем камням, в центр табора! – приказал полковник Гурану. – И пусть спрячется! Пока кайсаки видят графиню, они будут стремиться к ней как к самому ценному трофею.
22
Когда, держа шляпу на изгибе правой руки, перед Мазарини предстал гонец, его лицо показалось кардиналу знакомым.
– Осмелюсь представиться, ваша светлость: лейтенант роты королевских мушкетеров граф д'Артаньян, по личному приказу главнокомандующего принца де Конде. С посланием от его светлости.
– А, это вы… – с нескрываемым разочарованием произнес Мазарини и, с сожалением взглянув на источающий тепло камин, подошел к широкому массивному столу из орехового дерева.
– Мне докладывали, что под стенами Дюнкерка погибло много наших храбрых мушкетеров…
– Это правда, ваше высокопреосвященство.
– К счастью, вы, оказывается, живы.
Мазарини взглянул на висящую напротив картину: залитый жарким летним солнцем залив у мыса Изола-делле-Корренти, неподалеку от городка Пакино на Сицилии. Вид этого южного пейзажа, возвращавшего в один из прекраснейших уголков родного острова, иногда согревал кардинала больше, чем пламя камина.
– Как видите, жив. О чем король Испании и его генералы весьма и весьма сожалеют, – вежливо отзвенел шпорами д'Артаньян, едва заметно склонив голову.
– Боюсь, что не только они, – как бы про себя уточнил кардинал. – Так что же решил поведать нам доблестный полководец?
– Главнокомандующий приказал сообщить вам и ее величеству королеве, что у стен Дюнкерка вновь появилась испанская эскадра с войсками и оружием на борту. Все крепости, занятые испанцами на севере Франции и во Фландрии, спешно укрепляются ими артиллерией, а гарнизоны пополняются войсками.
– Все это оч-чень интересно, – мрачно проговорил Мазарини. – Королеву Франции и правительство ее величества ваше сообщение приведет в неописуемый восторг.
– А также он просит сообщить, что наши войска понесли большие потери.
Мазарини устало посмотрел на мушкетера. Он мог бы и не выслушивать всего этого, ибо то же самое недавно слышал из уст генерала де Колена. Но, с другой стороны, первый министр не мог не принять и не выслушать офицера, направленного ему самим принцем де Конде. Это было бы слишком вызывающе.
– Опять большие потери, – прокряхтев, опустился он в довольно жесткое рабочее кресло. – И это – не овладев ни одной крепостью, не освободив от испанских идальго ни одного дюйма французской территории… Так они и воюют – наши хваленые гвардейцы и лихие королевские мушкетеры.
– Увы, гвардейцев и мушкетеров осталось так мало, ваша светлость, что не стоит огорчаться. А войско, набранное в провансальских и шампанских деревнях да в местечках Нормандии, вызывает у нас, офицеров, лишь горькие улыбки. Было бы странно, если бы, имея таких новобранцев, мы сумели бы взять хоть какую-нибудь полуразрушенную крепость.
– Но-но, лейтенант. Развязность мушкетеров общеизвестна, тем не менее… Что там у вас еще?
– Прошу прощения, ваша светлость. Но это и мнение командующего. Принц де Конде просит вашу светлость настоятельно потребовать от военного министра новых подкреплений. Без них армия вряд ли сможет продержаться до конца летней кампании.
– Подкреплений, оружия, фуража… Впрочем, чего еще можно ожидать от такой армии? – задумчиво проговорил кардинал, давая понять, что хотя он и не одобряет рассуждений лейтенанта, однако вполне согласен с его пониманием того, в каком положении оказались сейчас войска принца.
– И еще он убедительно просил добиться приема на королевскую службу хотя бы двух-трех полков иностранных наемников.
– Имеющих достаточный военный опыт, – кивал Мазарини.
– Именно так.
Несколько секунд Мазарини молча просматривал лежащие у него на столе свитки бумаг, словно полки наемников могли появиться от росчерка его пера, потом удивленно уставился на д'Артаньяна.
– Однако я не вижу самого донесения.
– Его светлость принц де Конде велел передать все это на словах. В пути гонцов подстерегают испанские разъезды.
– Дело дошло до вражеских разъездов в наших тылах?
– Предосторожность, ваше высокопреосвященство.
– Принц, очевидно, считает, что все это является великой тайной для испанских лазутчиков? – снова мрачно улыбнулся Мазарини. – Неужели?
– Видите ли, как человек военный, принц прибегает к таким мерам безопасности…
– Вы свободны, господин д'Артаньян, – сурово прервал его кардинал.
– Безудержно рад этому, ваша светлость. Когда прикажете возвращаться в войска?
Не поняв сути вопроса, Мазарини снова удивленно взглянул на него. И лишь потом догадался, что в такой форме лейтенант пытается выяснить, с чем, с каким ответом ему возвращаться в ставку командующего.
– Ах, да, – не глядя на д'Артаньяна, произнес кардинал. – Ответ повезет другой офицер. Что касается вас, граф, то приказываю пока что находиться при дворце. Вы еще можете понадобиться.
– Рад служить, ваша светлость. Честь имею.
23
Первый удар конницы Бохадур-бея казаки встретили за мощным щитом из повозок с поднятыми вверх оглоблями, между которыми успел вырасти частокол из копий и острых рогачей, составлявших вооружение тридцати воинов из обозной челяди. Пока одна часть казаков, прячась за повозками, создавала этот убийственный для кавалеристов частокол, другая выкашивала кайсаков залпами из ружей, луков и пистолетов.
Лишь незначительная часть казаков осталась за внешним обводом лагеря, прикрывая четыре запоздавшие повозки, которые только сейчас подошли к обозу. Челядники и казаки едва успели развернуть их и поставить в два ряда между табором и мельницей, руины которой уже добрых полвека зарастали травой на крутом речном утесе.
Однако полностью перекрыть проход между табором и руинами эти подводы не смогли. Татары прорывались между ними и мельницей. После первого же натиска кайсаков это заставило гусар и челядников выходить за пределы табора, ввязываясь в обычную схватку, используя при этом руины как крепостные валы.
24
«Лесная обитель» маркизы Дельпомас располагалась всего в двадцати верстах от Парижа. Однако каждого, кто попадал сюда, не покидало ощущение, что он находится в каком-то замкнутом, отчужденном от всего происходящего в столице и окрестных местах, мире. Отсюда Париж начинал казаться таким же далеким, как островные колонии у берегов Африки.
С севера и северо-запада небольшое имение Дельпомас отделялось от остальной территории изгибом высокого каменистого берега реки. А с востока к нему подступал густой, сохранившийся в первозданном виде бор, от которого начиналась цепочка небольших, непроходимых болот, заполняющих собой пространство между лесом и рекой.
И бор, и одичавший пруд, и старый заброшенный парк, разбитый на прибрежных оврагах у самой «Лесной обители», по размерам своим были почти миниатюрными, но все же их вполне хватало, чтобы отваживать от визитов празднолюбопытствующие семейства из ближайших селений, создавая иллюзию отдаленности и нелюдимости этого уголка.
Сама усадьба маркизы состояла из двух обнесенных высокими оградами особняков, между которыми, стена к стене, располагались дома для прислуги, конюшни и всевозможные бытовые строения, поставленные таким образом, чтобы в промежутке между оградами образовался еще один, крепостного типа двор – с колодцем и лужком посредине.
Единственная дорога, ведущая в «Лесную обитель», перекрывалась воротами еще за озерной полосой. И хотя они легко отворялись, каждый случайно оказавшийся у них человек должен был задуматься, ждут ли его за этой преградой.
Маркизе Эжен едва исполнилось девятнадцать, когда прибывший из имения кучер, анатолийский турок Гафиз, увез ее из Парижа, где она прожила последние два года. Ее сорокалетняя мать почувствовала себя крайне плохо и решила, что обучение дочери следует прервать. А через неделю после появления в имении Эжен стала полновластной хозяйкой «Лесной обители». В том числе и пансионата Мария Магдалина.
Умирая, мать не сомневалась, что Эжен станет мудрой хозяйкой «обители» и надежной покровительницей двенадцати юных девиц, находившихся в то время у нее на содержании. Но она и предположить не могла, сколь быстро дочь войдет в эту роль, создав своему пансионату такую славу, что о нем заговорят во многих дворцах и салонах. Что уже через два года на него станут поступать большие пожертвования, при которых жертводатели нередко предпочитали оставаться неизвестными широкому кругу; да к тому же появятся влиятельные покровители.
Леди Стеймен ввела Амелию, держа ее обеими руками за плечи. Остановила между высокой кроватью, на которой сидела маркиза, и низким трюмо и заставила посмотреться в зеркало, повернув спиной к Эжен. В такой позе маркиза могла видеть ее всю.
Амелии только-только исполнилось шестнадцать. Даже свободная, спадающая с ее плеч кисейная рубашка-накидка не могла ни скрыть, ни исказить красоты и нежности очертаний ее тела.
– Из этой девушки вырастет достойная леди, – чопорно произнесла Стеймен, подчеркивая английское восприятие французского произношения. – Она прекрасно обучена. И, думаю, вам понравится.
Маркиза не ответила. Слова воспитательницы явно предназначались юной пансионессе. Впрочем, леди Стеймен и не нуждалась в ответе маман Эжен. Невысокая, полнеющая, рыжеволосая и совершенно не похожая на ту английскую леди, какой ей хотелось выглядеть, Стеймен повернулась и, стараясь подражать походке «истинных леди», – что, как давно заметила Эжен, ей очень плохо удавалось, – направилась к выходу.
У самой двери она задержалась ровно настолько, сколько нужно, чтобы погасить стоящие на маленьком столике свечи. В комнате осталась только одна свеча – на прикроватной тумбочке у изголовья маркизы.
– Как вам живется в моем пансионате, Амелия?
– Я признательна вам, госпожа маркиза, – дрожащим от волнения голосом заверила Амелия.
Ее отец, артиллерийский майор шевалье[14] де Мюно, был казнен два года назад как участник заговора против Людовика XIII. Мать умерла через неделю, не выдержав тоски по мужу и клейма «жены заговорщика». Амелия была настолько бедна, что родственники-попечители не в состоянии были оплачивать даже часть ее содержания. Тогда-то и возник вопрос: а следует ли ее вообще принимать в пансионат? Эжен Дельпомас приняла. Бедность девушки не смутила ее. Основной девиз пансионата: «Бедная, но красивая, безродная, но родовитая», провозглашенный еще матушкой Эжен, свято выдерживался. Все воспитанницы остались без родителей, но были дворянского происхождения, молоды и обязательно красивы. Правда, в прошлом году маман Эжен несколько отступила от первой части этого правила и приняла четырех нетитулованных девиц, но только для того, чтобы со временем они могли стать достойными служанками некоторых пансионесс.
– Ты многое познала в моем пансионате, многому научилась, разве не так? – предстала перед воспитанницей Эжен. Руки ее слегка прикоснулись к лицу Амелии и медленно, обдавая старательно вымытое, благоухающее пряностями (леди Стеймен заботилась об этом) тело девушки завораживающим теплом, соскользнула вниз, очерчивая мягкими, плавными движениями шею, грудь, талию, бедра.
– Все верно, госпожа маркиза, – пролепетала Амелия. И Эжен слышала, как дробно застучали зубки девушки, словно ее голую выставили на мороз.
– Но есть главное, что ты должна познать. Я имею в виду святость близости двух трепетных тел. Тайну великого обладания телом своего партнера. Или партнерши, – добавила она как бы между прочим.
– В-вы правы, – с трудом совладала с собой юная Амелия. Теперь она дрожала всем телом – ссутулившись, съежившись, уподобившись подброшенной дворняжке.
На бедрах руки Эжен задержались. Они уже откровенно ласкали тело девушки. Эжен ощутила, как девушка сначала отпрянула, но, услышав резкий приказ маркизы: «Терпеть, терпеть! Играть, словно ты в театре!» – вернулась в прежнюю позу и прижалась ногами к налитым, точеным бедрам владелицы пансионата.
– Ты должна уметь очаровывать, соблазнять. Это не правда, что женщина отдается. Отдаются только безумные матроны, многодетные дуры. Настоящая леди должна не отдаваться мужчине, а овладевать им. Как и женщиной, с которой ее сведет судьба, – снова доверительно уточнила маман.
– Но с женщиной… С женщиной зачем? Это ведь противоестественно, – почти прошептала Амелия, вновь подпадая под власть ее рук.
Лицо Эжен передернула великосветская ухмылка. «Противоестественно? Кто и когда успел убедить тебя в этом, глупышка?..» Чего стоит пансионесса, которая, пробыв в «Лесной обители» почти год, все еще считает ласки двух женщин противоестественными? Чем занимается в пансионате эта ирландская корова Стеймен? О чем она говорит с Амелией в своих «великосветско-доверительных» беседах? К чему, к какому способу жизни готовит?
– Это ты так думаешь, милашка, что противоестественно. Жизнь, однако решает иначе. «Путь к короне» в большинстве случаев лежит через сердце властных, любвеобильных женщин. Причем, увы, не только путь мужчин.
«Путем к короне» у Эжен назывался любой путь к вершине успеха, к которому девиц готовили здесь в течение всех трех лет.
– Я не совсем понимаю вас.
– Разве тебе не объясняли, пансионесса Амелия?
– Объясняли. Но я думаю, что это библейский грех. Наверное, так должны думать все остальные женщины.
– А ласки мужчин – разве не библейский? Мужские ласки, прелюбодеяние с мужчинами разве освящено Богом? Разве любое возлежание с мужчиной, пусть даже с мужем, не есть отголосок первородного греха? – спокойно, вкрадчиво, с кокетливой нежностью в голосе убеждала ее Эжен. – Так чего нам бояться? Бог позволяет грешить, но Он же и позволяет искупать свои грехи в молитвах. Молодость нам дана для греха, но старость-то существует для искупления. Разве не так? Правда, иные и в старости умудряются грешить ретивее многих молодых. Уж можешь мне поверить.
Амелия даже не заметила, как маркиза легонько подвела-подтолкнула ее к постели. Как оказалась позади нее. Поняла это, лишь когда ощутила жаркое дыхание маркизы у себя на шее, а прикосновение ее упругой груди – на судорожно вздрагивающей спине. В эту же минуту, словно по мановению сатаны-искусителя, погасла последняя свеча, огарок которой был рассчитан маркизой именно на это время. И они, со всей своей греховностью, остались наедине с мраком ночи и греха.
Руки Эжен сначала нежно легли на едва очерченные груди девушки, потом страстно обхватили их и наконец больно, яростно, остервенело вцепились, повергая растерявшуюся пансионессу в бездну мягких перин, пламя эротического пожара, в пропасть странных ночных влечений, печать которых неминуемо останется отныне на всех ее женских грезах, страстях и представлениях.
– Но то, что происходит сейчас, не имеет никакого отношения ни к первородному греху, ни к его сатанинским извращениям, – подала ей маман Эжен адамово яблоко, по-змеиному спускаясь с ветки своего житейского опыта и окончательно обнажая при этом тело пансионессы, которая вновь, теперь уже в постели, оказалась лицом к властительнице греховного ложа. – Это всего лишь урок. Обычный урок, с которого начинается высшее познание сути женского предназначения, великосветской нежности, соблазна, – страстно шептала Эжен, прикасаясь губами к губам Амелии, к нежным соскам ее груди и снова возвращаясь к губам, чтобы сжать, завладеть ими в нежном, но сладострастном поцелуе…
Эжен помнила, что при маман Мари нравы пансионата мало отличались от женских монастырей. Но вот незадача: очень скоро маман Мари убедилась, что знатные молодые люди, которым она предлагала своих выпускниц, – получая за это дорогие подарки и пожертвования, – искали в ее преуспевающих в знании Библии и молитв выпускницах не раскаявшихся правоверных грешниц, а совсем наоборот. Как оказалось, им нужны были блистательные дамы, умеющие вести себя в обществе, покорять высший свет, царствовать на балах и священнодействовать в постели.
А поскольку большинство женихов были честолюбивыми провинциалами, то их невесты еще и должны были помогать им прокладывать «путь к короне», делать головокружительную карьеру. Маман Мари понимала это, однако переломить себя и отказаться от замысла так и не смогла. Тем более что в последние годы она болела и не желала отяжелять свой путь к Господу еще и грехами пансионесс.
Растерянная, подавленная, обессиленная охватившей ее страстью, Амелия уже не сопротивлялась. Она задыхалась от дерзких поцелуев Эжен, устремлялась навстречу неизведанным ласкам, о возможности которых еще несколько минут назад даже не догадывалась, и наконец, оказавшись окончательно подмятой телом маркизы, покаянно закричала. Она и представить себе не могла, что в хрупкой, удивительно женственной и непостижимо молодой фигуре маман Эжен сокрыта такая грубая мужская сила. И такая дикая страсть.
Да, в свое время маман Мари не в состоянии была пересилить себя. Но как только у пансионата появилась новая, вернувшаяся из Парижа, хозяйка, все здесь резко изменилось. Буквально в считанные дни. Особенно это заметно стало после того, как «Лесную обитель» неожиданно посетила герцогиня д’Анжу…
25
Увлекшись схваткой, ни Сирко, ни Гуран не заметили, куда исчезла графиня. Даже Кара-Батыр, клятвенным заветом которого было охранять ее, и тот, едва отбившись от наскока какого-то плюгавого валаха, несколько минут растерянно оглядывал лагерь, бросая своего скакуна из одной его стороны в другую.
Карету Дианы де Ляфер поставили в ограждение табора. Между двумя валунами, в том месте, где он подступал к руинам мельницы. Саму же графиню принудили остаться внутри этой походной крепости, между россыпью островерхих камней, один из которых в первые минуты атаки служил для Сирко наблюдательным пунктом.
Однако стоило атаману сойти с россыпи, как графиня метнулась под состыкованную с каретой повозку, проползла под ней и, прячась под свисающим мешком, вонзила стрелу в подреберье хищно бросившемуся к ней кайсаку.
Выпуская вторую стрелу, графиня слишком неосторожно высунулась из укрытия. Стрела вонзилась в коня сражающегося рядом с ней ордынца. Тот заметил стрелявшую, нервно оскалил зубы в предчувствии добычи и, тремя ударами свалив наседавшего на него гусара, метнулся к Диане.
Графиня едва увернулась от его сабли, конец которой пропорол набитый тканью мешок, перекатилась под повозкой на другую сторону и, оказавшись под прикрытием таборного вала, вогнала стрелу прямо в живот приподнявшемуся в седле татарину.
Она сражалась, как могла, оставаясь один на один с кайсаками, и уже заметивший ее Кара-Батыр ничем не мог помочь. В ту самую минуту, когда слуга взглядом отыскал графиню за внешним обводом лагеря, конь его, сраженный пулей, осел на задние ноги, и татарин едва успел соскочить, чтобы не оказаться придавленным к земле мощным крупом. Теперь он жонглировал двумя саблями, словно пытался защитить павшего товарища от подкрадывающихся к его телу спешенных кайсаков.
Поняв, что Кара-Батыр дарит ей несколько минут передышки, графиня решилась на небольшую хитрость. Держа в одной руке лук с поставленной на тетиву стрелой, а в другой – пистолет, она подбежала к карете.
Брошенное кем-то копье пробило стенку рядом с локоном ее волос именно в то мгновение, когда Диана ступила на подножку. Но все же она успела вскочить вовнутрь и, открыв другую дверцу, прямо из кареты выстрелила в противника Кара-Батыра. Второй кайсак ошарашенно оглянулся на нее, но этого оказалось достаточно, чтобы, дотянувшись концом клинка, Кара-Батыр рассек ему гортань.
При виде этой страшной сцены Диана передернулась всем телом так, словно удар настиг ее саму, и, отпрянув, припала к спинке сиденья, стараясь отрешиться от всего, что происходило за стенками хрупкого убежища. Даже прошедшая мимо ее лица пуля, которой кто-то из сражавшихся пробил переднюю и заднюю стенки кареты, не смогла вовремя привести ее в чувство.
Съежившись, вжимаясь в мягкое сиденье, она не видела, как, оттесняя кайсаков, протиснулся между каретой и повозкой Сирко с двумя закованными в железо польскими гусарами; как, стоя на полуразрушенной стене мельницы, зажимал разорванный пулей живот какой-то загнанный туда татарами казак. И лишь когда, врубившись саблей в верх кареты, в нее заглянул ордынец, бритая голова которого была увенчана широким уродливым шрамом, она опомнилась и, чисто по-женски ткнув ему в лицо дулом незаряженного пистолета, выскочила через противоположную дверцу, чтобы вновь оказаться в лагере.
Броситься вслед за ней татарин уже не мог, пришлось встречать клинок Кара-Батыра, сумевшего каким-то образом снова раздобыть себе коня.
А еще графиня успела заметить, что Сирко, вместе с могучими гусарами из охраны обоза, успел прорваться к тем нескольким полякам, которые, засев в руинах мельницы, отбивались от наседавших кайсаков. Зловонная отара безрукавных татарских тулупчиков овчиной наружу черной стеной напирала на лагерь почти со всех сторон. Вот тогда графиня с ужасом поняла: все намного страшнее, чем она предполагала. Казаки и гусары не продержатся и часа, кайсаки просто-напросто сомнут их. Лагерь из повозок оказался слишком слабым укреплением, чтобы они смогли устоять перед этой могучей шайкой грабителей.
Единственное, чего она не сумела увидеть, – невесть откуда взявшегося позади нее, на склоне долины, отряда хорошо вооруженных, закованных в сияющие доспехи воинов. И была ужасно поражена и напугана, когда вдруг услышала могучее, словно рев прорвавшего плотину водопада: «О-да-а-ар! О-да-а-ар!»
26
Из боковой двери снова появился секретарь. Он подошел к столу, окинул его взглядом и, поняв, что кардинал все еще не прикасался к почте, выжидающе уставился ему в спину.
– Судя по всему, этим летом в Дюнкерк они так и не войдут, – мрачно проговорил Мазарини, стоя у камина. Однако Франсуа не понял: заметил ли хозяин кабинета его появление или же по-прежнему рассуждает сам с собой. – Тем временем война с Испанией грозит перерасти в еще одну Столетнюю. И в ближайшие два-три месяца мы не сможем направить принцу сколько-нибудь надежного подкрепления. Разве что две-три сотни наемников да роту мушкетеров. И это – в ситуации, когда, добиваясь хоть какого-то перевеса в войне, по существу следует вооружать всю Францию.
– Позволю себе заметить, – сказал Жермен, уловив паузу в монологе кардинала и склонив голову в вежливом поклоне, – что «Газетт де Франс» сообщает об ухудшающихся отношениях между Оттоманской Портой и Венецией.