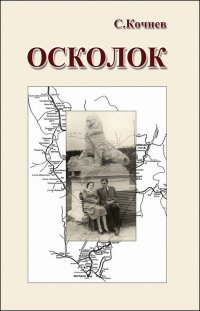
Читать онлайн Осколок бесплатно
- Все книги автора: Сергей Кочнев
© Кочнев С., текст, 2016
© ООО «Страта», 2016
* * *
…И вот я, как есть изначально, человек, в мире людей одинокий, повесть начинаю простыми, присущими языку словами… звезда моя на исходе, и силы мои на исходе, и самая жизнь на исходе своём. Только мысли ещё бередят и тревожат, но голове всё тяжелее носить их. Догорает свеча, уже и не светит, а чадит, ворчит, потрескивая.
Потеряно всё, что можно потерять, и оно, потерянное, саднит, как невырезанный осколок, как оставленная в операционном белом холоде конечность. Все страшное уже случилось, потому и бояться не надо: нé за кого и нé за что. Вот я и не боюсь, даже людей не боюсь, а уж хуже их – только смерть сама, если есть она. Потому что, если нет её, а есть какая-то дальнейшая жизнь среди тех же людей – тогда где же рай? где же ад?
Часть I. Василий
Отец мой, трудно прожив долгую свою жизнь, тихо ушел на моих руках. Последнее, что он сказал, нет… не знаю, как объяснить, пожалуй – выдохнул, был вопрос: «Неужели я умираю?» – но только сейчас я начинаю понимать, что не было страха в том вопросе, а было желание долгожданного и скорейшего освобождения, успокоения, счастья…
Шаляпин, царь-батюшка и Махно на троне
Пригород Чернигова, где в молодой семье моего деда – тюремного надзирателя – Михайло Михалыча Бублéя и Матрёны Ивановны Бублéй (до замужества – Шикуты) весной, с пробуждением всего, пережившего зимнюю снеговерть, родился он, первенец, которого в честь святого Василия Василием и нарекли… так вот, пригород этот звался, и сейчас зовётся Бобровица.
Что в «таёй», как любила говаривать бабушка, Бобровице замечательного? Да ничего. Крытые гнилой соломой крыши на покосившихся хатах, земляные полы, по которым в далёком детстве мне, удивлённому городскому жителю, так сладко было бегать босиком. Одна баня, одна школа, спрятавшаяся за высоченными неохватными деревьями, одноэтажная и крепкая. Пылища, после дождя становящаяся знаменитой непроезжей грязюкой… Впрочем, когда родился Василий, Бобровица и пригородом ещё не была, а была недалёким от города селом, раскидистым и неопрятным.
Но зато Десна! Вот чудо. Вот ради чего прилепилась тая Бобровица всеми кореньями к земле – не оторвать! И глядит – не наглядится в спокойную зеленоватую воду Десны.
Но отвлёкся я что-то, на лирику потянуло не к месту…
Позднее в семействе появились ещё два пацана – средний Григорий и младший Иван – но было это уже после возвращения Михаилы Бублéя из австрийского плена в 15-м году. Трое детей, все пацаны, счастье-то какое! Живи да радуйся… Только не успело счастье, где-то по дороге в сторону забрело…
Михайло был крутого нрава, да, пожалуй, по-другому и не могло быть, потому что предок его дальний, тоже Михайло Бублéй, куренной атаман вольного запорожского войска, зверюга был ещё тот. Это у маляра кацапского Репина на картинке в журнале они все веселые, забавные, письма разные пишут и хохочут от души, а как на деле, то не только вражеской крови, но и безвинной реки пролили. Ох, Михайло-предок атаманскую власть очень на своих любил и шомполами, и плеточкой поперёк спины утвердить, да чего там – и животы вспарывал, и головы рубил. Может когда и справедливо, только всё равно сволочью был редкой. Вот и отозвался нрав в потомке: дед мой, Михайло, был чрезвычайно немногословен и суров. Матрёна боялась его гнева, как страшного суда, а потому очень скоро пылкая любовь юношеская превратилась в семейную каторгу.
Так вот и жили: она ни слова против, дрожа от любого неласкового взгляда, он всё больше молча, и кулаком в зубы тоже молча.
Оба были работящие, дом Бублéев скоро стал одним из самых крепких в селе: земли под участком соток двести было – и сад, и огород, скотины домашней немерено: свиньи, овцы, коровки, даже три лошади было и конь Кавун, красавец чисто белый без единого темного пятнышка. Яблонь в саду штук двадцать, антоновка по большей части, но и белый налив и шафран, да слива-ренклод и какие-то еще другие, не помню всех, да груши сахарные. Да всякой ягоды, да цибуля, да бульба… Ой, да что там говорить! Все было, все! Где оно теперь? Там, в темном далеком далеке, которое собирается все реже из разбросанных по памяти осколков детства, отцовых рассказов, тревожит по ночам.
Михайло, как только объявили мобилизацию на империалистическую в 14-м году, был весь в сборах и уже через неделю месил фронтовую грязь, пройдя только учебные стрелковые трехдневные сборы. А чего его долго учить? Тюремный надзиратель по обязанности человек вроде как военный, да еще прапорщик к тому же. Ну и что, что ключами гремел, а не затвором винтовки. Честно сказать, тюрьма была спокойная, за все годы службы Михаилы, ни одного серьезного бунта или там побега, так что иногда надзирателям от скуки, или чтобы форму поддержать, самим приходилось покорных заключенных на шалости подбивать. Ну, это чтобы звание очередное или прибавку к довольствию поскорее получить.
Да что, сейчас у нас не так, что ли? Я, вон, студентом еще, подрабатывал в метро, по ночам полы надраивал машинкой, так, помню, как-то крушение поезда было – ерундовое, не ушибся даже никто, так, тряхнуло только. Господи! Шуму, как на базаре! Мгновенно комиссия какая-то ниоткуда взялась, разбирали, проверяли. Машинисту премию за проявленный героизм наобещали… только не дали, разобрали потому что – он сам «крушение» и устроил: дрезину с запасных путей умудрился боком на основные выдвинуть и рубанул в нее. Очень хотел премию получить… Получил… По башке.
Да. Вот так. Месил грязь военную Михайло недолго, потому что немецко-австрийские браво-ребятушки как фукнули… газом, что ли, так целый полк и сдался в плен, и Михайло с ним заодно. Наверно, чтоб от кампании не отбиваться. А немецко-австрийские ребятушки, они не только бравые были, но и хитрые. Зачем целый полк в расход пускать, когда он может запросто гуманитарную помощь в виде бесплатной рабочей силы фатерлянду оказать? И поехал полк до фатерлянду, только почему-то в вагонах под замками. А как приехали в этот самый фатерлянд, так Михайло первого помещик ихний забрал в батраки и еще двоих с ним.
Работали наши вояки в батраках, а помещик мировой парень оказался – и кормил на убой, и письма на «ридну батькивщину» писать заставлял, и выходные дни устраивал, и пиво со шнапсом на спор, кто больше, с горилкой сравнивал. Нет, серьезно, кончился плен Михайло тем, что помещик фатерляндский ему телегу дал, коня, велосипед «Дуглас» с деревянными шинами и граммофон с одной пластинкой – Шаляпин что-то там про сокола пел на русском языке – и сам все бумаги оформил, чтобы Михайло до дому отпустили.
Что точно пел там Шаляпин, я не знаю, отец, когда мне все это рассказывал, уже болел сильно и многое забывать стал, но знаю, что, когда Михайло на телеге из плена в Бобровицу заявился, героем всемирного масштаба стал, еще до дома не доехав. И велосипед, и граммофон в Бобровице, как чудо дивное разглядывали, и ради просвещения темного народонаселения, Михайло стал проводить ознакомительные сеансы прослушивания пластинки под собственным строгим контролем.
Бобровица сначала удивилась до крайности, а потом так полюбила Шаляпина, что когда из соседних сёл мужики приезжали фатерляндское чудо послушать, стенкой становилась: «Нэ тримай!» И, с правой, в глаз! – чтобы уважали сильнее.
Так что под тупой стук зуботычин вернулся скоро Михайло к любимой работе – снова надзирателем стал. Ну а дома, в хозяйстве, все, как и раньше – по большей части молчком. Так молчком с Матреной еще двоих пацанов состругали.
Год почти прошел после плена, а тут вдруг ходят с утра люди по всем домам, стучат и громко разговаривают, приказывают как будто. Михайло, человек с велосипедом, патефоном и Шаляпиным – уважаемый в селе – узнать вышел, что за шум в камере… тьфу! на улице? Влетает обратно, чуть башкой притолоку не снес начисто – ЦАРЬ едет!!!
– Матрена, собирайся и старшего бери! Такее наше делечко… да юсё, да юсё… Да швидче же!
Вдоль всей улицы, что через Бобровицу выходит к Чернигову (она одна тогда и была) народу невиданно – встречают царя-батюшку. Ждали почти два дня, побросав хозяйство, а домой не уйдешь – пропустить боязно: проедет царь, и не увидишь его, не скажешь ему, родимому, что наболело, если близко допустят, не поклонишься даже. Гоняли мужики жен до дому за харчем и горилкой, тут же на обочине перекусывали и снова ждали. Кстати, пока ждали, ни одного… мордобоя в селе не было… А в тюрьме был, первый самостийный за всю историю, вору одному руку и ребро сломали. За что? Не знает никто – надзиратели все, кроме нескольких дневальных, тоже царя встречали.
Думаете – глупость, придумываю все? Да думайте, что хотите. У нас принято вранью раньше правды верить. Сколько нам всякого Борис про рельсы наобещал? Что, верили? Вот и продолжайте. И мужики верили и дождались. Показалась красивая карета, в ней он сам, да еще тетка какая-то в пышных платьях, еще два барина, а на запятках господин в золотом расшитой одежде, сперва его-то за царя приняли. Приготовились мужики душеньку царю-батюшке излить, на произволы пожалиться, только сперва поклонились в землю, как положено. А когда распрямили спины согбенные, то увидели, что карета, покачиваясь, удаляется, не остановившись. Правда, говорил один болтун потом, что царь-батюшка из кареты рукой помахал, только вот ему-то я, как раз, и не верю. Потому что болтун этот Матрене братом приходился, Андрей звали, царство ему небесное, значит, мне он дед был двоюродный. Помню я его хорошо, все на завалинке сидел, борода длиннющая лопатой, курил…
Да, одну вещь я вспомнил, мимо которой никак не проскочить. Замечательного в Бобровице особо-то и не было ничего, кроме Десны, да ещё фамилий разных. Бублéй и Шикута, это цветочки, а вот послушайте: Петро Сорока, Микола Непейпиво, Андрий Великашапка, Борода, не помню имя, Горбатый, Андрий опять же. О, фамилии! Правильно писатель Гоголь (тоже фамилия!) заметил: силен наш народ прозвища давать. Прицепляются потом эти прозвища, как репей, к потомкам переходят фамилиями. Уже не помнит никто, почему Непейпиво? И живет себе человече, радуясь затейливой игривости ума. Да, вот, значит, деду Андрею не верю я, не то чтобы не махал царь никому рукой, только, может, и не царь это был… Но на Василия этот неспешный проезд красивой кареты как-то по-особому подействовал. До последних дней своих часто вспоминал он, как пацаном царя видел. Шел ему уже четвертый год, а детские впечатления занозами в памяти сидят до конца…
- …Я помню тот Ванинский порт
- И рёв пароходов угрюмый,
- Как шли мы по трапу на борт
- В холодные мрачные трюмы.
- На море спускался туман,
- Ревела стихия морская.
- Лежал впереди Магадан,
- Столица Колымского края…
О, махнул куда! – скажет удивлённый читатель, – Магадан-то тут при чём?
Ой, не спеши, славный мой человек, удивляться. И Магадан ещё будет, и многое чего. Оно ведь как? Отражается в ясных любопытных детских глазёнках поблёскивающая золотом карета, небо далёкое, манящее отражается… Светлы детские глазки, ни облачка в них, ни думки тягостной, а потом – бац! – и вот уже в них сопки бескрайние, утыканные стлаником, ветрюга слезу вышибает и полнейшая безнадёжная неизвестность – завтра вот захотят, и к стенке поставят, а может не поставят, а просто в затылок пальнут… или не пальнут? Кто знает?
В Магадан ведь в начале 30-х мало кто по своей воле добирался, ну разве геологи. Немногочисленное тогда народонаселение колымское строго делилось всего на два «класса»: охранников и охраняемых. И первые, и вторые ехали туда не от страстного хотения – одни по приказу, другие по приговору.
К классу охраняемых относился и Василий, приехал, значит, по приговору.
Только до этого о-го-го ещё сколько, а пока в детских глазках – золочёная карета и небо… Не заметили глазки ни революции, ни новых властей. Детство такие события не интересуют. Интересуют его ночная рыбалка, купание до посинения, да ещё три до невозможности грязных человека, что лошадей привязали прямо к забору и в хату вошли не поклонившись.
– Указ слышали? – грозно спросил тот, что помоложе.
– Який указ? – Матрёна, аж рот разинула и ростом, будто, ниже сделалась.
– Тот указ, что ты, баба, должна вольную армию батьки Махно кормить и всё, шо треба, на нужды армии добровольно жертвовать! – самый грязный, что в обмотках был и с огроменным фурункулом на шее, подошёл к столу и без дальнейших слов ухватил краюху ещё горячего ржаного подового хлеба.
– Ой, божечки мои-и-и-и! – заголосила Матрёна, как голосят с начала времени испуганные бабы, и попыталась двинуться к двери… Бежать же надо, кого-нибудь звать. Потянула за рукав Васятку… Только приятели того, что с фурункулом, хохотнув, шасть к двери и за шашки взялись. Пугнуть хотели, наверное.
Васятка выкрутился из мамкиных рук, успел прошмыгнуть межу страшными дядьками и сиганул в дверь, слыша сзади страшный топот и улюлюканье. Пулей облетев огород и оказавшись у тыльной стороны хаты, прильнул, согнувшись в три погибели, чтобы из избы не заметили, к запылённому окошку. Сердце лупилось, страшнее зверя в западне, кровавая пена подступала к горлу. Там, в хате, ногами пинали грязные ироды мамку. Она колодой валялась на земляном полу, закрывая руками голову.
Казалось, взмыл Васятка над землёй и быстрее самой быстрой птицы понёсся к отцу, тот на дежурстве в тюрьме был. Почему к соседям не рванул? Так тётка Галя, что справа соседи, и дядька Петро, что слева, на ярмарке ночевать остались, они так всегда по три ночи там ночевали. А дальшие соседи, двора четыре по дороге, свадьбу справляли в соседнем селе. Их ещё дня три потом не было – гуляли.
На полдороги где-то Васятка отца увидал – отец с дежурства возвращался – это, правда, километров уже пять от хаты было.
– Тятька, швидче!!! Ироды мамку вбивают! – захрипел Васятка, воткнувшись с лёту в живот отца и трепеща, как подбитая птица. Кричать не мог, горло перехватывало от стремительности бега.
Ничего не спросив, отец подхватил сына подмышки, взгромоздил на закорки и вместе с ним рванул бегом до дому.
– Тятька, швидче, швидче!!! – колыхаясь на закорках, как телега по колдобинам, твердил всю дорогу Васятка.
Вот уже и хата… только нет привязанных у забора лошадей, а мамка, слава господу, есть, скрючившись сидит на пороге, лицо вспухшее отирает подолом и вздыхает, как больная собака.
Отец первым делом не к мамке, в хату кинулся за винтарём, а нет винтаря! Ногайка только висит за дверью и разгром кругом полнейший. Уж тогда он к мамке: «Идé подлюки!? Куды потикали?» Мамка губами разбитыми зашевелила, а сказать не получается, рукой только слабо махнула в сторону, на карачках поползла в хату и попробовала залезть на кровать… Тут отец стал ей помогать, смочил тряпицу горилкой, начал лицо отирать. Она как заверещит – больно же! Потом отец подорожника вдоль тропинки в огороде нарвал, сделал матери что-то навроде повязки на лицо. Только всё равно, через час примерно, вместо лица мамкинова синева сплошная образовалась с узенькими щёлочками, где глаза были.
Далее обнаружилось, что Шаляпина нет, спёрли, сволочи, и патефон, конечно, тоже. А ще борова закололи и так, по мелочи, если не считать винтаря, ещё кое-что с собой уволокли. Гады, в общем, грабители пакостные.
Потом Михайло расследование начал производить. То есть, оседлал Кавуна и по всем соседям, кого застал, проехал. Только про иродов поганых так и не узнал ничего, зато узнал, что указ действительно был, ещё вчера. Трое или четверо полупьяных конных въехали в Бобровицу, один в трубу трубил, другой ногайкой в окна колошматил; и всем орали, что в село входит вольная армия батьки Махно, что встречать её надо радушно, но если кто из хлопцев батьки разбой учинит или воровство, или какую порчу, то справедливый батька велит идти прямо к нему и указать на негодяя. Вот только доехали эти глашатаи лишь до дворов, где свадьбу справляли, а дальше их напоили до отупения и в соседнее село на продолжение с собой уволокли.
Так что указ махновский слышали человек пять со всей Бобровицы, да и те особо на него внимания не обратили. Мало ли какие могут быть указы. Время-то было лихое, 20-й год, и власть в Бобровице, как и в самом Чернигове, менялась с такой стремительностью, что к этому все давно привыкли. Не привыкли только к регулярным расстрелам, что очередная власть обязательно производила в яру на окраине села. Мальчишки были всегдашними зрителями этих страшных зрелищ. Впрочем, расстрелов в этой истории будет ещё достаточно, так что подробности я, пожалуй, упущу.
Вернувшись после расследования, отец велел матери вставать и собираться к Махно. Она с трудом сползла с кровати и пыталась что-то ему сказать, но вместо слов выходило этакое мычание. Успокоил Михайло жену, сам переодел рубаху на Васятке, впряг Кавуна в телегу (ту, что ещё фатерляндский помещик подарил), и поехали семейством всем к батьке Махно.
Ехать было, как оказалось, совсем недалеко. Только повернули за крайнюю хату – вот тебе и махновская вольная армия, как на ладони, расположилась неохватным табором на заливных лугах у берега Десны в том месте, где река даёт широченную дугу. Я по этим лугам в сладком детстве своём нарезал не один километр, гоняя с мальчишками и в футбол, и на вéликах… Хорошо там, простор!
Так вот, посреди этого простора, между скопищем лошадей, людей военных и полувоенных, а то и совсем не военных, телег, грозных орудий, скирд сена, костров и разного барахла и всякого рода приспособлений для войны тут же разглядел Васятка необыкновенное сооружение – то ли помост какой-то, то ли непонятное возвышение, а на нём… Когда подъехали поближе, ясно обозначился на чём-то, вроде сценических подмостков, стоящий трон. Ну, трон – не трон, а высоченное резное, золотое кресло с орлом двуглавым, а может, действительно, трон это был? По крайней мере, отец, рассказывая про это, всегда говорил – трон. И на этом самом троне сидел грустный человек – длинные, чуть вьющиеся, чёрные волосы сосульками, кожаная куртка, перекрещенная пулемётными лентами, шашка, маузер, галифе, папаха высокая, сам грустный, а в глазах такой хитрый прищур, что, кажется, как рентгеном тебя насквозь прожигает…
Только не сразу удалось семейству до батьки добраться. Остановили их на подъезде люди с винтовками: «Хто такие? Шо треба?» Какой-то высокий, худой человек, тоже в кожанке, подошёл и долго выспрашивал Михайло, а потом и Васятку – мамка говорить совсем не могла – про иродов-грабителей троих. Потом ушёл человек этот к батьке, пошептал что-то, склонившись к его уху, и оттуда, издаля, немного погодя, свистом позвал семейство проехать.
Проехав, разглядели как следует, что сидел батька и вправду на золотом, или позолоченном, кто его разберёт, троне. Вокруг него очищенное место, дугой костры разложены, и на них в котелках или на вертелах что-то готовится, шкворчит и так вкусно пахнет, что у Васятки живот подвело, с утра ведь не жравши. Тут же девицы какие-то под гармошку пляшут, охрана, видимо, с винтарями по бокам батьки стоит, в ладоши хлопает, веселится, девиц подзуживает, а батька невесел, хмуро сквозь прищур на подъехавших смотрит. Потом рукой махнул: тихо, мол! Тут же девицы куда-то провалились, и гармошка смолкла.
С первых слов его понятно стало, что ласковой встречи не получиться.
– Если брешешь – это он сразу к Михайло обратился, – засеку шомполами! Видишь колоду? Это плаха моя, для брехунов.
Охрана коротко хохотнула, и тут же осеклась под тяжёлым взором батьки.
Буквально в десяти шагах от себя Михайло, похолодев внутри, увидел огромную колоду, в которую по бокам были ввинчены четыре пары железных скоб. Колода была метра три длиной и, пожалуй, в два обхвата и вся сплошь почерневшая от запёкшейся крови. Вокруг колоды крови незаметно, понятно, что недавно приволокли и на месте утвердили.
– Рассказывай, что видел.
– Да я не бачил, – Михайло уже и не рад был, что затеял всё это, – Вот, сынку мой, Васятка, он усих бачил и усё запомнил, да в лицо показать может.
– Иди сюда, хлопчик, – Махно чуть сдвинулся на троне, освободив толику пространства, – Садись, рассказывай. Да не боись дядьку, дядька добрый, дядька справедливый. Если мои хлопцы твою мамку обидели и имущество попортили, дядька их накажет. Только ты должен всю правду рассказать.
– А я и не боюсь, я такую шашку, как у тебя, у тятьки даже из ножен доставал, – Васятка доверчиво присел рядом с Махно и немножко поёрзал, устраиваясь поудобнее, – Ты, дядечка, только обязательно накажи иродов, смотри, как они мамку мою ногами отделали…
И Васятка всё-всё рассказал Махно.
- И было далее так:
- велел построить
- справедливый батька
- всё своё вольное войско,
- и сам пошёл
- вместе с семейством
- вдоль рядов
- иродов искать.
- И ходили долго,
- и все ряды обошли.
- И смотрели зорко,
- чтобы не пропустить.
Васятка даже устал смотреть, а Махно не то чтобы повеселел, нет, задорный стал какой-то.
– А вот что щас будет!? Ух, что щас будет?! – ткнул он раза два, как бы в шутку, Михайло в бок, – Шо, готовим колоду?
Холодный пот пролился по спине, аж в озноб бросило. Хоть и не был Михайло робкого десятка, но зазря на плахе под шомполами помирать – я вам доложу, удовольствие сомнительное.
И тут подлетает к Махно тот самый высокий в кожанке и с ходу: «Обоз бы проверить надо, батька».
Вот в обозе, в копне голубчиков и накрыли. Как ширнули в копну вилами, они, зайчики, и повыскакивали с воем, все трое.
Когда под первыми ударами шомполов кожа на спинах лопнула и фонтаном брызг во все стороны полетела кровь, когда раздался человечий предсмертный лютый визг, Михайло побелел лицом и крепко-крепко сжал кулаки, а Матрёна прятала Васяткину голову в подол юбки, чтобы не смотрел. А Васятке было жутко до дрожи и до дрожи интересно.
Остановив экзекуцию, Махно приказал бабу и хлопца домой отправить, а Михайле сказал: «Смотри, до конца смотри. Потом всем расскажешь, как батька Махно карает бандитов».
Васятка с маманькой на телеге, в которую положили похищенный и найденный патефон с Шаляпиным, правда уже треснувшим, и чудом несъеденную половину туши борова, отправились домой. Васятка вожжами орудовал, он уже давно отцу помогал по хозяйству и с телегой управлялся, как взрослый.
Михайло с трудом пришёл домой поздно, под вечер, пьяный в хлам и совершенно седой.
Его называли «Жених»
- И была горячая темнота.
- И стала темнота болью.
- Такой болью, что сквозь неё,
- хоть криком кричи,
- хоть стоном стони –
- не прорвёшься.
- И глаз не открыть –
- залепила сухая колючая корка,
- и никак её не разорвать.
- И руки не слушаются,
- сколько не старайся –
- не поднять.
Лежал Василий раздетый до гола на полу у раскалённой печки-буржуйки, почти касаясь её боком.
За грязным столом потягивал обжигающий чифирь из консервной банки молоденький сержант, конвойный. Его ещё трясло от пережитого, и он иногда громко икал, чем тревожил спящих на топчанах дорожников.
Один из самых опасных перевалов на колымской трассе именовался «Подумай», и редкая машина проходила его с первого раза. Чаще приходилось останавливаться, пятиться потихоньку назад, по нескольку раз дергаться вперед-назад, чтобы вписаться в крутые повороты с подъёмами. Сколько машин с грузами ушло вниз под обрыв, сколько шофёров нашли свой край – трасса не расскажет никогда.
Это, как в шофёрской частушке:
- Друг на мазе,
- Я на язе
- Робимó.
- Друг в кювете,
- Я в буфете
- Сидимó.
- Друг в гробнице,
- Я в больнице
- Лежимó.
Да… опасен, ой, как опасен был «Подумай»! Но не менее опасным был выход с перевала в низину, которую народ прозвал «чёртовым блюдечком» или «чёртовым донышком». По дну этой низины, в узком каньоне, прорытом водой за миллионы лет метров на двадцать в глубину, тёк горячий ручей. Не замерзал он даже в самые жуткие морозы, и всегда над каньоном поднимался туман, зимой настолько плотный, что, кажется, его можно было копать лопатой.
В самом узком месте каньона был перекинут мост одностороннего движения, и машины всегда стояли в очереди, ожидая, когда пройдёт встречка с противоположного берега. А берега противоположного не было видно из-за тумана почти никогда, и шофёры, когда фарами туман было не просветить, даже в погожие дни, пешком по мосту шли, чтобы проверить, свободен ли проезд.
Была ранняя осень, погода днём стояла ещё теплая, но к вечеру уже начинало подмораживать. Василий на своём «Даймонде» привычно выкручивал до упора рулевое колесо то вправо, то влево, проходя с первого раза тяжёлые повороты. Рядом, судорожно вцепившись в «ппш», застыл в жутком напряжении конвойный сержант, автоматчик. Губы белые, испарина на лбу – он впервые был на перевале.
– Вот на этом повороте Жора Шульц на бензовозе горел. – Василий три раза надавил на клаксон, – Видишь, кругом одна поросль молодая… только чёрные палки вместо деревьев.
Склоны сопок, сколько хватало глаз, были прочерчены тонкими чёрными черточками трупиков сгоревших лиственниц.
– Ну и чего ты радуешься, чего салютуешь? Друг сгорел, а ты…
– Та ни. Не сгорел он, успел выпрыгнуть на ходу. Я салютую тому, что он жив остался и людей спас. У бензовоза его отказали тормоза, и машина стала задком съезжать под откос. А Шульц не растерялся, начал скорость переключать потихоньку, пока до низшей передачи не добрался и машину нацелил на вон тот валун, видишь? Когда пара метров оставалась, он выпрыгнул из кабины и в кювете залёг. Бензовоз задком в валун ткнулся, но не взорвался, а сначала загорелся. Шульц, понимая, что взрыв всё равно будет, из кювета выскочил и вверх по трассе побежал. Пробежал с полкилометра, наломал каких-то веток и на трассе навалил, прямо по середине, и сверху телогрейку бросил, получился как бы знак, предупреждение. Потом обратно по трассе побежал. А машина уже во всю полыхает, вот-вот рванёт. Он тогда прямо вниз с обрыва сиганул, а тут метров семь. Всю задницу изодрал… Потом ещё ниже пробежал и такой же знак соорудил из веток и рубашкой своей прикрыл. Взрыва всё нет, он вверх, к машине побежал. И мимо машины пробежал, и за поворот успел скрыться, тогда и ухнуло. Бензин горящий весь вниз полетел и по сторонам, метров на триста. Тайга потом дня три горела, пока дожди не залили. Но главное, никто не пострадал. Машины, что сзади подъезжали, на шульцевом знаке тормозили, а те, что навстречу ехали, взрыв увидели километры за четыре.
– Наградили его?
– Шульца?
– Ну да, героя твоего.
– Угу. Три года поселения добавили… Только он не дожил, умер от заражения крови. Ай-яй-яй, здоровенный мужик был. Одной рукой снаряжённое колесо в кузов, как авоську с картошкой закидывал, сковырнул прыщик, когда брился… Такéе наше дéлечко… – Василий сокрушённо покачал головой.
– Ты, Жених, не болтай, а за дорогой смотри. – Сержант сглотнул тяжёлый комок, – Вообще, надо место найти остановиться, покурить.
Сумерки уже начинались, и сержант давно, часа два, не курил, соблюдая никому не нужные «меры безопасности». Последнюю остановку на перекур и перекус делали вообще в Оротукане, ели сухой паёк, чай варили.
– Сейчас, найдём тебе остановку, покуришь…
С полчаса ехали молча. Наконец Василий, выбрав более-менее ровное место, притормозил, остановил «Даймонд», аккуратно прижав к обочине.
– Хиба тебе треба курить, кури. – А сам вылез из кабинки и стал приседать.
Сержант тоже вылез и отошёл метров на двадцать-тридцать от машины, присел на камень, достал папиросы и с удовольствием затянулся дымом. Автомат лежал на коленях.
Удивительное дело, целая машина с прицепом, гружёная взрывчаткой, и только один автоматчик в сопровождающих? Всё дело в том, что аммонал, это взрывчатка, которую использовали в горном деле, а может и сейчас используют, абсолютно безопасен, если нет капсюля-детонатора. В то время аммоналом даже буржуйки топили вместо дров, горит он хорошо – долго, жарко. Три-четыре брикета – и тепло до утра.
Зато когда перевозили капсюли-детонаторы, чтобы взрывать этот безобидный аммонал, охраны давали чуть не роту: впереди виллис, сзади грузовик с автоматчиками, да в кабине, да в кузове ещё человека по четыре сажали.
На этот раз, вот он, один, сидит на придорожном камешке, потягивает папироску и не особо беспокоится, только автомат держит наготове, так, ради собственного успокоения.
Василий поприседал-поприседал, ногами подрыгал в разные стороны, чтобы кровь разогнать и, вытащив из-под сиденья свёрток с инструментами, полез зачем-то под машину. Сержант подошёл поближе, сплюнув догоревшую папироску в придорожную канаву, присел и стал внимательно наблюдать, что там «жених» под машиной копается.
Никакого внимания не обращая на сержанта, Василий выдавил в ему только известные места на днище картера густую смазку из гигантского шприца, подтянул две-три гайки и удовлетворённо вылез, протирая масляные руки мягкой тряпкой.
– Покурил? Давай ехать дальше.
Оба влезли в кабину и потихоньку двинулись, теперь уже на спуск, неотвратимо приближаясь к «чёртову блюдечку». До него, правда, добрались часа через два, когда совсем стемнело, и морозец за окном кабины градусов до семи опустился.
Тут надо современному читателю, привыкшему к бесконечному потоку машин, кое-что разъяснить. В то время (пред- и послевоенное) машин на колымской трассе было мало. Про легковые я вообще не говорю, их по пальцам на всей Колыме можно было пересчитать – в основном «паккарды» и «эмки» начальственные. Основной колымский транспорт, это были грузовики – полуторки, которые народ прозвал «Урал-дрова» за фанерную кабину, «Амо», «Мазы», «Яазы», да позднее по ленд-лизу полученные «Форды», «Доджи» и тягачи «Даймонды». Ездили они тяжело гружённые, а потому ездили медленно. Можно было проехать порой сотню километров и не встретить ни одной машины. Днём движение ещё как-то происходило, а вечером и ночью замирало. Шофёры боялись грабежей, и это было очень даже запросто. Тайга кишела мелкими бандами беглых зеков, в основном уголовников, и они хотели есть. Потому водители, чаще всего становившиеся жертвами этих банд, с наступлением сумерек старались заночевать в посёлках или вообще не выезжали на трассу до утра.
Василию бояться сегодня было нечего – конвоир с автоматом, это сила. А вот последний свой срок Василий получил именно из-за грабежа.
Вёз он как-то из Магадана на Спорный крепёж – винты, болты, гайки, шпильки – полный кузов ящиков. Подъезжал уже к самому Спорному, буквально километров пять оставалось. Сумерки вот такие же были, и в этих сумерках очень хорошо стали видны огоньки папирос за частоколом лиственниц вдоль обочины. Нехороший холодок образовался на душе, а тут ещё подъём начался, скорости особо не прибавить. Василий только подумать успел на газ надавить, а на подножки с двух сторон на полном ходу двое с ножичками – прыг! И ножички сразу к горлу: «Стой, сука!»
Василий резко тормозить не стал, остановился потихоньку.
– Хлеб давай, и всю еду, что везёшь.
– Хлеб вот, – Василий протянул завёрнутую в газету четвертину, – а больше ничего нету.
– А в кузове что, в ящиках, тушенка?
– Крепёж: болты, гайки.
– Врешь, сука. Жратву найдём, на ремни тебя порежем.
– Ищите.
Засвистали эти двое, что с ножичками, и из-за частокола лиственниц к машине человек двадцать рванули.
Выдохнул Василий испуг, вытащил одеяло и, согнувшись в три погибели, лёг на сиденье, упираясь затылком в одну дверцу, пятками – в другую. Долго лежал без сна, слыша, как шуруют зеки в кузове, вскрывая ящики, сбрасывая их на землю. Лежал и думал, как утром ему всё это добро придётся обратно в кузов забрасывать…
Проснулся оттого, что страшно замёрз. Открыл глаза, прислушался – тишина, только птицы в тайге орут. Выглянул из кабины направо-налево, никого. Завёл мотор, чтоб согреться, полежал ещё немного, потом вытащил рабочие рукавицы, запахнул телогрейку и выскочил из машины, готовый к трудовому подвигу. Как выскочил, так чуть не сел – ни ящика, ни обломка доски, ни винтика ни около машины, ни в кузове. Чисто, разве что не подметено.
Зачем зекам понадобился крепёж – кто ж знает, только машина была девственно пуста.
Удивился Василий страшно, в этом удивлении и на Спорный приехал и потом приговор выслушивал – десять лет поселения за то, что стратегический груз на сторону продал.
Такéе наше дéлечко. Да юсё, да юсё.
– Васятка! – позвала мама, – Васятка! Чому ж ты, пострел, сховался! Ну-ка, дуй молоко питии-и!
В чугунной голове прозвенели лопающиеся стеклянные доски и осколками засыпали глаза. Попробовал Василий разлепить их, но опять не смог. «Молоко же стынет! – пронеслось в мозгу и пропало в темноте, – Мамка зовёт, надо идти, а то отец рассердится, пороть будет…» Но никакой силой не заставить разлепиться глаза.
А голова звенит голосами: «Васятка! Молоко-о-о-о!», «Вставай, Жених, чего разлёгся?!»
– Кто жених? Я жених? Почему жених? Я – Васятка, меня мама зовёт!! – кричал Василий, но крика этого почему-то никто не слышал.
Правильно писатели великие писали – в самые страшные или предсмертные минуты проносится перед глазами вся жизнь. Со мной бывало такое, это когда я с высоты плашмя на землю рухнул. Не верите, спросите у певца малинного, он меня поднимал и в казарму тащил, это в армии было.
И у Василия перед глазами промелькнули и отец с матерью, и царь, и Кавун, и Махно, и много-много кто ещё. Вдруг ясно-ясно увидел он на мгновение себя маленького и голенького в скрипучей колыбели, подвешенной к небу, как к потолку, а потом сразу себя голого, лежащего в тесном вагончике на грязном полу у буржуйки.
В каменном мозгу смутные пятна постепенно стали складываться в какую-то картинку. А, вот оно что! Это машина, пробивая со страшным треском брёвна, летит вниз… От смертельного животного ужаса заорал в кабине Василий последним ором…
Банка с чифирем выпала из руки сержанта и залила галифе кипятком – покойник ожил, застонал!!! Заскулил ошпаренный сержант от боли, смешанной с ужасом, запрыгал на одной ноге, сдирая мокрые галифе. Попросыпались дорожники от шума…
Вот кто мне поверит, если я дальше напишу, что от страха дорожники в одних портках разбежались по ближайшим кустам? «Брехня!» – скажут. Ну… пусть будет брехня, если так проще, а они на самом деле разбежались и долго боялись возвращаться. Нет, вернулись потом, конечно, кроме одного – убежал, наверное, далеко и замёрз – под утро метель разыгралась, замело всё, и следов его не нашли.
И было так.
Уже в темноте спустились тихонечко по обледеневшей под упавшим заморозком дороге сквозь туман к мосту. Остановил Василий машину: «Сержант, надо встречку проверить, ты посиди пока, я мотор глушить не буду, не замёрзнешь». Взял керосиновый фонарь, вылез из кабинки и пошел проверить путь… А моста-то и нет, одни перила и опорные балки. Ремонт. Настил снят и вместо него две толстенные доски по ширине колеи положены. Прошёл по доскам на другой берег – где-то же должны быть дорожники, раз ремонт, только в густом тумане ни шиша не видно и тишина, как на кладбище, лишь далёкий плеск ручья из чёрной глубины под бывшим мостом.
Вернулся Василий, и стали с сержантом думать, как переехать на другую сторону. Придумали, что сержант с фонарём впереди пойдёт, путь будет указывать светом, а Василий потихоньку следом.
Тронулись, и всё, вроде, нормально было, потихоньку, на первой передаче, Василий правил машину на тусклое пятно фонаря, сержант уже на другой берег ступил, а машина как раз к серёдке добралась. И на этой самой серёдке доски, отсыревшие от туманной влаги и промёрзшие на грянувшем морозце, лопнули, как стекло, со страшным низким звоном, и ухнул тягач в чёрную пропасть, унося в себе Василия. Обломком перила пробило лобовое стекло, да так, что пригвоздило Василия к стенке кабины, и он тут же потерял сознание. Круша опоры и перекрытия, машина почти долетела до самого дна и где-то там, в страшной черноте успокоилась.
Сержант! Дай тебе боже здоровья, если ты жив! Если же нет, то светлая тебе память, и пусть твои потомки передают из поколения в поколение, как ты, зажав в зубах керосиновый фонарь, морозной ночью полез вниз, в жуткую темноту по обледенелым склонам. Ты, конвоир, вольный человек, полез спасать зэка!!!
Не за машиной же ты полез? Правда ведь, не за машиной?
Какую надо стойкость иметь, чтобы вниз спускаться в пропасть, жалея чью-то жизнь, никчемную, как можно подумать. Спасибо тебе за отца, сержант. Вытащил ты его, как тебе это удалось, я не знаю. Как ты дорожников спящих в вагончике разыскал, я тоже не знаю. Я знаю, что ты очень хороший человек. И низкий тебе за это поклон.
С опрокинутыми глазами, весь в подмёрзшей грязюке, впёрся среди ночи задыхающийся сержант в вагончик дорожников: «Жених… разбился! У… моста лежит». Попросыпались дорожники, наскоро оделись, побежали к мосту, принесли Василия и стали реанимационные мероприятия проводить. Раздели до гола, натёрли спиртом всего, чего там ещё делали, не знаю, но пришли к горькому выводу – погиб. Жалко Жениха, но что делать, и без врача понятно – кончился. Налили сержанту спирта, чифирь заварили, а сами досыпать улеглись. Сержант же, потягивая чифирь, потихоньку приходил в себя, вспоминая путь, что проделал с Женихом.
Кстати, почему с Женихом? Отчего с Женихом?
А всё от того, что постигла Василия странная любовь жены всемогущего начальника магаданского лагеря. Может и не любовь это была, а просто доверяла она ему больше, чем другим, теперь уже никто не расскажет. Но сначала про другую любовь надо поведать, ибо петелька за петельку тянется история от любви к любви.
Яловые сапоги, попова дочка и банда уголовных элементов и недобитой контры
Едва полная луна в ночь с 14-го на 15-е августа 1935 года достигла зенита, Василий, оторвав голову от казарменной подушки, начал тихие неспешные сборы. Яловые сапоги, приобретённые по торжественному случаю – главный предмет военной амуниции – были, согласно уставу, надраены до зеркального блеска и обуты. Нынешним трудно представить, что это могло тогда означать для младшего военного чина, собирающегося в дальнюю путь-дорожку.
Начав службу рядовым, Василий, ещё на гражданке окончивший курсы шофёров… Это его дружок, Петро Боярченко, подбил бросить железнодорожный техникум и в шофёры идти.
– Ты, Васька, балбес. Зачем тебе эти паровозы? Едешь ты по железным рельсам и ни остановиться тебе, ни с девушкой поболтать, ни отдохнуть даже. А в машине – красота! Увидел молодайку – остановился, то-сё… Дурак ты, одним словом!
И что вы думаете? Бросил Василий техникум, за два месяца до окончания бросил! А ведь отличником был, практику уже прошёл преддипломную!.. Такéе наше дéлечко, да юсё, да юсё…
Да… так вот, так быстро и дотошно Василий изучил до мельчайшего винтика грозную боевую машину – танк «БТ» («Быстроходный танк»), что вскорости был повышен в звании (то ли ромбик, то ли кубик красовался в его петлицах, точно не помню) и назначен инструктором танкового вождения и преподавателем материальной части. Проще говоря, учил будущих механиков устройству танкового мотора. Да так лихо это всё делал, что умудрился воспитать ни одного толкового механика и водителя за свою короткую военную службу. А ещё командира части, комбрига, возил по всяким комбриговским надобностям то в Киев, то в Чернигов, то по округе. Часть-то располагалась верстах в 80-ти от Чернигова.
А комбриг – человек был очень высокого положения, я вот забыл его фамилию, но помню, что однажды вместе с ним ещё и Маленкова подвозил Василий. Как-то по дороге где-то в поле у пригорка застряла в грязюке машина. Буксует, туда-сюда дёргается, не вылезти никак. И не объехать её. Остановился Василий, посмотрел на бесплодные попытки, да стал комментировать, да всё с юморком. Командир сидит и посмеивается, потом на часы посмотрел и говорит Василию, мол, чего зубы скалить, сходил бы помог.
Ну и пошёл Василий, подцепил по дороге какой-то обломок доски, торчавший из грязи, под колесо ведущее подложил и сам за руль сел, а молодого пацана – шофёра – попросил подвинуться. Чуть сдал назад, передачу переключил, выматерился, рванул и вырвал машину из грязюки.
Ну и всё, вроде, на прощание только пацану сказал: «Помни закон Ома: возьмешь трос – будешь дома!»
А из машины пассажир, видный такой товарищ, выглянул, и говорит:
– Подожди, воин, я с тобой дальше поеду.
Вышел, что-то мальчишке-шофёру сказал и к Василию в машину норовит влезть. Василий растерялся.
– Куда Вы, товарищ, нельзя, это военная машина…
– Ничего-ничего, мне можно, правда, комбриг? – сквозь открытое окошко спросил видный.
– Садитесь, – комбриг распахнул дверцу, – успокойся, Василий, товарищу можно.
Поехали, комбриг помалкивает, а товарищ видный всё Василия расспрашивает, откуда он, да где так хорошо машину водить учился, а потом и говорит: «А хочешь у меня в Москве служить? Я тебя возьму». И фамилию в книжечку записал.
Это уже в город они въехали, и вскорости видный гражданин попросил притормозить и вышел, пожав на прощание руку и Василию, и комбригу.
– Это кто такой был? – спросил комбрига озадаченный Василий, тот как захохочет!
– Ты что, брат, товарища Маленкова не узнал? Ну, ты даёшь!
И вот, то ли товарищ Маленков не забыл свои обещания, то ли за успехи в службе и преподавании, но был Василий представлен в величайшей почести – направлен на обучение в военную Академию в столицу. Вот по этому случаю и были приобретены яловые сапоги, начищенные ныне самой лучшей ваксой и смачно поскрипывающие при каждом шаге.
Ах, сапоги-сапоги! Гордость владельца и вожделенный предмет ходящих в картонных ботинках, чунях, опорках, лаптях и просто босых. Зеркальным блеском смущали вы сердца многих красавиц, скрипом музыкальным будили зависть. Сколько сил и особого старания прикладывал носитель ваш, дабы содержать в надлежащем виде!
Ну как мог Василий не приобрести вас, едучи покорять столицу? Конечно не мог, и откладывая скудные копейки из солдатского жалования, накопил-таки, и вот они вы – сверкаете даже в ночи, унося счастливца в даль дальнюю.
- Ах, сапожки-сапоги!
- Вы куда меня несёте?
- А на станцию ж.д.
- Чтоб в Москву поехать…
Мурлыкал, погружённый в светлые мечты Василий, пересекая плац, чтобы пройдя КПП, направиться к станции, до которой было что-то порядка трёх километров. Шагал, легко сжимая в руках небольшую котомку с вещами и поправляя съезжавшую с плеча планшетку с оформленными по всем правилам документами солдатскими.
Вот и КПП.
И Санёк курит, облокотясь на перила, не по уставу, да ночью кто увидит?
Одноклассник Василия, правда не очень они в школе были дружны, а вот служить попали вместе, и армейская сложная жизнь сделала их почти родными. Ну, не то, чтобы совсем близкими, холодок некий всегда присутствовал в их общении. Давала себя знать кулацкая жилка Санька. Батька-то его кулаком-богатеем был, Санёк, правда от него отказался, тогда так было надо.
Тут мне хочется небольшое отступление сделать.
Дед, Михайло, крепко дружил когда-то в далёком детстве и юности своей с батькой Санька. Только развела их судьба впоследствии. Батька Санька, ещё до того, как царя сбросили, в коммерцию ударился, батраков нанял и революцию встретил уже крепким кулаком. Какое было у него хозяйство, я не знаю точно, потому и описывать не буду. Но точно знаю, что когда раскулачили его, пошёл он в бандиты. Сколотил немалую ватагу удалых хлопцев и охоту затеял на человеков. В те годы, начало 20-х, дня не проходило, чтобы кого-то ногами вперёд на погост не носили. И добрая была в этом участь отца Саньки, да его удалых хлопцев. А Михайло, работая в тихой своей тюрьме ещё и в чине был повышен, и оченно хорошо надзирал за лихими хлопцами, коих иногда вылавливали всё-таки, стало быть, был в услужениях у новых властей и автоматически становился врагом лютым бывшему дружку-приятелю.
Но не про это я хотел сказать.
Летом, как вечерело, Михайло, дед, любил чай попить с семейством. Всё грызли баранки и прихлёбывали чай вприкуску. Вот тут-то и появлялся обычно батянька Санькин, всовывал в открытое окошко обрез свой бандитский, из трёхлинейки изготовленный, затвор передёргивал и ласково спрашивал: «Шо, Микола, тоби сейчас кончить, чи поживёшь трохи?» Это шутка такая у него была любимая.
Но опять не об этом я.
В середине 70-х, когда бабушка Матрёна уже стала совсем дряхлая, отец задумал продать хату и перевезти её к нам. Нашёл покупателя, сговорились о цене (копеечной, как я сейчас понимаю), пошёл в райсовет оформлять документы. Долго сидел в очередях, наконец осталась последняя подпись – председателя этого самого райсовета.
Записавшись на какой-то там день, Василий пришёл к назначенному времени, открыл дверь в кабинет и увидел: сидит за столом председательским тот самый бандит, кулак раскулаченный, дедов друг, шутник с обрезом, Санькин папенька, только постарел конечно сильно и в очках с толстенными стёклами.
- И смотрели двое через стёкла друг на друга,
- и узнали друг друга,
- и видели в стёклах далёкие годы свои,
- и молчали долго.
- И в молчании этом сказали друг другу больше,
- чем если бы говорили.
- И поставил тот, что за столом сидел,
- подпись свою на бумаге без вопросов,
- и приложил без вопросов печать.
Вот я и думаю, с бандитами-то полезно бывает дружить. Глядишь, они к власти пробьются, а уж они-то пробьются, будьте уверены, и нужную подпись поставят вовремя.
Впрочем, я отвлёкся, а Василий-то с Санькой тем временем минут с пяток поболтали. Василий и говорит: «Привезу тебе из Москвы подарок, что ты хочешь?»
И на это Санька вдруг нехорошо пошутил: «Сапоги твои хочу!»
Похохотали всё ж над шуткой, и собрался было Василий трогаться дальше, только Санька сказал, что ждут его двое каких-то внутри КПП, а кто такие, он не знает.
- И зашёл Василий внутрь маленького помещения КПП,
- и увидел двоих, один просто сидел за маленьким столиком,
- а другой собирал маузер – только что почистил,
- и стали они требовать документы,
- и убедились, что действительно перед ними он – Василий Бублéй,
- и тогда встал тот, что маузер успел уже собрать,
- и сказал он: «Ну что, контра недобитая, петь будем?»
– Что петь? – удивлённо не понял Василий.
– Арию Глинки «член на льдинке»! – И рукояткой маузера ка-а-к саданёт в зубы.
Сознание покинуло Василия мгновенно, и он не чувствовал, как хрустели разлетаясь с кровью зубы, как рухнул на пол и не знал, как потом очутился без сапог в камере, в Черниговской тюрьме.
– А как же Академия? Мне же на поезд… – свербило в каменной голове. Только не понятно, почему ноги босы… – Я же в сапогах был…
Яркая лампа в лицо – это кино, лампы не было, был холодный каменный пол, большая светлая комната и вопросы, на которые каменная голова ответа найти не могла. «Какое задание ты, погань, получил, для выполнения в Москве?» «Где назначена встреча, кто связной?» И на молчание – жестокой силы удар по рёбрам, так что валялся Василий на полу не один час.
Ничего не понимая, молчал Василий, а что отвечать – не известно. Били нещадно и изощрённо – и кулаком, и ногами, и прикладом, и ногайкой. Зубы – чёрт с ними, рёбра ломали. Потом волокли в камеру, обливали холодной водой и спустя час-два (видно самим отдых требовался) снова вопросы и снова били.
Глубокой ночью опухшего и посиневшего от побоев до неузнавания Василия приволокли в камеру и оставили до утра в полной неизвестности и растерянности.
Утро следующего дня началось с неожиданного визита. Дверь камеры открылась тихонько, и в неё просочился Михайло-отец. Он ведь в этой тюрьме и работал, надзирал, то есть. Взглянул на сына Михайло, и чуть контрреволюционером недобитым не сделался. До крови закусил губу, чтобы не зарыдать, прижал к себе горячую голову сыновью, всю в кровавых коростах и шепотом жарким стал говорить такие слова:
– Сынку, ежели тебя спросят, рыл ли ты подкоп под нашу прекрасную столицу – отвечай: «рыл!». Готовил ли покушение на членов правительства и лично на товарища Сталина, отвечай – «готовил!». Что бы ни спрашивали, какую бы дурь не говорили – сознавайся во всём, подписывай любые бумаги… Убьют же… Молчать будешь – забьют до смерти, а так – в лагерь пойдёшь, но живой будешь. Ты понял меня?!
Молчал Василий, измочаленный побоями, только щёлочками глаз глядел в глаза отцовы. Михайло несколько раз повторил просьбы свои, пытаясь понять, понял ли сынку. И в других камерах, куда после проникал, повторял то же самое не по разу.
Понял Василий, понял отца. Всё подписал, все признания сделал, очень хотелось жить.
Одно мучило особенно – не знал он, где его сапоги, а ещё не знал Василий, что три дня назад умер в Бобровице поп, и вот с этого всё началось.
Нет, началось раньше, когда красавица попова дочка повстречалась глазами на беду свою с Григорием Бублéем, средним из братьев. Зажглась от взгляда страстная искра где-то глубоко в груди, пересеклись в небесной выси судьбы, и стало это началом страшного конца. Григорий-то комсомольцем был, активистом, а тут вдруг – попова дочка. Недолго продолжалась их любовь, да встречи по вечерам, да прогулки…
Как узнал поп про дочернюю любовь – неизвестно, но узнал и в отказ: «Ничего слушать не хочу – с антихристом?! Не позволю!» Учинил такой разгон, что с церкви чуть купол не навернулся. Запер поп дочку безвыходно, и всем домашним шпионить велел, чтобы близко Григория не подпускали.
А тот помаялся дня три, да и решил украсть возлюбленную. Как? Сговорился с младшим братом – Иваном, да с Петькой Боярченко так: Петро на машине подъедет во время всенощной службы к попову дому, а невеста уже будет ждать с чемоданом собранным, записку ей Иван должен был передать. Дальше хотели на дальний хутор уехать и там переждать какое-то время, глядишь, гнев попа милостью смениться, и будут они жить долго и счастливо…
Всё случилось, казалось, по плану. Иван записку передал. Петька вовремя машину подогнал, невеста с чемоданом в окно вылезла… Только кто-то из шпионов попу всё-таки наболтал. Тот прервал службу! Виданное ли дело?! Да побежал дочь из беды выручать. А машина уже тронулась, дочка в кузове плачет – жалко всё-таки отцовый дом покидать. Вот только про асфальт тогда никто даже не слыхал, дорога у церкви состояла из рытвин и ухабов, иногда попадались ямы и, само собой – канавы. Так что тронулась машина еле-еле, догнать её ничего не стоило, что, собственно, подобрав рясу, поп и сделал. Ухватился за борт кузова и ну проклятиями поливать да орать матом благим.
А Петро, видя, что место дальше на дороге более-менее ровное, газанул, и машина, бодро встряхнувшись, рванула вперёд. Вот тут-то поп и сорвался, руки расцепились, упал, скатился с обочины, да головой ударился о придорожный камень.
Почти месяц лежал он в местной больнице, и даже стал идти на поправку, но настиг его инсульт, тогда говорили – удар, и скончался он, не приходя в сознание.
Вот такая вот история вышла.
Подобного в Бобровице не случалось испокон века, и милицейское начальство раскрутило эту историю во всех подробностях. Все участники, кроме дочки поповой, она шла, как свидетель, были арестованы в один день, и Василий, как соучастник и идейный вдохновитель.
Тут ещё такой случился курбет: в Киеве, в тот же день по странному совпадению арестовали, как врага народа, комбрига, которого Василий по долгу службы по делам на машине возил. А раз возил, значит и во всех кознях вражеских участником был.
Всё сошлось: образовалась контрреволюционная банда убийц, насильников, грабителей и врагов народа. На эту «банду» пацанов повесили буквально всё, что было нераскрытого за последние лет десять: Андрюхе – писарю – глаз по пьянке брат родной чуть не выбил дрыном – нападение на ответственного совработника, свинью на свадьбу зарезали и забыли про это, опять же по пьяному делу – кража собственности… Да всё, всё, что накопилось, всё было предъявлено. Но самое главное – участие в подготовке контрреволюционного переворота, главарь которого (комбриг) арестован, изобличён и под тяжестью улик сознался.
Чернигов и Бобровица вместе с ним гудели: «Наконец-то изобличена банда, терроризировавшая население все последние годы!» Газеты черниговские следили за всеми перипетиями громкого процесса. Впрочем, следствие было недолгим – и так всё ясно.
Наконец – суд. Решили его проводить в Чернигове, в одном из самых больших клубов. Само собой, суд открытый, с корреспондентами, с общественностью, всякими представителями и прочей лабудой.
Всё идёт чин-чином, подсудимые полностью признают свою вину по всем пунктам, но вдруг случается досадная заминочка. Когда слово предоставили Григорию, то он неожиданно тихо, но твёрдо сказал, что все показания были выбиты из него пытками и побоями, что он отказывается от всего, что наговорил на себя и на всех остальных, что ни он, ни другие ни в чём не виноваты, а смерть попова – жалко очень его! – несчастный случай.
Просто и коротко было всё дальше. Судилище мгновенно прекратилось, и удалили всех из зала, и было объявлено, что дальше суд будет проходить в закрытом режиме.
- И билась в истерике
- бедная невеста Григория
- не ставшая женой,
- крича истошно,
- что он сошёл с ума,
- что это она его сама подговорила,
- что на самом деле
- она одна во всём виновата –
- не слушал её никто.
- И никого больше не слушали,
- а зачитали сразу приговор.
- И приговор был короток, как в песне:
- Григория Бублéя – расстрелять,
- остальным – по 15 лет лагерей.
- И упала в обморок
- не ставшая женой невеста,
- и увели всех приговорённых,
- заломив за спиной скованные руки.
Где и когда расстреляли Григория – никто не знает, а Василий, Иван и Петро Боярченко поехали осваивать колымские просторы.
До Находки долгий путь лежал по Сибирскому тракту, частью пешком, где-то в грузовых вагонах. В Находке погрузились на корабль. Всех зеков разделили на четыре команды, по числу отсеков трюма, и там, почти по колено в морской воде, в которой плавало и распространяло омерзительные ароматы всё, что может исторгнуть из себя человеческий организм, на железных многоярусных нарах (кто успел, тот лез повыше), вся наша черниговская «банда» пацанов десять дней болталась на штормовых волнах до бухты Нагаева.
Десять дней непрерывной качки – это, я вам скажу, похуже, чем пытка китайская. Кормили так – сверху сбрасывали в приоткрытую щель ржавую селёдку. Успел поймать – счастье тебе улыбнулось, не успел – лови в воде среди испражнений. А поить никто и не думал – и так воды полно. От такой кормёжки измождённые долгой дорогой люди в первый же день немедленно начали болеть и умирать. К исходу вторых суток воздуха для дыхания в трюмах уже почти не было, а был только сплошной смрад. А люки задраены, и на палубу не выйдешь, прогулок нет.