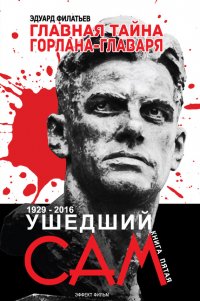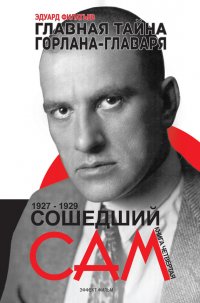
Читать онлайн Главная тайна горлана-главаря. Сошедший сам бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Филатьев
© Э.Филатьев, 2017
© ООО «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ», 2017
Часть первая
Ликвидация бунтарей
Глава первая
Поэтическая вершина
Вояж в Ленинград
В «Дневнике» Корнея Чуковского есть запись, сделанная 26 сентября 1926 года. В ней упоминается поэт Николай Семёнович Тихонов, тот самый, кого Бухарин назвал лучшим советским поэтом (вместе с Пастернаком и Сельвинским):
«Потом заговорили о Лиле Брик…
– Нужна такая умная женщина, как Лиля, – сказал Тихонов. – Я помню, как Маяковский, только что вернувшись из Америки, стал читать ей какие-то свои стихи, и вдруг она пошла критиковать их строка за строкой – так умно, так тонко и язвительно, что он заплакал, бросил стихи и уехал на 3 недели в Ленинград».
В Ленинград Маяковский отправился 3 января 1926 года. Уже 4-го он выступил в зале Академической филармонии с докладом «Моё открытие Америки».
На следующий день «Красная газета» в вечернем выпуске написала:
«Маяковский как бы умышленно игнорирует всё то, что поражало воображение предыдущих колумбов. Он остаётся равнодушен к американскому размаху и холоден к сногсшибающей экзотике…
Зал Филармонии был переполнен, как в дни концертов Клемперера, налицо несомненный контакт докладчика с чуткой аудиторией».
Выдающийся немецкий дирижёр Отто Клемперер в двадцатых годах многократно выступал в Москве и в Ленинграде. Один из музыкальных критиков тогда отметил:
«Когда поняли, вернее, инстинктом учуяли, что такое Клемперер, на него стали ходить так, что огромный зал филармонии не может уже больше вместить всех желающих послушать, а главное – посмотреть знаменитого дирижёра. Не видеть Клемперера – это значит лишить себя большой дозы впечатления».
Теперь с этой знаменитостью мирового масштаба сравнивали Маяковского.
Автор отчёта, помещённого в «Новой вечерней газете», как бы продолжил рассказ, начатый «Красной газетой»:
«– Который час?
В том ряду Филармонии, где я поместился на чтении Маяковского, и впереди и позади сидело не меньше ста человек. Мой вопрос, проходя от одного к другому, облетел всех их, но ответа не дал никто, потому что ни у кого часов не было. Это всё была молодёжь – пленительно юная – вузы, рабфаки и вторая ступень, молодёжь, которая не имеет такой роскоши, как часы… но все они выцарапали из себя возможность уплатить за билет, чтобы послушать Владимира Маяковского. Это была благодарная, чуткая, жаждущая аудитория, и она пришла напиться от первоисточника живой воды».
Присутствовавший на этом вечере молодой ленинградский прозаик Вениамин Александрович Каверин (Зильбер) в перерыве заглянул за кулисы:
«Между горками сложенных пюпитров, насвистывая "Чижика", мрачно шагал Маяковский. Отступив за колонну, я с бьющимся сердцем долго смотрел на него…
Я был поражён одиночеством Маяковского, его полной закрытостью, в которой чувствовалось лихорадочное возбуждение.
Невозможно было узнать в нём уверенно державшегося знаменитого человека, который только что в ответ на глупый вопрос какой-то девушки, не понявшей его иронического замечания, ответил: "К сожалению, человеческая речь не имеет кавычек. Разве вот так?" – и, подняв руки, согнутые в локтях, он показал кавычки.
Я так и не подошёл к нему».
Поэт Николай Семёнович Тихонов, тоже пришедший послушать Маяковского, в перерыве решил было подняться на сцену и потолковать с ним. Но подумал, что он, наверное, окружён толпой, и поговорить не удастся. Однако, поколебавшись немного, Тихонов всё же за кулисы пошёл.
«Каково же было моё удивление, когда я увидел одинокого человека, шагавшего, заложив руки за спину, по длинному тёмному пространству за сценой. В полном одиночестве Маяковский ходил взад и вперёд, и когда я пожал ему руку, она была влажной…
Он имел вид страшно усталого человека. Он был просто мрачен, и когда после вечера мы сидели в гостинице, эта мрачность не покидала его».
Кто знает, отчего происходила мрачность поэта? От американских воспоминаний, связанных с загадочной смертью Эфраима Склянского? Или от наложившихся на них переживаний от не менее загадочной кончины Сергея Есенина?
Театральный художник Валентина Ходасевич тоже оставила воспоминания:
«В 1926 году Маяковский, приехав в Ленинград, звонит и просит поехать с ним вечером в рабочий клуб на Васильевском острове – близ Гавани. Он будет там читать стихи. "Это ответственное для меня выступление, и мне нужна ваша помощь". Я соглашаюсь, хотя удивлена – какую помощь? Мы не виделись с Парижа.
Вечером он заехал. По дороге говорит, что ему важно знать, на что и как будут реагировать рабочие. Он просит меня всё запоминать и ему рассказать – "кроме того, и сами послушаете – это мне тоже интересно"».
Рабочий клуб располагался в старом кирпичном здании.
«Нас встретили несколько рабочих. Повели по мрачным проходным помещениям. Накурено. Свет в половину накала – потолки тонут в мраке…
Маяковский начал читать…
Вокруг меня, особенно женщины, подталкивая соседей, шёпотом спрашивали: "Это про что? Чего-чего?" Но когда дошло до стихов про Америку и Мексику, многие даже аплодировали, и у всех был довольный вид – освободились от "груза непонимания" и очень обрадовались. Вскоре уже кричали:
– Ещё, ещё!
Объявили перерыв. Маяковский бросился прямо ко мне…
– Что говорили? Как я читал? Понимали?
Он так был взволнован, точно разговор шёл о важном экзамене – сдал или провалился.
Я доложила всё, что прослушала, увидела и даже записала…
После перерыва народа прибавилось, все уже наперегонки занимали места. При появлении Маяковского бурно захлопали и сразу замерли. Маяковского как подменили – даже голос стал более звучным и мощным. Читал очень хорошо. Был внутренне весел и бодр, стал красивым. Очень понравились куски из поэмы "Владимир Ильич Ленин", "Наш марш", "Хорошее отношение к лошадям" и многое из "Моего открытия Америки". К нему привыкли и даже просили повторить некоторые стихи из первого отделения.
– Ишь! Как ловко одно к другому подкладывает да тебе в голову вкладывает – замечаешь? – говорил сидящий передо мною старик молодому рабочему.
– Здорово он их! Хлёстко!..
– Маяковский, спасибо! Уважил рабочий класс!
В тот приезд Маяковский подарил мне книжечку "Солнце в гостях у Маяковского", изданную в Нью-Йорке в 1925 году с иллюстрациями Давида Бурлюка. На книжечке он написал: "Вуалеточке В.Маяковский"».
Через неделю поэт вернулся в Москву.
18 января в 1-ом Госкинотеатре (ныне – московский кинотеатр «Художественный») состоялась одна из общественных премьер фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». В первый раз кинокартина была показана 21 декабря 1925 года в Большом театре на торжественном заседании, посвящённом 20-летию революции 1905 года. Премьера прошла довольно спокойно. Газеты особых восторгов тоже не высказали. Фильм продолжали демонстрировать в разных аудиториях.
На одном таком показе присутствовал секретарь политбюро Борис Бажанов. Театральные работы Эйзенштейна ему не нравились, и он написал о режиссёре и его фильме так:
«Обернувшись к синема и узнав в Агитпропе ЦК, что сейчас требуется (“нет агитационных революционных фильмов; состряпайте”), Эйзенштейн состряпал “Броненосца Потёмкина”, довольно обыкновенную агитку, которую левые синемасты Запада (а есть ли правые?) провозгласили шедевром (раз “революционный” фильм, то, само собой разумеется, шедевр). Я его видел на премьере (если не ошибаюсь, почему-то она была дана в театре Мейерхольда, а не в синема) и случайно был рядом с Рудзутаком; по просмотре мы обменялись мнениями. “Конечно, агитка, – согласился Рудзутак, – но давно уже нужен стопроцентный революционный фильм”. Так что заказ был выполнен, и в фильме всё было на месте – и озверелые солдаты, и гнусные царские опричники, и доблестные матросы – будущая “краса и гордость революции” (правда, только во времена АЛМАЗА, а не во времена КРОНШТАДТА)».
Напомним, что Ян Эрнестович Рудзутак был тогда наркомом путей сообщения СССР и кандидатом в члены политбюро ЦК ВКП(б) (членом политбюро он станет через полгода). А «Алмаз» был единственным крейсером Российского императорского флота, участвовавшим в Цусимском сражении, которому удалось прорваться во Владивосток. В январе 1918 года на стоявшем в порту Одессы «Алмазе» был размещён «Морской военный трибунал» – на крейсере варварски уничтожали белых офицеров. Под «временами КРОНШТАДТА» Бажанов явно имел в виду Кронштадское восстание 1921 года.
Поездка на Украину
Примерно в то же самое время прибыл на Соловки заключённый Борис Глубоковский, который был отправлен на «исправление» в концлагерь, тогда как поэта Алексея Ганина и многих других его подельников (объявленных членами «Ордена русских фашистов») расстреляли. В книге Бориса Ширяева «Неугасимая лампада» момент прибытия доставленных на остров зеков описан так:
«Приёмка начинается. Перед рядами “пополнения” появляется начальник, вернее, владыка острова – товарищ Ногтев…
– Здорово, грачи! – приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтоватой куртки из тюленьей кожи, высший Соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.
Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь:
– Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая! То-то! Обо всех законах надо здесь позабыть! У нас – свой закон! – далее даётся пояснение этого закона в выражениях малопонятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного».
Тем временем экспедиция Николая Рериха продолжала томиться в китайском городке Хотане, поскольку местные власти, притесняя путешественников и издеваясь над ними, не позволяли им продолжить свой путь. 10 января 1926 года Рерих записывал в дневнике:
«Лама… предсказывает ещё одно обстоятельство. Он говорит: “Когда они увидят, что дальше идти нельзя в наглости и жестокости, они будут уверять, что вообще ничего не было, что нам всё только показалось, а они всегда были друзьями”».
Глава экспедиции Николай Константинович Рерих в заметках, которые делал в пути, «ламой» называл гепеушника Якова Блюмкина, своего заместителя.
21 января 1926 года Корней Чуковский записал в дневнике:
«Неделю тому назад был у Мейерхольда… Он пригласил меня к себе. Очень потолстел, стал, наконец, “взрослым” и “сытым”. Пропало прежнее голодное выражение его лица, пропал этот вид орлёнка, выпавшего из родного гнезда. Походка стала твёрже и увереннее. Ноги в валенках – в таких валенках, которые я видел только на Горьком – выше колен, тонкие, изящные, специально для знаменитостей, и можно засовывать за их голенища руки.
Он принял меня с распростёртыми. Вызвал жену, которая оказалась женой Есенина».
В стране в тот момент была ещё пора относительной свободы для литераторов, тон которой задал Николай Бухарин, выступивший в феврале 1925 года с докладом «Вопросы культуры при диктатуре пролетариата». Обращаясь к творческой интеллигенции, он, в частности, сказал:
«Почему вы думаете, что ЦК должен взять и прилепиться к какой-нибудь одной организации? Пусть будут тысячи организаций, пусть наряду с МАППом и ВАППом будет сколько угодно кружков и организаций!»
Напомним, что МАППом называли тогда Московскую ассоциацию пролетарских писателей, а ВАППом – ассоциацию тех же пролетарских писателей, но Всероссийскую.
Секретарь политбюро Борис Бажанов размышлял тогда совсем о другом:
«Я знаю Сталина и вижу, куда он идёт. Он ещё мягко стелет, но я вижу, что это аморальный и жестокий азиатский сатрап. Сколько он будет ещё способен совершать над страной преступлений – и надо будет во всём участвовать. Я уверен, что у меня это не выйдет. Чтобы быть при Сталине и со Сталиным, надо в высокой степени развить в себе все большевистские качества – ни морали, ни дружбы, ни человеческих чувств – надо быть волком. И затратить на это жизнь. Не хочу. И тогда что мне остаётся в этой стране делать? Быть винтиком машины и помогать ей вертеться? Тоже не хочу».
В то время, когда Борису Бажанову очень не хотелось «быть винтиком машины и помогать ей вертеться», многие советские интеллигенты (включая Маяковского) продолжали изо всех сил раскручивать эту большевистскую «машину» и ничего не имели против того, чтобы стать «винтиком», помогающим ей «вертеться». Впрочем, за это отдельным «винтикам» полагались некоторые льготы. Так, 23 января 1926 года Луначарский подписал письмо в жилищный отдел Рогожско-Симоновского района с просьбой сохранить за Маяковским квартиру в Гендриковом переулке (на время его поездок по стране).
Это поэтическое турне, на которое власти дали разрешение, началось 24 января – Владимир Владимирович отправился в лекционный вояж по городам Украины, Северного Кавказа, Азербайджана и Грузии.
Первое выступление состоялось в украинской столице, которой тогда был город Харьков. 25 января в местном Оперном театре Маяковский прочёл лекцию «Моё открытие Америки». Газета «Вечернее радио» на следующий день сообщила:
«Необычайный во всех отношениях вечер. Лекции в обычном смысле этого слова не было…
Маяковский остроумен и порою парадоксален. Он всегда умеет заключить виденное и слышанное в тугую фразу, в ядовитое, взрывчатое слово. На сцене был не стесняющийся ни в движениях, ни в словах человек, сумевший найти хороший фамильярный тон и связаться с переполненным залом. Поэт о самых известных вещах рассказывал необычайными словами…
Читал стихи, крепкие стихи о своём путешествии, читал своеобразной, ему только присущей манерой.
Весёлый, бодрый, остроумный поэт расположил к себе зрителей. Много смеялись, многое узнали. И только один момент наполнился молчанием, момент, когда в ответ на записку об Есенине Маяковский бросил: "Мне наплевать после смерти на все памятники и венки!.. Берегите поэтов!"»
Приехав на следующий день в Киев, Владимир Владимирович тут же написал и отправил письмо Наталье Симоненко (Рябовой), с которой познакомился в 1924 году:
«Наташа
Если Вы не забыли что полтора года назад Вам взбрело меня видеть – позвоните Отель Континенталь. Или даже забредите и вызовите меня
Жму лапу
Владимир Владим.»
О том, как о приезде поэта узнали остальные киевляне, написала сама Наталья:
«На улицах Киева – большие красные афиши, возвещающие лекции Маяковского об Америке».
Юная киевлянка и московский стихотворец встретились. Наташа сразу же сказала, что полученное ею письмо написано без знаков препинания. Маяковский ответил:
«– Знаки препинания – ничего, я стихи пишу хорошие!»
Весь следующий день поэт посвятил своей киевской знакомой.
«Мы целый день провели вместе. Днём гуляли в Царском саду. Владимир Владимирович был вооружён кастетом и маленьким револьвером "байярд". На мой вопрос: для чего столько оружия? – ответил:
– Боюсь, чтоб вас не отняли!»
28 января состоялось выступление поэта в бывшем Купеческом собрании, ставшим Домом коммунистического просвещения (Домкомпросом). Программа вечера была всё та же – доклад «Моё открытие Америки», чтение стихов и ответы на записки.
Наталья Симоненко:
«На улице, возле Домкомпроса, громаднейшая толпа. Пролезть к дверям невозможно… Коридоры, фойе, лестницы – всё забито билетным и безбилетным народом…
В зале невозможно найти никаких своих мест. Сидят по двое на одном стуле, друг у друга на коленях. Все страшно шумят, переговариваются через весь зал. Слышен украинский говор.
При появлении Маяковского становится ещё шумнее. Крики, аплодисменты, из-за дверей – рёв неуходящей публики. То и дело подают записки-просьбы, но задиристого содержания: "Если у нас нет денег, значит, нам не нужно знать Маяковского? Маяковский, пропусти!"
Владимир Владимирович находит единственно возможный выход – пустить всех».
Безбилетников пустили, и началось чтение доклада.
Газета «Киевский пролетарий»:
«Мы помним попытку поэта расправиться с Америкой в поэме "150 миллионов". Вторичная попытка Маяковского дала результаты куда более грандиозные…
Маяковский на этот раз крепко вцепился поэтической челюстью в горло Америки. В любой строке налицо чувство ненависти к индустриальному аду Америки…
– Ну, а как доклад? – спросите вы.
Доклада, в сущности, не было. Был яркий калейдоскоп фактов, был беспорядочно составленный калейдоскоп чувств, толкнувший большого поэта на вулканический разговор с Америкой по душам».
В третьей части вечера были ответы на записки.
Наталья Симоненко:
«Аудитория настроена бурно, и нельзя сказать, что очень дружелюбно. Кроме обычных выпадов о самовосхвалении, самомнении и так далее, публика очень интересовалась финансовой стороной поездки в Америку. И, наконец, раздались голоса, которые прямо вопрошали: "Кто дал вам деньги на поездку в Америку? На чьи деньги вы ездили в Америку?"
– На ваши, товарищи, на ваши!»
В Киеве у Маяковского было ещё два выступления. Последнее (доклад «Нью-Йорк и Париж») проходило в цирке. О нём киевская газета «Пролетарская правда» написала:
«Маяковский прекрасно чувствует свою связь с аудиторией… Он простой, и относятся к нему просто… Как и следовало ожидать, наибольшее количество времени Маяковский отвёл своим стихам…
– Между прочим, товарищи, – сказал он после одного из стихов в конце вечера, – та страна, где добрый час слушают серьёзные стихи, достойна уважения…
И, подумавши, добавил:
– Да, хорошая наша страна… И я, наверное, неплохой поэт, если сумел заставить вас столько времени слушать себя…»
А экспедицию Николая Рериха и Якова Блюмкина власти Хотана всё же из города выпустили, и 28 января 1926 года путешественники направились в город Урумчи, удаляясь от Гималаев.
Маяковский 4 февраля приехал в Ростов-на-Дону.
Что же происходило тогда в «достойной уважения» стране Советов?
Раскол большевиков
Мощный политический ураган, разыгравшийся на XIV съезде РКП(б) и расколовший партию надвое, стал потихоньку утихать. Зиновьев ещё оставался членом политбюро, но Льва Каменева из членов политбюро перевели в кандидаты. Кроме того, его лишили поста главы СТО (Совета Труда и Обороны).
Борис Бажанов:
«С января 1926 года Сталин после съезда пожинает плоды своей многолетней работы – свой ЦК, своё Политбюро – и становится лидером (ещё не полновластным хозяином – члены Политбюро ещё имеют вес в партии, члены ЦК ещё кое-что значат). Но пока шла борьба в центре, секретародержавие на местах окончательно укрепилось. Первый секретарь губкома – полный хозяин своей губернии, все вопросы губернии решаются на Бюро Губкома. Страной правит уже не только партия, но партийный аппарат».
21 января на очередное заседание политбюро собрались его члены: Ворошилов, Зиновьев, Рыков, Сталин, Троцкий, а также кандидаты в члены политбюро: Дзержинский, Рудзутак и члены ЦК: Раковский, Бубнов, Смилга, Пятаков, Чичерин. Был рассмотрен вопрос о главе наркомата финансов:
«23. О т. Брюханове (т. Рыков)».
Как мы помним, наркомфин Сокольников отказался поддержать «большинство ЦК» во главе со Сталиным, оставшись верным приверженцем позиций Зиновьева и Каменева. Кроме того, Сокольников был категорически против того, чтобы выделять средства для поощрения работников ГПУ. Сохранились его слова, высказанные Феликсу Дзержинскому:
«– Спрос рождает предложение, чем больше средств получат ваши работники, тем больше будет дутых дел. Такова специфика вашего весьма важного и потому опасного учреждения».
К тому же, напомним, Сокольников был единственным делегатом XIV съезда, кто с его трибуны громогласно потребовал лишить Сталина поста генерального секретаря партии. С тех пор прошёл всего месяц, и кремлёвские вожди дали Сокольникову ответ:
«23. Назначить т. Брюханова Народным Комиссаром финансов СССР».
Этим постановлением Григорий Сокольников из состава советского правительства изгонялся. И сразу же про нового наркома финансов появился анекдот.
Борис Бажанов:
«Порядочную часть советских и антисоветских анекдотов сочинял Радек. Я имел привилегию слышать их от него лично, так сказать, из первых рук. Анекдоты Радека живо отзывались на политическую злобу дня».
И Бажанов привёл в своей книге радековский анекдот «на политическую злобу дня» («об участии евреев в руководящей верхушке»):
«Два еврея в Москве читают газеты. Один из них говорит другому: “Абрам Осипович, наркомом финансов назначен какой-то Брюханов. Как его настоящая фамилия?” Абрам Осипович отвечает: “Так это и есть его настоящая фамилия – Брюханов”. – “Как! – восклицает первый. – Настоящая фамилия Брюханов? Так он – русский?” – “Ну, да, русский”. – “Ох, слушайте, – говорит первый, – эти русские – это удивительная нация: всюду они пролезут”».
На том же заседании политбюро, где наркомом был утверждён Николай Павлович Брюханов, Троцкий, не входивший пока ни в сталинское «большинство», ни в зиновьевско-каменевскую «оппозицию», попросил своих соратников немного разгрузить его от дел:
«19. Просьба т. Троцкого об освобождении его от обязанностей начальника Главэлектро (тт. Дзержинский, Троцкий)».
Бывшие руководители и фактические создатели Красной армии (Троцкий и Склянский) после смерти Ленина были по очереди отправлены в подчинение Дзержинскому, который, оставаясь руководителем ОГПУ, стал ещё и главой ВСНХ (Высшего Совета Народного Хозяйства). Склянского, как мы помним, сначала назначили руководителем Моссукна, затем поставили во главе Амторга, а потом утопили в озере неподалёку от Нью-Йорка. Троцкого, никакого интереса к электричеству не проявлявшего, сделали начальником Главэлектро.
Политбюро приняло постановление:
«19. Удовлетворить просьбу т. Троцкого».
В тот же день, 21 января, вожди опросом решили ещё один вопрос:
«28. Предоставить т. Троцкому дополнительный день отдыха в неделю».
Политическая жизнь страны, казалось, входила в свою привычную колею.
Но секретарь политбюро Борис Бажанов продолжал размышлять над тем, как поступить ему с его антибольшевистским настроением:
«Остаётся единственный выход: уйти за границу; может быть, там я найду возможности борьбы против этого социализма с волчьей мордой. Но и это не так просто.
Сначала надо уйти из Политбюро, сталинского секретариата и из ЦК. Это решение я принимаю твёрдо. На моё желание уйти Сталин отвечает отказом. Но я понимаю, что дело совсем не в том, что я незаменим – для Сталина незаменимых или очень нужных людей нет; дело в том, что я знаю все его секреты, и если я уйду, надо вводить в эти секреты нового человека; именно это ему неприятно».
И Борис Бажанов стал искать выход из создавшегося положения.
Вскоре такая возможность появилась.
Попытка эмигрировать
Уехать из Советского Союза Борис Бажанов решил не один, а вместе с дамой своего сердца. Вот как он сам всё это описал:
«Она называется Андреева, Алёнка, и ей двадцать лет. История Алёнки такова. Отец её был генералом и директором Путиловского военного завода. Во время гражданской войны он бежал от красных вместе с женой и дочерью на Юг России. Там во время гражданской войны на Кавказе он буквально умер от голода, а жена его сошла с ума. Пятнадцатилетнюю дочку Алёнку подхватила группа комсомольцев, ехавших в Москву на съезд, и привезла в Москву. Девчонку определили в комсомол, и она начала работать в центральном аппарате комсомола. Была она на редкость красива и умна, но нервное равновесие после всего, что она пережила, оставляло желать лучшего».
Когда Алёне Андреевой исполнилось 17 лет, на ней женился генеральный секретарь ЦК комсомола Пётр Смородин. Вскоре Алёна перешла работать в аппарат ЦК партии, где и встретилась с Борисом Бажановым, который написал:
«Роман, который возник между нами, привёл к тому, что она своего Смородина оставила. Правда, вместе с ней мы не жили. Я жил в 1-м Доме Советов, а рядом был Дом Советов, отведённый для руководителей ЦК комсомола. У неё там была комната…
Роман наш длился уже полтора года. Но Алёнка не имела никакого понятия о моей политической эволюции и считала меня образцовым коммунистом. Открыть ей, что я хочу бежать за границу, не было ни малейшей возможности».
Бажанов перевёл Алёну на работу в Народный комиссариат финансов, а так как он сам собирался в командировку в Норвегию, то устроил ей командировку в Финляндию.
«Я рассчитывал на обратном пути встретить её в Гельсингфорсе и только здесь открыть ей, что я остаюсь за границей; и здесь предложить ей выбор: оставаться со мной или вернуться в Москву. Естественно, если она решила вернуться, всякие риски бы для неё отпали – она бы этим доказала, что моих контрреволюционных взглядов не разделяет и соучастницей в моём оставлении Советской России не является».
Однако Ягода, следивший за каждым шагом Бажанова, заграничный паспорт Алёне Андреевой подписать отказался, и она осталась в СССР. Узнав об этом, Борис Бажанов понял, что попал в положение «очень глупое»:
«Если я останусь за границей, по всей совокупности дела она будет рассматриваться моей соучастницей, которая неудачно пыталась бежать вместе со мной, и бедную девчонку расстреляют совершенно ни за что, потому что на самом деле она никакого понятия не имеет о том, что я хочу бежать за границу… Я записываю в свой пассив неудачную попытку эмигрировать, сажусь в поезд и возвращаюсь в Советскую Россию.
Ягода уже успел представить Сталину очередную цидульку о моём намерении эмигрировать, да ещё с любимой женщиной. Сталин, как всегда, равнодушно передаст донос мне. Я пожимаю плечами: “Это у него становится манией”. Во всяком случае, моё возвращение оставляет Ягоду в дураках.
Так как теперь совершенно ясно, что как я ни попробую бежать, Алёнку с собой я взять никак не смогу, у меня нет другого выхода как разойтись с ней, чтобы она ничем не рисковала. Это очень тяжело и неприятно, но другого выхода у меня нет».
И Борис с Алёной расстался.
Но этим тут же воспользовалось ОГПУ:
«Одна из её подруг, Женька, которая работает в ГПУ (но Алёнка этого не знает), получает задание, которое и выполняет очень успешно: “Ты знаешь, почему он тебя бросил? Я случайно узнала – у него есть другая дама сердца; всё ж таки, какой негодяй и т. д.”. Постепенно Алёнку взвинчивают, убеждают, что я скрытый контрреволюционер, и уговорят (как долг коммунистки) подать на меня заявление в ЦКК, обвиняя меня в скрытом антибольшевизме. Ягода опять рассчитывает на своих Петерса и Лациса, которые заседают в партколлегии ЦКК».
А тут ещё Лев Каменев, переведённый из членов политбюро в кандидаты, пригласил Бажанова к себе и предложил ему стать членом оппозиции. Бажанов отказался. Но об этом тайном визите к Каменеву Ягода тотчас доложил Сталину. И генсек дал согласие на то, чтобы Центральная контрольная комиссия (ЦКК) вызвала Бажанова на одно из своих заседаний и выслушала «обвинения Алёнки».
Борис Бажанов:
«На ЦКК Алёнка говорит в сущности вздор. Обвинения в моей контрреволюционности не идут дальше того, что я имел привычку говорить: “наш обычный советский сумасшедший дом” и “наш советский бардак”. Это я действительно говорил часто и не стесняясь. Собеседники обычно почтительно улыбались – я принадлежал к числу вельмож, которые могут себе позволить критику советских порядков, так сказать, критику хозяйскую.
Когда она кончила, я беру слово и прошу партколлегию не судить её строго – она преданный член партии, говорит то, что действительно думает, полагает, что выполняет свой долг коммунистки, а вовсе не клевещет, чтобы повредить человеку, с которым разошлась.
Ярославский, который председательствует, спрашивает, а что я скажу по существу её обвинений. Я только машу рукой: “Ничего”… Я знаю, что всё это театр, и что они спросят у Сталина, постановлять ли что-либо.
Поэтому на другой день я захожу к Сталину, говорю, между прочим, о ЦКК так, как будто всё это чепуха (инициатива обиженной женщины), а потом так же, между прочим, сообщаю, что товарищ Каменев пытался привести меня в оппозиционную веру, но безрезультатно. Сталин успокаивается и, очевидно, на вопрос Ярославского, что постановлять ЦКК, отвечает, что меня надо оставить в покое, потому что никаких последствий это больше для меня не имеет».
Здесь, пожалуй, пришло время рассказать о личной жизни Иосифа Сталина, о его отношениях с женой, Надеждой Аллилуевой. Вот что об этом рассказал Борис Бажанов:
«Дома Сталин был тиран. Постоянно сдерживая себя в деловых отношениях с людьми, он не церемонился с домашними. Не раз Надя говорила мне, вздыхая: “Третий день молчит, ни с кем не разговаривает и не отвечает, когда к нему обращаются; необычайно тяжёлый человек”. Но разговоров о Сталине я старался избегать – я уже представлял себе, что такое Сталин, бедная Надя только начинала, видимо, открывать его аморальность и бесчеловечность и не хотела сама верить в эти открытия».
Тем временем выяснилось, что наступившее политическое затишье – лишь временная передышка. Потерпевшие поражение оппозиционеры не желали мириться с победой Сталина, который ещё не так давно был у них на подхвате. И Зиновьев с Каменевым принялись выяснять, как им объединиться с их недавним заклятым врагом Троцким.
К этому времени все главные соратники бывшего наркомвоенмора уже были отправлены с глаз подальше – за границу, полпредами в столицы буржуазных стран. Их разъединили друг от друга. Но, пользуясь дипломатическими каналами, они вели оживлённую переписку между собой и своими оставшимися в СССР единомышленниками. Эта разрозненная, но не сломленная гвардия победителей в гражданской войне представляла собой весьма могучую силу.
Если бы Зиновьеву с Каменевым удалось объединить своих сторонников с троцкистами, то у «большинства ЦК» появится бы очень мощный соперник. А то, что подобное объединение возможно, Сталин и его соратники прекрасно понимали. И они крепко задумались над тем, как воспрепятствовать такому нежелательному объединению.
Роковая поездка
Самый первый удар ЦК решило нанести по каналам связи. Ведь ситуация там сложилась довольно оригинальная – все письма полпредов (наряду с прочими посольскими документами) перевозили дипломатические курьеры (дипкурьеры), которые этот груз охраняли с оружием в руках. Самих дипкурьеров неусыпно опекало ОГПУ. Таким образом, получалось, что письма, которые вполне могли быть направлены против власти, эта власть ещё и зорко охраняла.
Подобную несуразицу необходимо было ликвидировать самым решительным образом. Но как? Ведь во главе ОГПУ находился Феликс Дзержинский, поддерживавший Троцкого.
Однако на Лубянке у Сталина имелось немало своих людей, так что обойти «железного Феликса» было совсем не трудно.
И гепеушники начали действовать.
В январе 1926 года 28-летний москвич Корнелий Люцианович Зелинский был неожиданно вызван на Лубянку. Впрочем, самого Зелинского это приглашение совершенно не удивило. Ведь он, активно сотрудничая с Литературным центром конструктивистов (ЛЦК) и публикуя в печати заметки публицистического толка, в ОГПУ заглядывал довольно часто. В ту пору про основное дело, которым занимался Корнелий Люцианович, не надлежало знать даже самым близким людям. Много-много лет спустя, вспоминая свою молодость, он написал:
«Я жил в то время в общежитии украинского постпредства в Колпачном переулке, на Покровке, где занимался отнюдь не романтическими делами, но заведовал отделом секретной информации».
Так что литератор, заведовавший украинскими секретами, был на Лубянке своим человеком. Вот ему и предложили поработать за рубежом – шифровальщиком в советском постпредстве в Париже. Правда, к месту своей будущей работы Зелинскому предстояло добираться не как полноправному сотруднику дипломатического представительства, а как корреспонденту газеты «Известия».
Корнелий Зелинский ничему удивляться не стал, и на всё, что предложили ему, ответил полным согласием.
– Тогда собирайтесь в дорогу! – сказали ему и добавили. – Железнодорожный билет вам организует ваш хороший знакомый. Он живёт неподалёку.
«Хорошим знакомым» – к немалому на этот раз удивлению Корнелия Люциановича – оказался Владимир Владимирович Маяковский, который воспринял обращение к нему литератора из ЛЦК как нечто само собой разумеющееся. Впоследствии Зелинский вспоминал:
«Маяковский, ссылаясь на свой опыт, посоветовал в поездке присоединиться к нашим дипкурьерам».
И он тут же позвонил своему приятелю-дипкурьеру (назвав его Теодором) и попросил приобрести железнодорожный билет для одного своего хорошего знакомого.
Сам факт этого «заказа» говорит о многом. И прежде всего о том, что среди чекистов Владимир Владимирович был своим человеком. Ведь если бы Маяковский никакого отношения к ОГПУ не имел, то как он мог оказаться «заказчиком билетов» для человека, которого это ведомство отправляло в служебную командировку?
Оформив железнодорожный билет Зелинскому, Маяковский, как мы помним, 24 января 1926 года отправился в лекционное турне по Украине, а 4 февраля прибыл в Ростов-на-Дону.
В тот же самый день (4 февраля) с Виндавского (Рижского) вокзала столицы отошёл поезд «Москва-Рига». Дипкурьер, который взял билет для Зелинского, ехал с ним в соседнем купе. Звали его Теодор Иванович Нетте. Для него эта поездка стала последней, так как 5 февраля при подходе поезда к столице Латвии на купе советских дипломатических курьеров было совершено вооружённое нападение, завязалась перестрелка. Были жертвы.
Кто задумал и осуществил бандитский налёт на международный вагон поезда «Москва-Рига», так и осталось неизвестным. Суд, состоявшийся в столице Латвии в конце 1926 года, так ничего толком не раскрыл. Дело тихо закрыли.
Между тем в том кровавом инциденте чётко прослеживается присутствие ОГПУ, Иностранный отдел которого организовывал и осуществлял десятки подобных нападений и убийств во многих странах. Косвенных доказательств того, что кровавый инцидент в вагоне поезда «Москва-Рига» был задуман на Лубянке, существует немало. И уж совсем нетрудно установить, что готовил этот кровавый инцидент Иосиф Казимирович Опанский, заместитель полномочного представителя ОГПУ по Белорусскому военному округу.
Этой версии можно было бы привести немало доказательств, но это уведёт далеко в сторону наш рассказ о Владимире Маяковском. Поэтому ограничимся лишь теми фактами, которые имеют к поэту самое непосредственное отношение.
Итак, в организации этой гепеушной акции Маяковский участие принимал. Вполне возможно, что в числе претендентов на роль попутчика Теодора Нетте был и сам Владимир Владимирович – ведь он уже несколько раз ездил с ним за рубеж и обратно. Но по каким-то соображениям (возможно из-за поездки с лекциями) кандидатура Маяковского отпала. Кто знает, не он ли сам предложил Корнелия Зелинского в качестве замены?
Вряд ли организаторы этого кровавого инцидента планировали убийство советского дипкурьера. Она, видимо, предполагали, что завербованные налётчики ворвутся в вагон, устроят перестрелку и будут ликвидированы – либо дипкурьерами, либо третьим участником нападения, который дожидался окончания пальбы в тамбуре. Такой, скорее всего, была схема гепеушной акции.
А роль Зелинского в этой истории заключалась в том, что он как очевидец перестрелки должен был своим рассказом о ней изрядно напугать Раковского и его единомышленников дипломатического ранга.
Но действительность непредсказуема, поэтому всё стало развиваться по иному сценарию. В результате к двум запланированным жертвам (нападавших на дипкурьеров братьев Габриловичей, в самом деле, пристрелил их третий сообщник) добавилась ещё одна – Теодор Нетте.
Теодор Нетте
11 февраля на заседании политбюро (присутствовали Зиновьев, Калинин, Рыков, Сталин, Томский и Троцкий, а также Каменев и Рудзутак) нарком по иностранным делам Чичерин, докладывая об этой трагедии, вновь с тревогой заявил о том, что наши дипломатические секреты могут в любой момент стать достоянием тех, кому они совершенно не предназначены.
Политбюро постановило: контроль над дипкурьерами ужесточить, поручив осуществление этого дела гепеушникам.
На Объединённое Государственное Политическое управление (ОГПУ) – Борис Бажанов обратил внимание ещё тогда, когда партией управляла «тройка» (Зиновьев, Каменев, Сталин), а ОГПУ ещё не было «объединённым» и называлось просто ГПУ:
«ГПУ… Как много в этом звуке для сердца русского слилось…
В это время внутри партии была свобода, которой не было в стране; каждый член партии имел возможность защищать и отстаивать свою точку зрения. Также свободно происходило обсуждение всяких проблем на Политбюро. Не говоря уже об оппозиционерах, таких как Троцкий и Пятаков, которые не стеснялись резко противопоставлять свою точку зрения мнению большинства, – среди самого большинства обсуждение всякого принципиального или делового вопроса происходило в спорах…
Но что очень скоро мне бросилось в глаза, это то, что Дзержинский всегда шёл за держателями власти, и если отстаивал что-либо с горячностью, то только то, что было принято большинством…
Первый заместитель Дзержинского (тоже поляк), Менжинский, человек со странной болезнью спинного мозга, эстет, проводивший свою жизнь, лёжа на кушетке, в сущности тоже очень мало руководил работой ГПУ. Получилось так, что второй заместитель председателя ГПУ, Ягода, был фактически руководителем ведомства.
Впрочем, из откровенных разговоров на заседании тройки я быстро выяснил позицию лидеров партии. Держа всё население в руках своей практикой террора, ГПУ могло присвоить себе слишком большую власть вообще. Следовательно тройка держала во главе ГПУ Дзержинского и Менжинского как формальных возглавителей, в сущности от практики ГПУ далёких, и поручая вести все дела ГПУ Ягоде, субъекту малопочтенному, никакого веса в партии не имевшему и сознававшему свою полную подчинённость партийному аппарату. Надо было, чтобы ГПУ всегда и во всём было подчинено партии и никаких претензий на власть не имело…
Партийное руководство могло спать спокойно, и его очень мало занимало, что население всё больше и больше схватывается в железные клещи гигантского аппарата политической полиции, которому коммунистический диктаторский строй предоставляет неограниченные возможности».
Эти «неограниченные возможности» ОГПУ и применило в отношении надзора за дипломатической почтой. Оппозиционно настроенным полпредам пришлось искать другие, более надёжные способы общения.
Их искали тогда не только оппозиционеры. Бенгт Янгфельдт пишет (об Осипе Брике и лефовцах):
«Зимой 1926 года Осип и три поэта (Асеев, Пастернак и близкий футуристам конструктивист Илья Сельвинский) пришли на приём к Троцкому, чтобы пожаловаться на трудности, с которым сталкиваются авторы-новаторы. Несмотря на то, что он принадлежал к партийной оппозиции, Троцкий занимал ещё достаточно прочное положение в сфере культуры, поэтому визит к нему был объясним. Тем более, что Осип незадолго до того примкнул к оппозиции, заявив, что он больше "не выдержал". Маяковский несколько раз встречался с Троцким ранее, но в этой встрече участия не принимал – по-видимому, он был в отъезде».
Интересное свидетельство! Осип Брик, уже давно исключённый из партии, неожиданно «примкнул к оппозиции», так как «не выдержал». Дома, общаясь с членами своей «семьи», Осип Максимович, надо полагать, высказывался очень откровенно в отношении того, что, по его мнению, происходило тогда в партийной элите. Запомним этот момент! Ведь о том, что беспартийный Осип Брик стал оппозиционером, других свидетельств нет.
В письме поэта-конструктивиста Бориса Агапова Корнелию Зелинскому есть такая информация о той встрече:
«Илья был у Льва Давидовича Троцкого вместе с Асеевым (который взял с собой Кирсанова), Пастернаком, Воронским и Полонским… Провели они у Троцкого чуть ли не 4 часа и, кажется, с триумфом. Троцкий сказал, что вопрос о молодых поэтах надо поднимать вместе с вопросом о качестве продукции стихов и о редакторском своеволии».
Так что «жалобы» Брика со товарищи большевистскому вождю, которого всё активнее поджимало сталинское «большинство ЦК», действие возымели – Троцкий сразу же созвал ведущих деятелей культуры на совещание, и лефовцам разрешили выпускать ежемесячный журнал «Новый Леф». Правда, договор с Госиздатом был подписан только в сентябре, тираж был установлен всего в 1500 экземпляров, а объём журнала был только в 48 страниц, что было (как пишет Янгфельдт)…
«… существенно меньше, чем у "старого" "Лефа", который хоть и выходил нерегулярно, но в объёме достигал иногда нескольких сот страниц».
Неожиданная кончина
В Париже в тот момент вот-вот должны были начаться франко-советские переговоры. Нашу делегацию возглавил новый полпред Советского Союза во Франции Христиан Раковский (друг и соратник Льва Троцкого). По просьбе Раковского переговорный процесс в прессе СССР поручили освещать журналистке и писательнице Ларисе Рейснер (гражданской жене верного сторонника Троцкого Карла Радека). Её оформили корреспондентом «Известий», и она должна была отправиться во Францию в том же поезде, в которым покидал Москву Раковский.
Но включённая в состав советской делегации в Париже Лариса Рейснер, видимо, кому-то очень мешала. И за несколько дней до отъезда она внезапно заболела. Невероятно загадочной болезнью.
Газета «Вечерняя Москва» в номере от 4 февраля 1926 года сообщила:
«Известная писательница Лариса Рейснер опасно заболела брюшным тифом. Больная помещена в кремлёвскую больницу. В течение нескольких дней она находится в бессознательном состоянии. В настоящее время положение её признаётся критическим. Одновременно с нею заболели также тифом и помещены в ту же кремлёвскую больницу мать Л.Рейснер, брат её и домашняя работница. Эпидемическое заболевание тифом в одной семье – представляется последнее время исключительным».
Как выяснилось, в семье Рейснер хотели сделать пирожные. Крем для них изготовили на молоке, которое оказалось заражённым. Отец Ларисы, Михаил Андреевич Рейснер, пирожных не ел, поэтому не заболел.
Кремлёвские врачи сделали всё возможное, чтобы спасти Ларису Михайловну, но 9 февраля она скончалась.
Будущий поэт и писатель Варлам Тихонович Шаламов (тогда ему было семнадцать с половиной лет, и он работал дубильщиком на кожевенном заводе в подмосковном Кунцево) потом написал:
«Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня Гражданской войны тридцати лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил. Но Рейснер умерла».
Журналист Михаил Кольцов:
«Зачем было умирать Ларисе, великолепному, редкому, отборному человеческому экземпляру?»
Юный Анатолий Гудимов, ещё только начинавший заниматься журналистикой, вспомнил о том, что видел Ларису Рейснер на похоронах Сергея Есенина:
«Мог ли я подумать, что через месяц 30 лет от роду она сама, с чуть приоткрытыми глазами, такая знакомая и чужая, будет лежать в том же зале того же Дома печати?»
Сразу вспоминаются стихи, сочинённые Ларисой Рейснер ещё до революции:
«Я прошу тебя, Всевышний, об одном:
Дай мне умереть с открытыми глазами,
Плакать дай кровавыми слезами
И сгореть таинственным огнём.
Пусть умру я, Боже, улыбаясь,
И глаза пусть будут полны слёз,
Да услышу музыку миров, прощаясь
С царством терние и роз».
Писательница Лидия Сейфуллина:
«Она настолько ценила жизнь, что никогда не бесчестила её ленью, разгильдяйством, творческой дешёвкой…»
Борис Пастернак написал стихотворение «Памяти Рейснер». Вот два его четверостишия (первое и последнее):
«Лариса, вот когда посожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненье с ней.
Я б разузнал, чем держится без клею
Живая повесть на обрывках дней…
Бреди же в глубь преданья, героиня.
Нет, этот путь не утомит ступни.
Ширяй, как высь, над мыслями моими:
Им хорошо в твоей большой тени».
Владимир Маяковский, находившийся тогда в Ростове-на-Дону (в лекционной поездке), на смерть Ларисы Михайловны не откликнулся.
А по Москве упорно ходили слухи, что Ларису Рейснер отравили.
Кто? И за что?
Ответить на эти вопросы не могла даже людская молва.
Отец скончавшейся писательницы, Михаил Андреевич Рейснер, написал Лидии Сейфуллиной:
«… врачи удивляются и говорят – удивительная по силе инфекция. По ночам выдумываю роман, где женщина-врач, чтобы погубить соперницу, пользуется новейшим и совершенно безопасным способом – подбрасывает ей в пищу, скажем, в молоко – изумительную по силе разводку тифозных бацилл…»
Михаил Рейснер как в воду смотрел – ведь трагические события в стране Советов (до предела запутанные и, на первый взгляд, совершенно необъяснимые) происходили всё чаще и чаще. Почему? Не потому ли, что уже набирала обороты «машина», уничтожавшая «врагов» страны Советов?
Но тогда возникает вопрос: разве среди тех, кто отдавал команды этой «машине», не было людей порядочных, человечных?
Были. О них – Борис Бажанов:
«В большевистской верхушке я знал многих людей, и среди них, людей талантливых и даровитых, немало было честных и порядочных. Последнее я констатирую с изумлением. Я не сомневаюсь в будущей незавидной судьбе этих людей – они по сути к этой системе не принадлежат (правда, мне бы следовало также допустить, что и судьба всех остальных будет не лучше). Они втянуты, как и я, в эту огромную машину по ошибке и сейчас являются её винтиками. Но у меня уже глаза широко открыты, и я вижу то, что почти все они не видят: что неминуемо должно дать дальнейшее логическое развитие применения доктрины».
Политическая ситуация в стране Советов и события, происходившие в ней в начале 1926 года, отвлекли нас от жилищных проблем Владимира Маяковского и от квартиры, которую получил поэт-лефовец. Вернёмся к ним.
«Квартирный» вояж
Для того чтобы как следует отремонтировать четырёхкомнатное жильё в Гендриковом переулке, нужны были деньги. И немалые.
Бенгт Янгфельдт:
«Именно для того, чтобы финансировать ремонт, Маяковский и отправился в турне».
Аркадий Ваксберг:
«… этот год чрезвычайно насыщен поездками по Союзу с огромным количеством выступлений в разных городах, неизменно сопровождавшихся шумным успехом».
Приехав 4 февраля 1926 года в Ростов-на-Дону, Маяковский уже 6-го выступал с докладом-лекцией «Моё открытие Америки». Ростовская газета «Молот» сообщала:
«Это не была лекция, по крайней мере в том смысле, в каком привыкли мы понимать это слово. Скорей беседа поэта с публикой – беседа, пересыпанная блёстками неподражаемого (без кавычек) Маяковского остроумия. Об Америке т. Маяковский сказал не много, но немногое, сказанное им, давало большее представление о заатлантической стране, чем многословные речи патентованных лекторов».
6 февраля Маяковский узнал о трагическом инциденте в поезде «Москва-Рига», где в неожиданной перестрелке, устроенной братьями Габриловичами, погиб его добрый приятель и многократный попутчик Теодор Нетте.
10 февраля другая ростовская газета («Советский юг») поместила ещё один отклик на выступление поэта:
«Маяковский, несмотря на то, что выступал один, сумел заинтересовать публику, держа её в напряжённом ожидании в течение трёх с половиной часов. Поэт прекрасно понимает свою аудиторию, он не говорит заранее подготовленные речи…
В перерыве в фойе он головой возвышался над толпой и подписывал на память книжки, которые публика раскупала в киоске Госиздата…
Третья часть вечера – стихи, живое творчество – более всего заинтересовало публику. Читал он стихи так, как он один только может прочесть. Публика требовала любимых стихов. "Левый марш"! "Пушкину"! "Облако в штанах"! – неслось со всех сторон».
8 февраля Маяковский пришёл в редакцию газеты «Советский юг», один из сотрудников которой (П.Максимов) потом рассказал:
«Его окружили сотрудники редакции, счетоводы из издательства, в дверь выглядывали любопытные машинистки. В разговоре с сотрудниками был также корректен, прост, совершенно естественен и не давал ни малейшего повода думать, что он страдает самомнением. Кто-то спросил у него о его летах. Он ответил односложно и таким тоном, как будто говорил: "Да, стал стареть…" – и задумался.
Сфотографировавшись с нами, он ушёл, – наша литературная молодёжь потащила его в "Молот". Рано утром наш фоторепортёр отправился к нему в гостиницу "Деловой двор", поднял его с постели и сфотографировал его ещё раз, в какой-то полосатой кофте, с угрюмым лицом…»
14 февраля – выступление в Краснодаре. Присутствовавшая на нём Н.Ерохина вспоминала:
«Он окидывал весь зал и балконы изучающим взглядом, готовясь говорить. Вдруг с боковых балконов раздалась хоровая декламация его известных надписей к этикеткам на коробках папирос – "Нигде кроме как в Моссельпроме!!". Это была злая насмешка группки обывателей над творчеством Маяковского, вызов поэту. А он стоял посреди сцены, спокойный и величественный, и внимательно смотрел серьёзным взглядом на кричавших. Под его взглядом крикуны стали умолкать. Невозмутимым голосом он спросил:
– Вы кончили? Можно начинать?
В ответ на эти слова весь зрительный зал наполнился гулом голосов: "Не слушайте их, мы любим вас, говорите, Маяковский!"»
Краснодарская газета «Красное знамя»:
«Маяковский рассказал об американской индустриальной мощи и об американизме в жизни лучше, интересней и образней, чем сотни книг об Америке… Затем читка стихов».
Краснодарец В.Пашков:
«Когда он признался, что пишет стихи о Краснодаре, с разных мест понеслось:
– Прочтите их, прочтите!
– Нет, товарищи, стихотворение только вылупляется».
В стихотворении, названном «Краснодар», рассказывалось о том, что поэт обратил внимание на множество собак в этом городе:
«Вымыл всё февраль / и вымел —
не февраль, / а прачка,
и гуляет / мостовыми
разная собачка…
Даже / если / пара луж,
в лужах / сотни солнц юлится.
Это ж / не собачья глушь,
а собачкина столица».
Краснодарец Н.Арсенов:
«– Я читаю ваши стихи, но ничего не понимаю, – перегнувшись, кричит какой-то студент с балкона.
– Что же вы не понимаете? Вот я вам целых два часа читал стихи, скажите, что вы не поняли?
Студент молчит».
В.Пашков приводит совет Маяковского тем, кто собирался начать писать:
«Пишите, не отрываясь от той профессии, которая даёт вам хлеб, мясо, рубашку и воскресное кино».
Кавказские выступления
19 февраля 1926 года состоялось выступление Маяковского в Оперном театре города Баку.
Газета «Бакинский рабочий»:
«Маяковский как чтец превосходен: могучий голос, чёткая дикция и хорошее владение декламационной акцентировкой – качества, которыми литераторы блещут не часто… Закончил Маяковский знаменитым "Левым маршем", прозвучавшим в его исполнении особенно чётко и убедительно».
Александр Михайлов:
«Если кто-то по обрывочным воспоминаниям представляет, что поэтические вечера Маяковского – это битком набитые залы, конная милиция, сплошной триумф, то у него ошибочное представление. Были битком набитые залы, была конная милиция, были вечера, которые кончались триумфом поэта. Но были и полупустые холодные залы, была на вечерах зелёная молодёжь, пришедшая на очередное "мероприятие" или поразвлечься. Публику надо было приучить слушать стихи. Нужна была реклама, чтобы заинтересовать людей, пригласить в театр или клуб. Остальное поэт брал на себя».
20 февраля в Москву полетело письмо Лили Брик:
«Дорогая и родная моя Кисица!
(Это я сделал из Киса и Лисица.)
Я живу сию минуту в Баку, где я видел (а также и по дороге) много интересного, о чём и спешу тебе написать…
Я живу весело: чуть что – читаю "Левый марш" и безошибочно отвечаю на вопросы – что такое футуризм и где теперь Давид Бурлюк…
Во вторник или среду утром еду Тифлис и, отчитав, поскорее в Москву…
Надоело – масса бестолковщины. Устроители – молодые. Между чтениями огромные интервалы, и ни одна лекция не согласована с удобными поездами. Поэтому, вместо международных, езжу, положив под голову шаблонное, с клещами звёзд огромное ухо.
Здесь весна. На улице продают мимозы. <…> Направо от меня Каспийское море, в которое ежедневно впадает Волга, а выпадать ей некуда, т. к. это море – озеро и положение его безвыходное».
Как видим, ко всем дорожным передрягам Маяковский относился спокойно, так как знал, что московскую квартиру ждёт ремонт, на который надо заработать деньги. И он писал:
«Дорогой Солник, очень тебя жалею, что тебе одной возиться с квартирой, и завидую, потому что с этим повозиться интересно.
Я по тебе, родненький, очень соскучился. Каждому надо, чтобы у него был человек, а у меня такой человек ты. Правда.
Целую тебя обеими губами, причём каждой из них бесконечное количество раз.
Весь твой С ч е н 1-ый (Азербайджанский)».
Под «Сченом 2-ым», Маяковский, видимо, подразумевал собачку Скотика.
24 февраля Владимир Владимирович покинул Баку и отправился в Тифлис, где уже через день состоялось его первое выступление. В театре Руставели поэт делал доклад «Моё открытие Америки». Присутствовавший на этом вечере молодой поэт Василий Абгарович Катанян написал:
«Зал был наполовину полон или, как сказал бы пессимист, – наполовину пуст.
Маяковский был пессимист. Но, выйдя на сцену и обнаружив это грустное обстоятельство, он не стал его игнорировать и замазывать. Скорее, наоборот: хладнокровно подчеркнул его и пожелал выяснить – как и почему это могло произойти.
– Может, мало было афиш? Поздно расклеены? Кто пришёл, прочитав афишу, поднимите руку! Или билеты дороги? Но надо же понимать, что доклад идёт в пользу недостаточных студентов Первого московского университета!
Несколько раз на протяжении вечера он возвращался к этой теме:
– В самом деле, как это могло случиться? В Тифлисе стихов не любят? Нет? Не может быть! Но какое же тогда можно найти объяснение?
Под конец чуть ли не весь зал втянулся в обсуждение этого происшествия и сознавал свою ответственность за досадное недоразумение.
Маяковский держался просто, дружелюбно, разговаривал полушутливо-полусерьёзно, а когда контакт был установлен, началось само "Открытие", в котором серьёзное не смешивалось, а чередовалось с шутками…
Потом – стихи…
После вечера на нескольких извозчиках поехали к Кириллу Зданевичу…»
У художника Кирилла Михайловича Зданевича отмечали приезд поэта в родную Грузию.
Маяковский очень любил край, в котором родился, и даже написал о нём:
«Я знаю: глупость – эдемы и рай!
Но если пелось про это,
должно быть, Грузию, радостный край,
подразумевали поэты».
На следующий день Василий Катанян и его жена Галина сопровождали Маяковского в его прогулке по Тифлису. Галина Дмитриевна потом вспоминала:
«Мы отправились по проспекту Руставели покупать ковры.
– Для моей новой квартиры, – говорит Владимир Владимирович. – Её уже отремонтировали, и на днях моя семья переезжает в новую квартиру.
– А кто ваша семья? – спрашиваю я не без дурного любопытства, так как в те времена ходило много разговоров о личной жизни Маяковского.
Он смотрит на меня очень строго и строго же говорит:
– Моя семья – это Лиля Юрьевна и Осип Максимович Брик».
1 марта состоялось второе выступление – в том же театре имени Руставели.
Галина Катанян:
«Выйдя из-за кулис, он быстро проходит на авансцену и обращается к публике с приветствием на грузинском языке. Восторженные аплодисменты раздаются в ответ».
Однако на этот раз Маяковский немного огорчён. Об этом – Василий Катанян:
«На втором вечере в том же театре Руставели он был уже не так добродушно дружелюбен. Причиной тому была рецензия о первом вечере, успевшая появиться в "Заре Востока". Нахально и небрежно рецензент писал, что Маяковский мог бы сочинять свои стихи об Америке, и не выезжая из Москвы. Маяковский громко поносил его на все лады, негодовал и возмущался, а написавший эти строки беззлобный дурак сидел в третьем ряду и всем своим видом старался не показать, что это он.
Зал был уже почти полон…
Публика осмелела, из зала несутся на сцену реплики, замечания, вопросы. Вечер называется "Лицо литературы СССР"».
Галина Катанян:
«Маяковский читает свои стихи…
Как описать, с чем можно сравнить это?..
У него глубокий бархатный бас, поражающий богатством оттенков и сдержанной мощью. Его артикуляция, его дикция безукоризненны, не пропадает ни одна буква, ни один звук».
Среди других было прочитано стихотворение, написанное во время возвращения из Америки – «Домой». Галина Катанян:
«Одно стихотворение – но сколько в нём смен настроений, ритмов, тембров, темпов и жестов! А строки
"Маркита, / Маркита, / Маркита моя,
зачем ты, / Маркита, / не любишь меня…"
он даже напевал на мотив модного вальс-бостона.
Конец же
"Я хочу быть понят моей страной,
а не буду понят — / что ж?!
По родной стране / пройду стороной,
как проходит / косой дождь" —
он читал спокойно, грустно, всё понижая голос, сводя звук на полное пиано. Впечатление, произведённое контрастом между всем стихотворением и этими заключительными строками, было так сильно, что я заплакала».
Василий Катанян:
«Его спрашивают:
– Как вы относитесь к Демьяну Бедному?
– Читаю, – ответил Маяковский.
– А к Есенину (прошло два месяца со дня его смерти)?
– Вообще к покойникам я отношусь с предубеждением.
– На чьи деньги вы ездите за границу?
– На ваши.
– Часто ли вы заглядываете в Пушкина?
– Никогда не заглядываю. Пушкина я знаю наизусть.
Девушке, которая то и дело передаёт ему записки на сцену, он говорит:
– Кладите на рояль. Когда наполнится, я их вместе с роялем возьму.
После вечера снова несколько извозчиков. Уже прямо на вокзал».
Снова Москва
28 февраля 1926 года в Ленинграде у Надежды Сергеевны Аллилуевой, жены Иосифа Сталина, родилась дочь, которую родители назвали Светланой. Девочка родилась в Ленинграде, куда Надежда Сергеевна для этого уезжала.
Борис Бажанов:
«Когда она вернулась, и я её увидел, она мне сказала: “Вот, полюбуйтесь моим шедевром”. Шедевру было месяца три, он был сморщенным комочком. Это была Светлана. Мне было разрешено в знак особого доверия подержать её на руках (недолго, четверть минуты – эти мужчины такие неловкие)».
Страна о рождении дочери Сталина, конечно же, ничего не знала – ведь отец новорождённой в тот момент ещё не стал вождём всех времён и народов.
А Маяковский в начале марта вернулся в Москву. И сразу узнал, что говорилось о судьбе поэтов-лефовцев в письме Асеева, которое было передано члену политбюро Льву Троцкому. В письме были такие строки:
«Печально и безрадостно отцветает молодость Василия Каменского, поэта исключительного темперамента и эмоциональной одарённости…
Книга Б.Пастернака, поэта европейского масштаба высокой квалификации, "Сестра моя жизнь"… не издана ГИЗом…
И.Л.Сельвинский, поэт очень крупного дарования, …не имеет возможности печататься и заниматься целиком своим делом (служит в Сельскосоюзе)…
Поэтам В.В.Маяковскому и Н.Н.Асееву заявлено, чтобы они со своими произведениями в ГИЗ являться "не беспокоились" по крайней мере сроком один год.
Тираж последней книжки стихов В.Маяковского – всего 2000 экземпляров. <Тогда как> лекции Маяковского с чтением тех же самых стихов собирают до 8000 человек… Вход на эти лекции стоит в среднем 1 р. 50 к., что не превышает средней цены книжных стихов.
Мы не жалуемся и не ноем. Мы с полным сознанием ответственности за своё "право на песни" в настоящих хозяйственных условиях страны пытаемся указать на тот хаос и бесхозяйственность, на то снижение уровня квалификации, которых можно избежать, дав возможность стихотворцам участвовать в организации и распространении своего труда на уровне с другими видами производств, хотя бы на небольшом масштабе показательного хозяйства».
Но настоящим вождём страны Советов (с правом что-то решать) Троцкий уже не был, и заседать в политбюро ему осталось всего полгода, поэтому письмо Асеева почти ничего в писательских делах не изменило.
23 марта Маяковский подписал договор с театром Мейерхольда на «Комедию с убийством» (срок сдачи – «через две недели»). В комментариях к 11 тому собрания сочинений поэта об этой пьесе говорится:
«Возможно, что в “Комедии с убийством” сопоставлялись две девушки: одна из Советского Союза, которая “хочет красивой жизни”, и другая – из Америки, – та “пресытилась” и едет в СССР… Что касается “убийства”, значащегося в заголовке комедии, то оно может быть соотнесено только со словом “Дуэль” в записи содержания двенадцатой картины».
Больше никакой конкретной информации об этой пьесе до наших дней не дошло. Но Всеволод Эмильевич Мейерхольд, обрадованный тем, что Маяковский решил-таки написать для театра пьесу, отправил поэту письмо:
«Дорогой друг Маяковский.
Ты мне сказал вчера, что я всё молодею и молодею. Сообщаю Тебе, что со вчерашнего дня с моих плеч свалился ещё десяток лет. Это оттого, что мне предстоит ставить Твою пьесу. Буду ставить её сам, но Тебя буду просить помогать мне…
Любящий Тебя В с е в о л о д».
Но этот договор поэт не выполнил, пьесу «через две недели» театру не предоставил, так как его отвлекли житейские заботы – состоялся долгожданный переезд в новую квартиру. Поскольку одновременное обладание четырёхкомнатной квартирой и комнатой в коммуналке вызывало попытки лишить поэта подобной неслыханной роскоши, ему пришлось обратиться за помощью к властям. И 23 апреля Моссовет издал постановление:
«Принимая во внимание, что поэтом Маяковским в доме № 15 по Гендрикову пер. произведено переустройство квартиры и ремонт последней за его счёт, управление делами президиума Московского Совета считает вполне справедливым оградить интересы просителя от мероприятий, связанных с возможностью переселения или уплотнения поэта Маяковского».
Став обладателем такой бумаги, Владимир Владимирович мог спать спокойно – больше его по жилищным вопросам беспокоить никто не мог (из тех, кто зарился на эту квартиру).
Софья Шамардина:
«Чужих – чуждых – в этот дом не пускали. Это был настоящий советский дом и прекрасное, крепкое содружество живущих в нём. На входных дверях – гладкая дощечка, такая знакомая, привычная:
БРИК
МАЯКОВСКИЙ»
Завершив «квартирные» дела, вернувшийся в Москву поэт продолжил свои выступления.
Воспоминания о загранице
Тем временем экспедиция Николая Рериха столкнулась (в ставке очередного местного властителя) с новыми препятствиями. Путешественникам не разрешили посещать буддийские храмы. Даже осматривать их было нельзя. Рериху также запретили рисовать, сославшись на то, что он якобы составляет карту местной территории. 29 марта 1926 года Рерих записал в своём путевом дневнике:
«Приходят калмыки, толкуют с нашим ламой».
31 марта в дневнике появилась новая запись:
«Спали плохо. Встали до рассвета. Выхожу в предрассветной мгле. Навстречу идёт наш лама. Расстроенный. “Сейчас мне надо ехать. Нас хотят арестовать”. – “Кто сказал?” – “Ночью пришёл знакомый по Тибету лама и сказал, что ещё вчера калмыцкие старшины хотели нас всех связать, только побоялись револьверов”. – “Берите Оллу и киргиза с собой. Скачите степью в Карашар. Там найдём вас”. Через пять минут лама с киргизом уже скакали степью».
А Маяковский на своих поэтических вечерах продолжал делиться впечатлениями от своих зарубежных поездок. Советские люди, не имевшие возможности ездить в чужие края, очень интересовались тем, как живут в странах, где продолжал править «загнивавший» капитал. При этом Маяковский не скрывал, что сам он в партии большевиков не состоит и официально нигде не работает, но по заграницам разъезжает регулярно. Раззадорив любопытство публики, поэт бросал в зал фразы, воспевавшие его страстную любовь к зарубежным поездкам:
«Я до путешествий очень лаком!»
Но при этом неизменно подчёркивал, что ездит не ради развлечений:
«Мне необходимо ездить, общение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг».
Мало этого, в стихах Владимир Владимирович прямо заявлял, как тяжела эта ноша путешествующего по чужеземным городам и весям:
«Почему / под иностранными дождями
вымокать мне, / гнить мне / и ржаветь?»
И даже говорил (как, к примеру, в поэме «V Интернационал»), что зарубежные поездки никакой радости ему не доставляют:
«В том, что я сказал, / причина хранится,
почему мне не нужна никакая заграница.
Ездить в духоте, / трястись, / не спать,
чтоб потом на Париж паршивый пялится?»
Поэтому неудивительно, что практически на каждом выступлении его спрашивали:
– Зачем же вы тогда ездите за границу?
Он отвечал, не задумываясь:
«– Я делаю там то же, что и здесь. Там я писал стихи и выступал на собраниях, говорил о Коммунистической партии».
Но зрителей такой ответ не удовлетворял, и они продолжали присылать вопросы в записках:
– Если вам не нравятся зарубежные края, почему же вы там оказались?
Ответ у Маяковского был всегда наготове:
«Я ездил потому, что:
Под ним – струя светлей лазури,
над ним – луч солнца золотой,
а он, мятежный, ищет бури,
как будто в бурях есть покой!»
Зал, как свидетельствуют те, кто присутствовал на поэтических вечерах Маяковского, мгновенно начинал дружно аплодировать, то ли награждая поэта за элегантный ответ, то ли отдавая должное его умению ловко уклоняться от прямых ответов на каверзные вопросы.
В самом деле, ведь, прочитав четверостишие Лермонтова, Маяковский так ничего и не сказал по существу заданного ему вопроса. А, как известно, если уходят от прямых ответов, стало быть, есть что скрывать. Когда же приходила записка с вопросом, почему он отвечает не своими словами, а цитирует Лермонтова, Маяковский отвечал:
«– Мы общей лирики лента».
Иными словами, понимайте, как хотите.
11 апреля 1926 года, выступая в клубе рабкоров газеты «Правда» на диспуте о книге поэта Георгия Аркадьевича Шенгели «Как писать статьи, стихи и рассказы», Маяковский сказал:
«Меня считают первым поэтом сейчас. Я и сам знаю, что я хороший поэт. Но хореи и ямбы мне никогда не были нужны, и я их не знаю. Я не знаю их и не желаю знать. Ямбы задерживают движение поэзии вперёд».
Впрочем, в накалённой атмосфере тогдашних литературных споров, по словам Александра Михайлова…
«… трудно было ждать от Маяковского деликатности, академического политеса – не тот темперамент!
Когда Маяковский был в ударе, он спорил, как фехтовал, с лёгкостью чемпиона, сказал о нём кто-то из современников. Но бывали случаи, когда нападки на вечерах, открытая, наглая ложь выводили его из равновесия. Был даже случай, когда он в знак протеста ушёл с эстрады, но, поостыв, вернулся и продолжил выступление до последней точки».
В главке «1926-й ГОД» автобиографических заметок «Я сам» сказано:
«В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг. Поэты улюлюкают – однако сами газетничать не могут, а больше печатаются в безответственных приложениях. А мне на их лирический вздор смешно смотреть, настолько этим заниматься легко и никому кроме супруги не интересно.
Пишу в "Известиях", "Труде", "Рабочей Москве", "Заре Востока", "Бакинском рабочем" и других».
О чём же в тот момент писал Маяковский, к чему призывал со страниц этих газет?
Сочинив стихотворение «Марксизм – оружие, огнестрельный метод, применяй умеючи метод этот», он поставил под ним дату создания – «19/IV.1926.». В этом произведении вновь упоминался «штык» – тот самый, к которому поэт приравнивал своё перо. Но на этот раз говорилось о том, что некоторые находили этому острейшему оружию совсем другое применение:
«Штыками / двух столетий стык
закрепляет рабочая рать.
А некоторые / употребляют штык,
чтоб им / в зубах ковырять».
А между тем, напоминал Маяковский, штык существует для того, чтобы им убивать врагов. И начинал колко критиковать поэтов, называвших себя «пролетарскими», и уже за это воспевавшихся критиками, которые громили лефовцев. За что? – удивлялся Маяковский. И тут же отвечал, представляя творения некоего пролетарского поэта Стёпы:
«То ли дело / наш Стёпа —
забыл, / к сожалению, / фамилию и отчество, —
у него в стихах / Коминтерна топот…
Вот это — / настоящее творчество!..
У Стёпы / незнанье / точек и запятых
заменяют / инстинктивный / массовый разум,
потому что / батрачка — / мамаша их,
а папаша — / рабочий и крестьянин сразу.
В результате / вещь / ясней помидора
обвалакивается / туманом сизым,
и эти / горы / нехитрого вздора
некоторые называют марксизмом».
Критикуя поэта Стёпу за «незнанье точек и запятых», которые и сам Маяковский не научился расставлять правильно, поэт-лефовец провозглашал себя и своих соратников носителями «инстинктивного массового разума». Это «марксистское» стихотворение было напечатано в майском номере журнала «Журналист».
Корней Чуковский записал в дневнике о посещении поэта-футуриста Бенедикта Лившица:
«24 апреля 1926 года… Был я у Бена Лившица… О поэзии может говорить по 10 часов подряд… Между прочим, мы вспомнили с ним войну. Он сказал:
– В сущности, только мы двое честно отнеслись к войне: я и Гумилёв. Мы пошли в армию – и сражались. Остальные поступили, как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком. Маяковский… но, впрочем…
– Маяковский никого не звал в бой…
– Звал, звал. Он не сразу стал пацифистом. До того, как написать “Войну и Мир”, он пел очень воинственные песни:
У союзников французов
битых немцев целый кузов.
А у братьев англичан
битых немцев целый чан».
А Маяковский о войнах, которые шли когда-то, уже не вспоминал. В конце апреля того же 1926 года он завёл разговор о поэтическом творчестве с финансистами, которые, как ему казалось, облагали поэта слишком большим подоходным налогом. Стихотворение так и было названо – «Разговор с фининспектором о поэзии». В нём были строки, ставшие вскоре крылатыми:
«Поэзия — / та же добыча радия.
В грамм добыча, / в год труды.
Изводишь / единого слова ради
тысячи тонн / словесной руды».
Обращаясь к фининспектору, поэт выделял свою профессию из числа других:
«У вас — / в моё положенье войдите —
про слуг / и имущество / с этого угла.
А что, / если я / народа водитель
и одновременно — / народный слуга?»
Но при этом Маяковский откровенно признавался в том, как это трудно – быть поэтом в революционную эпоху:
«Всё меньше любится, / всё меньше дерзается,
и лоб мой / время / с разбега крушит.
Приходит / страшнейшая амортизация —
амортизация / сердца и души».
Но поэт не сдавался и поэтический «штык» из рук не выпускал:
«Нет! / И сегодня / рифма поэта —
ласка, / и лозунг, / и штык, / и кнут».
А в далёком от Москвы городе Урумчи Западного Китая, куда добралась экспедиция Николая Рериха, в начале мая отмечали пролетарский день весны. Собирались открыть памятник Ленину, но местные власти наложили на это запрет. Рерих записал в путевом дневнике:
«1 Мая. Первомайский праздник. <…> Перед юртами сиротливо стоит усечённая пирамида – подножие запрещённого памятника. Невозможно понять, почему все <…> плакаты допустимы, почему китайские власти пьют за процветание <…>, но бюст Ленина не может стоять на готовом уже подножии. <…> Так обидно, что “Ленин” не успели написать на подножии “запрещённого” памятника. Ведь к этому имени тянется весь мыслящий Восток, и самые различные люди встречаются на этом имени».
А в Москве 1 мая газета «Известия ЦИК» поместила «Первомайское поздравление», которое Владимир Владимирович на экземпляре, отданном в редакцию, сопроводил фразой:
«В целях эстетики и экономии бумаги пробую стихи печатать без разбивки на строчки».
И стихотворение было напечатано как обычная прозаическая статья. В ней поэт вновь обращался к солнцу:
«Товарищ солнце, скажем просто: дыр и прорех у нас до чёрта. Рядом с делами огромного роста – целая коллекция прорв и недочётов.
Солнце, и в будни лезь из-за леса, – жги и не пяться на попятный! Выжжем, выжжем калёным железом – эти язвы и грязные пятна!»
10 мая 1926 года в путевом дневнике Николая Рериха появилась новая запись про Якова Блюмкина («монгольского ламу»):
«Лама провозглашает: “Да будет жизнь тверда, как адамант; победоносна, как знамя учителя; сильна, как орёл, и да длится вечно!”»
Запись 13 мая:
«Утром приходит монгольский лама. Вот радость! То, что мы знали с юга, то самое он знает с севера. Рассказывает, что именно наполняет сознание народов, что они ждут. И при рассказе его глаза заполняются неподдельными слезами… “Знали мы давно, – говорит лама, – но не знали, как оно будет, и вот время пришло. Но не каждому монголу и калмыку можем сказать мы, а только тем, кто может понять и действовать”. И говорит лама о разных “признаках”, и никто не заподозрит таких знаний в этом скромном человеке. Говорит о значении Алтая».
А Маяковский 16 мая отправился в Ленинград и на следующий день выступил в Государственном институте истории искусств с лекцией на тему «Как делать стихи». В вечернем выпуске «Красной газеты» сообщалось:
«Вчерашний триумфатор Вл. Маяковский знает свою аудиторию. На эстраде он – дома. Курит одну за другой папиросы, не спеша роется в кипе своих стихов, вспотевши, снимает пиджак. К чему церемонии, когда сотни глаз устремлены с обожанием на поэта, говорящего Пушкину скромно и убеждённо:
После смерти нам стоять почти что рядом…
Так радостно видеть здорового цельного человека и поэта с большим талантом и с большой верой в жизнь, из глубины своих необъятных лёгких бросающего своё громогласное credo:
Ненавижу всяческую мертвечину,
Обожаю всяческую жизнь!»
А Борис Бажанов в этот момент решил, что настала пора страну Советов покинуть:
«Весной 1926 года я пробую устроить себе новую поездку за границу, чтобы в этот раз там и остаться…
Я захожу к Сталину и говорю, что хочу поехать на несколько дней в Германию за материалами. Спрашиваю его согласие. Ответ неожиданный и многозначащий: “Что это вы, товарищ Бажанов, всё за границу да за границу? Посидите немного дома”.
Это значит, что за границу я теперь в нормальном порядке не уеду. В конце концов, что-то у Сталина от всех атак ГПУ против меня осталось. “А что, если и в самом деле Бажанов окажется за границей; он ведь начинен государственными секретами, как динамитом. Лучше не рисковать, пусть сидит дома”».
И Бажанов пришёл к выводу:
«Теперь возможности нормальной поездки за границу для меня совершенно отпадают. Но я чувствую себя полностью внутренним эмигрантом и решаю бежать каким угодно способом.
Прежде всего надо, чтобы обо мне немного забыли, не мозолить глаза Сталину и Молотову. Из ЦК я ушёл постепенно и незаметно, увиливая от всякой работы там, теперь нужно некоторое время поработать в Наркомфине, чтобы все привыкли, что я там тихо и мирно работаю, этак с годик. А тем временем организовать свой побег».
23 (или 24) мая Владимир Маяковский вернулся из Ленинграда в Москву. Начались обычные будни, заполненные самой разной работой и новыми знакомствами. Об одном из них нам и предстоит рассказать – о знакомстве с сотрудницей Госиздата, которую звали Наталья Брюханенко.
Симпатичная библиотекарша
Сама Наталья Александровна Брюханенко впоследствии рассказала:
«Я познакомилась с Маяковским, когда мне было двадцать лет. Ему было тридцать три года.
Я тогда была обыкновенная очень молодая девушка. А Маяковский – удивительный, необыкновенный поэт. Он обратил на меня внимание и познакомился потому, что я была высокая, красивая, приветливая. Я нахально пишу о себе "красивая" потому, что так сказала обо мне Лиля. И, наверное, это правда, так же как правда то, что только благодаря моей внешности Маяковский обратил на меня внимание».
Родители Наташи разошлись, когда ей было всего пять лет. В одиннадцатилетнем возрасте она лишилась матери и попала в детдом. Когда подросла и на «отлично» окончила школу, поступила на литературное отделение факультета общественных наук Первого московского университета и в литературный институт. Впрочем, в литературном институте учиться она не стала.
Вот что сама Наталия писала о своей юности:
«Самыми главными для меня в те годы были проблемы – новый быт и новые стихи…
Мы жили в то время переоценкой ценностей, и поэтому нам было особенно близка новая поэзия Маяковского, крушившая всё старое. <…> "Облако в штанах" мы считали высшим достижением всей мировой литературы. Наше увлечение стихами Маяковского было шумное, в нелепой форме, но очень сильное».
О самом Маяковском Наташа сказала:
«… начиная с девятнадцатого года я видела его очень часто…»
Это была пора, когда на арену жизни вступало новое поколение, которое царского времени почти не знало, и которое выросло, как напишет чуть позднее Маяковский, «в сплошной лихорадке буден». Вот как описала те времена Наталья Брюханенко:
«Нравы между девушками и юношами, правду сказать, были грубоватые и вообще, и в личных взаимоотношениях. Знакомясь, например, или здороваясь, студенты хлопали друг друга по плечу, по спине, и все говорили между собой на "ты".
И вдруг появляется Маяковский.
Он любезен, внимателен, он говорит мне только "вы", ласково переделывает моё имя на "Наталочку". Он пропускает меня вперёд в дверь, подаёт мне пальто. Это было для меня любезности неслыханные и невиданные. Какая девушка осталась бы к этому равнодушной?»
Когда Наталья перешла на второй курс, она устроилась работать – лекции в университете тогда читали по вечерам, и многие студенты днём работали. Местом работы студентки Брюханенко стала библиотека Госиздата. А в Госиздат тогда часто заглядывал Маяковский. Наталье всегда сообщали:
«"Маяковский здесь!". И я часто бегаю незаметно посмотреть на него.
Однажды он рассердился на секретаршу приёмной за то, что она не пустила его в кабинет к заведующему, и закричал, что ему "надоела эта политика прифронтовой полосы", и, обозлённый, ударил тростью по столу. Все об этом рассказывали как о скандале и хулиганстве. А мне это как раз очень понравилось».
Надо полагать, что и Маяковскому приглянулась симпатичная библиотекарша. И однажды…
«Как-то я пробегала по лестнице госиздатовского коридора. Навстречу мне Маяковский и обращается ко мне:
– Товарищ девушка!
Я остановилась. Я польщена и, конечно, очень волнуюсь, но прямо смотрю ему в глаза и стою спокойно, как ни в чём не бывало. Маяковский меня спрашивает:
– Кто ваш любимый поэт?
Это было неожиданно. Такой вопрос ошеломил меня, но я мгновенно поняла, что не отвечу ему – "вы", и сказала:
– Уткин.
Тогда он как-то внимательно посмотрел на меня и предложил:
– Хотите, я вам почитаю свои стихи? Пойдёмте со мной по моим делам и по дороге будем разговаривать.
Я согласилась. Забежала в библиотеку, под каким-то предлогом отпросилась с работы и ушла.
Маяковский ждал меня у выхода, и мы пошли по Софийке по направлению к Петровке. На улице было светло, тепло и продавали цветы. Маяковский держит себя красиво и торжественно – он хочет мне понравиться. Я шагаю рядом очень радостная. Я ведь иду с любимым поэтом, знаменитым человеком, очень приветливым, любезным и замечательно одетым. Я горда и счастлива. Это очень приятно вспоминать!..
На Петровке мы зашли в кафе, там Маяковский встретился с Осипом Максимовичем Бриком. Знакомя нас и показывая на меня, Маяковский сказал:
– Вот такая красивая и большая мне очень нужна…»
Так начиналось это знакомство с «большой» и «красивой» библиотекаршей из Госиздата, которая оставила о нём такие воспоминания:
«В кафе Маяковский прочёл Осипу Максимовичу новые стихи, которые должны были завтра напечатать в “Известиях”. Осипу Максимовичу стихотворение очень понравилось, и он ушёл».
Что это были за стихи? В конце весны и в начале лета 1926 года Маяковский напечатал в «Известиях ЦИК» три стихотворения: «Взяточники» (30 мая), «Протекция» (6 июня) и «Любовь» (13 июня). Судя по тому, как описан Натальей тот день, он был явно весенним («было светло, тепло и продавали цветы»). Стало быть, встреча эта происходила 29 мая. А в стихотворении, которое «очень понравилось» Осипу Брику говорилось о тех, кто, занимая ответственный пост («с высоким окладом, высок и гладок»), был виновен «в краже рабочих тыщ»:
«Я / белому / руку, пожалуй, подам,
пожму, не побрезговав ею…
Но если / скравший / этот вот рубль
ладонью / ладонь мою тронет,
я, руку помыв, / кирпичом ототру
поганую кожу с ладони.
Мы белым / едва обломали рога;
хромает / пока что / одна нога, —
для нас, / полусытых и латочных,
страшней / и гаже / любого врага
взяточник».
Мог ли представить себе Маяковский, что пройдёт всего четыре года, и его юный ученик, а потом и соратник напишет стихотворение, в котором откажется пожать руку своему учителю?
Но вернёмся к той майской прогулке поэта и библиотекарши, о которой она написала:
«Маяковский пригласил меня к себе в гости. Мы вышли из кафе и на извозчике поехали в Лубянский проезд. Я боялась Маяковского, боялась встретить кого-нибудь из госиздатовцев или вообще знакомых. На извозчиках в ту пору я не ездила. По дороге Маяковский издевался надо мной и по поводу Уткина, и по поводу моих зачётов. Он говорил:
– Вот кончите свой университет, а в анкетах всё равно должны будете писать: образование низшее – окончила 1-й МГУ.
У меня с собой была книжка “Курс истории древней литературы”, и Маяковский чуть не выбросил её за ненадобностью прямо на мостовую.
Приехали на Лубянский проезд в маленькую комнату, которую Маяковский назвал “Редакция ЛЕФа”.
Маяковский угостил меня конфетами и шампанским и действительно, как обещал, достал свои книжки и стал мне читать по книжке тихо, почти шёпотом, свои стихи. Это было для меня так странно – Маяковский и шёпотом!..
Потом он подошёл ко мне, очень неожиданно распустил мои длинные косы и стал спрашивать, буду ли я любить его. Мне захотелось немедленно уйти. Он не стал спорить, взял со стола какие-то бумаги, и мы вышли.
На лестнице, этажом ниже, жил венеролог. Маяковский предупредил меня:
– Не беритесь за перила – перчаток у вас нету…
Маяковский был необыкновенный поэт. Поэтому, в моём представлении, он должен был быть и необыкновенным человеком. Начавшееся так необычайно в первый день знакомства романтическое свидание немного разочаровало меня в конце. Я даже сказала об этом Маяковскому, когда мы вышли с ним на улицу:
– А вы, оказывается, обыкновенный человек.
– А что же бы вы хотели? Чтоб я себе весь живот раскрасил золотой краской, как Будда?..
… как только мы дошли до Лубянской площади, я вдруг вскочила в трамвай, крикнула “до свиданья” и уехала».
Так завершилась встреча поэта и библиотекарши. Других встреч у них тогда не произошло – об этом Наталья Брюханенко написала:
«Маяковский знал только, как меня зовут. Фамилии я не сказала. В Госиздате я старалась больше не попадаться ему на глаза. Вскоре он уехал из Москвы, потом я заканчивала университет, потом полгода болела тифом и отсутствовала на работе».
А на Маяковского навалились новые дела и заботы. В «Я сам» он написал:
«Вторая работа – продолжаю прерванную традицию трубадуров и менестрелей. Езжу по городам и читаю. Новочеркасск, Винница, Харьков, Париж, Ростов, Тифлис, Берлин, Казань, Свердловск, Тула, Прага, Ленинград, Москва, Воронеж, Ялта, Евпатория, Вятка, Уфа и т. д., и т. д., и т. п.