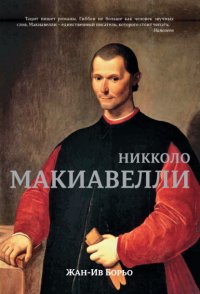
Читать онлайн Макиавелли бесплатно
- Все книги автора: Жан-Ив Борьо
Jean-Yves Boriaud
MACHIAVEL
© PERRIN 2015
© Шумилова Г., перевод на русский язык, 2016
© Шумилова И., перевод на русский язык, 2016
© Троицкая М., перевод на русский язык, 2016
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2016
КоЛибри®
Пролог
Макиавелли как исторический персонаж – фигура в высшей степени парадоксальная. Первый из парадоксов Никколо Макиавелли – в явном несоответствии между его политическим статусом и всемирной славой, сопутствовавшей его творчеству: каким образом чиновник средней руки, не занимавший высоких должностей и не облеченный властью, сумел предложить универсальный анализ хаотичной картины мира, в котором он жил, и войти во всемирную историю политической мысли?
Во Флоренции эпохи Возрождения право принятия решений сохранялось за магистратами, избираемыми путем голосования и/или по жребию. Но Макиавелли не принадлежал к касте магистратов и лишь служил ей по дипломатической части, больших чинов не имел и во всех своих многочисленных дипломатических миссиях был на вторых ролях, нередко состоя при особе официального посла Флорентийской республики.
Можно ли его отнести к разряду великих гуманистов, знатоков и страстных поклонников древнеримской и древнегреческой литературы, которых правители того времени призывали к себе на службу в деликатных обстоятельствах? По всей видимости, нет. Макиавелли был человеком просвещенным, имел классическое образование, впрочем весьма ограниченное и не выходившее за рамки того, что надлежало знать флорентийскому буржуа: он читал Тита Ливия, Лукреция, Плутарха в латинском переводе, римских стратегов. Однако его примеры из классических текстов не отличаются большой оригинальностью и порой повторяют расхожие цитаты, которые мы находим у авторов того времени.
Был ли Макиавелли солдатом, стратегом, который лишь распространил анализ военного опыта на сферу политики? К такому выводу можно прийти на том основании, что в каждом из своих произведений он размышляет о путях обновления военного дела. Действительно, уступая его настойчивым просьбам, Флоренция поручила ему набор в флорентийскую армию, которой предстояло сменить наемные отряды кондотьеров, давно отжившие свой век. Однако результат этого начинания не оправдал ожиданий, как стало ясно после осады Прато в августе 1512 г., когда испанское войско вице-короля Неаполя Рамона де Кардоны наголову разбило флорентийцев; поражение вызвало во Флоренции целую бурю насмешек над военными доблестями макиавеллиевских рекрутов.
Как же случилось, что чиновник на вторых ролях благодаря своим политическим произведениям приобрел мгновенно и на века европейскую – и весьма скандальную – славу, а его мысль была обобщена, точнее, заключена в прокрустово ложе прочно устоявшегося термина «макиавеллизм», ставшего синонимом циничного лицемерия? И сразу же, во времена Возрождения, возникли в изобилии антиподы Макиавелли. Само по себе это явление далеко не ново: любые сколько-нибудь оригинальные идеи порождали в ту пору целый шквал злобных пасквилей. Но в случае с Макиавелли реакция была мгновенной и резкой: дело дошло до прямых нападок, начало которым положил вышедший в 1576 г. трактат гугенота Иннокентия Жантийе. Он стоит у истоков долгой традиции заблуждений[1] относительно политических идей Макиавелли. Но были и другие труды, столь же полемически направленные, но более конструктивные, написанные по образцу «Воспитания христианского государя» (Institutio principis Christiani) Эразма Роттердамского (эта работа была начата в 1516 г. и предназначалась Карлу V). «Воспитание» было задумано как оптимистический трактат о природе человека и, следовательно, по сути своей, было «антимакиавеллистским». Макиавелли действительно не повезло: с самого начала его имя оказалось в центре полемики, развернувшейся в рядах гуманистов между чистыми теоретиками, такими как Эразм – он был смел в вопросах теологии, но до конца оставался кабинетным ученым, – и практиками, такими как автор знаменитых «Шести книг о государстве» (Les six livres de la République) Жан Боден, – им приходилось приспосабливаться к условиям жесточайших военных конфликтов, сопровождавших возрождение наук, литературы и искусств в Европе. Одни, невзирая на суровые времена, оставались неисправимыми оптимистами и при любых обстоятельствах утверждали веру в то, что человек по своей природе добр; другие, от Макиавелли до Гоббса, строили свои системы на идее об изначальной и неизменной порочности человеческой натуры. В конечном счете Макиавелли имел несчастье приобрести весьма необычную посмертную славу; его искаженный в истории образ, своего рода «черная легенда», дал основание последующим поколениям критиков для демонизации (в буквальном смысле слова) этого исторического персонажа вне всякой связи с его произведениями.
Для того чтобы фигура Макиавелли, освободившись от наслоений мифотворчества и домыслов, заняла достойное его политического гения место, Италии понадобилось обрести собственную государственность. В конце XIX в., после национального объединения, страна в порыве гордости воздавала почести своим героям, о которых редко вспоминала в смутные времена. В городских парках Рима, новоиспеченной столицы Италии, на специально выделенные средства были установлены памятники великим итальянцам. У ведущей на Капитолийский холм лестницы работы Микеланджело была воздвигнута поныне существующая статуя «народного трибуна», злополучного героя римской коммуны 1347 г. Кола ди Риенцо, которому Вагнер посвятил одну из своих опер. Тогда же появились монументальные труды о великих итальянцах, принадлежавшие перу просвещенных политиков, чей авторитет был непогрешим. В то время Италия, утверждая себя в качестве светского государства, стремилась разорвать многовековую связь Рима с Ватиканом. В этих условиях эмблематическая фигура флорентийского секретаря заняла свое место в пантеоне светских героев.[2] Макиавелли, без сомнения, принадлежал к числу «великих людей», поскольку именно его трактату «Государь» (Il Principe) мы обязаны появлением понятного во всем мире термина «макиавеллизм», ставшего синонимом беспринципности и цинизма. Дополнительным аргументом в пользу Макиавелли было и то, что католическая церковь внесла все его сочинения в список запрещенных книг. Возвеличить его как героя означало возвести на пьедестал жертву клерикализма. Жертвой инквизиции был также Джордано Бруно, сожженный на костре за свои идеи. Его статуя усилиями Итальянского государства, после долгой борьбы, была воздвигнута в 1889 г. в самом центре Рима, на Кампо-деи-Фьори.
Для прославления Макиавелли в качестве героя Италии было необходимо заступничество влиятельных фигур нового светского государства. В этой роли выступили сенатор Итальянского королевства, депутат, позднее министр народного образования Паскуале Виллари, выпустивший внушительный труд «Никколо Макиавелли и его время» (Niccolò Machiavelli e i suoi tempi), и еще один весьма уважаемый итальянский сенатор Оресте Томмазини, автор трактата «Жизнь и сочинения Никколо Макиавелли в их отношении к макиавеллизму» (Niccolò Machiavelli nella loro relazione col machiavellismo).
Собственно говоря, для того чтобы причислить Макиавелли к сонму героев, имелись все основания. В 1559 г., то есть через двадцать семь лет после выхода в свет «Государя», сочинения Макиавелли – к несчастью или к чести его – попали в объемный Индекс запрещенных книг, учрежденный по наущению инквизиции суровым папой Павлом IV (Джанпьетро Карафой). Впрочем, появление Индекса обернулось выгодой для швейцарских издателей, регулярно переиздававших «Государя», датируя издания предшествующими годами, а также его переводы, формально не подпадавшие под папский запрет. После выхода папского указа в Индекс запрещенных книг включались произведения приверженцев самых разных идей и направлений, и в результате со временем сложилось на удивление разношерстное братство, куда вошли и Жантийе, и Фридрих II, и Монтескье, и Вольтер.
Работы Виллари и Томмазини, замечательным образом дополнявшие друг друга, стали литературным памятником Макиавелли. Они показали, как благодаря документам эпохи можно преодолеть устоявшиеся за три века гонений стереотипы и восстановить исторический контекст, в котором родилась его политическая мысль. И кроме того, понять, каким образом рассуждения скромного дипломата на вторых ролях, жившего в республике с населением в пятьдесят тысяч жителей, обрели универсальность и возродили многовековую политическую науку, а бурные события, сотрясавшие Северную Италию, столь мучительно расстававшуюся со Средневековьем и вступавшую в эпоху Возрождения, дали повод к анализу и умозаключениям, воспринятым последующими поколениями как безоговорочно пагубные. Сочинения Макиавелли символизировали недопустимый для общественного сознания разрыв с политическими схемами, возникшими еще в Античности и переосмысленными в Средние века, обновленная версия которых была предложена учеными-эрудитами Возрождения. Очевидно, для того чтобы понять истоки и глубину пропасти, отделявшей идеи Макиавелли от этих классических схем, необходимо остановиться на обстоятельствах личного и исторического характера, в которых расцвел «гений Макиавелли».
1
Род Макиавелли
Консортерия[3]
Никколó ди Бернардо деи Макиавелли родился 12 мая 1469 г. во Флоренции, в приходе Санта-Феличита. Он появился на свет в фамильном гнезде Макиавелли, расположенном на юге города в Ольтрарно, то есть «за рекою Арно». Родовое палаццо состояло из группы строений в несколько этажей, окружавших двор (Корте-ди-Макиавелли) с крытой галереей. Дом Макиавелли стоял на виа Романа (современное название виа Гвиччардини). Эта улица, где селились зажиточные горожане, вела от Понте-Веккьо до городских ворот Сан-Пьетро-Гатталино (ныне Порта-Романа). Административно она принадлежала кварталу Санто-Спирито и находилась на территории гонфалоне Никкио. В палаццо жили отец Никколо Бернардо, его мать Бартоломея, а также представители другой ветви рода Макиавелли – родня кузена Никколо д’Алессандро Макиавелли: его братья и сестры, жена и трое детей.
Откуда вела свое происхождение вся эта многочисленная братия? Из ближайших окрестностей, так называемого контадо. Семейство переселилось в город самое позднее в первые годы XIII в. из сельской местности, точнее, из городка Валь-ди-Пеза, расположенного в пятнадцати километрах от Флоренции. Еще при жизни Никколо семья сохраняла в этих землях владения, доставшиеся от далеких дворянских предков, и пользовалась наследственными правами в местных приходах. Так, брат Никколо Тотто получил бенефицию в приходе Сант-Андреа в Перкуссине. Кроме того, род Макиавелли владел двумя имениями (poderi) и домом, прозванным соседями «Альбергаччо», в деревне Сант-Андреа, унаследованными от богатого дядюшки, которого тоже звали Тотто. Следовательно, вопреки долго бытовавшему мнению Макиавелли не были людьми «недостаточными» и, хотя никогда и не поднимались до высших должностей, уже с XIII в. имели во Флоренции определенный вес, о чем свидетельствуют трагические обстоятельства, оставившие глубокий след в средневековой истории Флорентийской республики. Так, в «Новой хронике» (Cronica Nuova) Джованни Виллани,[4] ценном источнике сведений о жизни флорентийцев, Макиавелли упоминаются наряду с такими знаменитыми родами, как Содерини и Каниджани в числе гвельфов из квартала Ольтрарно, изгнанных в 1260 г. из города. В тот год гвельфы, сторонники папы римского, враждовавшие с гибеллинами, которые поддерживали императора Священной Римской империи, потерпели сокрушительное поражение в битве при Монтаперти (неподалеку от городка Кастельнуово-Берарденга, принадлежавшего Сиене). Флорентийские гвельфы, потеряв десять тысяч убитыми, были наголову разбиты сиенскими гибеллинами под началом короля Манфреда Сицилийского. Последствия этого поражения для Флоренции были катастрофическими: город едва не был стерт с лица земли. В конце концов гибеллины «ограничились» тем, что разрушили башни флорентийских консортерий и выдворили гвельфов из города. Изгнание продолжалось девять лет, по прошествии которых гвельфы вернулись во Флоренцию и со временем восстановили свои палаццо.
Еще до рождения Никколо из семьи Макиавелли вышли двенадцать гонфалоньеров,[5] а также несколько приоров (членов Синьории, высшего органа выборной власти во Флоренции). Этот факт явно свидетельствует об их принадлежности к числу влиятельных флорентийских родов, хотя они и не оставили сколько-нибудь заметного следа в истории города. Впрочем, было одно исключение из этого правила: адвокат Джироламо д’Аньоло Макиавелли, ярый противник клана Медичи. Он был арестован, подвергся пыткам, затем был выслан из города и закончил свои дни в тюрьме. Иными словами, Макиавелли были частью городской верхушки, то есть popolo grasso (ит. «жирный народ»); ей противостоял класс мелких ремесленников и торговцев, popolo minuto (ит. «тощий народ»). В описываемую эпоху в флорентийском обществе наблюдалась тенденция к смешению popolo grasso с обедневшей аристократией, которая, породнившись с зажиточными пополанами, стремилась вернуть блеск своим дворянским гербам. В отличие от других итальянских городов, например Венеции, где аристократия становилась все более закрытой социальной группой, во Флоренции «жирный народ», то есть богатые купцы и видные судейские, поддерживал более или менее официальные связи с потомственным дворянством. Большинство «жирных» пополанов составляли гвельфы; они стремились к власти и состояли во всех органах городского управления и многочисленных «Советах», куда получали доступ по праву рождения или благодаря нажитому состоянию.
Отец
Итак, наше повествование дошло до Бернардо ди Никколо ди Буонинсенья Макиавелли, отца Никколо. Он родился во Флоренции в 1428 г. в семье Никколо ди Буонинсенья. События его жизни дошли до нас благодаря рукописи, которая была найдена незадолго до Второй мировой войны и ныне хранится в Библиотеке Рикордиана во Флоренции. Эта рукопись – книга записей (ит. Ricordanze), хроника периода 1474–1487 гг., написанная рукой самого Бернардо. Эти своего рода автобиографические записки относятся к жанру, широко распространенному в те времена (существует более 330 подобных записок, большинство которых появились после 1350 г.). Их авторы – люди из купеческой среды. Они описывали материальную сторону своей жизни во всех повседневных подробностях, а сам жанр возник в ту пору Возрождения, когда в сознании западной буржуазии утверждалась мысль о ценности индивида, и вырос из другого типично флорентийского жанра, более близкого к книге учета («амбарной книге»). В такие книги, помимо совершенных сделок, купец заносил и все важные события семейной истории, подчас сопровождая их комментариями, которые придавали запискам более «литературный» характер. Эти «литературные зарисовки» в чем-то сродни живописным портретам; их писали в тот же период по заказу зажиточных купцов великие фламандские мастера. В то время во Флоренции подобных весьма основательных сочинений под названием Ricordi, Ricordanze или Libri della famiglia существовало великое множество, и, к большой радости современных историков, они содержали подробно составленные родословные, ничего общего не имевшие с вымышленными генеалогиями дворянских родов, в создании которых упражнялась, изыскивая себе мифических предков, аристократия. Впрочем, в среде гуманистов вопросы ведения домашнего хозяйства были в моде. Достаточно вспомнить по этому поводу сочинение великого итальянского архитектора Альберти «Книги о семье» (Libri della famiglia), посвященное воспитанию детей, браку, управлению имуществом и дружбе, а также высказывания Монтеня («Опыты» (Essais), I, 39) о благородстве домашнего труда. Воспоминания Бернардо Макиавелли содержат триста записей и, по словам самого автора, представляют собой трактат о buon governo (ит. «правильное ведение») домашних дел. Примечательно, что сорок лет спустя Никколо Макиавелли употребит это словосочетание для обозначения темы своих собственных размышлений в трактате «Государь»… Большинство записей содержат сведения о состоянии дел в сельских владениях семьи, но пять из них, как мы увидим дальше, касаются воспитания Никколо.
Бернардо учился юриспруденции и даже был доктором права, однако доподлинно неизвестно, сумел ли он извлечь выгоду из своего диплома, хотя некоторые утверждают – пусть и не имея на то оснований, – что он состоял юрисконсультом при казначействе. В 1458 г. Бернардо женился на молодой вдове Бартоломее ди Стефано (ди Алессандро Нелли). Она умерла предположительно в 1496 г. Был ли этот союз браком по расчету? Первый муж Бартоломеи аптекарь Никколо Беници принадлежал к роду, состоявшему в открытой оппозиции к Медичи, которые находились у власти с 1434 г. Однако сам он, в отличие от многих своих сородичей, не участвовал ни в одном заговоре. Беници и Макиавелли жили по соседству, и, верно, именно благодаря этому обстоятельству и был заключен брак Бернардо с Бартоломеей. По некоторым сведениям, у Бартоломеи была дочь от первого брака Лионарда, однако нам о ней ничего не известно. Бернардо часто упоминает о жене в своих записках («la mia donna», «la Bartolomea»), но лишь одна деталь говорит о том, что она была в семье чем-то большим, чем классическая домохозяйка: для своего сына Никколо она сочиняла стихи религиозного содержания, что указывает на серьезное воспитание и «культуру», явно превосходившую требования, которые предъявлялись к молодой женщине в те времена… От этого брака родились две дочери, получившие цветочные имена: в 1465 г. на свет появилась Примавера (примула), а в 1468 г. Маргарита; затем 3 мая 1469 г. родился Никколо (его крестили на следующий день после рождения в церкви Санта-Мария-дель-Фьоре) и в 1475 г. Тотто, названный так в честь щедрого дядюшки, который, как уже говорилось, оставил Бернардо, помимо кое-каких долгов, имение Альбергаччо, расположенное в приходе Сант-Андреа в Перкуссине, где после возвращения Медичи во Флоренцию в 1512 г. Никколо провел часть своей многолетней ссылки.
Ricordi Бернардо Макиавелли, которые открываются записью от 30 сентября 1474 г. и заканчиваются 19 августа 1487 г., рисуют нам, с одной стороны, образ землевладельца средней руки, хозяйственные амбиции которого не идут дальше выращивания традиционных культур, а с другой – деревенского нотабля, который вершит третейский суд в банальных, но при этом весьма затруднительных ситуациях. Назовем для примера дело служанки Лоренцы, которая попала в «историю» – впрочем, далеко не оригинальную, – на радость социологам, изучающим Флоренцию эпохи кватроченто. Несчастная служила в семье Макиавелли и жила в доме самого Бернардо. Она совсем некстати «понесла», и с просьбой рассудить это дело и определить вред, который был причинен Лоренце, обратились… к мессеру Бернардо. Убоявшись пятна, которое может лечь на доброе имя Макиавелли из-за этой досадной истории, он, оценив ущерб, в наказание за настойчивые домогательства присудил своему соседу и кузену Никколо д’Алессандро Макиавелли возместить его жертве.
Однако настоящей страстью Бернардо были, по счастью, книги. В те времена это разорительное увлечение было доступно только богатым семьям, увлеченным идеями гуманизма. Макиавелли не принадлежали к этому кругу, и потому Бернардо пришлось прибегать к различным малоприятным уловкам, чтобы заполучить издания, необходимые для домашней библиотеки во Флоренции конца XV в. Известно, что по заказу флорентийского издателя немецкого происхождения Никколо ди Лоренцо делла Манья он составлял перечень географических названий (городов, поселений, рек и гор) к изданию произведений Тита Ливия и в качестве платы за свой тяжкий кропотливый труд получил это самое издание. Обладая обширными познаниями, он, вследствие своего юридического образования, в основе которого в те времена лежало прежде всего изучение позднего римского права – Пандектов и Кодекса Юстиниана, – имел особый вкус к трудам по истории. В своих записках Бернардо довольно точно описывает книги, составлявшие его библиотеку или проходившие через его руки. Это была библиотека, достойная подлинного гуманиста. Здесь был, конечно, Цицерон. Его извлекло на свет божий и издало предыдущее поколение – поколение искателей рукописей, таких как Поджо Браччолини или Бьондо. Сам владелец библиотеки обращался к этим томам, стремясь обнаружить в них тайные пружины политики и принципы политической морали. И Никколо в свое время найдет случай вспомнить о них. В своих записках Бернардо «заимствовал» мысли и рассуждения из цицероновых «Филиппик», опасного политического памфлета, направленного против его врага Антония, который так и не смог простить их Цицерону… В 1480 г. Бернардо читал диалог «Об ораторе» (De oratore), ставший библией гуманистов эпохи Возрождения, настоящим учебником риторики для современников, полагавших, что в нем содержатся все секреты искусства убеждения… Читая «Записки» Бернардо, мы узнаем, что в 1470-х гг. он не раз обращался к трактату De officiis («Об обязанностях»), который рисует образ идеального политика в условиях республики. В библиотеке Бернардо хранилась также работа гуманиста Флавио Бьондо «Декады истории начиная от упадка Римской империи» (Historiarum ab inclinatione Romani imperii). Сочинение представляло собой масштабный проект, охватывающий период с конца Римской империи до второй половины XV в. До конца жизни он успел завершить только три «декады», дойдя до 1440-х гг. В своих книгах Флавио Бьондо, которому приписывают термин «Media Aetas» (Средние века), подробно осветил этот, по всеобщему признанию, «темный» период истории. Успех его труда был велик, а сам труд оставил глубокий след в историографии.
Юрист по образованию, Бернардо Макиавелли сам стал героем сочинения известного юриста своего времени, первого консула Флоренции Бартоломео Скала «О законах и юриспруденции» (De legibus et iudiciis, 1483). Это трактат в форме диалога между автором и Бернардо Макиавелли, который назван «его близким другом» (лат. «amicus et familiaris meus»). В воображаемом диалоге Бернардо отводится роль ярого приверженца буквы закона. Для Бернардо было честью выступить в роли участника столь важного ученого спора. Позднее Никколо Макиавелли позаимствует эту вольную технику представления разных точек зрения, намеренно свободную от жестких рамок. Примером таких заимствований станет его сочинение «О военном искусстве» (Dell’arte della guerra)… И в целом у нас есть все основания полагать, что Бернардо, несмотря на скудные денежные средства, сумел сохранить и даже приумножить и финансовый, и интеллектуальный потенциал семейства Макиавелли (экономист Мило причисляет его к одному из пятисот богатейших родов Флоренции своего времени, хотя и помещая Макиавелли в конце списка). Никколо редко упоминает отца в своих произведениях, явно не располагавших к автобиографическим экскурсам, но как не признать черты Бернардо в описании старого Никомако из пьесы «Клиция» (Clizia), каким он был до того, как влюбился в свою юную воспитанницу. Рассудительная Софрония рисует нам портрет gentleman farmer[6] эпохи гуманизма:
…он был сама рассудительность и спокойствие. Время свое проводил он в неустанных трудах: вставал спозаранку, шел в церковь, распоряжался по дому; затем – если бывала нужда – отправлялся на площадь, на рынок, в присутственные места; если нужды в том не было – уединялся с кем-нибудь из сограждан для степенного разговора или шел к себе и погружался в деловые бумаги и счетные книги; после чего приятственно обедал в кругу семьи, а отобедав – занимался с сыном, наставлял его, рассказывал назидательные истории о доблестных мужах и при помощи многоразличных примеров из античной и современной истории обучал его жизни; затем снова выходил из дома либо по делам, либо для честного и серьезного времяпрепровождения. Возвращался же всегда до вечерней молитвы. Немного посидев с нами возле камелька – если дело было зимой, – он направлялся в свою комнату и работал. А около девяти вечера все весело садились за ужин. Таковой его образ жизни являлся примером для всех домашних, и всякий устыдился бы не следовать его примеру. Так размеренно и приятно текла наша жизнь.[7]
Бернардо тяжело болел во время эпидемии чумы, которая свирепствовала в этих краях в 1479 г. Он выжил, но с этого времени его имя все реже упоминалось в флорентийских хрониках, и так продолжалось вплоть до его смерти 10 мая 1500 г.
Годы ученичества Никколо Макиавелли
Как уже было сказано выше, Макиавелли родился 3 мая 1469 г. До нас дошли лишь немногие сведения о его раннем детстве. Причиной тому – характер его творчества, по сути своей исключительно политического содержания, который не предполагал откровений или хотя бы простых упоминаний об этом периоде его жизни. Да и в целом сама мысль окинуть ностальгическим взглядом детство и юность, осмыслить этот период жизни человека, считавшийся временем ошибок, первых робких шагов и – в лучшем случае – ученичества, не соответствовала литературным устремлениям того времени. Что до «Записок» отца, в них лишь изредка упоминаются сведения практического характера, которые касаются образования Никколо. Благодаря «Запискам» мы знаем, когда и под чьим руководством он учил латынь. Статус этого языка был очень высок во Флоренции той поры: латинский в том виде, в каком он имел хождение в Средние века, отчасти утратил свою социальную роль. Благодаря обращению к древнеримским текстам язык стал очищаться от средневековых наслоений, и потому латынь, на которой писали в XVI в., имеет уже мало общего со средневековой латынью. Она становится языком документа и юридических актов; их составлял нотариус, опираясь на указания, данные ему на тосканском диалекте, после чего он же по-тоскански пересказывал их договаривающимся сторонам. Латынь была также языком литературы, который обессмертили Боккаччо и Петрарка. Без знания латыни не мыслили себя те, кто исповедовал гуманизм, ставший модной «идеологией» во Флоренции XV–XVI вв. В ее основе лежал определенный набор древних текстов, от Платона, которого читали в переводах, до Цицерона. Гуманизм провозглашал примат человека в системе ценностей того времени, выдвигал постулат о том, что эпоха Античности обладала абсолютным недостижимым знанием, при этом языком древней науки была латынь. Следовательно, с самого раннего возраста детей следовало учить латыни (заметим, что начальное образование было очень развито во Флоренции уже в XIII в.).[8] Для этого учителя располагали всем необходимым педагогическим инструментарием, а самым известным был учебник «Донателло» (Малыш Донат). 6 мая 1476 г. Бернардо оставил запись о том, что юный Макиавелли осваивал латынь именно по этому учебнику под руководством «учителя грамматики маэстро Маттео», который проживал «a piè del ponte a Santa Trinita» (ит. «возле моста в районе Святой Троицы») и получал за учение 5 сольдо в месяц. «Донателло» – очень старый учебник; его автор Донат (учитель святого Иеронима Aelius Donatus) жил в IV в. Можно судить о том, какую долгую жизнь прожил этот грамматический бестселлер, если к нему обращались еще в XV в. Учебник Доната состоял из двух частей: Ars minor (элементарный курс), предназначенный для начинающих, и Ars major (полный курс грамматики) для углубленного изучения языка. Он содержал теоретическую часть и тексты в форме нравоучительных двустиший, авторство которых приписывалось Катону (Dicta Catonis), а также наставления из книги «Лекарство от любви» (Remedia Amoris) Овидия, столь же нравоучительные, поскольку они учат бороться со страстями. Семь лет – конечно, юный возраст для изучения латыни; однако и в 1480 г., оправившись после чумы, Бернардо пишет в своих записках, что Никколо все еще «учится» под надзором «маэстро Маттео». На следующий год он уже переходит ко второй части учебника и начинает брать уроки у мессера Баттисты да Поппи в церкви Святого Бенедикта. «Никколо знает по-латински», – не скрывая радости, пишет в своих заметках Бернардо. Через год и его младший сын, Тотто, принимается за «Донателло». Тем временем старший Никколо по-прежнему «изучает латынь». В книге записей нет на этот счет подробностей, но можно предположить, что он пишет сочинения, руководствуясь Ars Major, где описываются риторические фигуры (синекдоха, зевгма и др.), придающие изящество стилю, и приводятся ошибки и неудачные обороты, которых следует избегать. Бернардо сообщает нам только, что наставником Никколо был священник Паоло Сассо да Рончильоне. Он пользовался славой лучшего учителя латыни; среди его учеников были ровесники Никколо Пьетро дель Риччи Бальди и Микеле ди Вьери. Риччи Бальди сменил свое имя на Пьетро Кринито (Petrus Crinitus) и числился в учениках Рончильоне вплоть до 1487 г. Предполагается, что именно ему принадлежит анонимная рукопись, в которой содержится большое число упражнений по грамматике и стилистике латинского языка, вероятно написанных под диктовку «мастера». Их целью было научить эпистолярному искусству, без которого немыслимо дипломатическое поприще, и можно легко предположить, что Никколо тоже прошел подобный курс обучения. Однако сам Кринитус не остановился на этом: некоторое время он был учеником знаменитого поэта Полициано, затем преподавал в Флорентийском университете, так называемом Студио Фьорентино; позднее его имя упоминается в связи с Платоновской академией, заседавшей в садах Оричеллари. Ему мы обязаны монументальным двадцатипятитомным трактатом «О честном и поучительном» (De honesta disciplina). Второй ученик Рончильоне Микеле ди Вьери (Микеле Верино) был автором памятных всем школярам «Нравственных двустиший для детей» (De puerorum moribus disticha), которые многократно переводились на французский. Иными словами, Макиавелли рос в хорошей компании, и будущее признание ученых-латинистов, его соучеников, может служить нам доказательством высокого качества полученного им гуманистического образования, бывшего во Флоренции непременным условием службы на высоких государственных должностях… Однако сам Макиавелли ограничился серьезным изучением латыни, что в дальнейшем позволило ему читать латинские сочинения и даже писать на этом языке. Можно предположить, что именно тогда он усвоил и основы общей культуры, которые постигали в обязательном порядке дети среднего класса, будущие адвокаты, врачи и нотариусы. Так или иначе, это была очень солидная база, позволившая ему стать секретарем канцелярии и трудиться на государственном поприще. Совершенствоваться в науках и полностью посвятить себя изучению словесности или философии могли только представители высших сословий, которым не было нужды зарабатывать на жизнь.
Из записок мессера Бернардо нам также известно, что Никколо обучался счету у «мастера» Пьеро Марии самым популярным в те годы способом, на абаке. Существовали разные системы счета на абаке, как старинные, так и новейшие, включавшие новые, имевшие практическое значение понятия, такие как ноль, как известно, заимствованный европейцами у арабов.[9] Отметим, что счету во Флоренции обучали, как правило, детей, которых готовили к занятиям торговлей. Существовали «школы абака», где особый учитель (ит. abachista) учил их счету на абаке. Можно с большой вероятностью предположить, что Бернардо хоть и увлекался латинскими сочинениями и правом, но был дальновидным отцом и, заботясь о будущей карьере сына, предусмотрел запасной вариант. Времена были неспокойные, гуманизм как идеология утрачивал влияние в обществе, а во Флоренции, как и повсюду, всегда были востребованы способные молодые люди, хорошо подготовленные к деловой карьере. Однако Никколо, по собственному его признанию, не был создан для коммерции, о чем он не без иронии пишет в письме от 9 апреля 1513 г. своему другу, послу Флорентийской республики Франческо Веттори, входившему в ближайшее окружение Медичи: «Судьбе было угодно, чтобы я, не имея талантов говорить ни об искусстве торговли шерстью или шелком, ни об убытках, ни о прибылях, говорил о делах государственных, и потому я должен или дать обет молчания, или только о них и вести речь». К несчастью, записи в книге Бернардо обрываются в 1487 г., дальнейшее теряется во мраке: нам неизвестно, чем занимался молодой Макиавелли в течение следующих десяти лет, что создает большие трудности для историка, так как этот период в жизни юноши считался во Флоренции эпохи Возрождения временем учебы и становления.
Получил ли Макиавелли университетское образование?
Знание не терпит пустоты, и потому уже не раз историки выдвигали различные предположения относительно этого десятилетия, которое некоторые называют «потерянной декадой» Макиавелли. Так, в 1973 г. профессор Сиенского университета Доменико Маффеи предпринял попытку доказать, что молодой Никколо учился с 1489 г. финансовому делу у банкира Берто Берти в Риме. Эта гипотеза не только позволила бы заполнить досадный пробел в биографии «флорентийского секретаря», но и объяснила бы, откуда он черпал свои познания в этой области. Именно там, через своего наставника и друга Берти, он мог завести знакомство с влиятельными флорентийцами, обитавшими в Риме и входившими в братство Пьета деи Фьорентини. Однако гипотеза не подтвердилась: в следующем же году один из лучших специалистов по Макиавелли Марио Мартелли без труда доказал, что Макиавелли-банкир был полным тезкой интересующего нас Макиавелли. Некоторые приписывали ему в этот таинственный период разного рода литературные занятия, тексты популистского толка, в традиции Доменико Буркьелло (1404–1449)[10] и Луиджи Пульчи (1432–1484), которые послужат основой его будущих сочинений на тосканском диалекте. Однако нам доподлинно известно, что в это самое время он собственноручно выполнил один или несколько списков поэмы «О природе вещей» (De rerum natura) латинского поэта-материалиста Лукреция, тем самым как бы дистанцируясь от философии Платона, официального кредо флорентийских эрудитов, особенно тех, кто состоял на содержании Медичи… Известно также, что он копировал «Евнуха» (Eunuchus) комедиографа Теренция. Но очевидно одно: достоверно нам ничего не известно о молодых годах Макиавелли, и в отсутствие надежных свидетельств ничто, на наш взгляд, не может заполнить этот пробел в его биографии. Этот период продолжался вплоть до 1497 г., когда он поступил на государственную службу.
Тогда встает правомерный вопрос: учился ли Макиавелли в университете? Его жизнь и творчество, безусловно, свидетельствуют о том, что он был человеком университетски образованным, но точные сведения на этот счет катастрофически отсутствуют… И все же одна «зацепка» есть: это свидетельство знаменитого хроникера, епископа Павла Иовия (Паоло Джовио), которого во Франции называли Полем Жовом, бывшего одновременно врачом, философом и историком. Большой знаток Флоренции этого периода, он написал «Историю моего времени с 1494 по 1547 год» и сборник биографий под названием «Похвала знаменитым мужам» (Elogi degli uomini illustri, 1546), среди которых фигурирует и Никколо Макиавелли. Поскольку в целом Паоло Джовио был настроен по отношению к Макиавелли критически, его трудно заподозрить в излишней к нему симпатии, и он скорее заслуживает доверия, когда пишет, что «лучшими сторонами» своего гуманистического образования Макиавелли был обязан некоему Марчелло Вирджилио Адриани.[11] Он хорошо нам известен с разных сторон и прежде всего как политик: он возглавил канцелярию Синьории вслед за другим гуманистом, признанным ставленником Медичи Бартоломео Скала, управлявшим канцелярией с 1465 г. и в 1486 г. избранным гонфалоньером. Скала был оплотом Флорентийской академии неоплатоников, его перу принадлежит история города, написанная конечно же в апологетических тонах. После его смерти в 1497 г. можно было ожидать, что ему на смену придет гуманист, принадлежащий к тому же кругу, что и Скала. И действительно, выбор Синьории пал на эрудита, воспитанника двух университетских профессоров, Кристофоро Ландино и Анджело Полициано. Этим избранником стал Марчелло Вирджилио Адриани («Marcellus Virgilius»). Адриани был назначен первым секретарем Синьории, но сохранил за собой кафедру греческого и латинского красноречия в Флорентийском университете, Студио Фьорентино, где оставался с 1494 по 1503 г. И именно он, если верить Джовио, выпестовал, в свою очередь, другого блестящего ученика, Никколо Макиавелли…
Все так, но, если принять в расчет детали, обстоятельства ему не благоприятствовали: клан Макиавелли был не из тех, на кого обращали взоры в поисках молодых, подающих надежды талантов ради того, чтобы предложить им высокую должность, и своим возвышением Никколо был, по всей видимости, обязан высокому покровительству. Легко вообразить, что Адриани, которому молодой Макиавелли был обязан своим солидным гуманистическим образованием, необходимым для начала политической карьеры, поддержал юношу и способствовал его выдвижению летом 1498 г. на первую важную государственную должность… Тем более что речь шла о должности «секретаря», то есть ответственного за дипломатическую почту, и исполнять ее надлежало человеку образованному… Гуманистическая традиция многим обязана целой череде поколений этих «секретарей». Это были, как правило, молодые люди, носители латинской культуры, обладавшие широкими познаниями в юриспруденции; они занимались составлением кратких отчетов по письмам и донесениям, написанным по-латыни или на современном разговорном языке, для важных особ, на которых они работали. Среди сих «великих» был собиратель латинских рукописей Поджо Браччоллини, теоретик архитектуры Леон Баттиста Альберти, два папы римских первой половины XV в., Евгений IV и Николай V, при которых они исполняли роль «апостольских составителей кратких справок». Макиавелли, как мы увидим вскоре, в возрасте двадцати девяти лет был нанят флорентийской администрацией для исправления подобной должности: в его обязанности, в числе прочих, входило ведение дипломатической переписки Флорентийского государства; до него это дело доверялось исключительно людям, известным своими литературными и юридическими познаниями. Протекция Адриани не помогла бы ему, не обладай он такими же навыками и знаниями, как и его предшественники. Следовательно, мы можем предположить, и только, что Макиавелли учился в университете Студио Фьорентино (который с 1473 по 1503 г. размещался в разных местах: главным образом в Пизе, но также и в Прато, а в 1497 г., когда над городом нависла угроза чумы, снова перебрался во Флоренцию), где его покровитель вел свои основательные и глубокие научные изыскания (studia humanitatis).
Макиавелли входит в историю
Впервые имя Никколо Макиавелли всплывает в официальных источниках, хотя и по незначительному поводу, 2 декабря 1497 г. благодаря дошедшему до нас письму. В нем от имени своей семьи он обращается к официальному лицу, епископу Перузскому Хуану Лопесу. Хотя Бернардо Макиавелли был еще жив, именно Никколо составил и подписал прошение с ходатайством по поводу бенефиций при церкви Санта-Мария-делла-Фанья в приходе Фанья в Муджелло, находившейся под патронатом семьи Макиавелли. Право на эти земли оспаривалось заклятыми врагами Медичи – семейством Пацци. Возвратившись незадолго до этого из ссылки, Пацци постарались вернуть себе имущество, конфискованное после неудавшегося заговора 1478 г. против власти Медичи. Борьба была нелегкой, но Макиавелли в обращении к Хуану Лопесу поддержала Синьория, и они победили в этой тяжбе. Епископ Хуан Лопес был фигурой влиятельной: он принадлежал к ближайшему кругу будущего папы Александра VI еще в бытность его кардиналом Родриго Борджа. Став папой римским, Борджа не забыл его и в феврале 1496 г. даровал ему кардинальский сан, а чтобы обеспечить его материальное благополучие, назначил апостольским администратором Каркассона и Олорона. Именно этого человека сумел убедить своим красноречием молодой Никколо к выгоде консортерии Макиавелли.
Однако его политическая карьера начинается только в следующем году, с первого из долгой череды непростых донесений, которых вскоре потребуют от него Советы и канцелярии Синьории. Первый отчет был заказан ему монахом Риччардо Бекки, послом Флорентийской республики в Риме, направленным туда для переговоров по делу Савонаролы.[12] К этому времени Савонарола уже отчасти утратил свое влияние, но у него по-прежнему оставалось много сторонников, что вызывало беспокойство у флорентийских властей, не понимавших, куда его мощное красноречие может завести. Поэтому Бекки было необходимо знать содержание опасных проповедей Савонаролы. В письме от 9 марта 1498 г. Макиавелли пересказывает две из них, по книге Исхода, которые тот произнес в монастыре Сан-Марко, куда перебрался после беспорядков в Санта-Мария-дель-Фьоре, вызванных его обличительными речами. В своем подробном основательном отчете Макиавелли рассматривает механизмы воздействия речей Савонаролы, который обрушивал на сограждан свою громоподобную риторику («Он начал с запугиваний, приводя доводы очень убедительные для тех, кто не умеет рассуждать»),[13] вольно обращался с библейскими текстами (в первой проповеди он толковал слова «Quanto magis premebant eos, tanto magis multiplicabantur et crescebant» («Но чем более изнуряли его [народ], тем более он умножался и тем более возрастал»)[14] и примерами (в данном случае из жизни Моисея) для того, чтобы укрепить свою позицию, манихейскую и упрощенческую, и ослабить враждебную партию: «…он выстроил две шеренги – в одной воинствующие под водительством Божьим, здесь он и его сторонники, в другой находятся приспешники дьявола, то есть его враги». В понимании Макиавелли Савонарола – приспособленец, напуганный тем, что в Синьории нового состава большинство за его противниками. Он искажает действительность, исходя из минутных интересов («сообразуется с обстоятельствами момента и приукрашивает свое вранье»), для того чтобы опорочить своих противников во Флоренции и папу Александра VI. Подводя итог, можно сказать, что доклад не содержит критики «по существу» предлагаемой Савонаролой политики (например, учрежденного им Большого совета), а изобличает порочные приемы, с помощью которых он, занимая в течение четырех лет кафедру в монастыре Сан-Марко, манипулировал своими сторонниками. Однако для нас интересно, что Макиавелли был хорошо знаком с историей Савонаролы и мог в интересах дела извлечь важнейшие уроки из поражения этого «безоружного пророка».
Первое избрание Никколо Макиавелли секретарем Второй канцелярии приходится на конец этого эпизода, хотя некоторые еще недавно и считали, основываясь на одном, вероятно, неправильно истолкованном письме, что с 1494 или 1495 г. он уже состоял на государственной службе в качестве помощника секретаря, то есть на более низкой должности. Избрание прошло не слишком гладко. В феврале 1498 г., еще в тот период, когда Савонарола не утратил своего влияния, ему предпочли Антонио делла Валле, ближайшего помощника Бартоломео Скала. Но после падения Савонаролы вся администрация сверху донизу была полностью заменена, и это сыграло на руку Макиавелли.
На этот раз все происходило иначе: двое из троих его конкурентов были хорошо известны по разным причинам. Один из них, университетский профессор, пятидесятитрехлетний Франческо Гадди, был обязан своей карьерой клану Медичи. Второй – личность малопривлекательная, бывший секретарь Совета восьми,[15] Франческо ди сер Бароне известен тем, что подделал многие документы по процессу Савонаролы. О третьем кандидате, нотариусе Андреа ди Ромоло, сведений мало, в дальнейшем он станет помощником Макиавелли. 15 июня[16] 1498 г. Совет восьмидесяти (также упоминающийся под названием Совета по искам – Consiglio dei Richiesti) принял решение о назначении Никколо, который был намного младше своих поседевших на государственной службе конкурентов (тогда как сам он не мог быть избран по возрасту даже в Большой совет), а затем 19 июня Большой совет одобрил это назначение, тем самым утверждая Макиавелли в роли управляющего Второй канцелярией. А 14 июля декретом Синьории он был также назначен «секретарем» Совета десяти по поддержанию мира и свободы (Dieci di Pace e Libertà), исполняющего основные функции дипломатического ведомства в Флорентийской республике. Это был очень ответственный пост, и, хотя Макиавелли не числился ни доктором наук, ни нотариусом, так как в официальных актах его имя упоминается без титулования мессер или сер, к тому времени его уже хорошо знали во Флоренции как чиновника, занимавшего важную государственную должность.
Времена менялись. Влиятельные секретари, такие как Салютати, Поджо Браччолини, Бруни, были знатоками словесности и виртуозами пера (Салютати приписывают авторство восьми тысяч посланий). Их достоинства признавались всеми, в основе их прочной репутации лежали глубокие познания и, следовательно, политическая мудрость… То же можно сказать и об Адриани и, уже в меньшей степени, о Скале. Но с приходом в политику таких фигур, как Макиавелли, эта традиция прервалась. Его предшественник на посту секретаря Второй канцелярии, человек высокообразованный, гуманист Алессандро Браччези был ярым сторонником Савонаролы, и в этом качестве в 1497 г. его послали в Рим, чтобы «споспешествовать» постоянному флорентийскому послу в Ватикане Риччардо Бекки, известному своим враждебным отношением к Савонароле. Синьория в ту пору еще находилась под влиянием Савонаролы и спешно направила Браччези, чтобы, поелику возможно, сгладить впечатление от того, что сообщал папским властям Бекки, добиться для Савонаролы минимальных уступок (разрешения на проповедь) и уберечь Флоренцию от наложения интердикта.
После падения Савонаролы он, как и следовало ожидать, лишился должности, и следом «loco ser Alexandri Braccesi» (лат. «на место сера Алессандро Браччези»), как было недвусмысленно заявлено, назначили Макиавелли. После Браччези, а позднее и Макиавелли государство привлекало на ключевые посты исключительно политиков. Это был новый тип государственного деятеля, нечто среднее между послом, пользовавшимся большим престижем, и чиновником. И сам статус секретаря, и порядок его назначения были важны для Флорентийской республики, судя по тому, что в конце XV в. они дважды претерпевали изменения: в 1483-м и затем 30 апреля 1498 г., то есть незадолго до вступления Макиавелли в должность.
2
Уроки Новой истории: Флоренция, юность Макиавелли
Мы не знаем обстоятельств жизни молодого Макиавелли, но можем оценить атмосферу тех лет, так как располагаем хоть и более поздним, но от этого не менее важным историческим документом, написанным в конце жизни им самим: это «История Флоренции» (Istorie Fiorentine), документ a priori малодостоверный, поскольку он был написан по заказу Медичи. Тех самых Медичи, творцов флорентийской истории с 1434 по 1736 г., чьи взлеты и падения в явной или скрытой форме определили все творчество Макиавелли. Однако мы можем сравнить его детальное историческое повествование с другой «Историей Флоренции» (Storie Fiorentine), сочинением 1508–1509 гг. историка и дипломата Франческо Гвиччардини, с которым в 1520-х гг. Макиавелли связывала тесная дружба.
Набег варваров
Карьера Макиавелли начиналась в нелегкое время. Прошло всего четыре года с того потрясения, которое пережила вся Италия, от Милана до Неаполя, осенью 1494 г. Это было событие, вошедшее в историю Италии под именем «discesa» (ит. «нашествие»), – вторжение войск французского короля Карла VIII. Оно стало предвестием непрерывного бедствия – одиннадцати итальянских походов, разорявших страну вплоть до 1559 г. В то время как во Франции, по мнению некоторых, итальянские войны знаменовали начало Возрождения, для Италии, уже давно переживавшей Возрождение как культуры, так и этических представлений, эти годы были периодом настоящего слома, поворота в истории. Изменилось все, даже интенсивность военных действий, о чем в 1508 или в 1509 г. пишет с глубоким сожалением Гвиччардини: это вторжение было «пожаром, чумой, изменившей не только сами государства, но также и способы их управления и способы ведения войны».[17] Пришлось практически пересматривать принципы дипломатии, что быстро понял Макиавелли и о чем писал Гвиччардини в своих «Заметках о делах политических и гражданских» (Ricordi politici e civili), где он подводит итог своего долгого политического и военного опыта. В течение сорока лет Италия будет полем битвы для своих могущественных соседей, Франции и Испании, а итальянцам, попавшим в эту мясорубку, придется жить в чрезвычайных обстоятельствах (lo straordinario) и искать формы государственного устройства, способные адаптироваться к очередному крутому повороту событий.
В 1494 г., двадцатипятилетним, вполне зрелым человеком, Никколо, как и все, пережил потрясение от французского нашествия, навсегда изменившего тактику и саму ментальность итальянских политиков, а также совпавшие с ним по времени не менее бурные события, связанные с падением Медичи, которые управляли Флоренцией в течение шестидесяти лет. 1494 г. стал вехой, обозначившей конец определенного исторического периода. Это был год смерти двух великих гуманистов, ставших символом эпохи, – Полициано и Пико делла Мирандолы. В тот же год лопнул банк Медичи, и последнему представителю клана пришлось бежать. Невозможно понять творчество Макиавелли, не проникнув в атмосферу, в которую он был погружен в те годы, когда мы теряем его из виду, – годы, наполненные драматическими событиями, развернувшимися в самом сердце Флоренции на излете этой яркой эпохи.
В общей сложности Никколо пережил в юности два ключевых момента в истории клана Медичи, определившего историю Флоренции Нового времени: правление Лоренцо Великолепного (1469–1492) и злоключения Пьеро ди Лоренцо Невезучего. Именно он привел Медичи к полному поражению, а окончательную точку поставила французская армия, перед которой он позорно капитулировал. Тень Медичи витает над всеми начинаниями и рассуждениями Макиавелли. И творчество, обессмертившее его имя, рождается из сопоставления этих двух режимов: он был внимательным наблюдателем во времена первого и активным деятелем второго.
История смуты
Флоренция времен Макиавелли была свободным государством. Независимая Флорентийская коммуна, выйдя из-под власти Священной Римской империи в 1100 г., управлялась коллегией консулов из числа нобилей (знати), которых, как принято считать, избирали сами члены коллегии путем кооптации. При жизни Макиавелли во Флоренции сохранялась республиканская форма правления, но не было демократии, поскольку на 100 000 жителей (некоторые историки называют цифру 70 000 или даже 50 000) только 3000 были вовлечены в политическую деятельность. Политическая жизнь Флоренции, как и других городов Северной Италии, сосредоточивалась вокруг двух полюсов – враждующих между собой партий гвельфов и гибеллинов. Одни были сторонниками папы римского, другие – императора Священной Римской империи. Обе партии сложились в середине 20-х гг. XII столетия, после смерти императора Генриха IV, который не оставил наследника. Когда встал вопрос о его преемнике, в средневековой Италии, находившейся под властью германских императоров, разгорелась борьба между сторонниками Конрада из династии Гогенштауфенов, владевших Швабией и Вайблингеном, и кланом баварских Вельфов. Выступавшие на их стороне «гвельфы» добивались для своих городов автономии в союзе с папой. Избираемый кардиналами и потому независимый от власти императоров папа римский должен был стать гарантом привилегий итальянской аристократии. Им противостояли гибеллины, лояльные императору, который гарантировал их вековые права.
Не следует думать, что между ними шло мирное состязание на выборах, как в наших современных демократиях. В крупных городах Италии, таких как Генуя или Флоренция, разворачивалось смертельное противостояние, сопровождавшееся стычками и уличными боями. В то время еще не существовало слова «партия», кланы носили название «brigate» (ит. «сообщества, бригады»). Как только одни захватывали власть, они сразу же выдворяли из города лидеров враждебной группировки, а случалось, и еще суровее расправлялись с ними… Те, кто стоял у руля государства, не проявляли милосердия к своим противникам «bergolini» (ит. устар. «простаки»); находившиеся у власти «raspanti» (ит. «грабители, тати») безжалостно отбирали у несчастных все, что можно было взять. Не стоит при этом думать, что у враждующих партий были свои политические программы. И те и другие говорили о свободе и справедливости, но по сути представляли собой обычные воюющие группировки со своими лидерами, заказчиками и подручными. Обе стороны стремились исключительно к захвату государственных должностей (uffici), а также привилегий и бенефиций (пребенд), которые к ним прилагались.
Впрочем, границы между кланами были довольно подвижны, и, когда один из них долгие годы оставался у власти, происходил раскол. Так было в конце XIII в. во Флоренции, когда партия гвельфов распалась на «белых» и «черных». Белые опирались на поддержку пополанов, а черные были ставленниками местной аристократии.
Жизнь Флорентийской республики была далеко не безмятежной; сама архитектура города в XIII–XIV вв. отражает накал политических схваток: она представляет собой ряды высоких башен-крепостей, разделенных узкими улочками и небольшими площадями (piazzette). Эти благородного вида крепости постоянно находились в состоянии войны, кровавой и беспощадной. При взятии такой башни ее срывали, а обитателей убивали или изгоняли из города. От вражеской цитадели не оставляли камня на камне, и само место ее расположения считалось проклятым. Поэтому в разных частях города периодически появлялись незастроенные пустыри, guasti, которые со временем коммуна присваивала себе для строительства общественных зданий, большинство из которых дошли до наших дней, – и это за много веков до появления подобных построек в Париже.
В ходе ожесточенных столкновений Флоренция едва совсем не исчезла с лица земли. Как пишет Макиавелли в своей «Истории Флоренции», в 1257 г. гибеллины, победив в союзе с войсками императора гвельфов, собирались полностью ее разрушить. По счастью, один из них, Фарината дельи Уберти, воспротивился этому, сказав, что он воевал за то, чтобы «жить на родине», а не ровнять ее с землей. Его послушали и «ограничились» тем, что разрушили 103 дворца гвельфов, 85 башен и 580 домов. В двух из трех кварталов остались только церкви и коммунальные здания. Замки и окрестные деревни, населенные гвельфами, постигла та же участь…
Надо было восстанавливать город, и городские стены, возведение которых началось в 1284 г., давали нобилям новое пространство для развития городской среды. Но война сильно отразилась на коллективных вкусах и представлениях: влиятельные флорентийские семьи не желали селиться вдали от центра и своих родовых замков, расположенных посреди лабиринта труднодоступных улочек, надежно их защищавших от внешних посягательств. Кроме того, покинуть эти малопригодные для жизни строения означало растерять всех своих арендаторов, так как помимо самих аристократов, их владельцев, здесь проживали семьи пополанов, снимавших жилье и лавки. Поэтому на новых территориях селились семьи попроще, например бывшие деревенские жители Медичи, которые в XIII в. обосновались со всеми родственниками и союзниками в районе церкви Сан-Лоренцо и только днем появлялись в квартале, где располагались крупные банки, снимая переносные «лавки» возле Понте-Веккьо, чтобы пересчитывать деньги, которые они ссужали горожанам.
Правление Медичи
Медичи начинали свое дело как ростовщики, но были предприимчивыми и дальновидными и сумели вложить капитал в очень прибыльную в те времена торговлю шерстью. Банковское дело и торговля заложили основу их состояния, которое не поддается точному подсчету. Однако уже в XIV в. они владели в самом городе двумя лавками, где торговали шерстью, а в их «вотчине» в Муджелло селились наемные ткачи. В этих красивых местах на северо-востоке от Флоренции до сих пор можно встретить Castelli Medicei (замки Медичи). Очень быстро семья приобрела большой политический вес во Флоренции: мы находим упоминания о Медичи в связи с самыми драматическими событиями политической жизни города. Так, в 1343 г. они участвовали в заговоре, в результате которого был низложен и изгнан печально известный герцог Афинский Готье VI де Бриенн, в течение года безраздельно властвовавший во Флоренции. Они также приняли участие в постыдной расправе над сторонниками герцога, один из эпизодов которой, казнь Гульельмо д’Ашези и его сына, Макиавелли описывает в «Истории Флоренции»:
Мессер Гульельмо и сын его попали в руки бесчисленных врагов, а сын этот был почти мальчик, еще не достигший восемнадцати лет. И все же ни молодость его, ни невиновность, ни красота не могли спасти его от ярости толпы. Те, кому не удалось нанести удара отцу и сыну, пока они были еще живы, кромсали их трупы и, не довольствуясь ударами мечей, рвали тела их пальцами. А чтобы насытить мщением все свои чувства, они, насладившиеся их криками, зрелищем их ран, впивавшиеся в их плоть, захотели и на вкус попробовать ее, так чтобы мщение утолило не только внешние чувства, но и нутро.[18]
Надо заметить при этом, что для Макиавелли герцог Афинский был воплощением тиранства:
Был этот герцог, как видно по его правлению, жаден, жесток, труднодоступен и высокомерен в обращении. Стремился он не к расположению народа, а к порабощению его и потому хотел вызывать страх, а не любовь. Внешность его была не менее отвратительна, чем повадки: был он мал ростом, чернявый, с длинной, но реденькой бородой, так что, с какой стороны на него ни смотреть, он заслуживал только ненависть. Так вот через десять месяцев по злобности нрава своего лишился он верховной власти, которую захватил по зловредным советам своих сторонников.
Медичи также принимали участие в знаменитом заговоре чомпи: в 1378 г. один из представителей клана Медичи, гонфалоньер справедливости по имени Сальвестро Медичи, возглавил мятеж чомпи (мелких ремесленников, красильщиков, чесальщиков шерсти, прядильщиков, ткачей), которые представляли popolo minuto (ит. «тощий люд»), считавший, что его отстранили от власти. Эта кровавая смута была быстро подавлена, однако Сальвестро Медичи удалось избежать преследований… Восстание чомпи надолго останется в памяти флорентийцев, усвоивших на подсознательном уровне, что государство могут сотрясать «гражданские смуты» (как назовет их позднее в «Истории Флоренции» Макиавелли), превосходящие по накалу страстей «привычную» борьбу между кланами. Одна из ветвей семьи Медичи продолжила участвовать в мятежах, и в 1402 г. известный бунтовщик и заговорщик Антонио Медичи был казнен, а весь клан лишился доверия нобилей. Однако уроки истории принесли свои плоды: внутри клана взяли верх «осмотрительные» и «благоразумные», и с тех пор Медичи проявляли больше осторожности в борьбе за власть.
Одним из таких «благоразумных» столпов семейства Медичи был заложивший основы его будущего процветания Джованни ди Биччи Медичи (1360–1429). В 1397 г. он основал банк, который, став успешным предприятием, выдавал ссуды королям и папам, и кроме того, два банковских филиала (в Венеции и Риме), необходимых для его торговой деятельности – вывоза за границу шерсти и шелка. На пике его торговой экспансии их было уже на семь больше (добавились также представительства в Неаполе, Милане, Пизе, Авиньоне, Лионе, Брюгге и Лондоне). Банковские филиалы переросли по масштабам флорентийский банк. К концу жизни доходы семьи состояли на 90 % из банковского капитала и только на 10 % из торгового. В качестве признания заслуг гениального негоцианта в 1421 г. он был избран гонфалоньером Флоренции, то есть стал главным человеком в республике…
Сын Джованни ди Биччи, Козимо Медичи, продолжил его мудрую политику… и восхождение клана Медичи к власти. Однако это не всем пришлось по нраву, и в 1433 г. Козимо Медичи, гуманист, владевший французским, немецким, латинским и греческим языками, человек весьма искушенный в торговом деле (в свое время отец доверил ему управление одной из шерстяных мастерских), был арестован и брошен в тюрьму по приказу главы олигархии Ринальдо Альбицци. Он избежал смерти и был приговорен к десятилетнему изгнанию, и, уже находясь в Венеции, продолжил управлять делами. Ему удалось задушить экономику Флорентийской республики, потребовав одновременно погасить все займы, выданные его банком. В результате в 1434 г. он с триумфом вернулся во Флоренцию, отплатил своему врагу той же монетой, добившись его изгнания, и тут же, как и его отец, был избран гонфалоньером. Человек глубоко образованный, он быстро понял, что для торжества своих интересов должен окружить себя самыми прославленными учеными мужами, объединять и направлять их усилия, что послужит к его собственному прославлению. Ничто не могло способствовать этому лучше, чем создание академии. И в 1459 г. он основал Платоновскую академию, куда вошли признанный мэтр неоплатонизма Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола, Анджело Полициано и… Лоренцо, сын Козимо, который скоро станет известен под именем Лоренцо Великолепного. В «Истории Флоренции» (кн. VII, гл. V) Макиавелли так превозносит доблести этого «государя»:
Козимо был самым знаменитым и прославленным из всех граждан, не занимавшихся военным делом, притом не только из граждан Флоренции, но и всех других известных городов. Он превзошел всех своих современников не только влиянием и богатством, но также щедростью и рассудительностью, и из всех высоких качеств, благодаря которым он стал в отечестве своем первым человеком, главным было его превосходство надо всеми в щедрости и великолепии.
Медичи во времена Макиавелли
1469 г., когда родился Макиавелли, стал также и годом смерти Пьеро Подагрика (он пришел к власти после смерти своего отца Козимо в 1464 г.). Пьеро страдал артритом и значительную часть времени был прикован к постели, оставаясь при этом отличным дипломатом: так, например, он сумел завязать очень плодотворные личные отношения с таким непростым в общении человеком, как Людовик XI. К несчастью, Пьеро был менее удачливым финансистом, и дела семьи, которые и при Козимо Старшем не слишком процветали, при нем пошатнулись еще сильнее. Но это не помешало ему заниматься, по примеру своих предков, меценатством, и можно предположить, что именно он заказал Беноццо Гоццоли знаменитую фреску «Шествие волхвов», на которой в образе волхвов изображены члены семьи Медичи. Именно они составляли верхушку власти в государстве и контролировали все выборы. Пьеро Подагрик в конце концов стал жертвой дурного советчика, о пагубном влиянии которого Макиавелли пишет в «Государе». Отец Пьеро Козимо растратил бо́льшую часть состояния, принадлежавшего Медичи, ссужая в долг большие суммы влиятельным флорентийцам, чтобы заручиться их благосклонностью. Подозревая об этом, Пьеро, чтобы составить себе точное представление о размерах ущерба, поручил одному из советников своего отца, Диотисальви Нерони, услугами которого он продолжал пользоваться, провести проверку состояния семейных финансов. Решение было на удивление верным: потери оказались невероятно велики. По совету Нерони Пьеро обратился к своим влиятельным должникам с просьбой вернуть долг. Те в ответ возмутились, обвинив Пьеро в неблагодарности, в том, что он забыл об услугах, которые они оказывали его отцу. Скандал только сплотил лагерь противников Медичи. В «Истории Флоренции» Макиавелли пишет, что этот дурной совет был дан с умыслом, чтобы ускорить падение Медичи… Впрочем, нобили постоянно устраивали заговоры против Пьеро Подагрика. В результате в городе образовались две партии, противостоящие друг другу и политически, и географически: партия с виа Ларга (на этой улице располагался дворец Козимо) и партия квартала Коллина (collina, ит. «холм»), где стоял дворец семейства Питти, возглавлявшего недовольных. И все же наиболее последовательным противником Медичи был истинный республиканец Никколо Содерини, восходящая звезда на политическом небосклоне. 18 сентября 1465 г. он, найдя лазейку в системе жеребьевки при избрании магистратов, контролируемой Медичи, добился того, что они остались в меньшинстве в Синьории. Сторонники республики высыпали на улицы с криками «Свобода!»; Содерини сумел воспользоваться ситуацией и в результате был избран гонфалоньером. Он запретил собрания партий Медичи и Питти и стал готовить убийство Пьеро. Его предал секретарь, сообщив о заговоре и передав списки заговорщиков (среди которых был и Диотисальви Нерони) Пьеро Медичи, лежавшему с приступом подагры у себя на вилле в Кареджи. Несмотря на болезнь, Пьеро двинулся во Флоренцию, по дороге армия его сторонников росла; застигнутые врасплох заговорщики обратились в бегство. Расправа была жестокой: Медичи конфисковали все имущество бунтовщиков, рассеяли их семьи. На улицах Флоренции царила настоящая вакханалия: во время одного из шествий толпа предала в руки «правосудия» «подозрительных». Их пытали и если не убивали, то изгоняли из города. Могущественный клан Питти избежал подобных наказаний и лишь подвергся временному остракизму, а работники ушли со строительства их дворцов. Однако в государстве разгорался нешуточный конфликт: бунтовщики в изгнании, призвав на помощь сторонников, выступили в поход против Медичи. Венецианский сенат поручил знаменитому кондотьеру Коллеони атаковать Флоренцию. Впереди людей Коллеони шли флорентийцы, им на подмогу подоспели неаполитанцы и миланцы под началом герцога Галеаццо Мария Сфорца. Армии встретились у города Форли, некоторое время они стояли друг против друга, потом началась битва. Ни одни ни другие не проявляли особого упорства. Это было типичное столкновение наемников, как их описывал Макиавелли в трактате «О военном искусстве»: никто не погиб, было очень мало раненых, для проформы несколько человек взяли в плен. Кондотьеры, прекрасно знавшие друг друга, не имели ни малейшего желания проливать кровь своих собратьев по ремеслу, тем более что зима была уже не за горами и у наемников не было уверенности, что им заплатят. Оба войска повернули назад. Пьеро Медичи, страдавший от подагры больше обычного, быстро потерял контроль над своими сторонниками, Флоренция была отдана в руки судей и сборщиков налогов, которые вымещали злобу на людях из враждебного клана. Пьеро Медичи, промучившись еще год, умер в ночь со 2 на 3 декабря 1469 г. Его похоронили без особых почестей в фамильной усыпальнице, в ризнице базилики Сан-Лоренцо во Флоренции.
Был ли Лоренцо Великолепный идеальным «государем»?
После смерти Пьеро Подагрика власть перешла к его сыну Лоренцо по прозвищу Великолепный,[19] то есть «любитель роскоши». Он был очень молод, и все считали, что управлять государством должен самый уважаемый из нотаблей Томмазо Содерини. Но он происходил из небогатой семьи, которая не пользовалась влиянием во Флоренции, и к тому же хорошо знал Медичи. Содерини предпочел отказаться от роли правителя и объявил об этом в речи, содержание которой нам пересказал Макиавелли. Это была речь в духе древнеримской риторики; своей сдержанностью и чисто римским достоинством она напоминала лучшие речи Тита Ливия… Что до Лоренцо Великолепного, он рано проявил свой дар обращать любое дело в зрелище во славу себе самому. Знаток латинской словесности, танцор, хореограф, друг ученого и архитектора Альберти, композитор, автор canti carnascialeschi – песнопений, которыми сопровождались карнавальные процессии, – он являл чудеса изобретательности, придумывая колесницы для карнавала, на которых разыгрывались символические сцены, имевшие невероятный успех в эпоху Возрождения. Официальной идеологией во времена Лоренцо Великолепного была идеология счастья, из-за постоянных празднеств у народа не оставалось ни малейшего желания бунтовать. Чего нельзя сказать об аристократии, недовольной тем, что Медичи контролировали жеребьевки и выборы в основные Советы и Синьорию. Единственным выходом из тупиковой ситуации были заговор и убийство. Отсюда необходимость в использовании тактики запугивания в борьбе против оппозиции. Первым, в ряду прочих, было дело Прато. Этот город находился в подчинении у Медичи, однако два флорентийских изгнанника, братья Нарди, вознамерились прогнать подеста, навязанного Флоренцией. Горожане не поддержали заговор, и тогда Лоренцо направил в Прато войска, чтобы схватить зачинщиков заговора. Бернардо Нарди был обезглавлен, 35 смутьянов казнены. Следом, в 1471 г., было печально известное дело о рудниках Вольтерры (где шла добыча квасцов). Жители восстали против концессионера одной из шахт, связанного с кланом Медичи. В ответ Лоренцо отправил на усмирение Вольтерры войска под командованием знаменитого кондотьера Федерико да Монтефельтро. Он без труда взял город и отдал его солдатам на разграбление. Вольтерра была присоединена к флорентийскому контадо, а рудники, не приносившие дохода, заброшены…
Но самая великая смута поднялась в 1478 г. Против Медичи выступили члены старинного, богатого и влиятельного семейства Пацци. Они пользовались поддержкой папы Сикста IV, но из-за режима Медичи оказались отстранены от власти. Заговор Пацци против Джулиано и Лоренцо Медичи не раз привлекал внимание Макиавелли. Он пишет о нем в знаменитой главе VI из 3-й книги «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» (Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio), посвященной цареубийцам и озаглавленной «О заговорах». Это был крупный заговор: в нем участвовало больше 50 человек; и, что удивительно, по мнению Макиавелли, он вплоть до самого последнего дня держался в секрете. Макиавелли приводит подробный рассказ о ходе заговора, чтобы показать, к каким последствиям может привести изменение плана в процессе его осуществления:
Предполагалось убить Медичи на обеде, который они хотели дать кардиналу ди Сан-Джорджо. Все роли были уже розданы: было назначено, кому убивать, кому овладеть дворцом, кому объезжать город и призывать народ к свободе. Но в тот же день на торжественной службе в флорентийском кафедральном соборе, где присутствовали Пацци, Медичи и кардинал, заговорщики узнали, что Джулиано не будет на обеде. Тогда они тотчас решились выполнить свое намерение тут же в церкви. Эта перемена разрушила весь план. Джован баттиста да Монтесекко отказался совершить убийство в церкви. Пришлось искать новых исполнителей, которые, не привыкнув к мысли о предстоящем им деле, не успели окрепнуть духом и сделали свое дело так дурно, что предприятие кончилось гибелью заговорщиков.[20]
Джулиано был убит на следующий день в соборе Санта-Репарата: он упал, раненный кинжалом в грудь, «и тогда на него набросился Франческо Пацци, нанося ему удар за ударом, притом с такой силой, что в ослеплении сам себя довольно сильно поранил в ногу.[21]
Лоренцо удалось спастись, укрывшись в ризнице. Тогда горстка заговорщиков попыталась завладеть дворцом Синьории, но их быстро окружили. Некоторых, например Франческо и Якопо Пацци, убили на месте, а архиепископ Сальвьяти был повешен толпой. Народ носил их растерзанные тела, наколов на копья, по всему городу. Тело старого Якопо Пацци, наскоро похороненного соседями, вырыли из могилы и таскали по улицам, пока наконец не бросили в Арно. Дети выловили его, повесили, потом расчленили и лишь после этого снова бросили в реку.
Папа Сикст IV, оскорбившись тем, как флорентийцы обошлись с архиепископом, отлучил Лоренцо от церкви, и вскоре вспыхнула война, ставшая серьезной угрозой для Флоренции. Однако южным городам Италии стало угрожать турецкое войско визиря Османской империи, албанца по происхождению, Гедика Ахмед-паши. Перед лицом такой угрозы был образован священный союз итальянских городов, и это спасло положение. Несмотря на состоявшееся в 1480 г. примирение, еще долго продолжались вооруженные стычки или скрытое противостояние между Флоренцией и ее внешними врагами. Что касается внутренней политики, то урок, каким стал для Медичи заговор Пацци, был хорошо усвоен. Лоренцо еще больше укрепил свою власть (свой dominium eminens), создав очередной Совет, которыми так богата флорентийская политическая жизнь. Им стал Совет семидесяти, большинство в котором, естественно, принадлежало сторонникам Медичи. Он имел широкие полномочия, например право назначать магистратов. Но амбициозного Лоренцо, стремившегося расширить пределы государства, все же ожидал полный провал, когда он попытался собрать ополчение и для этого провести набор рекрутов в Тоскане, территория которой составляла 15 000 км. В конце концов ему пришлось вернуться к обычной практике той эпохи и создать наемную армию. Кондотьеры пользовались дурной славой: они были готовы в любую минуту переметнуться в стан врага, продаться тому, кто больше заплатит, и не спешили рисковать своей жизнью. Неудивительно, что результаты такой тактики были малоутешительными. Макиавелли и в данном случае выступает в качестве внимательного наблюдателя; его трактат «О военном искусстве», по сути своей настоящий памфлет, направленный против системы кондотты, в которой он видел причину расстройства армейских дел, являлся реакцией на царящую в них нерадивость. Флоренция была городом, где процветала торговля тканями, где жили гуманисты, поэты, ученые-аристократы, придворные, а не воины, и потому государство не могло рассчитывать исключительно на свои собственные силы. Об этом Макиавелли напишет в заключении к своему трактату:
Пока наши итальянские князья еще не испытали на себе ударов войны, нагрянувшей с севера, они считали, что правителю достаточно уметь написать ловко составленное послание или хитрый ответ, блистать остроумием в словах и речах, тонко подготовить обман, украшать себя драгоценностями и золотом, есть и спать в особенной роскоши, распутничать, обирать и угнетать подданных, изнывать в праздности, раздавать военные звания по своему произволу, пренебрегать всяким дельным советом и требовать, чтобы всякое слово князя встречалось как изречение оракула. Эти жалкие люди даже не замечали, что они уже готовы стать добычей первого, кто вздумает на них напасть.
Вот откуда пошло то, что мы видели в 1494 г., – весь этот безумный страх, внезапное бегство и непостижимые поражения…[22]
Что же до Лоренцо Великолепного, он, простолюдин, банкир и негоциант, долгие годы общался с государями – и был велик соблазн сравняться с ними. Потакая своему честолюбию, он вынашивал план строительства в самом центре Флоренции роскошного дворца. Проект был поручен Джулиано да Сангалло, но так и не был осуществлен. Все же Лоренцо Великолепный в глубине души оставался дельцом, и потому он ограничился крупной операцией с недвижимостью, более соответствовавшей его природным наклонностям. В результате появился целый квартал, где он продавал или сдавал мастерские и лавки. Его желанием было дать кварталу название Лоренциано, но оно не прижилось… Когда Лоренцо женился на Клариссе, происходившей из знатного римского рода Орсини, флорентийцы оскорбились: за кого принимает себя этот выскочка, если вопреки флорентийским традициям, точно князь, берет себе в жены иностранку? Лоренцо понял это и, снова проявив недюжинное чутье, выдал дочерей за местных аристократов из кланов Сальвьяти и Ридольфи, тем самым упрочив свои матримониальные связи. Макиавелли посвятил три последние книги «Истории Флоренции» периоду правления Лоренцо Великолепного. Повествуя о смерти этого «государя», он рисует в хвалебных тонах его образ: «Были к нему в высшей степени милостивы судьба и Господь Бог, ибо все его начинания давали счастливый исход, все же враги его кончили плохо. <…> Этот его образ жизни, его удачливость и мудрость были известны не только итальянским государям, но и далеко за пределами Италии, и у всех вызывали восхищение». Безусловно, Лоренцо, чьи личные воинские заслуги невелики, не был образцовым правителем. Макиавелли пишет, что в нем уживались две противоположные, несовместимые личности: «Видя, как он одновременно ведет жизнь и легкомысленную, и полную дел и забот, можно было подумать, что в нем самым немыслимым образом сочетаются две разные натуры». Политическая деятельность Лоренцо Великолепного (Макиавелли не придает большого значения экономическим факторам) дала ему множество антипримеров: в своих основных трактатах «Государь», «О военном искусстве», в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» он пишет о сбоях в политической системе, виновником которых был или сам Лоренцо Медичи, или военно-политический режим, сложившийся в Флорентийской республике времен Возрождения, который Медичи не пытался реформировать. Он умел внушать любовь или страх, ни у кого не вызывая презрения.[23] Лоренцо Великолепный не был военачальником, которого Макиавелли хотел видеть во главе Флорентийской республики, однако некоторые усматривают в его правлении черты «гражданского единовластия», которому посвящена глава IX «Государя».
Конец правления Медичи, или Период больших разочарований
После смерти Лоренцо к власти пришел его сын Пьеро Невезучий. Переход власти не вызвал осложнений: после многолетнего правления Лоренцо Великолепного в умах флорентийцев, казалось бы, утвердился монархический принцип верховной власти. Может быть, поэтому Пьеро Медичи быстро забыл, что Флоренция по-прежнему является республикой, и стал проводить антифранцузскую внешнюю политику, сблизившись с арагонцами, укрепившимися в Неаполе. Это было двойной ошибкой: Франция оставалась крупнейшей политической державой того времени, обладающей военной мощью и политическим влиянием, и флорентийцы испокон веков стремились поддерживать с ней добрые отношения. Ходили даже легенды – а легенды в ту эпоху имели большое влияние на общественное сознание, – объяснявшие эту вековую симпатию: Карл Великий лично восстановил город после его разорения варваром Тотилой. А совсем недавно Карл Анжуйский прислал свое войско, чтобы защитить Флоренцию от притязаний гибеллинов. Пополаны, зная, что французы будут отстаивать наследственное право герцогов Анжуйских на неаполитанскую корону и обязательно пройдут через владения Тосканы, требовали, чтобы их беспрепятственно пропустили, а Пьеро в это же самое время довольно бесцеремонно выпроваживал все французские посольства. Это сулило неминуемую войну – войну заранее проигранную в союзе с заведомо более слабыми арагонцами против сильнейшего противника, армия которого насчитывала 6000 пехотинцев, а тяжелая кавалерия – 1200 всадников, войну силами флорентийского гарнизона, более подходящего для парадов, и при открыто враждебном общественном мнении. Пьеро заколебался и, как всякий нерешительный политик, проиграл: он опрометчиво втянул свою страну в бессмысленное противостояние, опираясь на поддержку незначительной части населения. У него оставался только один выход – сдаться на милость победителя. Что он и сделал: выступил навстречу неприятелю, стоявшему в Сарцане, и принял все его условия, по которым Флоренция лишалась многих стратегически важных территорий, теряла Пизу, Ливорно, Пьетрасанту и выплачивала победителям «ссуду» в 200 000 дукатов. Не стоит и говорить, что, когда Пьеро вернулся во Флоренцию, его ожидала не слишком теплая встреча: ему был запрещен вход во дворец Синьории, точнее, он мог туда являться только в одиночку и безоружным. Он понял, что это означало, и в тот же час покинул Флоренцию вместе со своими братьями, будущим папой Львом X и будущим герцогом Немурским. 17 ноября 1494 г. Карл VIII с триумфом вступил в город. Он становился его покровителем и защитником свобод, а взамен Синьория взялась финансировать неаполитанскую кампанию, выплатив ему 120 000 дукатов. Пьеро Невезучий, отправившись в изгнание, обосновался в Венеции, где попытался весьма неудачно подготовить заговор, чтобы вернуться во Флоренцию. Не имея поддержки флорентийских кланов, в 1497 г. он все же предпринял попытку войти в город с шестьюстами всадниками и четырьмястами пешими воинами, но потерпел поражение из-за проливных дождей, которые задержали продвижение его отряда. Свои дни он закончил в 1503 г. во время знаменитой битвы в устье Гарильяно, где сражался на стороне французской армии. Перегруженное судно перевернулось, и он утонул.
Итальянские элиты того времени восприняли поход Карла VIII как набег варваров. Он вселил в них такой же веками неистребимый «великий ужас», как переход через Альпы армии Ганнибала вместе с боевыми слонами – в души римлян в 218 г. до н. э. Обитатели Рима, услышав шум приближающейся карфагенской армии, который они приняли за потоп, подумали, что настал их последний час: «Hannibal ad portas!» (лат. «Ганнибал у наших ворот!»). Но нынешнее положение итальянских государств было неизмеримо хуже: в 201 г. до н. э. римлянам удалось победить карфагенян, а в 1494 г. ничто не смогло остановить нашествие французов. Это поражение оставило глубокий след в умах поколений.
Парадоксальным последствием катастрофы было возникновение образа золотого века: время до нашествия рисовалось теперь итальянцам как потерянный рай, тоску по которому выразил историк Гвиччардини:
Бедствия итальянцев, едва они начались, так огорчили и напугали их оттого, что раньше дела их были веселее и счастливее. Определенно, с тех пор, как тысячу лет назад Римская империя, ослабленная из-за перемены в тогдашних нравах, утратила величие, которого она достигла благодаря редким добродетелям и фортуне, еще никогда Италия не знала такого процветания и таких завидных условий, как те, которыми она услаждалась, живя в покое и безмятежности в году 1490-м от Рождества Христова и в годы предшествовавшие ему и следующие за ним. Достигнув состояния высшего мира и покоя… она блистала великолепием своих государей, роскошью и благородным обликом своих неисчислимых красивых городов, крепостью и величием христианской веры; она благоденствовала под правлением умудренных в государственных делах людей и процветала стараньями благородных умов, самых прославленных и виртуозных, постигших все науки и искусства…
К нашему сожалению, «История Флоренции» Макиавелли заканчивается 1492 г., но он не раз писал в своих сочинениях о том потрясении, каким стал для Италии 1494 г. Прежде всего чтобы дискредитировать Карла VIII, которого не любил, но главным образом чтобы снова и снова обличать нерешительных политиков, приведших свои государства к гибели; писал, призывая к созданию армии с опорой на народ, способной сопротивляться такому сильному неприятелю, как французы. Во главе этой армии он видел истинного государственного мужа, «искупителя», способного объединить все силы Италии.
Республика Савонаролы
Когда молодым человеком Макиавелли поступил на службу (в Палаццо, как тогда говорили), то своим успехом он был обязан тому обстоятельству, что период влияния доминиканца, или, по выражению некоторых, «момент Савонаролы», подошел к концу. С 1492 г. монах-доминиканец из Феррары, брат Джироламо Савонарола, читал во Флоренции свои апокалиптические проповеди с политическим подтекстом, предрекая ей грядущие несчастья. И вторжение французов в 1494 г. было воспринято как исполнение его пророчеств, о чем Макиавелли пишет с досадой в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия»: «…всякий знает, что нашествие французского короля Карла VIII на Италию было предсказано братом Джироламо Савонаролой» (кн. I, гл. LVI). В четырех воскресных проповедях по книге Бытия, произнесенных в предрождественский период 1492 г., и в проповедях в пост 1494 г. он говорил о пришествии нового Кира, который подчинит себе Флоренцию и всю Италию.[24] Естественно, авторитет этого «проповедника отчаявшихся», как его называл Лоренцо Великолепный, сильно возрос после прихода французов. После бегства Пьеро Невезучего во Флоренции образовался политический вакуум, система государственного управления, сфальсифицированная Медичи в своих интересах, чтобы выборы и жеребьевки всегда оборачивались в их пользу, бездействовала. Не имея достойного выбора, флорентийцы стали следовать «советам» страстного проповедника, внушенным, как они полагали, Господом. По этому поводу Макиавелли, которого не трогали гневные излияния брата-доминиканца, с иронией писал:
Так, флорентийский народ не считает себя ни невежественным, ни грубым: однако брат Джироламо Савонарола убедил его в своих сношениях с Богом. Я не хочу разбирать, говорил он правду или нет, потому что о таком человеке до́лжно говорить не иначе, как с уважением; я говорю только, что этому поверили очень многие, хотя не видели никакого чуда, которое могло бы внушить им эту веру; для внушения веры им было достаточно его жизни, учения и предмета его речей.[25]
Савонароле было поручено вести переговоры с Карлом VIII об условиях его «вступления» в город. Он встретился с Карлом в Пизе, куда прибыл как minister Dei (лат. «служитель Божий»), и прекрасно справился со своей миссией. Он объяснил Карлу, что они оба призваны дополнять друг друга: король – бич Божий, посланный флорентийцам в наказание за их грехи и для их renovatio (лат. «обновления»), и монах, который станет орудием исправления грешников. Слова его возымели действие, Карл пощадил город и 28 ноября покинул его, что выглядело в глазах сторонников Савонаролы настоящим чудом. Теперь, когда руки у него были развязаны, тон пророчеств совершенно изменился. Раньше, находясь «в оппозиции», он бичевал богатых и поносил гуманистов, теперь же от беспросветного пессимизма он перешел к ослепительно-прекрасным видениям будущего, забыл про Апокалипсис и увлекся милленаризмом с местническим оттенком. Так, 30 ноября 1494 г. он объявил, что Флоренция, «Город Лилии», призван стать небесным Иерусалимом, с которого начнется возрождение христианства.[26] Говоря это, он не изобретал ничего нового, так как по местной традиции Флоренция считалась избранницей Божией, по другой же традиции ее называли наследницей Римской республики. Гениальность Савонаролы состояла в том, что на какой-то короткий момент ему удалось объединить два этих представления, тем самым придав городу исключительный характер.
Безусловно, Савонарола, будучи священником, если и пытался влиять на политику, то исключительно проповедью и своим церковным служением. Отсюда его гневные проповеди в церкви Сан-Марко и в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, а позднее, когда в 1495 г. папа запретил ему проповедовать, не менее страстные послания, в том числе обличительное «Письмо к другу» (Epistola a un amico), отражающее радикализацию его политического дискурса: в нем он заявляет, что те, кто противится правде, «не достойны жить на земле». Небесный Иерусалим нельзя построить за один день. Савонароле это было прекрасно известно, и потому в начале 1498 г., когда его звезда уже клонилась к закату, он открыто и четко изложил свои политические взгляды в «Трактате брата Джироламо из Феррары о том, как управлять и повелевать городом Флоренцией» (Trattato di frate Girolamo Savonarola circa il reggimento e il governo della città di Firenze). Сейчас, когда пробил час политики, писал он, нужно не мешкая закладывать основы новой Флоренции, и оплотом ее должны стать священники и, конечно, монахи, чья непорочная жизнь привлечет к городу Божью благодать, правительство, коему надлежит поддерживать связь между Богом и людьми устроительством религиозных шествий, и конфратерии, чей долг молиться о процветании города. И все это должно привести к единению всех и благоденствию каждого. Начало этого нового государства было положено в конце декабря 1494 г. принятием законов, целью которых была демократизация системы управления. По образцу венецианского совета был создан Большой совет народа и коммуны, состоявший из 3000 членов; он был наделен широкими полномочиями в вопросах избрания на государственные должности, подготовки и контроля за соблюдением законов и рассмотрения петиций… При поддержке своих сторонников-антипапистов, которых прозвали «плакальщиками» (ит. piagnoni) по аналогии с наемными плакальщиками, сопровождавшими похоронные процессии, а также потому, что они начинали рыдать от избытка чувств во время его страстных проповедей, он попытался произвести переворот в общественной морали, опираясь на тех, кого он считал менее порочными, то есть детей (своих fanciulli). Придерживаясь традиции доминиканцев, Савонарола верил в моральное превосходство детей, которые, пройдя через крещение, избавляются от природной склонности к греху. Он ставил их во главе процессий во время карнавальных шествий в 1496, 1497 и 1498 гг. и на Пальмовое воскресенье[27] в 1496 г., говоря: «Они изведают милости Флоренции и будут мудро ею править, потому что зло не коснется их, как их отцов, которые не могут отказаться от тиранического правления и постичь, сколь велика Благость свободы». Предложив идеальный синтез политики и морали, он призывал будущее поколение принести в государственные институты ту священную свободу, которую презрели отцы, поддавшись пагубной склонности. Следовательно, надо было все преобразовать, подчинить вере, и прежде всего карнавал, ту яркую витрину города, которую Медичи использовали для собственного прославления. И потому, по примеру апостола Павла, который в городе Эфесе сжег чародейские книги,[28] во время знаменитых capannucci, карнавалов 1497 и 1498 гг., по приказу Савонаролы на площади Синьории жгли музыкальные инструменты, игральные кости, шутовские наряды, карнавальные маски и «непристойные» книги. Все это собирали дети, обходя дом за домом. Савонарола хотел превратить языческий праздник, на котором традиционно устраивались потешные баталии со швырянием камней в противника (il far a sassi) и взималась дань с прохожих (stili), в христианский ритуал вхождения в Великий пост со сбором милостыни и дружескими хороводами. Дети в одеждах ангелов вместо маскарадных костюмов отправлялись «наставлять на путь истинный» богохульников, игроков и куртизанок… Однако не все шло гладко: compagnacci, молодые люди от восемнадцати до тридцати лет, устав от строгих правил богоугодной жизни, настойчиво отстаивали свое право радоваться жизни… Озлобленная молодежь не раз нападала на монастырь Сан-Марко во время проповедей Савонаролы, и, к слову сказать, именно во время такого нападения в ночь с 8 на 9 апреля он был арестован и посажен в тюрьму. А пока, хоть и осужденный на молчание после запрета на проповедь, наложенного Римом, он по-прежнему невозмутимо руководил политической и духовной жизнью города.
Так продолжалось до тех пор, пока во время неудавшейся попытки Пьеро Невезучего вернуться во Флоренцию он не совершил своей основной, по мнению Макиавелли, ошибки. Тогда Синьория, не имея убедительных доказательств, обвинила пятерых аристократов из клана Медичи в пособничестве заговору и приговорила их к смертной казни. Родственники приговоренных пытались оспорить приговор, но предводитель народа[29] Франческо Валори, подстрекаемый Савонаролой, отказался рассматривать апелляцию, несмотря на недавний закон, который был принят по настоянию самого Савонаролы:
Во Флоренции после 1494 года государственное устройство было преобразовано под влиянием брата Джироламо Савонаролы, сочинения которого доказывают его ученость, ум и добродетель. В числе постановлений, ограждавших гражданскую свободу, был установлен закон, дозволявший апеллировать к народу на приговоры, вынесенные Советом восьми и Синьорией за государственные преступления. Закон этот прошел с большими затруднениями и после долгой борьбы. Но едва он был утвержден, как Синьория приговорила к смерти пятерых граждан за государственные преступления, и, когда они хотели апеллировать, им не позволили этого, нарушив таким образом закон. Это обстоятельство больше всего повредило авторитету брата Джироламо, потому что, если право апелляции было полезно, его следовало уважать; если же оно было бесполезно, то его не стоило так упорно отстаивать. Кроме того, заметили, что во всех последующих проповедях своих он никогда не обвинял и не оправдывал нарушителей этого закона, не желая осуждать их поступок, потому что он был ему выгоден, и не имея возможности оправдать его. Это обнаружило все его честолюбие и пристрастие, повредило его репутации и подвергло порицанию.[30]
Это было серьезнейшей политической оплошностью: в глазах Макиавелли она дискредитировала все реформы государственного управления, инициированные фра Джироламо. Такая непоследовательность была непростительна, потому что обнаруживала «все его честолюбие и пристрастие». В письме к Гвиччардини от 17 мая 1521 г. Макиавелли назвал Савонаролу «ловкачом», а в изданной в 1506 г. первой части поэмы-хроники «Десятилетия» (Decennali) разоблачал «секту, которая подчинила себе город».
Макиавелли был абсолютно чужд этот «боговдохновенный» пророк, который, призывая к единению, очернял своих врагов; провозглашал повсюду: «Non far sangue!» (ит. «Не проливайте кровь!») и допустил казнь сторонников Медичи, не дав им оправдаться; проповедовал мир и согласие в народе и склонял детей к доносительству на своих родителей, обязывая сообщать об их недостойном поведении (участии в азартных играх, пристрастии к роскошным одеждам).
О другой ошибке фра Джироламо Макиавелли пишет в главе из «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» о зависти и завистниках, которые, соперничая с правителем «в славе и почестях», не могут «терпеливо переносить его превосходство» и, «чтобы удовлетворить преступные стремления своей души», «с удовольствием смотрели бы на гибель своего отчества»: Савонарола не понял, что существует лишь один радикальный способ подавить сопротивление тех, кто не желает нововведений:
Чтобы победить эту зависть, есть только одно средство: это смерть завистников. Если судьба так благоприятствует добродетельному человеку, что удаляет соперников его естественной смертью, то он может без сопротивления достигнуть верха славы, так как может беспрепятственно выказать всю свою добродетель, никого не оскорбляя. Но если он не имеет этого счастья, то ему нужно стараться освободиться от своих соперников какими бы то ни было средствами, и прежде, чем что-нибудь предпринять, он должен употребить все усилия, чтобы восторжествовать над этим препятствием.[31]
Монах Савонарола не сумел «как до́лжно» понять Библию и извлечь из нее правильный урок:
Каждый, понимающий как до́лжно Библию, увидит, что Моисей был принужден, чтобы упрочить свои законы и постановления, предать смерти множество людей, только из зависти противившихся его намерениям.
Джироламо Савонарола был убежден в этой необходимости; Пьеро Содерини, гонфалоньер Флоренции, тоже понимал это; но Савонарола не мог сделать этого, потому что у него не было должной власти, и те, кто мог бы это сделать, не понимали его. Он со своей стороны делал все, что мог, и проповеди его наполнены обвинениями и упреками мудрых мира сего, как он называл завистников и всех, кто противился его преобразованиям.
Содерини, со своей стороны, думал, что время, его собственная доброта, богатство его, которое он расточал всем, наконец заглушат эту зависть; он был во цвете лет – и почести, доставляемые ему постоянно его поведением, убедили его, что он без насилия и беспорядков возвысится над людьми, из зависти противившимися его намерениям; он не знал, что от времени ничего ожидать нельзя, что доброты недостаточно, что счастье часто изменяет и что злоба не удовлетворяется никакими дарами. Поэтому оба погибли, и единственной причиной их гибели было нежелание или невозможность победить зависть.[32]
Ни в одном из своих сочинений Макиавелли не высказывается ни по поводу религиозной морали, которую насаждал во Флоренции Савонарола, ни по поводу сфальсифицированного процесса, который привел его к гибели. Не оценивая содержание его реформ, он анализирует феномен Савонаролы в традиции гуманистов, сопоставляя примеры из древней и современной истории. Так, в трактате «Государь» (гл. VI) он пишет:
Моисей, Кир, Ромул и Тезей, будь они безоружны, не могли бы добиться длительного соблюдения данных ими законов. Как оно и случилось в наши дни с фра Джироламо Савонаролой: введенные им порядки рухнули, как только толпа перестала в них верить, у него же не было средств утвердить в вере тех, кто еще верил ему, и принудить к ней тех, кто уже не верил.[33]
Когда в июне – июле 1498 г. Макиавелли приступает к делам, пепелище от костра, на котором было сожжено тело казненного Савонаролы, едва остыло. Он был свидетелем падения Медичи и фра Джироламо и с этим политическим багажом начинал службу на одной из ключевых должностей в администрации с крайне запутанной системой. Проповеди на книгу пророка Аггея (Prediche sopra Aggeo), куда входит и уже упомянутый «Трактат брата Джироламо из Феррары о том, как управлять и повелевать городом Флоренцией», стимулировали политическую мысль и в условиях временного отстранения Медичи от власти положили начало размышлениям[34] об идеальном государственном устройстве (следует понимать – для Флоренции).
Флоренция без Медичи и Савонаролы
В 1498 г. система управления Флорентийской республики – ради сохранения свободы, основного смысла ее существования, – пополнилась рядом сложных по структуре институтов, в основе которых лежал хрупкий баланс сил и влияний различных советов и магистратов, избираемых на короткий период. Все это делалось ради того, чтобы оградить город от наибольшей опасности, которую представляла тирания. Механизм функционирования администрации был сложен, структура – жестко иерархической, но и открытой, что создавало большие возможности для молодого честолюбца.
На верхушке иерархии находилась Синьория; в нее входили девять приоров, в том числе по два от района (восемь «приоров свободы») и гонфалоньер справедливости, представлявший по очереди один из четырех районов. Он был главой Синьории и одновременно возглавлял армию. Семеро из членов Синьории представляли старшие цеха (Arti maggiori), двое – младшие цеха (Arti minori), в которые входили мелкие торговцы и ремесленники. Приоры избирались на два месяца, а решения принимались двумя третями голосов. Одновременно с этим главным государственным институтом существовали два других органа власти, также избираемые от районов. Один из них, Совет шестнадцати, состоял из гонфалоньеров («знаменосцев»), представлявших шестнадцать «гонфалонов» (по четыре от каждого района), и возглавлял городское ополчение. Гонфалоньеры избирались на четыре месяца. Вторым был Совет двенадцати старейшин (Dodici Buonomini). Оба совета были созданы в XIII в. и к концу XIV в. уже отчасти утратили свою дееспособность, хоть и сохранили престиж. Они принимали законы, подготовленные Синьорией, затем передавали их на одобрение Большому совету. Решая спорные вопросы, Синьория могла обратиться за помощью к «комиссии экспертов» (consulte e pratiche). Сохранились письменные предписания таких комиссий, которые чаще всего брались в расчет Синьорией. Они позволяют нам судить если не о состоянии общественного мнения в Флорентийской республике, то, по крайней мере, о роли влиятельных горожан в вопросах внешней политики, и дают возможность лучше понять некоторые оценки Макиавелли.[35]
В чрезвычайных обстоятельствах можно было даже прибегнуть к прямой демократии, созвав на площадь Синьории «парламент», то есть собрав на совет всех сограждан.
После 1494 г. все законы Флорентийской республики должны были утверждаться Большим советом, но при этом не допускалось никаких обсуждений или высказываний. Большой совет избирал членов исполнительных Советов. Собственно, во Флоренции не было должностных лиц, назначенных «исполнять» решения законодателей. Их заменяли различные Советы, которые создавались по мере необходимости, исходя из обстоятельств, колебаний общественного мнения и изменений социального состава населения. Так, одна из корпораций, достигнув солидного экономического положения, могла потребовать создания «Совета», который бы представлял в структурах власти ее интересы. При этом сохранялся традиционный принцип представительства семи старших и четырнадцати младших цехов.
Внешняя политика и воинское дело находились в ведении авторитетного Совета десяти, который называли бальей, или Советом мира и свободы (Dieci di Balia, Dieci di Libertà e Pace). Этот коллективный орган, основанный в 1384 г., пользовался особым уважением и обладал правом «говорить от лица коммуны» (per trattare in nome del Comune) в тех случаях, когда нужно было объявить войну, собрать наемную армию, отправить посольство и т. д. Кроме того, существовали две канцелярии, первая из которых, обладавшая большим влиянием, управляла внешнеполитическими делами, а вторая отвечала за связи с подчиненными Флоренции городами (dominio).
Совет восьми (Otto di Guardia) ведал юриспруденцией, а магистратура, состоящая из так называемых Ufficiali di Monte (чиновников, чье ведомство располагалось на Горе), распоряжалась финансами. Были еще низшие чины, которые занимались повседневными делами: управляющие приютами и тюрьмами, а также те, кто служил за пределами Флоренции на подчиненных территориях: например, флорентийские подеста в Ареццо и Пизе или капитаны-наместники в Кортоне и Ливорно.
Как правило, все магистраты исправляли свои должности очень недолго. Так, члены Синьории сменялись через два месяца. Исключение составляли те, кто направлялся за рубежи Флорентийской республики, они занимали свои посты в течение года. То, что со временем стало мерой борьбы против тирании, в первые годы республики было экономической необходимостью, способом выживания, поскольку магистраты не могли надолго отлучаться от своих дел. Жалованье получали только мелкие чины; деятельность магистратов, занимавших высшие посты, не оплачивалась, но эта служба была очень престижна и в дальнейшем способствовала процветанию их дела. Были также в ходу разного рода запреты (divieto): несколько членов одной семьи не могли исполнять должность одновременно и по истечении срока службы нельзя было повторно избираться в течение некоторого времени.
Оставался вопрос гражданства. Здесь критерии были очень размыты. Уплата налогов еще не гарантировала гражданских прав. Частичное освобождение от налога лишало права даже на низшие должности. Если кто-нибудь из предков занимал когда-либо государственный пост, то по закону от 1494 г. можно было претендовать на членство в Большом совете. Полноправными гражданами (statualie beneficiati) были те жители Флорентийской республики, чьи отцы или деды трижды избирались в высшие органы власти: Синьорию, Совет шестнадцати или Совет двенадцати старейшин – в этом случае они получали прямой доступ в Большой совет. Список флорентийцев, которые могли быть избраны в какой-либо Совет или магистратуру, постоянно менялся. Его составляли влиятельные чиновники, всесильные «аккопьятори» (копейщики), проверявшие, все ли соответствует правилам и соблюдены ли «запреты» (divieto); затем они раскладывали бумажки с именами сограждан по разным мешкам, и дальше происходила жеребьевка. Аккопьятори обладали огромной властью, так как процесс распределения имен по мешкам никем не контролировался. Медичи быстро поняли, какую выгоду можно из этого извлечь. Они привлекали на свою сторону «копейщиков», и тогда в мешках оказывались имена их сторонников. Медичи также поняли, какие возможности дает существование бесчисленных Советов, которые дробят общество на отдельные группы, преследующие свои мелкие сиюминутные интересы, что делало невозможным всеобщее сопротивление системе.
Создание под влиянием Савонаролы Большого совета по венецианскому образцу, когда к жеребьевке допускались все граждане, чьи предки занимали государственные посты, имело целью расширить социальную базу политической системы: каждый из 3000 членов имел реальную возможность быть избранным. В обязанности Большого совета входило утверждение законов и решений по налогам, однако в его работе постоянно наблюдались сбои. Хотя по замыслу своему он должен был соответствовать демократическим устремлениям граждан Флоренции, его деятельность с самого начала вызвала волну недовольства, и в результате кворум в 1000 голосов, необходимый для принятия решений, было трудно собрать. Очень быстро обнаружилось, что Большой совет разделился на две группы, преследующие если не противоположные, то абсолютно разные интересы: с одной стороны, негоцианты, торговцы международного размаха (maggiori), ведущие дела с Францией, Испанией, где у них была разветвленная сеть филиалов для сбыта дорогого сукна, с другой – мелкие ремесленники и торговцы (minori), чья сфера интересов ограничивалась городом или даже районом. Не говоря уже о тех, кто не вошел в это многолюдное собрание: они не понимали, почему доступ к «должностям» был им закрыт…
Политическая жизнь Флоренции протекала очень неспокойно из-за противостояния, порой очень жестокого, между факциями: в государстве существовало несколько подобных партий, под предлогом политических принципов преследовавших собственные цели. В их числе назовем влиятельных palleschi,[36] мощную опору клана Медичи и единственную организованную партию Флоренции. Многие партии носили клички, которыми их наделили противники. К ним относились «плакальщики» и «бешеные» (piagnoni и arrabbiati). Первые получили свое прозвище от названия наемных плакальщиков, сопровождавших похоронные процессии. Они причисляли себя к антипапистам и были сторонниками строгой нравственности. Их еще называли фратески (frateschi) за приверженность фра Джироламо Савонароле, управлявшему делами Флорентийской республики с 1494 по 1498 г. Кроме них, были компаньяччи (compagnacci, ит. «гуляки»); они также представляли пополанов и находились в оппозиции к аристократии, хоть и отличались меньшим радикализмом. Существует вполне правдоподобная, хотя и бездоказательная версия, по которой Макиавелли был одним из них… Им противостояли две партии аристократов: «бешеные», выступавшие против Медичи и яро защищавшие политико-экономические привилегии местного дворянства, и биги (bigi, ит. «нерешительные»), чье соглашательство вошло в легенду…
Как мы видим, пробиться в двадцать девять лет на государственную службу – и это в то время, когда многие коллеги были вдвое старше, – и получить престижную должность секретаря Второй канцелярии и Совета десяти (секретари имели доступ к секретам политической жизни Флоренции) означало грандиозный успех. Макиавелли получал возможность оценивать внешнюю политику Флоренции, если не влиять на нее. Вторая канцелярия, образованная в 1437 г., занималась перепиской по вопросам управления на подконтрольных Флоренции территориях. Это была хлопотная должность: Никколо становился de facto одним из шести заместителей первого секретаря и одновременно попадал в подчинение Совета десяти. Работа во Второй канцелярии предполагала важные посольства в другие страны. Его переизберут на эту же должность через два года, в 1500 г., потом, как и следовало по закону, через год, и так будет продолжаться до 12 января 1512 г.
Впрочем, заметим, что это было завидное, но не слишком почетное место.
3
Макиавелли-дипломат
В 1522 г., то есть за пять лет до смерти, тяжело переживая вынужденную отставку, но все еще надеясь вернуться к делам, Макиавелли написал докладную записку, или, точнее, вадемекум,[37] адресованный некоему Раффаэлло Джиролами, которому предстояло отправиться с первой в его карьере миссией в Испанию. В этом сочинении «не от самодовольства, а из симпатии» он делится со своим молодым коллегой знаниями о ремесле дипломата, то есть искусстве выведывать всевозможные сведения, чтобы добиться уважения в своей стране, и осторожно высказывать свои суждения, ссылаясь на «искушенных людей, которые служат при дворе…», чтобы избежать упреков в неподобающем oratore (ит. «посланнику») высокомерии.
Но до этого момента еще далеко. В 1498 г. Макиавелли – начинающий дипломат, состоящий на должности секретаря. Собственно, под именем «флорентийского секретаря» он и войдет в историю, и под этим именем будут изданы его сочинения. Он подчиняется одновременно Совету десяти и Синьории и руководит Второй канцелярией, за что получает жалованье в 128 золотых «больших, или широких» флоринов (fiorini larghi) – не путать с «малыми» («запечатанными») флоринами, которые стоили на треть меньше. «Малыми» флоринами расплачивались с двумя его помощниками… Впрочем, для нас важно лишь, что Макиавелли был поставлен под начало сразу двух важнейших властных структур Флорентийской республики и вместе со своим бывшим наставником Адриани, секретарем Первой канцелярии, занялся проведением и оформлением внешней политики,[38] которая диктовалась Синьорией и Советом десяти.
Пизанский узел
Вскоре обострился пизанский вопрос и, как заноза, не давал Флоренции покоя. Именно с ним связано крупное дело, в котором проявился талант Макиавелли. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, сохранившиеся в архивах Совета десяти и Второй канцелярии. Но важность этого дела состоит еще и в том, что конфликт с Пизой дал ему повод к написанию первого политического сочинения, «Рассуждения для Совета десяти о положении дел в Пизе» (Discorso fatto al magistrato de’ Dieci sopra le cose di Pisa). По мнению Макиавелли, чтобы овладеть Пизой, надо было или осадить город и взять его измором, или штурмовать, предварительно разрушив городские стены пушечными выстрелами, частично или полностью. Он склонялся к тому, чтобы обложить Пизу сорока– или пятидесятидневной осадой, а затем один или два раза обстрелять из пушек. Тогда можно будет выпустить максимальное число жителей – женщин, детей, стариков, – потому что, оставаясь в осажденном городе, каждый так или иначе может участвовать в обороне. После этого останется только с трех сторон ударить из пушек и взять город штурмом.
Пизанский вопрос, ставший темой первых размышлений Макиавелли об искусстве войны, был важнейшим для Флорентийской республики.
Нельзя не признать, что Пиза почти полностью утратила политическое значение, которым обладала в Средние века. Кладбище Кампо-Санто, кампанила (Пизанская башня) и Баптистерий были ярким свидетельством былой славы древнего города. В 1324 г. Пиза уступила Сардинию Арагонской короне, и с тех пор ее владения ограничивались собственно Пизанским контадо. Сумбурный XIV в. прошел под знаком беспощадной борьбы между факциями за власть в коммуне, и в результате в 1406 г. флорентийцы под командованием Джино Каппони захватили город (победе их способствовало предательство предводителя народа Джованни Гамбакорты, открывшего городские ворота). Для Флорентийской республики определяющим в экономическом плане было географическое положение Пизы: город стоял на реке По вблизи морского побережья. Долгое время Пиза оставалась главным портом Тосканы, пока эта роль не перешла к Ливорно, еще более удачно расположенному. Тем не менее Пиза оставалась богатым процветающим городом под защитой мощных оборонительных сооружений. Она открыто противостояла давлению своей могущественной соседки и использовала любую возможность, чтобы подорвать ее влияние. Такую возможность в ноябре 1494 г. ей предоставил Карл VIII своим появлением на Апеннинском полуострове. Пиза приняла французов с распростертыми объятиями и, пока французская армия стояла в городе, провозгласила независимость: Карл не возражал, не увидев в этом ничего предосудительного. Флоренция попыталась добиться от него возвращения Пизы под власть республики мирными дипломатическими средствами, но флорентийцы слишком затянули с решением и упустили время. 20 ноября Карл отбыл из Флоренции, получив займы под гарантии возвращения завоеванных территорий флорентийского контадо. Земли возвращены не были, Карлу пришлось отдавать долг, и пизанское дело отошло на второй план. Оставался единственный выход: война.
Однако все обстояло не так просто. Хотя Карл поддержал восстание пизанцев, во Флоренции существовала давняя традиция дружеских отношений с Францией: многие крупные флорентийские купцы, и не только Медичи (впрочем, обанкротившиеся в 1494 г.), вели дела и в Лионе, и в Париже, и в других французских городах. Профранцузская партия пользовалась большим влиянием. Савонарола открыто выступил на стороне Франции против папы Александра VI, и в 1497 г. разгневанный понтифик отлучил его от церкви. В 1495 г. Александр VI возглавил коалицию, официально объединившуюся для борьбы с Турцией, но на деле направленную против Франции. В истории она известна под названием Венецианской лиги. В нее вошли Папская область, Венецианская республика, герцогство Миланское, но также ее поддержала Священная Римская империя и Арагонская корона. Венецианская лига de facto напрямую угрожала Флоренции. В сложившейся ситуации руки флорентийской дипломатии были связаны, но смерть Карла VIII, последовавшая 7 апреля 1498 г., и казнь Савонаролы 23 мая того же года в корне изменили дело. Венецианская лига распалась 24 ноября 1497 г., и больше уже ничто не мешало итальянским городам-государствам направить свои посольства во Францию с предложением мира, тем более что новый король Людовик XII искал дружбы папы, так как желал аннулировать свой брак и жениться на вдове Карла VIII.
Оставался еще нерешенным пизанский вопрос, по поводу которого «великие державы» не могли прийти к согласию. Однако расстановка сил в корне изменилась. Папа, выступавший раньше против возвращения Пизы Флоренции, был готов дать свое согласие. Его поддерживал умный и коварный Лодовико Сфорца по прозвищу Моро, бывший кондотьер, который стал герцогом Миланским, отобрав власть у Висконти, правивших герцогством с 1277 г. Макиавелли знал в подробностях историю герцога Лодовико и не раз возвращался к ней в своих сочинениях… В ту пору Моро больше всего боялся, что Пиза перейдет к венецианцам, бывшим на тот момент его врагами и конечно же выступавшим против восстановления в Пизе власти Флоренции. На кого в этой ситуации могли опираться флорентийцы? Безусловно, ни на Геную и Сиену, вечных врагов Флорентийской республики, ни на граничащую с ней Лукку и Фаэнцу. Единственными надежными друзьями в этом случае были Бентивольо, с 1401 г. правившие Болоньей, и «львица Романьи», грозная графиня Имолы и Форли Катерина Сфорца (1463–1509), которая стала для Макиавелли образцом политика и человека.
Началась война; она шла с переменным успехом. Сначала флорентийцы потерпели поражение от пизанцев в битве при Сан-Реголо. Стало очевидно, что Флоренция, город торговцев и ремесленников, никогда не станет мощной военной державой. Стало быть, следовало обратиться к профессионалам. 1 июня 1499 г. был заключен договор со знаменитым кондотьером Паоло Вителли; также призвали на помощь армию Моро. Дело пошло на лад: Вителли отвоевал у пизанцев часть их территории с городками Бути, Викопизано, Либрафатта. Успехи флорентийской армии вызвали беспокойство у венецианцев, в рядах которых сражались двое членов клана Медичи, Пьеро и Джулиано… Фаэнца беспрепятственно пропустила их через свою территорию, в октябре они уже овладели крепостью Биббьена и угрожали непосредственно Флоренции. Срочно был вызван уже проверенный в боях Вителли, он на всю зиму запер несчастных венецианцев в крепости. В этих условиях лучшим выходом для всех был мир. При посредничестве герцога Феррарского мир был заключен, но условия не устроили никого: Флоренция получала часть пизанской территории, но при этом должна была выплатить Венеции сумму, которая казалась непомерной флорентийцам и смехотворно малой венецианцам, дорого заплатившим за эту войну.
Макиавелли и прекрасная правительница Форли
А как в это время обстояли дела у Макиавелли? Он был начинающим политиком, на что ему недвусмысленно указали, отправив улаживать пустяковое дело к некоему Якопо д’Аппиано, правителю Пьомбино, кондотьеру, который был нанят Флорентийской республикой и теперь требовал увеличения жалованья. Эта миссия длилась один день. Следующее поручение было серьезнее: 12 июля его направили с посольством к побочной племяннице Моро Катерине Сфорца Риарио. В ту пору она состояла уже в третьем браке; за своего третьего мужа, флорентийского посла в Форли Джованни ди Пьерфранческо Медичи она вышла тайно (от него она родила сына, знаменитого кондотьера Джованни далле Банде Нере). Оба первых мужа правительницы Форли были убиты (Джироламо Риарио в 1488 г., а Джакомо Фэо, секретарь ее первого мужа, в 1495 г.), но она смогла за них отомстить. В знаменитой главе «О заговорах» из «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия» (кн. III, гл. VI) Макиавелли повествует о том, как повела себя Катерина Сфорца после того, как 14 апреля 1488 г. Франческо д’Орсо убил ее мужа Джироламо Риарио.[39] Этот рассказ немало способствовал рождению легенды о ней:
В Форли заговорщики убили своего князя, графа Джироламо, и овладели его женой и малолетними детьми; для своего обеспечения им казалось необходимым овладеть цитаделью, но комендант не соглашался сдать ее. Тогда мадонна Катерина (так звали графиню) обещала заговорщикам приказать коменданту сдаться, если они отпустят ее в цитадель, в залог же она оставляла им детей. Положившись на это, они отпустили ее; но едва она вошла в крепость, как, войдя на стену, обратилась оттуда к ним с упреками и угрозами за убийство мужа; чтобы они не рассчитывали на детей ее, которые остались у них заложниками, она показала им свои детородные органы, сказав, что о детях не заботится, потому что может наделать новых. Заговорщики, не зная, что делать, и поздно увидав свою ошибку, искупили ее вечным изгнанием.
Восхищаясь Катериной Сфорца, Макиавелли все же трезво оценивает ее действия. В «Государе» (гл. XX) он упоминает ее имя, чтобы продемонстрировать, сколь призрачны надежды тех, кто, как Катерина Сфорца, рассчитывает на крепостные стены, пренебрегая «мнением народа»:
Поэтому лучшая из всех крепостей – не быть ненавистным народу: какие крепости ни строй, они не спасут, если ты ненавистен народу, ибо, когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужеземцы. В наши дни от крепостей никому не было пользы, кроме разве графини Форли после смерти ее супруга графа Джироламо; благодаря замку ей удалось укрыться от восставшего народа, дождаться помощи из Милана[40] и возвратиться к власти; время же было такое, что никто со стороны не мог оказать поддержку народу; но впоследствии и ей не помогли крепости, когда ее замок осадил Чезаре Борджа и враждебный ей народ примкнул к чужеземцам. Так что для нее было бы куда надежнее, и тогда и раньше, не возводить крепости, а постараться не возбудить ненависти народа.
Здесь явная отсылка к вспыхнувшему 15 декабря 1499 г. восстанию жителей Форли, которых прекрасная правительница душила налогами и в поддержку которым и выступил Чезаре Борджа… В трактате «О военном искусстве» (кн. VII) Макиавелли настроен уже менее критично, и вина графини в сдаче города уже не столь очевидна: «Скверно построенная крепость и бездарность коменданта погубили мужественную графиню, решившую сопротивляться войску, на борьбу с которым не отважились ни король Неаполя, ни герцог Милана». Доброе имя графини было спасено: «Усилия ее, правда, не имели успеха, но борьба принесла ей великую честь, вполне заслуженную ее доблестью. Свидетельством этому является множество стихотворений, сложенных тогда в ее похвалу». До нас не дошло других свидетельств о существовании этих стихотворных сочинений (кроме разве что баллады Марсилио Компаньона), но начало легенде было положено…
Как мы видим, Катерина Сфорца обладала сильным характером, о чем свидетельствует и ее портрет кисти Лоренцо ди Креди. В 1499 г. ей было тридцать шесть лет, она достигла расцвета своей красоты и была готова пустить в ход все средства для достижения собственных целей, а Макиавелли был неискушенным в делах новичком, и она, верно, подумала, что ей будет легко с ним справиться. Предмет торга напрямую не затрагивал ее интересов; речь шла о ее сыне кондотьере Оттавиано Риарио (кондотта была их семейным ремеслом). В прошлом году Флоренция выплатила ему за услуги 15 000 флорентийских золотых флоринов, что составляло непомерную сумму. В этом году республика снова собиралась нанять его, но «только» за 10 000 флоринов (официально Флоренция не находилась в состоянии войны). Кроме того, по договору он должен был явиться на службу с пятьюстами пехотинцами. Наем кондотьеров относился к внешнеполитическим делам и находился в ведении Совета десяти (Dieci di Balia), при котором Макиавелли и состоял секретарем. Миссия была трудной; главным в этом деле было не рассориться с матерью кондотьера, чьи владения с крепостями Форли и Имола занимали стратегическое положение у границ Тосканы, а сама правительница имела в те времена прочные связи по всей Италии. Ему также предстояло выполнить еще одну, весьма прозаичную, но при этом первостепенную задачу: закупить боеприпасы. Часть из них Макиавелли приобрел в десяти километрах от Форли, в форте Кастрокаро, но этого было недостаточно, и он рассчитывал докупить остальное в Форли. Прибыв туда 15 июля, он застал в крепости посланника миланского дядюшки Катерины Моро, Джованни Казале, человека скрытного и лицемерного, который приехал в поисках наемных солдат для герцога, обеспокоенного тем, что от него один за другим отворачиваются его старые союзники, и в их числе папа римский и… Флоренция. Был и еще один повод для беспокойства: с севера вновь угрожали французы, вот-вот должна была начаться вторая Итальянская война. Переговоры проходили трудно: за неделю пребывания Макиавелли имел четыре беседы с графиней, по результатам которых он отправил четыре письма от 17, 18, 23 и 24 июля 1499 г. Эти беседы (как явствует из первого письма) сопровождались строгим ритуалом: сначала официальная аудиенция, на которую графиня являлась в костюме регентши, затем переговоры с секретарем Антонио Балдраккани. На всех встречах непременно присутствовал, не произнося ни слова, Казале. Макиавелли охватило беспокойство: Казале, пользовавшийся большим доверием графини, не отпускал ее ни на шаг («он может склонить колеблющийся ум куда захочет»), а тем временем из крепости уходило с каждым днем все больше солдат… Катерина забрасывала молодого дипломата написанными в успокоительном тоне и очень противоречивыми посланиями. Наконец сошлись на 12 000 флоринов жалованья для юного Оттавиано.
Казалось бы, дело было улажено. Однако в момент подписания договора безжалостная правительница Форли потребовала добавить в документ дополнительное и трудновыполнимое условие: Флоренция должна была взять на себя обязательство прийти ей на помощь при нападении кого-нибудь из ее беспокойных соседей: Макиавелли был уполномочен дать только устные обещания, и ей это было известно. Он вспыхнул гневом, немедленно откланялся и покинул город. Во Флоренции его никто не упрекнул за случившееся – республика вела переговоры со своим старым и куда более мощным союзником, Францией. Что до миланского дядюшки, враждовавшего одновременно и с венецианцами, и с французами, и с флорентийцами… его положение становилось все менее завидным, а альянс с его племянницей – все менее привлекательным. Как бы то ни было, Макиавелли запомнил навсегда этот урок беспринципности и коварства, хотя и сохранил к правительнице Форли уважение, которое не уменьшилось с годами. Тем самым он продемонстрировал черту характера, которая проявится еще не раз, – способность, находясь на государственной должности и выполняя дипломатические поручения, сохранять редкую по тем временам независимость ума.
К его возвращению во Флоренцию накопилось много работы, о чем его предупреждали еще во время пребывания в Форли. Дела в Пизе совсем не ладились. Отряды Паоло Вителли встали лагерем под мощными пизанскими стенами. 6 августа они обстреляли укрепления из пушек, обрушили их «на сорок саженей» и захватили важную часть фортификационных сооружений – бастион Стампаче (неподалеку от существующих по сей день ворот Порта-а-Маре). В Пизе началась паника, поговаривали о сдаче, некоторые жители покидали город. К всеобщему изумлению, Вителли не воспользовался своим преимуществом и отвел войска от стен города! Флоренция недоумевала. Синьория завалила его депешами с призывом идти на город. Некоторые из них, судя по записям в реестре, исходили от Макиавелли, однако дело не двигалось с места. Вителли медлил, в лагере распространилась малярия; он сам заболел, а начавшиеся проливные дожди никак не улучшили ситуацию. Во Флоренции это вызывало раздражение: всю вину за разорительную провальную политику возлагали на Совет десяти. Осада Пизы не могла продолжаться вечно. Надо было принимать крайние меры. Решили, что тут не обошлось без предательства, тем более что недолгое время Вителли состоял на службе у Пизанской республики. Во дворце Синьории состоялся совет; Макиавелли, как известно из его писем,[41] принимал участие в обсуждениях. Было решено вызвать Вителли в маленький городок Кашину, откуда поступали указания в лагерь осаждавших. Кондотьера заключили под стражу за то, что он изменил тактику без ведома Синьории. Его схватили вместе с братом Вителоццо Вителли, которому удалось бежать. Потом его привезли в Палаццо-Веккьо,[42] где пытали целый день. Вителли так и не сознался в предательстве, но тем не менее был без суда и следствия тут же обезглавлен. Во Флоренции народ не любил проволочек и применял энергичные меры, и потому гонфалоньер Гуаскони удостоился похвал за то, что без промедления завершил это дело. Надо сказать, что Паоло Вителли был одним из самых популярных в Италии кондотьеров. Человек достойный, он происходил из семьи правителей Читта-ди-Кастелло, оба его брата, Камилло и Вителлоццо, также стали известными кондотьерами. Конечно, Паоло не был добрым самаритянином: пленив пятерых венецианцев, которые воевали на стороне Пизы, он велел отрубить им кисти рук, повесить на шею и в таком виде отправил в осажденный город. По сути, его казнь относилась к издержкам профессии: так, в 1431 г. в ходе войны Венецианской республики с Миланом Венеция после битвы при Кремоне, не задумываясь, казнила прославленного кондотьера Карманьолу за то, что он «промедлил» с вступлением в бой. Надо сказать, что Карманьола долгое время служил герцогам Миланским Висконти. Можно ли в этих двух случаях говорить о предательстве? Нам трудно об этом судить, ведь Макиавелли жил в обстановке общего недоверия к наемникам, готовым в любую минуту, не колеблясь, переметнуться в лагерь противника. Однако, рассуждая о конце Карманьолы, он называет только одну причину его казни: «Карманьола был известен им как доблестный полководец – под его началом они разбили миланского герцога, – но, видя, что он тянет время, а не воюет, они рассудили, что победы он не одержит, ибо к ней не стремится, уволить же они сами его не посмеют, ибо побоятся утратить то, что завоевали: вынужденные обезопасить себя каким-либо способом, они его умертвили» («Государь», гл. XII). Таким же образом он объясняет и казнь Вителли: «Если бы он взял Пизу, разве не очевидно, что флорентийцам бы от него не отделаться? Ибо, перейди он на службу к неприятелю, им пришлось бы сдаться; останься он у них, им пришлось бы ему подчиниться» («Государь», гл. XII). Иными словами, рассуждая логически, есть только одно решение: убийство… Во имя того, что мы назовем, прибегнув к анахронизму, государством, в данном случае во имя города-государства – политической модели того времени.
Флоренция втянута во вторую Итальянскую войну
К великому несчастью итальянцев, новый король Франции Людовик XII, который приходился внуком Валентине Висконти, вскоре после коронации возобновил «старые» фамильные претензии на Миланское герцогство, а позднее по праву наследника Анжуйской династии и на неаполитанскую корону.
На этот раз король основательно подготовился к походу, заручившись поддержкой наиболее влиятельных итальянских государств. Для начала он привлек на свою сторону приобретающий все больший политический вес клан Борджа, глава которого взошел на папский престол под именем Александра VI. Союз с папой был необходим Людовику XII, чтобы добиться разрешения на развод с Жанной Французской и жениться на вдове своего предшественника Карла VIII Анне Бретонской. Сын папы, Чезаре Борджа, лично доставил в Шиньон папскую буллу, аннулирующую этот брак. Тем самым папа оказал Людовику XII огромную услугу (речь шла о контроле над Бретанью), и король немедленно отблагодарил папского посланца, даровав ему титул герцога Валентино и дав в жены Шарлотту д’Альбре, сестру короля Наварры Жана III, прадеда Генриха IV. Вдобавок Чезаре Борджа получил графства Валанс, Диуа и владение Исудён.
Вторым могущественным союзником французского короля была Венеция. По договору, подписанному 2 февраля 1499 г. в Блуа, Людовик XII уступал венецианцам богатую Кремонскую область при условии, что они примут участие в походе французской армии. Миланский герцог Лодовико Моро, оставшись в изоляции, был неспособен оказать сопротивление французам, которыми командовал миланский дворянин, кондотьер Джан Джакомо Тривульцио. Он перешел на сторону Франции еще во время первой Итальянской войны. Уже летом 1499 г. Тривульцио, не встречая сопротивления, быстро овладел Генуей и Миланом. Людовик торжествовал: он вступил триумфатором в оба города и не медля ни минуты уехал, поручив их заботам Тривульцио.
Вскоре французы оставили Милан, намереваясь выполнить второе обязательство перед папой: отвоевать для Чезаре Борджа владения в Романье. Для этого надо было низложить Катерину Сфорца, правительницу Форли и Имолы. Она была прекрасно осведомлена о планах Борджа и заранее сосредоточила в своих городах большие людские силы, пушки и боеприпасы, что следовало сделать еще и потому, что папской буллой от 9 марта 1499 г. она лишалась прав на распоряжение своими владениями. После этого стало ясно, что в планы семейства Борджа входил и захват ее земель. Видя это, Катерина укрепила оборонительные сооружения, прежде всего фортификации Рокка-ди-Равальдина в Форли, где находилась ее резиденция. Не теряя своей обычной предусмотрительности, она уже в 1496 г. приказала возвести третий равелин и цитадель и для строительства этих укреплений разрушить городскую ратушу (Палаццо-Комунале).
24 ноября Борджа уже стоял под стенами Имолы: он готовился к классической осаде, но кто-то из жителей открыл ворота, и город был взят. Тогда Катерина немедля обратилась к жителям Форли и предложила им самим выбрать между капитуляцией и осадой. Не получив ясного ответа, она покинула город и укрылась в цитадели. Борджа предложил ей сдаться, она ответила отказом, тогда он посулил за ее голову 10 000 дукатов, но сам чуть было не попал в плен, когда слишком близко подошел к цитадели. Мощная французская артиллерия шесть дней и ночей осыпала пушечными ядрами цитадель и в конце концов пробила две бреши. Катерине ничего не оставалось, как сложить оружие, но из осторожности она отдалась на милость дижонского бальи Антуана Биссе.
Во Флоренции все Советы во главе с Синьорией полагали, что пизанский узел неизбежно будет развязан с приходом французов. Но народ по-иному воспринимал происходящее и обвинял во всех бедах Совет десяти, ведавший иностранными делами, где состоял на службе «флорентийский секретарь». Пиза и другие территории, утраченные Флоренцией, перешли под власть или под защиту «могущественных неприятелей» (в случае с Пизой венецианцев), «…и потому война не принесла флорентийцам ничего, кроме огромных издержек, которые послужили поводом к крайнему обременению народа; это обременение возбудило сильные смуты. Так как военными действиями заведовали десять граждан, называвшиеся Коллегией [Советом] десяти по ведению войны, то против них возникло подозрение; народ счел их единственными виновниками войны и сопряженных с ней расходов; народ думал, что, отменив Коллегию десяти, он уничтожит причину войны; вследствие этого, когда наступил срок выборов в эти должности, Коллегию не избрали и предоставили отнятую от них власть Синьории».[43]
Дело было чрезвычайной важности. Флорентийское общество раскололось: по одну сторону были ремесленники, «тощий народ» (popolo minuto), заинтересованный главным образом в процветании местного рынка, по другую – местная аристократия, чье благосостояние зависело от экспорта, поэтому контроль над пизанским портом был для нее вопросом первостепенной важности. Средний класс отказался финансировать внешнюю политику, которую не одобрял. Совет десяти, в ведении которого находились вопросы войны и мира, состоял в своем большинстве из аристократов, обладавших весом и влиянием, необходимыми для исполнения сложных дипломатических миссий. В народе ходили нелепые слухи, будто аристократы собираются нанять кондотьера для установления тирании, и война с Пизой нужна только затем, чтобы держать наготове боеспособную армию, которая может пригодиться в любых обстоятельствах. Макиавелли выразил с предельной ясностью свое отношение к происходящему: «Мера эта оказалась очень вредной: вместо того чтобы прекратить войну, как все надеялись, она только устранила от дел опытных людей, благоразумно управлявших военными действиями; по удалении их произошли такие беспорядки, что республика, кроме Пизы, лишилась Ареццо и других городов. Тогда народ увидел свою ошибку и, поняв, что причина зла не врач, а болезнь, восстановил Коллегию десяти».[44] Политический кризис завершился только 18 сентября 1500 г. после принятия компромиссного закона: Совет десяти был восстановлен, но терял право самостоятельно нанимать кондотьеров и вести по своему усмотрению переговоры с иностранными государствами.
Флоренция во власти наемников
Тем временем Лодовико Сфорца, который бежал из страны и укрывался у своего племянника императора Максимилиана, 5 февраля 1500 г. вернулся в Италию и без единого выстрела овладел Миланом. Оскорбленный Людовик XII немедленно отправил в Милан своих преданных сторонников: Луи II де ла Тремуя, виконта Туара, и солдата, дипломата и архиепископа Жоржа д’Амбуаза. Победа была скорой благодаря предательству швейцарских наемников, которым Лодовико Моро имел неосторожность не заплатить. Они перешли на сторону французов и выдали им Моро.
Степень участия Макиавелли в этой запутанной истории определить нелегко. Его пост не предполагал большой ответственности, он был скорее проводником политики Совета десяти и Синьории. Его письма отражали позицию республики, а не его личное мнение. Только последующие размышления в работах 1512–1513 гг. позволяют судить о его роли в тех непростых событиях и еще в большей мере об извлеченных из них уроках. Однако нам известно, что в этот период он занимался делами, связанными с Пизой, в которой Флорентийская республика была прямо заинтересована. Политика республики в этом вопросе была крайне непоследовательной, и документы, которые выходили из-под пера секретаря Совета десяти, свидетельствуют о разброде и шатаниях в стане флорентийской дипломатии в условиях беспорядочной смены событий. После прихода французов флорентийцы бросили на произвол судьбы Лодовико Моро, оказавшегося в полной изоляции и в угрожающем положении. Синьория заключила с победителями несколько договоров, немного обременительных в финансовом, но выгодных в военном отношении. Французы соглашались захватить Пизу, но при этом выдвигали два условия: флорентийцы должны были финансировать их поход (французам, как пишет Макиавелли, было обещано за службу 50 000 дукатов) и состояться он мог только после того, как французская армия отвоюет для Чезаре Борджа земли Катерины Сфорца (такова была цена союза с папой римским). Заметим мимоходом, что очередное предательство, на этот раз по отношению к владетельнице Форли, верной союзнице флорентийцев, стало для нее еще одним смертельным оскорблением. Но все это делалось ради великой цели – взятия Пизы… Тем временем выяснилось, что война требует от французов больших затрат, и потому, стремясь из всего извлечь выгоду, они потребовали у флорентийцев деньги, которые им одолжил Моро… Макиавелли было приказано ехать в Милан улаживать это деликатное дело. Письмо от 27 января 1500 г., адресованное Тривульцио, извещало о его приезде. У нас есть сведения, что верительные грамоты для него были готовы 5 февраля. Но в этот день стало известно, что Моро подходит к Милану во главе швейцарских и немецких войск. Ничего не оставалось, как только ждать. Флорентийцы так и сделали. Ждать пришлось недолго: вскоре пришло известие о том, что Моро потерпел поражение и взят в плен (он умер в заключении в замке Лош 25 мая 1508 г.).
Дальше все шло своим чередом: на флорентийцев, как и было условлено, было возложено финансирование похода на Пизу «французской» армии, а точнее, отрядов, состоящих из гасконцев и швейцарских наемников. Флоренция ожидала скоротечной кампании, так как лучшая по тем временам армия не могла надолго задержаться под стенами второстепенного по значению города, чьи укрепления сильно пострадали во время предыдущих войн… В начале июня так называемые «французы» выступили из Пьяченцы, где они квартировали, но по дороге задержались вблизи Болоньи, во владениях Бентивольо, еще одного союзника Флоренции, и наделали много бед своим лихоимством. Под командованием Жана де Бомона, «человека, к которому флорентийцы имели большое доверие, даром что он был француз»,[45] – писал Макиавелли, – они заняли позиции у стен Пизы, а перед тем некоторое время стояли на постое в Луниджане, на границе Тосканы. Как только они подошли к Пизе, Флорентийская республика спешно послала к ним своих «комиссаров», почтенных Луку Антонио Альбицци и Джованбаттисту Ридольфи, в сопровождении секретаря Макиавелли. Секретарь оказался очень расторопным: он сочинял и направлял письма одновременно от Совета десяти комиссарам и их донесения Совету, о чем свидетельствуют сохранившиеся архивные материалы…
Тем временем пизанцы, испугавшись грозной по всем признакам армии, решили, что им ничего другого не остается, как сдаться. Пиза направила в лагерь неприятеля своих эмиссаров, чтобы договориться с Жаном де Бомоном и флорентийцами о приемлемых условиях сдачи: пизанцы были готовы сложить оружие при условии, что сдача города будет отложена на четыре месяца, потом соглашались и на месяц… Но флорентийцы, к большому огорчению Макиавелли, им в этом отказали и променяли орла на кукушку: «Флорентийцы отвергли это предложение, так что началась борьба, окончившаяся для них позором» («Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», кн. II, гл. XXXVIII). Дело действительно очень быстро обернулось позором: 30 июня возобновилась пушечная стрельба, в стенах были проделаны бреши, но гасконцы и швейцарцы, больше проявлявшие свою удаль в выколачивании денег, чем в боевых действиях, не захотели рисковать, на штурм не пошли и стояли у разбитых стен города.
Но с наихудшими испытаниями флорентийцы столкнулись в своем собственном лагере. По свидетельству Макиавелли, который мог наблюдать за их конфликтом, между комиссарами не было согласия:
Джован Баттиста пользовался большой известностью и имел большую опытность в делах, и потому Лука предоставил ему все управление. Не выказывая открыто своего честолюбия сопротивлением своему товарищу, он выражал его молчанием, беспечностью и отвращением к занятию делами, так что он не только не управлял военными действиями ни советами, ни делами, но казался даже человеком совершенно неспособным. Но вскоре он доказал противное; Джован Баттиста принужден был по одному случаю[46] возвратиться во Флоренцию, и Лука, оставшись один управлять делами, своим мужеством, искусством и советами выказал себя человеком чрезвычайно способным…[47]
Ридольфи действительно уехал из лагеря и вернулся во Флоренцию, устав от вечных пререканий с наемниками. В флорентийском лагере события вскоре обернулись фарсом. Гасконцы, недовольные жалованьем, так и не сторговавшись с флорентийцами, бросили лагерь. В довершение всего взбунтовались швейцарцы и взяли в заложники самого Альбицци. Макиавелли принял мужественное решение разделить участь Альбицци, но тот отказался, сказав, что будет полезнее, если Макиавелли предупредит о случившемся флорентийцев. Усердный секретарь, не медля, послал курьера с донесением Совету десяти. А несчастный Альбицци вынужден был заплатить за себя баснословный выкуп в 1300 дукатов, после чего швейцарцы согласились уйти. Для флорентийцев такой исход дела был полной катастрофой: после ухода наемников французская армия де Бомона de facto потерпела в битве за Пизу поражение, что стало серьезной военной неудачей Людовика XII, а для Флоренции означало, что пизанский узел завязался еще туже.
О положении дел во Франции (I)
В начале апреля 1500 г. Синьория получила от Людовика XII гневное послание, в котором король требовал у флорентийцев объяснений по поводу произошедшего, в частности их отказа платить швейцарцам положенное жалованье вопреки договоренностям (Capitoli), подписанным в Милане Францией и Пьеро Содерини от имени Флоренции. Синьория должна была спешно направить посольство к французскому двору, чтобы предложить свою как можно более точную версию событий и попытаться спасти пошатнувшуюся репутацию республики… Кроме того, Франция перестала быть далекой державой по ту сторону Альп, поскольку Людовик XII оставил в Милане наместником влиятельного Шарля д’Амбуаза, сеньора де Шомона, близкого друга Леонардо да Винчи, который много работал по его заказу. Но что важнее, он был испытанный воин, беззаветно преданный французской короне: в 1509 г. он принес французам победу в битве при Аньяделло и закончил свою недолгую карьеру (он умер в тридцать восемь лет) вице-королем Ломбардии. Этот человек на ветер слов не бросал, его невозможно было склонить на свою сторону, как мелких итальянских князьков. И к тому же от Флоренции до Милана было всего 80 лье (350 километров).
Для этой миссии Синьория выбрала Макиавелли, который воочию наблюдал осаду Пизы и досконально знал вопрос, но был при этом начинающим дипломатом и не имел опыта переговоров с крупнейшими державами своего времени. И потому миссию возглавил его соратник, аристократ Франческо делла Каза, тоже знавший изнутри все перипетии дела. В целом создается явное впечатление, что Флоренция не случайно отправляла в составе своих посольств двух человек: один из них, лицо влиятельное, «высокородное», назначался ради своего аристократического имени, а основная работа поручалась исполнителю, мелкому чиновнику, который в случае неблагоприятного исхода и отвечал за провал миссии. Но для Макиавелли это поручение означало участие в первом настоящем посольстве, хоть и без титула посла и за вознаграждение намного меньшее, чем у его сановного товарища. Эта миссия сама по себе была сопряжена с известными трудностями: не стоит забывать, что после первого французского нашествия по стране ходили ядовитые пасквили, представляющие французов варварами, которые вероломно вторглись в цивилизованную Италию, а вершиной цивилизации, естественно, была прекрасная и миролюбивая Флоренция… И теперь приходилось идти к этим варварам на поклон и просить о союзе и поддержке. Причем Макиавелли, лишь изредка выезжавший за пределы родной Тосканы, ничего о них не знал. И к тому же ему предстояло впервые столкнуться с механизмом действия единого национального государства, где правил единовластный господин, в то время как раньше он имел дело исключительно с городами-государствами под властью правителей-однодневок. Собственно, у Флоренции уже было два посла при французском дворе – Франческо Гуальтеротти и Лоренцо Ленци. Первый из них, фигура значительная, без малейших усилий перешел в 1498 г. от умеренной поддержки Савонаролы к бурному приятию республики. Он являлся членом многочисленных Советов: Совета восьми (по внутренним делам), в 1497 г. – Совета двенадцати (по иностранным делам) и, наконец, в 1498 г. заседал в Совете восьмидесяти. Однако известен он был главным образом как выдающийся дипломат. В 1495–1497 гг. Гуальтеротти состоял постоянным послом в Милане, а в 1498 г. вел с папой переговоры о смене союзников Флорентийской республики. 12 сентября 1499 г. именно он был вместе с Ленци послан к Людовику XII поздравить его с блестящим завершением похода на герцогство Неаполитанское… Иными словами, Флоренция уже имела солидное представительство при французском дворе. Посольство Франческо делла Казы и Макиавелли, которое отчасти дублировало функции постоянных представителей, было при этом вполне полноценным посольством (что явствует из беседы, состоявшейся 18 июля), хотя и тот и другой официально имели лишь статус «легатов», то есть послов с особой миссией. У обоих были четкие детальные указания от начальника Макиавелли Адриани.
Чтобы не допустить новых обвинений Флоренции в конфликтах, которые сопутствовали осаде Пизы, им следовало выехать без промедления и ехать, как говорилось в предписании, без задержек, в случае необходимости нанимая по дороге лошадей… Делла Каза и Макиавелли отправились в дорогу 18 июня, но вскоре сделали остановку в Болонье: Синьория поручила им встретиться, дабы восстановить ослабшие связи, с Бентивольо, который явно злорадствовал по поводу недавних событий. За Болоньей последовали в целом спокойные Парма и Пьяченца, чье миролюбие, однако, нарушалось присутствием тысячи швейцарских наемников, враждебно настроенных по отношению к Флоренции. Посланники надолго не задержались в этих местах и направились в Лион, где предположительно находился французский двор.
В ту пору двор короля Франции напоминал кочующий караван; он перебирался из одного города в другой, чтобы познакомить подданных с Людовиком XII и добиться признания его власти. Этот старинный обычай возродил во время оно Карл Великий. Так, Екатерина Медичи в 1564–1566 гг. проделала путь в 4000 километров, чтобы «представить» стране Карла IX. Фактически двор только в 1682 г. осел в Версале. Во времена Макиавелли он разъезжал по коммунам и жил за их счет. И всякий раз, когда король посещал своих верноподданных, городские старшины готовили ему торжественный «въезд» в город: сооружалась временная триумфальная арка, украшенная цветами и латинскими надписями во славу короля и королевства. «Не везде церемония встречи была одинаково пышной, – пишет Жан-Франсуа Сольнон, – но повсюду она следовала строгому ритуалу. Основными этапами были: вручение подарков, принесение клятвы верности, процессии, благодарственный молебен в главной церкви города, затем пир и различные увеселения. Век диктовал свои законы, он привнес моду на триумфальные шествия в духе Древнего Рима и весь репертуар связанных с ними мифологем». Ритуал королевских въездов сформировался как особый жанр со своей эстетикой, со своими канонами и законами и стал одной из форм искусства эпохи Возрождения. Но была и обратная сторона медали: не все города, где останавливался король, были готовы принять столь почетного гостя, и существует множество донесений тех лет, в которых говорится о трудностях обустройства двора, что было обременительно, к тому же в отсутствие государя королевские резиденции пустовали. Словом, в лето 1500 г. двор следовал за королем, а послы следовали за двором или, как Макиавелли, ехали ему вослед…
В Лионе, куда Макиавелли и Франческо делла Каза прибыли на наемных лошадях, им предстояло встретиться с Ленци и Гуальтеротти, которые должны были познакомить их с местными обычаями. Ленци, как и предполагалось, сообщил им массу ценных сведений о французском дворе, его устройстве и людях, с которыми следует сойтись, чтобы приблизиться к королю. Гуальтеротти к тому времени уже уехал из Лиона и оттого ничем не мог им помочь. Он поспешил во Флоренцию, чтобы объявить Синьории, что французский король потерял всякий интерес к делам Флорентийской республики… У новоиспеченных «послов» не все шло гладко: в Лионе усталым, запыленным, неприглядного вида путникам пришлось купить новую одежду, чтобы появиться при дворе, лошадей и нанять нескольких слуг. Все это на 80 флоринов, которыми их щедро наделили при отъезде, но которые уже были почти истрачены. Пришлось платить из собственного кармана и постараться за малую цену приобрести в городе Лионе необходимую экипировку, о чем они не без сарказма напишут в письме от 9 августа:
Когда мы прибыли в Лион, полагая, что найдем здесь короля, который к тому времени уже уехал из города, мы оказались лишены всего необходимого и потому принуждены были издержать немало за два дня на покупку лошадей, которых смогли отыскать, на новое платье и слуг; и, не имея облегчения оттого, что можно присоединиться к обществу ваших послов, мы последовали за двором. Ныне мы следуем за ним, тратя в два раза больше супротив того, что было бы, если бы двор оставался в Лионе. Мы выгадали бы больше, если бы были в обществе послов, потому как теперь мы держим на два слуги больше. Мы не селимся на постоялых дворах, а только в домах, где есть кухня, другие вещи и провизия, которую мы принуждены готовить сами. Не говоря уже о непомерных издержках на фуражиров, привратников и курьеров!
Иными словами, Макиавелли и делла Каза остались senza un soldo (ит. «без гроша»), да к тому же им было отказано в кредите…
Было совсем не просто догнать двор, потому что в тех краях свирепствовала чума и королевскому каравану приходилось объезжать стороной охваченные эпидемией города.
Тем не менее Макиавелли и делла Каза пустились вдогонку за королем и через несколько дней нагнали его: известно, что уже 5 августа они оба были в Сен-Пьер-ле-Мутье и собирались ехать в Невер, где ненадолго остановился монарх. По прибытии в Сен-Пьер-ле-Мутье они немедленно сообщили радостную весть Синьории, а Макиавелли приложил к официальному донесению приватное письмо, в котором он решительно и даже с угрозой требовал такого же жалованья, как и у его сослуживца: «Если издержки на мое содержание кажутся вам непомерными (я же полагаю, что стою, как и Франческо, тех денег, что уходят на меня), если вы считаете истраченными понапрасну 20 дукатов, которые даете мне ежемесячно, то я просил бы ваши милости отозвать меня». На следующий день они приехали в Невер и предстали перед всемогущим Жоржем д’Амбуазом, кардиналом Руанским, доверенным лицом короля, исполнявшим при нем роль премьер-министра. Макиавелли уже имел случай столкнуться с искушенным дипломатом в лице Катерины Сфорца, но на этот раз противник оказался личностью иного масштаба и иной закалки. Он был первым дипломатом первой державы того времени: в 1498 г. именно он добился расторжения брака Людовика XII с Жанной Валуа. 9 февраля 1499 г. в Блуа он подписал союзный договор с Венецией и показал себя способным военачальником при захвате Миланского герцогства, править которым поставил своего племянника. Именно он был рядом с Людовиком XII во время триумфального въезда короля в Милан 6 октября 1499 г. И он же, будучи королевским наместником, снова занял Милан, после того как Моро ненадолго восстановил там свою власть. Да к тому же он был кардиналом… Так благодаря знакомству с этой незаурядной личностью Макиавелли было суждено войти в мир большой европейской дипломатии.
Ему был оказан любезный прием: кардинал встретил его с подобающим почтением к его чину посла и самолично сопроводил к королю. Воспользовавшись этим, Макиавелли изложил кардиналу точку зрения Флоренции на недавние события. При беседе с королем кроме кардинала присутствовали Тривульцио и очень опасный противник Флоримон Роберте, бывший «министр финансов» Карла VIII, советник, не знающий себе равных, полиглот (он знал немецкий, испанский и итальянский языки), знаток в международных делах. Присутствующие, вежливо кивая, выслушали Макиавелли, затем сам король ответил ясно и недвусмысленно: гасконцы вели себя неподобающе и будут наказаны, но это дело касается интересов Флоренции, а французы только помогали ей по собственной ее просьбе, и потому все расходы, связанные с кампанией, она должна нести сама, о чем между ними в Милане и был заключен договор (Capitoli). Конечно, Макиавелли надеялся на совсем другой ответ… Он попытался переубедить короля: Французское королевство, богатое и процветающее, могло бы оплатить прошлые расходы и даже сделать еще один шаг навстречу Флоренции – окончательно овладеть Пизой… Тогда можно будет обо всем договориться, а уж за Флоренцией дело не станет, она, слово чести, оплатит все издержки похода! Но король ответил отказом: предварительным условием был возврат прошлых долгов и выплата жалованья швейцарцам. На этом переговоры закончились, и король назначил флорентийцам встречу в Монтаржи, куда двор должен был переехать через три дня: там, выразил надежду монарх, флорентийцы, может быть, будут сговорчивее… Но перемена обстановки не повлияла на ход дела, оба лагеря стояли на своих позициях; ни кардинал Руанский («Роано», как его называет в письмах Макиавелли), ни король не могли понять, почему после ухода швейцарцев и гасконцев Флорентийская республика не посчитала своим долгом завершить взятие Пизы. И наконец, почему она (вечный вопрос) не хочет выплатить жалованье несчастным швейцарцам? На эти вопросы не было ответа, и наши герои, ограниченные своим мандатом, могли только слать донесения Синьории в ожидании новых указаний, надеясь получить более широкие полномочия и приступить к полноценным переговорам.
А пока надо было следовать за двором… Положение Макиавелли, не имевшего личного состояния, было отчаянным, о чем можно судить по сохранившимся прошениям, которые он адресует Синьории. Он снова вынужден оплачивать расходы из своего кармана: «Я уже истратил из собственных средств 40 дукатов, – пишет он, – и поручил своему брату Тотто занять еще 60». Однако в этой ситуации были и свои положительные стороны; французский двор постепенно раскрывал ему свои тайны: «Двор его величества [Людовика XII] не велик по сравнению со двором его предшественника [Карла VIII] и на треть состоит из итальянцев». К великому удивлению Макиавелли, здесь можно было встретить миланцев, неаполитанцев, венецианцев, приехавших искать заступничества от турок, пизанцев; все они интриговали против Флоренции, как брат недавно казненного Вителли… Все это почтенное общество собралось здесь, ища опору в союзе с самым могущественным государством своего времени, и, кочуя вместе с королевским двором, варилось в этой отравленной враждой атмосфере.
Если говорить о миссии Макиавелли и делла Казы, то положение их все более осложнялось: король ждал от Флоренции новых шагов, но республика, не имея средств, не была к этому готова. Двум бедным послам ничего не оставалось, как повторять снова и снова одни и те же предложения. В середине августа после очередной встречи флорентийского посольства с представителями двора, еще более бурной, чем обычно, Макиавелли пишет без обиняков, не прибегая к казенным оборотам, предупреждение Синьории: бессмысленно вечно говорить о «верности Флоренции французской короне…», манить тем, чего «король мог бы ожидать от Синьории, если бы мы были сильны, и какую защиту и опору величие Флоренции дало бы государству, которое будет у его величества в Италии». Времена изменились, и ныне отношения определяются балансом сил, а не эмоциями: «Все это бесполезно, потому что французы и смотрят на вещи другими глазами, и судят иначе, чем тот, кто не был здесь. Они ослеплены своим могуществом и сиюминутными интересами и почитают только тех, кто хорошо вооружен и готов платить им деньги». Но Синьория продолжала тешиться иллюзиями и полагала, памятуя о былом влиянии Флорентийской республики, что ей легко будет одурачить отсталых варваров… Она была глуха к настойчивым увещеваниям Макиавелли, который все больше тяготился своим двусмысленным положением. Он не имел официального статуса oratore (посла) – Синьория ограничивала его полномочия узкими рамками одной конкретной миссии: «Наш чин, наши личные свойства, да и отсутствие у нас права предлагать то, что могло бы прийтись по нраву французам, – все эти обстоятельства окончательно погубят дело». Он просил прислать ему в помощь послов, более свободных в своих решениях, но Синьория не предпринимала никаких действий. Надо сказать, что во Флоренции не было большого числа желающих принять участие в этой миссии, заранее обреченной на провал. Возможные кандидаты исчезали под разными предлогами один за другим. Первым был известный юрист Франческо Пепи, за ним – Лука Альбицци и дипломаты с многолетним опытом Бернардо Ручеллаи и Джованни Ридольфи… Но дело не двигалось с места. Тем временем обстановка при дворе все более накалялась. Еще одной проблемой было отсутствие денег. 3 сентября средств уже не хватало даже на отправку курьера. Макиавелли и делла Каза отправили Синьории письмо, угрожая немедленно уехать и информируя о том, что дела пришли в полное расстройство: Флоренция оказалась на грани разрыва отношений с Францией, и Макиавелли писал, что не желает «быть свидетелем того, как распадается дружба, которой искали, которую сохраняли такою ценою, на которую возлагали такие надежды». Что до короля, то он оставался верен себе, и вскоре стало известно, что «его величество уедет на несколько дней насладиться охотой». Главное увеселение монархов – королевская охота – было сопряжено с опасностями, и вскоре пришла новость, что король неудачно упал с лошади «на скаку»… И двор, не медля, отправился в Мелен, куда король пожелал переехать, чтобы поправить свое здоровье.
20 сентября Синьория расписалась в своей полной беспомощности: у нее нет посла для отправки с миссией к французскому двору, она не знает, какие полномочия можно ему дать, и, наконец, у нее нет больше средств… Потеряв всякое терпение, Франческо делла Каза бросил миссию и уехал в Париж «на лечение»… Между тем двор отбыл в Блуа, где Макиавелли, оставшись один, выбивался из последних сил, пытаясь умерить нетерпение кардинала Руанского. Ситуация все больше обострялась: Макиавелли внезапно узнал о появлении при дворе нежелательного соперника – неаполитанского «секретаря», приехавшего для подписания договора, очевидно идущего во вред интересам Флоренции. Не считая того, что влияние папы, который был намерен создать в Романье государство под управлением своего сына, герцога Валентино, постоянно росло: «Король потворствует папе во всем, и в большей мере оттого, что его величество не хочет открыто выступать против его неуемных желаний, а вовсе не оттого, что желает понтифику победы». Но удовлетворится ли семейство Борджа Романьей? Все свидетельствовало против этого, тем более что герцог Валентино не скрываясь говорил, что будет способствовать возвращению во Флоренцию клана Медичи, а точнее, приведет к власти Пьеро Медичи. Только Франция способна была умерить его аппетиты, а Флоренция ничего не делала, чтобы сохранить ее поддержку. Единственным выходом было раздавать обещания от имени нового посла, который не сегодня завтра пустится в дорогу, чтобы уладить дело со швейцарцами.
26 сентября двор по-прежнему оставался в Блуа. Финансовое состояние Макиавелли было плачевным, и он извещал об этом Синьорию: «Я живу на постоялом дворе, содержу трех лошадей и не могу обходиться без денег!» В Италии события развивались стремительно, опасность была все ближе. Герцог Валентино занимал все новые территории, и вскоре стало известно, что он без боя захватил города Римини и Пезаро у самых границ Тосканы. Это образумило Синьорию, и она объявила о немедленной отправке большой суммы денег для швейцарцев и прибытии нового посла Пьерфранческо Тозинги, который должен был выехать во Францию 16 октября. После отъезда Франческо делла Каза Макиавелли обрел свободу действий. Получив добрую весть, он вскочил на коня, поскакал к кардиналу Руанскому, который находился в 8 лье (35 километрах) от Блуа, и тут же сообщил ему о «вероятном» прибытии нового представительного посольства. Несколько раздраженный этой театральной сценой с участием юнца, которого Флоренция направила к нему послом, кардинал, приняв к сведению сказанное, отвечал ему с известной долей сдержанности: «Ты сообщил нам об этом. Это правда. Но мы умрем до приезда твоих послов… Однако мы сделаем все, что потребуется, чтобы кое-кто другой умер раньше нас…» Этот разговор состоялся 11 октября. В Нанте, куда перебрался двор, Макиавелли с радостью сообщил по-настоящему хорошую новость: аванс в 10 000 флоринов в счет невыплаченного жалованья (в размере 35 000 флоринов) был официально отправлен швейцарцам. Это стало реальным шагом навстречу союзнику. Французы оценили его по достоинству и немедля послали к герцогу Валентино сказать, чтобы он более не чинил урон флорентийцам, что герцог крепко запомнил. Во время одной из бесед по поводу опасной политики Чезаре Борджа между Макиавелли и кардиналом произошел знаменитый диалог: кардинал утверждал, «что итальянцы мало смыслят в военном деле». Макиавелли, как истинный итальянец, почувствовал себя уязвленным и отвечал ему, «что французы мало смыслят в политике, иначе они не допустили бы такого усиления Церкви».[48] Однако в своей дипломатической переписке он проявлял больше сдержанности и призывал Синьорию быть осмотрительнее и забыть об оскорблениях, так как судьба Флорентийской республики зависела теперь от Франции, которая была единственной державой, способной навести порядок на Апеннинском полуострове, обуздав папу, императора, венецианцев и миланцев.
Остаток долга обещали выплатить «без отлагательства». Это вызывало раздражение, но в целом положение Макиавелли при дворе укрепилось. Он устал и помышлял только о возвращении домой. Судьба не пощадила его: еще за месяц до отъезда умер отец; потом, уже в его отсутствие, умерла сестра Примавера, супруга Франческо Верначчи. Надо было приводить «дела» в порядок («restano le cose mie in aria e senza essere ordinate», ит. «дела мои пришли в расстройство и пребывают в полном беспорядке»), заниматься наследством и думать о положении семьи. Макиавелли испросил у Синьории разрешение приехать на месяц во Флоренцию. Была и другая причина вернуться домой: верный его соратник и помощник Агостино Веспуччи, двоюродный брат Америго, писал, что «некоторые силы» во Флоренции добиваются его ухода с поста секретаря. Наконец, был и более приятный повод, заставлявший его торопиться с возвращением домой, в лице Мариетты Корсини, на которой он женится в августе 1501 г. А пока надо было ехать вместе со двором Людовика XII в Тур, куда он прибыл 21 ноября. В ожидании приезда Тозинги, который медлил в пути, Макиавелли направлял во Флоренцию свои последние, весьма взвешенные советы, пытаясь убедить Синьорию в необходимости использовать любые средства для сохранения союза с Францией. Тозинги был хорошим другом, и Макиавелли писал и ему, посвящая в детали «устройства» французского двора. В конце декабря пришло столь долгожданное предписание возвращаться во Флоренцию. Он отправил последнее письмо Синьории, в котором сообщалось о приезде немецкого посла с предложением мирного договора между двумя державами и создания коалиции в условиях угрозы вторжения турок в Европу.[49] И наконец он отправился в обратный путь и 14 января 1501 г., через полгода после начала посольства, вернулся домой.
«О природе галлов»
Что вынес он из этого долгого и трудного путешествия? Возможно, знание французского языка, поскольку его написанные по-итальянски письма пестрят французскими выражениями и отдельными словами («Il Cardinal rispose che non era rien»), хотя устное общение сторон велось на латыни, языке международных контактов того времени, усвоенной весьма приблизительно, для которой было характерно свободное обращение с синтаксисом, о чем свидетельствуют многие дипломатические послания. Но также и некую картину французской жизни, которая возникает между строк в трактате 1501 г. «Рассуждение о мире между императором и королем» (Discursus de pace inter Imperatorem et Regem). Французский король, с которым он близко общался в течение долгих месяцев кризиса в отношениях Франции и Флорентийской республики, был в его представлении гарантом единства страны, «ни с кем не сравнимый порядком в своем королевстве», и потому если кто думает, что «французские провинции и князья готовы поднять восстание, то он глубоко заблуждается». Картина французской жизни еще пополнится новыми богатыми впечатлениями во время последующих миссий (в 1504, 1510 и 1511 гг.). Но именно во время первого своего посольства во Францию он воспылал ненавистью к проволочкам и нерешительности, отражение которой мы встречаем и в «Государе», и в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия». Потому что именно из-за склонности к промедлению у французов сложилось нелестное представление о флорентийцах: «Они почитают вас за людей пустых и бесполезных», так как имеют уважение только к тому, «кто вооружен и готов им что-нибудь дать», и видят, что республика «не имеет ни оружия, ни власти хоть что-нибудь им дать». И следовательно, итальянские княжества и республики, если они хотят выжить в противостоянии с национальными государствами, должны рассчитывать на собственную военную силу и всячески укреплять ее.
Сразу же после первого посольства во Францию, в период с 1500 по 1503 г., Макиавелли написал короткий и весьма язвительный трактат «О природе галлов» (De natura Gallorum), за которым последуют и другие сочинения, посвященные исключительно Франции. В нем автор выражает весьма недвусмысленно свой взгляд на французов: они «непостоянны и легковесны». «Они ослеплены своим могуществом и сиюминутными интересами», «скорее мелочны, чем осторожны» и во всем ищут выгоду. «Француз, которого просят об одолжении, сначала думает о том, какую выгоду он сможет от этого получить». Очевидно, что французы, о которых пишет Макиавелли, были придворными Людовика XII. Он также быстро уловил настрой монарха и его стремление свести отношения французского королевства с Флорентийской республикой к вассальной зависимости на феодальный манер. И это подспудное подчинение Флорентийской республики вызывало неприятие у ее «посла».
Кроме того, Макиавелли понял, как много значит умение правильно рассчитать баланс сил. В отношениях с французами, когда речь заходит о деньгах, приходится, чего бы это ни стоило, уступать:
Чтобы сохранить дружбу этого величества, надо решиться и заплатить те деньги, которые они, как говорят, заплатили за Синьорию швейцарцам и другим наемникам, стоявшим у стен Пизы. Они успели так нам надоесть с этими деньгами, что, по нашему разумению, нет другого выхода, как только заплатить, так как это величество будет на вас злобиться и за сто франков.[50]
Возвращение
Во Флоренции, куда доходили слухи о трудностях, с которыми столкнулся Макиавелли, его авторитет значительно возрос, как писали в письмах его близкие. Его послания ценили, а его друг Буонаккорси, который, как и он, служил в канцелярии, ловил общие настроения и пересказывал все хвалебные отзывы о нем. Вышеназванный Бьяджо Буонаккорси, по нашим сведениям, появился в жизни Макиавелли именно в этот период, навсегда остался надежным другом и не отвернулся от него даже в годы опалы. Буонаккорси служил под началом Макиавелли, был эрудитом, историком и, ежедневно фиксируя свои наблюдения повседневной жизни, составил записки под названием «Хроники наиболее важных успехов, достигнутых в Италии, в частности во Флоренции, в период с 1498 до 1512 г.» (Diario de’successi piu importanti seguiti in Italia, et particolarmente in Fiorenza, dell’anno 1498 in fino all’anno 1512). Это сочинение долго ходило в списках и наконец вышло в 1568 г. во Флоренции, в знаменитом издательстве Giunti. Он писал Макиавелли не только о положении дел во Флоренции, но и рассказывал – лил бальзам на душу, – с какой симпатией к нему относятся сослуживцы по канцелярии и как ждут его возвращения.
По прибытии во Флоренцию Макиавелли получил только две недели отпуска, после чего ему было поручено новое трудное дело – миссия в Пистою, небольшой зависимый от Флоренции городок, расположенный в двенадцати лье (53 километрах) от нее. Как и во многих подобных городах Италии, в Пистое было две враждующие партии, или клана: Канчелльери и Панчатики. В августе 1500 г., во время пребывания Макиавелли во Франции, Канчелльери, воспользовавшись трудностями, которые переживала Флоренция, снова развязали гражданскую войну и изгнали Панчатики из города. Эти события грозили обернуться серьезными последствиями для Флоренции, так как пистойские факции опирались на поддержку флорентийских кланов: Панчатики делали ставку на Медичи, а Канчелльери – на пополанов, соперничавших с аристократией. Но что еще опасней, эта вражда местных кланов выплеснулась за пределы Тосканы: правитель Болоньи Джованни Бентивольо благоволил Канчелльери, тогда как Панчатики пользовались расположением Вителли и Орсини, которые, в свою очередь, пеклись о судьбе молодого правителя с большими амбициями, бывшего церковного сановника Чезаре Борджа… К тому же стычки между противниками вышли за пределы Пистои, и в окрестностях города уже орудовали вооруженные банды. Такого Флоренция не могла потерпеть. 2 февраля 1501 г. республика откомандировала Макиавелли в качестве комиссара в Пистою, наделив его широкими полномочиями. Миссия его была простой: он должен был оценить сложившуюся обстановку и принять надлежащие меры. Ему хватило совсем немного времени, чтобы понять суть дела и попросить у Синьории войска «для замирения партий в Пистое». Его просьба была удовлетворена, и в город из Флоренции прибыл большой отряд под командованием нескольких комиссаров, среди которых был и двоюродный брат Макиавелли, его тезка Никколо… К апрелю ситуация успокоилась. В результате Макиавелли извлек из этих событий важный урок: если в Пизе дело решалось оружием, то в Пистое следовало использовать противоречия между кланами. Но он не строил иллюзий: вражда Канчелльери и Панчатики длилась долгие годы, и единственное, что можно было сделать в этих обстоятельствах, – это временно охладить пыл противников.[51]
Макиавелли, которого Совет десяти посылал повсюду гасить возникающие конфликты, был назначен на должность секретаря после падения Савонаролы и отстранения от должности его ставленника Алессандро Браччези. Иными словами, это назначение стало возможным благодаря отчуждению от власти партии сторонников Савонаролы (партии «плакальщиков» – piagnoni), и решение о его избрании исходило от широкой коалиции, которая и свергла пророка. Но к моменту миссии в Пистою он еще не воспринимался как ее приверженец; на этом этапе своей карьеры он отличался абсолютным «идеологическим» нейтралитетом, хотя уже тогда, во время первых посольств, смог понять, сколь ограниченна в своих способностях аристократия, на которую он был вынужден работать в качестве простого секретаря.
4
Макиавелли и его герой, великий Цезарь Борджа
В воздухе по-прежнему витала скрытая угроза, порожденная соперничеством между французской короной и папским государством, территориальными притязаниями папы, который намеревался вступить в военное противостояние с великими национальными государствами того времени. Именно эти обстоятельства, способные поставить под удар само существование Флоренции, позволили Макиавелли познакомиться поближе с одним из персонажей, оказавших на него глубочайшее влияние, и соприкоснуться с тем феноменом, который он в своем трактате «О княжествах» (De Principatibus) назовет «новый государь»: с Чезаре (Цезарем) Борджа, вместе со своим отцом понтификом будоражившим итальянскую политическую жизнь, правила которой он никогда не соблюдал.
Когда сын папы римского зовется Цезарем…
Сын кардинала Родриго Борджа и куртизанки Ваноцци Каттанеи был человеком непростым. В детстве он был или, по крайней мере, считался вундеркиндом, судя по тому, что в возрасте семи лет его назначили апостольским протонотарием. Затем он сменил большое число церковных или околоцерковных должностей: был казначеем кафедрального собора Картахены, архидиаконом собора Таррагоны, каноником собора Лериды, все это до достижения тринадцатилетнего возраста. В шестнадцать лет, в 1491 г., по милости папы Иннокентия VIII он становится епископом Памплоны, что не помешало ему пройти курс наук сначала в Перудже, затем в Пизе. Но Родриго Борджа вскоре избрали папой под именем Александра VI, и 26 августа 1492 г., в день интронизации, его сверхталантливый сын стал архиепископом Валенсии. В 1493 г., в восемнадцать лет, он уже был кардиналом, а в 1495 г. – папским наместником и легатом в Орвьето!
Однако амбиции этого одаренного юноши лежали совсем в другой плоскости, а между тем в Италии, которая еще не освободилась от влияния кондотьеров, атмосфера была по-прежнему пропитана духом героизма. Так, историки того времени, вовлеченные в политическую жизнь своих городов-государств, постоянно приводили в пример какого-либо героя, которого они предлагали в качестве образца для подражания тем из своих современников, кто намеревался сделать политическую карьеру. Этим героем мог быть Цезарь, Публий Корнелий Сципион, Моисей… и всех этих великих, благородных героев можно было увидеть на фресках, которыми властители того времени украшали свои парадные залы. Об этом увлечении героями древности свидетельствуют также труды, посвященные «великим людям» Античности, самым знаменитым из которых является «Книга о знаменитых мужах» (De viris illustribus) Петрарки. Хорошо известны также ученые споры на тему героев и героизма в Италии эпохи Возрождения – такие, как спор между Поджо Браччолини и Гуарино Веронезе по поводу исторической роли Сципиона и Цезаря, причем первый считал самым великим человеком в римской истории Сципиона, второй склонялся в пользу Цезаря. Не говоря уже о популярности «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, переведенных в свое время Салютати и постоянно переиздаваемых, экземпляр которых Макиавелли разыскивал в 1502 г.
Если вас зовут Цезарь, а ваш отец выбрал себе имя Александр, вам на роду написано стать завоевателем – по крайней мере, потенциальным. Но, когда волею судеб вы стали духовным лицом высокого ранга, все, очевидно, сложнее. Впрочем, для «Цезаря» нет ничего невозможного, и в августе 1498 г. папская консистория сняла с Чезаре пурпурную кардинальскую мантию. Сразу же после этого он отправился с миссией в Шинон, где оказал Людовику XII неоценимую услугу, о которой тот никогда не забудет, несмотря и вопреки всяческим дипломатическим осложнениям. Отсюда берет начало и их несомненная близость, о которой герцог Валентино упомянул в разговоре с Макиавелли, назвав короля «хозяином bottega» (ит. «лавочки»). В благодарность король не стал противодействовать стремлению Чезаре подчинить себе самый настоящий феод, приобретенный силой оружия, как делали в старину, и проложил ему дорогу в миланское герцогство. Затем будет Романья, которую он мечтал присоединить к папскому государству (dominio его отца) и превратить его в государство в полном смысле слова, сравнимое с национальными государствами, которые своим могуществом безоговорочно превзошли города-государства, каким бы внешним блеском те ни отличались. В сентябре 1499 г. Чезаре Борджа захватил Имолу и Форли. В 1500 г. в его распоряжении уже пятнадцатитысячное войско, и Чезена сдалась ему без сопротивления. Более того, просвещенная Италия (Пьер Франческо Юстоло из Сполето, Серафино Чимино из Аквилы и др.) возносила ему хвалу. 26 апреля 1501 г. пала Фаэнца, затем Пезаро и Римини. И вот уже Чезаре Борджа, как и подобает завоевателю, готов стать герцогом Романьи!
Встреча
Как раз в тот момент, когда Макиавелли пытался распутать клубок региональных противоречий, где одной из ставок в игре являлась Пистоя, произошла его первая встреча с политической фигурой, наложившей на него глубокий отпечаток и обеспечившей ему прочную славу бесчестного человека в глазах потомков. В то время Валентино был занят тем, что с благословения своего отца отвоевывал себе владения в Романье, изнемогавшей под гнетом невзгод, которая, если верить Данте, и в «Аду» (XXVII) и в «Чистилище» (XIV) предстает символом жестокости и бесконечных столкновений между мелкими и крупными тиранами. В сущности, эта провинция, если иметь в виду la Romagna larga (большую Романью), являлась ключевой территорией для контроля за Апеннинским полуостровом, но из-за географического положения и крайней раздробленности на отдельные владения, ожесточенно боровшиеся между собой, ее было трудно завоевать и еще труднее удержать. Однако положение дел менялось, и обладание этой провинцией стало теперь еще более важным. Дело в том, что Романья стремилась отойти от ferocitas (лат. «жестокостей»), подобных тем, что описаны у Данте, и при ее дворах царствовали теперь litterae humaniores (лат. зд.: «светские гуманитарные науки и их представители»): в Римини – Альберти, в Чезене – собравший великолепную библиотеку Малатеста, в Форли – Кодро и Мелоццо, в Урбино – Лаурана и династия Монтефельтро… К этому всему прибавлялось желание Александра VI придать образу папы масштабность, достойную великого Цезаря, и заново воплотить в жизнь идею romanitas (римского мира) (унаследованную и папой Юлием II), то есть вернуть авторитет институту папства в христианском мире (перед лицом турецкой угрозы), опираясь на реальную светскую власть и военную мощь. Орудием romanitas должен был стать новый Цезарь!
Впрочем, для большей уверенности в успехе Александр VI официально пожаловал ему титул герцога Романьи. Чезаре Борджа предстояло оправдать этот титул, пока еще лишенный содержания. Весной он подошел к населенному отважным народом небольшому городку Фаэнца, который в итоге ему покорился. Затем он двинулся на Болонью. На этот раз его ждал более лакомый кусок. У Бентивольо, синьоров этого города, были неплохие боевые заслуги, и, что важнее всего, они могли рассчитывать на поддержку французов. Ответ Людовика XII, впрочем, не заставил себя ждать: руки прочь от Болоньи. Борджа плохо перенес этот удар, но был вынужден подчиниться. Его следующей жертвой стал Пьомбино, защищенный естественной преградой; он располагался на берегу моря и был очень привлекательной добычей в стратегическом отношении. Одна проблема: чтобы подойти к нему, нужно было перейти через Апеннины и, естественно, пересечь территорию, принадлежащую Флоренции. И вот Борджа попросил на это разрешения у Синьории и, не дожидаясь ответа, отправился в путь, пытаясь усыпить бдительность флорентийцев умиротворяющими посланиями. Но как только горы были пройдены, тон изменился: Валентино потребовал, чтобы Флоренция финансировала его кампанию и заключила с ним официальное соглашение. Учитывая эти обстоятельства, Синьория, естественно, уклонилась от ответа, что вызвало гнев захватчика, который, обладая полной свободой действий, расположился у Кампи-Бизенцио, на расстоянии немногим больше 3 лье (13 километров) от Флоренции. Однако Борджа не стал нападать на крепость и ограничился тем, что в течение долгого времени разорял контадо.
Положение Флоренции было безвыходным: «правительства» менялись, как и было заведено, каждые два месяца, из-за чего политика города была в целом абсолютно непоследовательной. К тому же сторонники Медичи и аристократы уже поднимали голову. Что касается Пьеро Медичи, который не считал себя изгнанником на веки вечные, он терпеливо ждал на границе Болоньи, пока ситуация во Флоренции не изменится в его пользу. При этом среди сторонников Валентино за него были готовы выступить жаждущий мести Вителлоццо Вителли и род Орсини. Для спасения того, что еще можно было спасти, оставалось одно – вести переговоры. Было дано согласие на заключение союза и финансирование похода Борджа… Но случилось неожиданное: в начале мая Людовик XII неожиданно запретил Валентино чинить обиду Флоренции. Надобности в союзе больше не было: республика не заплатила Борджа ни флорина! И тогда 17 мая, не получив от флорентийцев поддержки, он направился в Пьомбино, разоряя все, что можно, на своем пути.
Флорентийцы хорошо понимали, что на сей раз едва избежали опасности. Они задумались над тем, как сделать институты власти стабильными, чему мешала система постоянной жеребьевки при получении должностей. Что касается жителей Пистои, они конечно же воспользовались временным ослаблением Флоренции, чтобы возобновить свои распри. Макиавелли к этому времени уже стал помимо собственной воли лучшим специалистом по усмирению этих раздоров, и его отправили в Пистою. Он хорошо владел ситуацией и провел там всего два дня. Кажется, на дипломатическом поприще он становился незаменимым человеком. Его посылали повсюду; он ехал в Кашину, в Сиену (18 августа), даже не зная точно, чем ему придется заниматься. В октябре он снова прибыл в Пистою, чтобы подготовить возвращение семейства Панчатики, что было важным делом, потому что эта богатая семья торговцев сукном была обязана большей частью своего состояния торговле с… Францией. Что касается возмутителя спокойствия Валентино, то 3 сентября 1501 г. ему удалось наконец овладеть Пьомбино, и было неизвестно, как далеко простирались его честолюбивые планы. Веспуччи, посол в Риме, один из сотрудников Макиавелли, в конце августа прислал ему несколько тревожных писем, в которых упоминал о видах Цезаря на Камерино и Урбино. Единственными, кто мог сдерживать семейство Борджа, были французы. На тот момент они пребывали в Неаполитанском королевстве (которое поделили с испанцами), и лучшей защитой от происков тандема Борджа, отца и сына, было войти с ними в союз. 16 апреля 1502 г. этот союз был без особых трудностей заключен, поскольку французы опасались, как бы Флоренция не присоединилась к планам Максимилиана, «короля римского», которому снова не сиделось у себя в Германии: он подумывал о том, чтобы двинуться в Италию. Флорентийцы полагали, что можно сделать новую попытку овладеть Пизой, и послали туда артиллерию. В итоге сражение вновь было проиграно. Несмотря на союз с французами, влияние Флоренции в регионе падало по мере того, как разорялось ее контадо. 4 августа Вителлоццо Вителли, как и следовало ожидать, поднял восстание в Ареццо, туда помчался Валентино, а вслед за ним, естественно, Пьеро Медичи. Богатая аретинская Валь-ди-Кьяна (долина реки Кьяна) трещала по всем швам: городки Монте-Сансавино, Кортона, Кастильоне, Ангьяри, Борго-Сансеполькро сами сдались тому, в ком Макиавелли видел военачальника «по воле Неба и Судьбы».
Валентино, впрочем, бесстыдно заявлял, что не имеет никакого отношения к этому отделению аретинских городков: все это якобы дело рук Вителлоццо, движимого личной местью! Как будто ничего не значил тот общеизвестный факт, что войска, замеченные в Ареццо, были из тех, что Чезаре отобрал и подготовил к осаде Камерино. Эту крепость он, впрочем, незамедлительно захватил, не преминув любезно попросить Гуидобальдо, герцога Урбино, одолжить ему солдат и артиллерию, чтобы завершить экспедицию. А после того, как эта армия заняла крепость Камерино, Валентино понесся во весь опор, не позволив, по словам Гвиччардини, армии набраться сил, на… Урбино, оставшийся без всякой защиты. Герцог Урбино едва успел спастись бегством.
Чезаре Борджа стал сторонником молниеносной войны по необходимости, чтобы опережать интердикты Людовика XII, который сильно препятствовал его территориальным притязаниям. При этом, прежде чем отправиться в Урбино, он счел необходимым в письме обратиться к Флоренции с просьбой прислать ему серьезного человека, с которым он мог бы обсудить весьма важные дела. Флоренция, которой более чем когда-либо было важно знать, что замышляет Валентино, отправила к нему внушительное посольство: влиятельного епископа из Вольтерры Франческо Содерини в сопровождении исключительно одаренного секретаря Никколо Макиавелли. Эти двое, отличные наездники, выехали из Флоренции утром 22 июня 1502 г. и в тот же вечер прибыли в Понтичелли. По пути, в гостинице в Понтассьеве, они, к своему большому изумлению, узнали от одного человека, подданного герцога Валентино, о celere e felice vittoria (быстрой и славной победе) его синьора, то есть о молниеносном взятии Урбино, а также о его удивительной хитрости. С точки зрения Макиавелли, он служил флорентийцам поучительным примером быстроты ума и благосклонности судьбы, о чем Никколо не преминул написать из Понтичелли в Синьорию: «Пусть ваши милости обратят большое внимание на эту военную хитрость и подобную быстроту в соединении с ни с чем не сравнимой удачей». Вечером 24-го они были в Урбино, но Борджа принял их только в два часа утра, удостоив двухчасовой беседы в крепости при тщательно закрытых дверях. Обмен любезностями был недолгим: они поздравили Валентино с недавними победами, за этим последовали взаимные обвинения. Список обвинений был длинным, и Макиавелли он был хорошо известен: он был в курсе всех не выполненных Борджа обязательств, не сдержанных обещаний, он знал о содержании адресованных Борджа писем и о его происках против Флоренции.[52] Валентино ответил на это угрозами и даже поставил ультиматум: «Это правительство мне не нравится, я не могу ему доверять. Вам нужно его сменить и предоставить мне все гарантии выполнения ваших обещаний. И лучше бы вам побыстрее понять, что не в моих правилах спускать такое обращение. Если вы не хотите иметь в моем лице друга, я стану вашим врагом». На этом они решили расстаться, дав друг другу совет поразмыслить над сказанным, и флорентийцы удалились, весьма возмущенные цинизмом этого человека. На следующий день им представилась возможность встретиться с представителями семейства Орсини, влиятельного клана, который, как стало ясно впоследствии, ставил сразу на несколько лошадок, действуя без особой щепетильности. В тот момент они открыто поддерживали Борджа и участвовали во всех его военных кампаниях: они утверждали, что Людовик XII дал Борджа разрешение напасть на Флоренцию, лишь бы это было сделано быстро и не оставило бы ему времени послать им обещанную помощь. Флорентийцы поняли суть дела, но все же в течение следующего дня терзались некоторыми сомнениями. Борджа принял их наконец в три часа ночи. Он разразился угрозами и обвинениями и снова выдвинул ультиматум: у Флоренции четыре дня, чтобы дать ответ. Макиавелли был хорошим наездником: решили, что он лично поедет во Флоренцию, чтобы объяснить ситуацию Синьории. Для большей надежности он послал впереди себя гонца с письмом для Синьории, в котором впервые открыто говорил о своем восхищении, даже преклонении перед личностью Чезаре Борджа, резко отличавшегося от итальянских политиков и военачальников того времени:
Этот правитель – человек подлинно блистательный и столь отважный на войне, что нет такого великого предприятия, которое не показалось бы ему малым. Ради достижения славы или завоевания государства он не знает ни отдыха, ни усталости, ни опасности. Он прибывает на новое место раньше, чем становится известно о его отъезде из другого. Его любят солдаты, он объединил под своим началом лучших итальянских воинов. Все это делает его победоносным и грозным соперником, не говоря об удаче, которая сопутствует ему во всех его начинаниях.
Чезаре Борджа действительно был победоносным воином, но французские солдаты, не привлекая к себе большого внимания, продвигались на север по Вальдарно (долине реки Арно) и приближались к Флоренции, которая по-прежнему оставалась союзницей Франции и которую она не собиралась оставлять на произвол судьбы ради ненадежного соглашения, заключенного с отрекшимся от духовного сана бастардом, пусть и сыном папы римского. Ему так ясно дали это понять, что Синьория, выслушав Макиавелли, решила отозвать епископа Содерини, который томился в Понтичелли у грозного герцога Валентино. Людовик XII, узнав о том, что творил Чезаре Борджа на границах Флорентийской республики, пришел в ярость и пригрозил, что прибудет вразумить его сам, «публично и со всей решимостью заявив, что это дело ничуть не менее святое и угодное Богу, чем поход против турок».[53] Герцог Валентино, человек сообразительный, вмиг понял смысл сказанного и приказал своему сообщнику Вителлоццо Вителли покинуть Ареццо, близ которого уже стояла армия «капитана Имбольта»,[54] посланного Людовиком XII из Асти, где располагалась его штаб-квартира. Дело завершила армия Антуана де Лангра,[55] присланная Людовиком XII на замену Имбольту де ла Бати, чья дерзость досаждала флорентийцам. Флорентийские города, перешедшие на время под двойную власть Борджа – Вителли, были переданы французам, которые немедленно вернули их республике.
Именно в это время пришло подлинное осознание того, что до поры до времени воспринималось как неизбежное зло: нестабильность, разрушавшая систему верховной власти из-за необходимости сменять человека на должности гонфалоньера каждые два месяца, вредила государству. Таким образом конечно же удавалось не допустить тирании гонфалоньера, но еще со времен правления Медичи стало очевидным, что вполне возможно сместить центр власти, обеспечив себе послушное большинство в основных Советах. Однако нужда закона не знает, и, стало быть, следовало найти способ управления, при котором можно было обеспечить непрерывность и преемственность верховной власти во Флоренции. Сначала была предложена доказавшая за долгие годы свою жизнеспособность венецианская модель управления, в центре которой стояла фигура дожа. Аристократы вместе со сторонниками Медичи согласились с усилением государственной власти и утверждением должности «пожизненного гонфалоньера»; на нее сразу же выбрали Пьеро Содерини, главного покровителя Макиавелли, человека, способного к компромиссам. Это назначение так или иначе признали все политические силы, что было отчасти обусловлено семейным положением Содерини: у него не было детей, а значит, он не мог передать власть по наследству, то есть создать династию… Должность пожизненного гонфалоньера просуществует недолго и будет упразднена Медичи после их возвращения в сентябре 1512 г. А пока что дела складывались для Макиавелли как нельзя лучше: он мог отныне рассчитывать на поддержку тандема Содерини: гонфалоньера Пьеро Содерини, человека вполне мирного, стремящегося к согласию и политическому миру, и его брата Франческо, грозного кардинала, ярого республиканца, который сыграет немаловажную роль в заговоре против Медичи в 1522 г.
«Государь нового типа» и молодой дипломат
У Чезаре Борджа, который давно уже понял, какое государство было самой могущественной державой эпохи, было одно-единственное верное решение для удовлетворения своих амбиций: помириться с Людовиком XII. И потому он не откладывая поспешил в Асти, чтобы сделать попытку оправдаться. Его выслушали. На такое он не смел и надеяться. Его простили и, более того, дали разрешение отобрать умбрский город Читта-ди-Кастелло у его старого соратника Вителлоццо Вителли и вырвать Болонью из рук Бентивольо, местной династии, которая была долгое время верным союзником Франции. К тому же если кого теперь и могли тревожить территориальные претензии герцога Валентино, так это мелких местных синьоров, таких как Вителли, а также кондотьера Оливеротто да Фермо, Орсини, Бальони, владевших чудесным городом Перуджей, и Пандольфо Петруччи, предусмотрительного синьора Сиены, которому всегда удавалось защитить свой город, своевременно заключая союзы с теми, кто был в силе в данный момент. Что же касается Флоренции, то она не разделяла этого беспокойства и придерживалась очень простой линии поведения: сохраняла верность союзу с Францией. Это не мешало ей следить за Чезаре Борджа, который, как было прекрасно известно во Флоренции, не отказывался от своих притязаний. Он ждал своего часа. А пока у него возникла счастливая мысль попросить Синьорию прислать ему посла для обсуждения условий будущего союза. Флоренция не поддалась на обман: Борджа явно занял выжидательную позицию. Но нужно было воспользоваться благоприятным случаем и присмотреться к нему. И потому 6 октября Макиавелли отправился в Имолу.
Об этих событиях свидетельствует связка писем Макиавелли от октября и ноября 1502 г., тон которых выражал все большую уверенность, доходящую до самоуверенности, несмотря на предостережения Бьяджо Буонаккорси: «Вы делаете слишком смелые заключения, но вам вовсе не это поручали» (письмо Буанаккорси от 23 октября). Секретарь высказывал свое мнение, превышая тем самым свои полномочия, что не мешало Валори, профессиональному дипломату, расхваливать его донесения, а Буонаккорси, самому преданному его другу, – слать пожелания стать «великим человеком». А сам Макиавелли в то время наблюдал за Борджа, государем «нового типа» и баловнем судьбы. Даже когда в октябре удача, казалось, покинула его и кондотьеры, правители малых государств на территории Романьи, перехватили у него военную инициативу.
Речь идет об известном заговоре в Маджоне, среднем по величине городе в окрестностях Перуджи: там встретились 9 октября 1502 г. Орсини (кардинал Джованни Баттиста Орсини и Паоло Орсини), Вителлоццо Вителли, Джамбаттиста Бальони и Оливеротто да Фермо, Эрмес Бентивольо от Болоньи, а от Сиены – Антонио да Венафро, доверенный человек Пандольфо Петруччи. Они вынашивали большие планы: окончательно ликвидировать угрозу со стороны Борджа, поспешив на помощь герцогу Урбино, который, овладев крепостью Сан-Лео, отказывался повиноваться Валентино и старался город за городом отвоевать свое государство, что было на руку его «союзникам», мелким или средним кондотьерам, которых беспокоила – и обоснованно – ненасытность герцога. В Маджоне они как раз и задумали «напасть всем вместе на Валентино», хотя флорентийцы и венецианцы не решались к ним присоединиться.
Чезаре Борджа, мгновенно узнав об этом, проявил в ответ недюжинное хладнокровие, восхитившее Макиавелли. Борджа развернул бурную деятельность: вел переговоры с несколькими мятежниками, укрепляя при этом свои собственные крепости и готовясь к войне: «Это внезапное событие произошло в тот момент, когда Валентино, занятый захватом чужих государств, совсем не ожидал атаки на свои собственные владения. Однако, не теряя перед лицом такой большой опасности ни храбрости, ни рассудительности, веря, несмотря ни на что, в свою, как он сам говорил, счастливую звезду, он применил весь свой ум и все свое благоразумие, чтобы найти необходимые средства».[56] Средства эти шли на установление отношений с новыми союзниками и налаживание ослабленных связей со старыми. Вот почему гонцов посылали по всей Италии, в Феррару, в Рим, в Милан и конечно же во Францию, что вызывало у Макиавелли явную досаду, ведь ему приходилось самому платить за курьеров во время своего первого посольства во Францию: «Он потратил со времени моего приезда столько денег на гонцов и посыльных, сколько Синьория израсходовала бы за два года». Перед ним был один из тех положительных героев Античности, кто, подобно Эпаминонду, основателю города Месини в Мессинии, обязан был своей славой созданию нового государства. Именно поэтому он просил Буонаккорси достать ему величайшую книгу об античных героях, «Жизнеописания» Плутарха.[57]
Переговоры между флорентийским легатом и герцогом не прекращались ни на день: частой темой были деньги, обещанные герцогу за услуги кондотьера, которые Флоренция, по своему обыкновению, не торопилась посылать. Как и во время пребывания Макиавелли во Франции, Синьория оставляла его одного перед лицом реальной военно-политической силы, вынуждая его признаваться, что республика не выполняет своих обещаний. Ситуация была, судя по всему, менее напряженной, чем в случае с Людовиком XII, поскольку герцог вовсе не строил себе иллюзий по поводу лояльности Флоренции и ее готовности держать данное слово, более того, он прекрасно знал, что она не постесняется открыто обратиться к другим кондотьерам, например маркизу Мантуанскому. В конце концов Макиавелли пришлось признаться, что Флоренция не только не имела средств заплатить за его услуги высокую цену, но и не хотела за них платить даже по низкой цене! Его собственное положение становилось опасным: посольство неизбежно должно было потерпеть неудачу. Он устал вести разговоры, в которых собеседнику явно надоело участвовать. Посольство было для него разорительным предприятием, а во Флоренции его дела шли все хуже и хуже. Ему сообщили, что его жена «наделала глупостей»: он ей сказал, что уезжает на неделю, а она давно уже была одна и без денег. Неожиданно она отправилась к своему родственнику Пьеро дель Неро и там «забыла свой долг перед Богом и, кажется, принесла в жертву не только свое тело, но и то немногочисленное добро, которое у нее имелось». Но не это, кажется, было главным: чтобы удержаться на своей должности, Макиавелли был обязан переизбираться каждый год. Его всячески уверяли, что эти перевыборы in absentia не представляли проблемы, что его авторитет позволяет ему спать спокойно. «Ваши заслуги хорошо известны, – заверял его в письме Аламанно Сальвьяти, – они таковы, что скорее уж к вам будут обращаться с просьбой, чем сами вы будете просить других». Но во Флоренции ходили иные, гораздо более тревожные слухи: «собирались» сократить число секретарей! «Грозились» уменьшить их оклад! Услужливый Буонаккорси ничего не утаивал от Макиавелли из этих кулуарных слухов, а также из того, что обсуждали конторские служащие. В отсутствие Никколо именно он исполнял обязанности Макиавелли, не слишком злоупотребляя своей властью, и потому конторские спорили о карточной игре, иногда дрались и даже обсуждали историю одного конторского служащего, которому запустили в спину деревянным башмаком. Иначе говоря, дела во Флоренции шли своим чередом, и у Макиавелли была только одна забота: вернуться как можно скорее. Он попытался, впрочем безуспешно, убедить Синьорию, настаивая на нецелесообразности своего пребывания в Имоле: его посольство при нынешнем положении вещей было бесполезным, Флоренция никогда не потратит средства, обещанные герцогу. Однако Синьория желала иметь подле герцога Валентино опытного шпиона, способного разобраться в многочисленных кознях этого человека, который вызывал во Флоренции всеобщее недоумение. Против этого трудно было возражать, и Макиавелли надумал сослаться на пошатнувшееся здоровье. 22 ноября он напишет: «Вот уже два дня у меня сильный жар и я чувствую себя слабым, как новорожденный птенец». 6 декабря: «Вот уже двенадцать дней я чувствую себя очень плохо, и, если и дальше так пойдет, меня привезут домой в гробу». Делать было нечего: стало известно, что герцог собрался уезжать, однако никто не знал, что он замышляет. Макиавелли, больному или не очень, нечего было ожидать от Синьории поблажек. Надо было следовать за Борджа и разгадать его планы! «Посол» в конце концов не сдержался: «Ваши милости должны простить меня и понять, что некоторые вещи разгадать невозможно; ваши милости должны понять, что мы имеем дело с человеком, который поступает, как ему вздумается, и, чтобы не писать глупостей и собственных фантазий, нужно во всем удостовериться, а это требует времени». 9 декабря состоялся отъезд герцога в Чезену. Макиавелли в дурном расположении духа и без денег отправился следом только два дня спустя. Во Флоренции поняли намек, и гонфалоньер Содерини послал ему незамедлительно 25 дукатов вместе с новыми указаниями: «Ты будешь как можно более тщательно следить за тем, что происходит, и писать часто, а как скоро станет ясно, что эти люди замышляют, тебе обязательно предоставят отпуск и будет дано распоряжение отправить кого-либо на твое место, раз уж мы придерживаемся политики присутствия при дворе этого достойнейшего господина. А пока не переставай проявлять то же усердие, которое ты демонстрировал до сего дня». В самой Чезене все те, кто пытался угадать намерения Валентино, пришли в недоумение: он намеревается напасть на неаполитанское королевство или на Равенну? Даже его отец, Александр VI, громко высказывал нетерпение. Наконец 10 декабря Чезаре выступил в поход с основной частью своей армии и достиг Чезены. 18-го числа он отослал прочь французских копейщиков. Макиавелли встревожился. Валентино его успокаивал: в них больше нет нужды, поскольку теперь настало время примирения. Макиавелли по-прежнему не был склонен ему верить.
Уроки жестокой расправы
Сомнения Макиавелли имели под собой основания: чтобы вполне развязать себе руки, Борджа исправил положение дел в Романье на свой манер. Он уничтожил испанца Рамиро де Лорку, то есть того, кто был его правой рукой и кому он доверил покорение местного населения. Испанец был назначен наместником и выполнял свои обязанности с крайней жестокостью. Борджа велел задержать его сразу после приезда в Чезену, затем заточить в тюрьму и пытать, несмотря на все заслуги, которые признавал Макиавелли, говоря о нем, что он «за короткое время» привел Романью, раздираемую на части мелкими князьками, «к миру и согласию, завоевав большое влияние». Однако, сознавая все последствия злоупотреблений своего наместника, который «управлял» при помощи публичных казней, «герцог решил впоследствии, что в такой «исполнительной» власти не было нужды, и поставил во главе области суд с прекрасным председателем, при этом у каждого города был свой адвокат». В Фаэнце Лорка зашел слишком далеко, нарушив святость приюта, традиционно предоставляемого церковью. Реакция герцога Валентино не заставила себя ждать:
Но, зная, что минувшие строгости все-таки настроили против него народ, он решил обелить себя и расположить к себе подданных, показав им, что если и были жестокости, то в них повинен не он, а его суровый наместник. И вот однажды утром на площади в Чезене по его приказу положили разрубленное пополам тело мессера Рамиро де Лорки[58] рядом с колодой и окровавленным мечом. Свирепость этого зрелища одновременно удовлетворила и ошеломила народ.[59]
Из вышеупомянутого эпизода Макиавелли впоследствии сделал вывод о том, что государь должен уметь обелить себя за счет непопулярного наместника, но история на этом не закончилась, и из ее эпилога Макиавелли тоже извлек важные уроки. Ответом на пресловутый заговор в Маджоне стала резня в Сенигаллии 31 декабря 1502 г. Герцог Валентино продолжал поддерживать иллюзию хороших отношений со своими «союзниками», и именно по его приказу Орсини и Вителли захватили город Сенигаллию, а сам он разместил бо́льшую и лучшую часть своей армии неподалеку в Фано и с небольшим отрядом выступил в поход в направлении только что завоеванной Сенигаллии. Он вскоре встретился с Орсини, Вителли и герцогом де Гравиной и вошел вместе с ними, как с лучшими друзьями, в город. После этого он велел позвать Оливеротто да Фермо, которого он принял, как писал Макиавелли, «с горячими изъявлениями дружеских чувств». Однако, когда у ворот Сенигаллии все они увидели отряд Валентино, выстроенный в полном боевом порядке, то, «встревожившись», пожелали «расстаться с ним, чтобы вернуться в расположение своих частей». Но Борджа их опередил и предложил войти «под тем предлогом, что ему нужно было побеседовать с ними, в чем они не смогли ему отказать, хотя испытали смутное предчувствие неотвратимой беды».
Они прошли вслед за ним в его покои, после чего он удалился, якобы чтобы переодеться. «Ворвались стражники и схватили всех четверых, и одновременно с этим были посланы войска для разграбления их солдат». Макиавелли начал что-то подозревать с того момента, как в Фано Чезаре сделал в его присутствии несколько туманных намеков; он старался не отставать от герцога ни на час и, предвидя трагический оборот событий, адресовал, среди всеобщего смятения, письмо Совету десяти: «Грабежи еще продолжаются, а уже двадцать три часа. Я испытываю невыразимую муку. Не знаю, смогу ли отправить это письмо, найду ли с кем его отослать. Я вам напишу еще одно, более подробное письмо. Мне кажется, они не доживут до утра». Макиавелли был прав: Вителлоццо и Оливеротто задушили посреди ночи, двух других (Паоло и герцога де Гравины Орсини) – в Кастелло-делла-Пьеве 18 января 1503 г. Эта страшная расправа, как это ни печально, вполне соответствовала духу времени: наводящий ужас Вителлоццо пользовался слишком печальной известностью в то время, чтобы вызвать жалость, а Оливеротто, несмотря на перенесенные страдания, имел ничуть не больше прав на снисхождение со стороны своих современников. «Никто не будет отрицать, – замечает Гвиччардини, – что он принял смерть достойную его злодейств, ибо было совершенно справедливо, что он умер вследствие предательства, после того как убил в Фермо, предательски и с чрезвычайной жестокостью, во время пира, на который он их пригласил, своего дядю Джованни Фольяни и многочисленных именитых горожан, чтобы взять в свои руки власть в этом городе».[60]
В два часа ночи 1 января 1503 г. Валентино вызвал Макиавелли; лицо его выражало «величайшую радость». Для этого были все основания: он был убежден, что оказал неоценимую услугу флорентийцам, которые «у него в большом долгу, ведь он уничтожил их злейших врагов, при том что они сами охотно заплатили бы двести тысяч дукатов за их уничтожение, хотя это им не удалось бы так удачно осуществить». А коли дело обстояло так, почему было не попытать удачу и не получить плату за услугу; и Валентино воспользовался случаем, чтобы попросить себе в помощь небольшое войско для похода на Перуджу… Макиавелли, которому Синьория не давала таких полномочий, ответил отказом и принялся за составление короткого меморандума «Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и герцога Гравины Орсини» (Descrizione del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Signor Pagolo e il duca di Gravina Orsini). Это сочинение, адресованное непосредственно Совету десяти, примечательно ясностью и емкостью повествования.
После ликвидации Маджонского заговора Макиавелли держал Флоренцию в курсе, насколько ему это позволяла бурная деятельность Валентино, непрерывной череды его побед. На следующий день после столь печального события, то есть 1 января, Чезаре Борджа был уже в Коринальдо, 3-го – в Сассоферрато, 5-го – в Гуальдо. За ними последовала Читта-ди-Кастелло, сдавшаяся ему без боя, затем Перуджа, откуда спасся бегством Джампаоло Бальони. 8-го Чезаре появился в Ассизи. Макиавелли неотступно следовал за ним. Для него, как и во Франции, это был новый маршрут, но на этот раз он ехал не с королевским двором, а с армией, которая шла вперед без поражений от одной победы к другой под предводительством государя, основная роль которого заключалась в том, чтобы быть воином. 10 января его армия прибыла в Торчано. Валентино вызвал к себе Макиавелли и снова потребовал помощи от флорентийцев: он не претендовал на Сиену, все, чего он хотел, – это с их помощью изгнать оттуда династию Петруччи. Затем пришла очередь Читта-делла-Пьеве, где Макиавелли снова имел с ним беседу. Именно туда пришло Макиавелли долгожданное письмо с новостью о его замене! Совет десяти уступил его неоднократным просьбам и направил к герцогу Валентино нового влиятельного посла Якопо Сальвьяти. 20-го числа Макиавелли простился с Цезарем и 23-го уже был во Флоренции, где и оставался до лета.
Он принялся за дела своей канцелярии; дипломатическая рутинная работа не претерпела никаких изменений, точнее, никакого развития: Ареццо по-прежнему поглощал все внимание флорентийской дипломатии наравне с Пизой – все той же Пизой, независимость которой, как и прежде, била по самолюбию флорентийцев. Пизанским вопросом он и намеревался теперь заняться, когда угроза со стороны понтифика и его сына отступила. Но нужны были деньги. Много денег. А для этого не было ничего лучше, чем справедливо распределяемый налог. То есть налог, который касался всех, даже духовенства. Макиавелли посвятил этой теме «Речь об изыскании денег» (Parole da dirle sopra la provisione del danaio), являющую собой совокупность аргументов в помощь тем, кто желал бы выступить в защиту закона о налоге: «Нельзя все время размахивать чужой шпагой, вот почему лучше иметь ее под рукой и повесить на пояс, когда враг еще далеко». Отсюда проистекала необходимость создания для такого города, как Флоренция, собственной армии, прообраза того, что позднее станет основным политическим детищем Макиавелли, настоящей идеей фикс: речь шла об организации ополчения, набираемого в флорентийском контадо.
Папское государство: смена власти
Итак, положение дел в Северной Италии было по-прежнему очень неопределенным. Счастливая звезда французов, терпевших поражение за поражением от испанцев Гонсало де Кордовы, казалось, близилась к закату, но Испания была далеко, а Альпы, если рассудить, значительно ближе, не говоря уже о Ломбардии, и Франция послала в Италию на помощь дополнительную мощную армию, которой следовало остерегаться. Отсюда и сомнения Александра VI, как бы он ни хотел заключить союз с победителем. Лучше всего было в этих обстоятельствах поставить на два разных лагеря: отец собирался вступить в переговоры с Людовиком XII, а сын, несмотря на его личные предпочтения, с испанцами. Но, как гром среди в общем-то не слишком ясного неба, Александр VI умер после трехдневной «лихорадки» 18 августа 1503 г. Кончина была внезапной, и, поскольку при папском дворе ничто не могло пройти совершенно незамеченным, поговаривали о том, что по приказу папы было отравлено вино, предназначавшееся для двух нежеланных гостей, но по ошибке поданное неловким слугой понтифику и его сыну. И действительно, герцог Валентино тоже очень тяжело болел и долго не мог оправиться после болезни.
Нужно было заняться самым неотложным делом и избрать на место еретика Александра VI Борджа папу, который удовлетворил бы две влиятельнейшие партии того времени, французскую и испанскую. Посредником между ними по-прежнему был герцог Валентино, еще не полностью выздоровевший, со «своими» двенадцатью голосами. Кандидатом от Франции был кардинал Руанский, за которого выступал Чезаре Борджа, но очень скоро переговоры зашли в тупик. Сошлись на том, что нужно выбрать папу на переходный период. Им стал кардинал Сиенский Франческо Пикколомини, который был наречен Пием III. Он был достаточно стар и болен, чтобы надеяться на скорые более основательные выборы. Флоренция, которую эти события застигли врасплох, отреагировала мгновенно: Макиавелли отправили навстречу Сандрикуру, командующему французской армией, шедшему на Сиену, чтобы разузнать о его намерениях. Едва он вернулся после этой миссии, как 28 августа в разгар летней жары его послали с новым поручением, на этот к кардиналу Франческо Содерини, чтобы срочно направить кардинала в Рим, где его присутствие было крайне необходимо, и частично сопроводить по пути следования. Приказы и контрприказы следовали один за другим без видимой логики, но вполне ожидаемая кончина Пия III кардинально изменила ситуацию.
Макиавелли на этот раз был официально назначен легатом (временным послом) Флорентийской республики и выехал 24 октября с конкретной миссией: выяснить намерения кардиналов, сочувствующих Флоренции, и призвать их сделать все возможное, чтобы выбрать папу, свободного от обязательств по отношению к какому-либо клану, то есть кандидата, который отличался бы глобальным видением церковных дел, а заодно и итальянской жизни. Его «шефом» в данном случае являлся, естественно, официальный посол, кардинал Содерини, и ему, что тоже естественно, следовало игнорировать другого флорентийского кардинала, находившегося в то время в Риме, Джованни де Медичи, будущего папу Леона X. Очевидно, Макиавелли, проявив на этот раз пагубную недальновидность, продемонстрировал Джованни, на чем настаивала Синьория, всю свою холодность, которую тот заметил и так никогда и не простил.
Письма, которые Макиавелли посылал Синьории, трудно назвать оптимистичными: в вечном городе царила отнюдь не мирная атмосфера в духе гуманизма, которой можно было бы ожидать от Рима эпохи Чинквеченто: все кланы прибыли вместе со своими отрядами, воров было несметное количество, как в Святой год[61] или во время всякого конклава. Войска герцога Валентино занимали многие кварталы в окрестностях Ватикана, куда можно было попасть не по современным широким проспектам, а по лабиринту опасных узких улочек Борго. Чезаре Борджа находился в замке Святого Ангела и «более чем когда-либо питал надежду вершить великие дела» при помощи «своих» испанских кардиналов, голоса которых были необходимы тому, кто хотел стать папой. Но фаворитом, по общему убеждению, являлся кардинал Сан-Пьетро-ин-Винкула Джулиано делла Ровере, на которого все более открыто ставили в «банках» ростовщиков. Делла Ровере раздавал обещания направо и налево, что обеспечивало ему поддержку со стороны наиболее влиятельных лиц, и среди них кардинала Руанского, который сам не надеялся на избрание. Накануне открытия конклава шансы делла Ровере были девять к десяти, тем более что сам Борджа принес ему на блюдечке испанские голоса. Впрочем, Чезаре был в плохой физической форме: ходили слухи, что он едва оправился после отравления и, чувствуя себя очень неважно, утратил привычную прозорливость: как мог он рассчитывать на милости со стороны человека, с которым его отец Александр VI обошелся столь сурово (отправив в ссылку на десять лет)? Макиавелли встретился с Чезаре снова и вывел из этой встречи следующее заключение: «Если бы в момент смерти Александра он был в добром здравии, ему все бы удалось, и сам он говорил мне в дни избрания Юлия II,[62] что думал о том, что может случиться после смерти его отца, а также что прежде находил он выход из всякого положения, но и предположить не мог, что в момент его смерти он сам будет так тяжело болен». Это, с точки зрения Макиавелли, единственный упрек, который можно было бросить Валентино:
В одном лишь можно его обвинить – в избрании Юлия главой Церкви. Тут он ошибся в расчете, ибо, если он не мог провести угодного ему человека, он мог, как уже говорилось, отвести неугодного; а раз так, то ни в коем случае не следовало допускать к папской власти тех кардиналов, которые были им обижены в прошлом или, в случае избрания, могли бы бояться его в будущем. Ибо люди мстят либо из страха, либо из ненависти. Среди обиженных им были Сан-Пьетро-ин-Винкула, Колонна, Сан-Джорджо, Асканио;[63] все остальные, взойдя на престол, имели бы причины его бояться. Исключение составляли испанцы и кардинал Руанский, те – в силу родственных уз и обязательств, этот – благодаря могуществу стоявшего за ним Французского королевства. Поэтому первым делом надо было позаботиться об избрании кого-нибудь из испанцев, а в случае невозможности – кардинала Руанского, но уж никак не Сан-Пьетро-ин-Винкула. Заблуждается тот, кто думает, что новые благодеяния могут заставить великих мира сего позабыть о старых обидах. Так что герцог совершил оплошность, которая в конце концов и привела его к гибели.[64]
Несчастный герцог Валентино, поверивший, что может получить поддержку от своего вчерашнего врага, когда тому будут подчиняться все папские войска, и сохранить Романью (с Остией в придачу) и свой титул гонфалоньера Римской церкви, забыл старинную поговорку, гласившую, что обещания обязывают только тех, кому они даются. Между тем избрание делла Ровере было настолько ожидаемым, что Макиавелли смог отправить известие об этом уже ночью 31 октября, то есть еще до его официального объявления, а также сообщить имя (Юлий II), выбранное новым понтификом. 1 ноября (конклав продолжался всего один день) он послал Совету десяти четыре письма, выразив в них свой скепсис относительно «великой благорасположенности», которой, как говорили, пользовался новый понтифик: «Следует внимательнее изучить данные им обещания, так как многие из них противоречивы. Теперь он папа, и очень скоро мы увидим, кто получит от него обещанное». Три дня спустя – то же замечание в прежнем тоне: «Причина его благорасположенности в том, что он обещал все, о чем его просили, и теперь стоит подумать о трудностях, которые он будет испытывать при выполнении своих обещаний». Что касается герцога Валентино, он в итоге оказался большим простаком: «Герцог обманывается в пылу своей доверчивости и считает, что слова других значат больше его собственных обязательств».
Однако для Флоренции избрание Юлия II – Макиавелли считал своим долгом это подчеркнуть – было благом: Романья при известии о поражении герцога Валентино утратила свое пресловутое единство, к которому он ее принудил, и мелкие правители подняли голову. С одной лишь оговоркой: если некоторые из них, в Форли или в Фаэнце, вновь обрели свои владения при поддержке Флоренции, то венецианцы, вечные соперники флорентийцев, захватили Римини и угрожали соседним замкам. На этой территории папа был единственным, кто мог умерить их амбиции, и Совет десяти ввиду срочности дела обратился к помощи Макиавелли, чтобы склонить понтифика на свою сторону: 5 ноября он был удостоен аудиенции. Затем 6-го. Не считая обязательных визитов к наиболее влиятельным кардиналам, которых следовало убедить, что в интересах церкви сдерживать венецианцев, в противном случае папа очень скоро станет их «придворным капелланом». Медлить было нельзя, и Макиавелли, который привык пускать в ход все средства, нанес визит даже герцогу Валентино, бывшему, против обыкновения, далеко не в лучшем настроении. Это посещение ознаменовало окончательный поворот в судьбе Борджа и полностью изменило отношение к нему Макиавелли. Чезаре, когда дело касалось его самого, очевидно, уже не был способен понять ту verità effettuale (действительную правду), которую так ценил Макиавелли. Он встретил Макиавелли колкостями и сразу же начал поносить флорентийцев, которые всегда были ему врагами! Хуже того, он в неистовстве грозился заключить союз с венецианцами. Макиавелли сдержался, произнес в ответ нечто успокаивающее и откланялся. Валентино, теперь ему это было доподлинно известно, отказывался признать всю правду, оценить свое тяжелое положение и более не осознавал реального соотношения сил. Пять дней спустя он сам позвал к себе Макиавелли. Тон его полностью изменился: Борджа говорил вкрадчиво, уверял, что папа его поддерживает и что отныне пришло время для священного союза против Венеции. По его словам, все шло хорошо: он вскоре должен был стать гонфалоньером церкви, французы вот-вот вернутся и понтифик предлагает ему снова отправиться в его любимую Романью, чтобы укрепить там свои позиции. Однако, чтобы попасть в Романью, следовало пройти через… Тоскану, а для этого требовалось по меньшей мере разрешение. Чезаре обратился за ним к Синьории, но та не привыкла прощать обиды и отказала. В бешенстве он тут же послал в Тоскану свои войска под командованием беззаветно преданного ему дона Мигеля де Кореллы («Микелетто»), друга детства, последнего из тех, кто сохранял ему верность. И снова Чезаре вызвал Макиавелли и обрушился на него с упреками. Он еще находил в себе силы угрожать: он вступит в союз с Пизой и Венецией, и Флорентийской республике придет конец! Но он и сам в это не верил. Макиавелли успокоил его несколькими «добрыми» словами и ушел, оставив позади себя бледную тень прежнего герцога Валентино. Но, оставаясь секретарем Совета десяти, он без всякого сострадания оценил реальные силы герцога. Синьория, объяснял он, теперь стоит перед выбором: пропустить его незначительное войско или уничтожить его. Однако уже не имеет значения, как поступить. И Макиавелли откровенно рекомендовал Совету десяти не препятствовать Борджа, оказавшемуся вне игры: «Он одной ногой уже в могиле».[65] Республика выбрала второе и захватила в плен наемников Кореллы, как только они вступили в контадо. Герцог Валентино меж тем поспешил в Остию, где хотел сесть на корабль: двое кардиналов, посланных папой в сопровождении военной охраны, догнали его и потребовали отдать города, которые он еще контролировал в Романье. Временно, разумеется, то есть до победы над Венецией… Герцог с негодованием отказался: его тут же схватили и привезли в Рим, где папа Юлий II уже получил известие о конце бесславной эпопеи Кореллы и в присутствии Макиавелли радовался этому событию. Месть делла Ровере свершилась, и он незамедлительно потребовал от Флоренции выдать ему «дона Микеле», чтобы всем поведать о «зверствах, грабежах, убийствах, святотатствах и других бесчисленных преступлениях, совершенных за одиннадцать лет до сего дня в Риме против Бога и людей». Корелла просидит в тюрьме до 1505 г. И снова поступит на службу – что интересно, Флоренции – с подачи, как будет сказано ниже, Макиавелли, и будет служить до 1507 г. Что касается герцога Валентино, он исчез с политической арены Италии и окончил свои дни 10 марта 1507 г. у стен Вьяны, в современной Наварре, во время штурма города кастильскими войсками, которыми он командовал, состоя на службе у своего шурина Жана III Наваррского.
Как повлиял Чезаре Борджа на политические идеи Макиавелли? Вопрос остается открытым. Находился ли Макиавелли под впечатлением от этой фигуры, ставшей впоследствии откровенно карикатурной, но воплотившей темную сторону Возрождения, вдохновлявшегося гуманистическими идеями? У Макиавелли с Борджа были, по сути, отношения посла с правителем. Дипломатия того времени не была занятием столь благопристойным, каким представляется теперь, и Макиавелли увидел перед собой переговорщика, подобного которому раньше не встречал. В лице Людовика XII и кардинала Руанского он имел дело с особами несговорчивыми, но в лице Чезаре Борджа он столкнулся с решительным человеком, непредсказуемым в отдельно взятый момент, но имевшим четкий замысел, состоявший в том, чтобы, как было сказано выше, создать для папы, как для светского правителя, полноценное государство. Именно эта цель определяла логику его действий. Когда Макиавелли излишне поспешно обвинили в том, что он представил Чезаре Борджа в образе некоего идеального политика, то сделано это было во имя того, что никоим образом его не занимало, то есть во имя морали.[66] Макиавелли – политик-теоретик (и практик), политика для него – отдельная область знания, отличная от этики. Чезаре Борджа – пример для подражания (хотя и с оговорками), но только с точки зрения политики. И если в своих политических сочинениях Макиавелли никогда не осуждал безнравственность герцога Валентино, которую отмечали его современники, то лишь потому, что старался не выходить за пределы жанра. Разве можно упрекать Аристотеля за то, что он в своей «Политике» мало говорит о морали? Макиавелли, великолепно знавший своих великих предшественников, придерживался определенных рамок. К тому же его суждения были неоднозначны. Борджа являлся образцом, но лишь отчасти, поскольку допустил существенную ошибку, которую Макиавелли сразу осознал: он всегда полагался на чью-то помощь. На армию Людовика XII и своего отца Александра VI. После смерти папы его власть неизбежно должна была рухнуть, и Макиавелли имел возможность наблюдать в непосредственной близости за тем, как это происходило.
В этом и состоял урок, который Макиавелли хотел преподнести читателям «Государя», но не потомкам, а исключительно флорентийской знати первой четверти XVI в., которой следовало объяснить на простых и наглядных примерах, какая политика является эффективной. Мы лучше поймем, какое именно представление сложилось у Макиавелли о герцоге Валентино, если обратимся к дошедшей до нас его дипломатической переписке. В ней чувствуется его восхищение, досада, раздражение, но и здесь главное – не его чувства и оценки, а те рекомендации, которые Макиавелли намеревался дать Совету десяти, чтобы помочь ему в принятии решений. Причем решений важнейших, срочных и даже драматичных: следовало, по сути, оценить – насколько это вообще было возможно – опасность, которую представлял герцог Валентино. Иными словами, все сводилось к одному вопросу: имел ли он намерение и возможность напасть на Флоренцию? И много ли значили те его злодейства, реальные или воображаемые, которые ничем не угрожали жизни города?
После падения Чезаре Борджа Макиавелли остался в Риме. Там свирепствовала чума, он получил от Совета десяти приказ вернуться во Флоренцию, ему не хватало денег прежде всего из-за того, что курьеры обходились недешево, но он по-прежнему находился в Риме. Многие объясняют его нежелание покидать город узами дружбы, которые связывали Макиавелли с его начальником в Риме кардиналом Содерини. В этом, видимо, есть большая доля правды, и мы располагаем многочисленными письмами, свидетельствующими о превосходных отношениях между ними: Содерини прекрасно понимал, как талантлив его на удивление расторопный помощник, и явно не спешил с ним расставаться. Есть и другое объяснение тому факту, что Макиавелли не торопился покинуть Рим: узнав о рождении сына, он ограничился тем, что выразил издалека свою радость. По мнению Буонаккорси, ребенок был похож на вороненка. Жена Макиавелли высказывалась менее прямолинейно: «Он похож на вас. У него белоснежная кожа, но голова как будто покрыта черным бархатом, и, так как он на вас похож и такой же волосатый, как вы, он кажется мне красивым…» И все же для него это было событием большой важности: 9 ноября ребенок был официально наречен именем своего деда, и весь цвет дипломатического корпуса присутствовал при крещении маленького Бернардо. Его крестными были сам секретарь Первой канцелярии Марчелло Вирджилио Адриани и преданный помощник Буонаккорси. Однако Макиавелли так и не вернулся во Флоренцию и поручил провести церемонию с должной торжественностью своим высокопоставленным друзьям… Следует сказать, что благодаря этому «посольству» в Рим у него, уже опытного дипломата, появилась великолепная возможность, о которой можно было только мечтать, – общаться с целой армией своих коллег. Папа в качестве преемника апостола Петра был призван исполнять роль арбитра в спорах между светскими державами, и все они – Испания, Франция, Германия и другие – присылали в Рим своих представителей. При этом папа Юлий II делла Ровере разделял, хотя и не афишируя этого, территориальные притязания своего предшественника Александра VI и послал свои войска в Болонью, чтобы заручиться ее поддержкой, то есть добиться того, что не удалось сделать Чезаре Борджа из-за запрета Людовика XII. Таким образом, нетрудно понять, почему Макиавелли, несмотря на чуму, захотел задержаться в городе, понемногу возвращавшем себе статус caput mundi (лат. «столицы мира»)… Однако Совет десяти, который в нем нуждался, настаивал на его возвращении, и 18 декабря ему пришлось завершить свое посольство в Риме и пуститься в обратный путь. Содерини был очень огорчен его отъездом и, обращаясь к Синьории, дал высокую оценку его уму и должностному рвению. Звезда Макиавелли была близка к зениту, его принял с распростертыми объятьями брат кардинала, пожизненный гонфалоньер Содерини. Беда была в том, что теперь он недвусмысленно примкнул к лагерю Содерини, и нейтралитет в политике, которого он в целом придерживался, находясь в должности секретаря, вплоть до 1502 г., был отныне для него недостижим. Хотел ли он этого или нет, но отныне он выступал на стороне «пополанов» (сторонников республики). И в 1512 г. ему это припомнили.
Между тем Макиавелли приступил к сочинению поэмы-хроники «Десятилетия». Речь идет о первой части этого поэтического произведения, посвященной прошедшему десятилетию и написанной в октябре 1504 г. В ней Макиавелли попытался вместить в 550 стихотворных строк все «десятилетние страдания Италии». Начало этим несчастьям, безусловно, положило потрясение, которое испытали итальянцы из-за французского вторжения. Первая часть «Десятилетия» была издана в 1506 г.
Тем временем Макиавелли предстоял второй, и весьма поучительный опыт пребывания во Франции.
О положении дел во Франции (II)
Период безраздельного господства Борджа и травмы, ими нанесенные, стирались из памяти, но ситуация в Италии оставалась по-прежнему напряженной. 29 декабря 1503 г. в 15 лье (65 километров) к северу от Неаполя, в болотах у берегов речушки Гарильяно французское войско было разбито испанцами под предводительством Гонсало де Кордовы. Так был положен конец притязаниям французов на эти земли: испанцы более чем на двести лет стали хозяевами Неаполитанского королевства. И, хотя гибель Пьеро Медичи уменьшала вероятность возвращения клана Медичи к власти, поражение французов по многим причинам стало для флорентийцев очень плохой новостью: наиболее могущественный союзник Флоренции отныне контролировал только далекую Ломбардию, а намерения Гонсало де Кордовы были не ясны. Ограничится ли он своими новыми владениями или, используя дружеские связи, попытает удачи в Лукке, Сиене или Пизе?.. И как в этом случае поведут себя французы, разбитые в битве при Гарильяно? Лучше всего было выяснить все на месте, а значит, следовало спешно отправить во Францию опытных послов. И вот в первые дни 1504 г. эта задача была поручена сначала Никколо Валори, известному своим серьезным отношением к делу, который находился в Фиренцуоле, городке, расположенном на подступах к тосканским холмам, на пути к северу Италии; туда же направили Макиавелли, чтобы он рассказал будущему послу об обычаях и нравах французского двора. Но, как только Валори пустился в путь, Синьория изменила решение и направила вместе с ним Макиавелли с точными предписаниями, давая тем самым понять, что у Флорентийской республики, отправляющей посольство в составе двух человек, были все основания для беспокойства: «Цель твоей поездки – увидеть собственными глазами их приготовления, коль таковые будут, и немедленно написать нам об этом, добавив свои собственные оценки и суждения». Не доказывает ли это, что Макиавелли на этот раз доверяли роль не промежуточной инстанции, выполняющей указания Флоренции, а самого настоящего шпиона? Практика дипломатии менялась.
Посольство, как обычно, включало в себя несколько этапов: 18 января 1504 г. Макиавелли встретился в Милане с Шарлем II д’Амбуазом де Шомоном, с которым был уже знаком. Тот его заверил: у Франции нет намерения расторгать союз с Флоренцией и она «поставит венецианцев на место», то есть будет сдерживать их притязания на материковые земли. Нисколько, однако, этим не обольщаясь, Макиавелли 26-го числа снова приехал в Лион, где находился французский двор. Шарль д’Амбуаз принял его и Никколо Валори на следующий день, затем вел с ними переговоры в последующие два дня, в результате которых им стало известно, что готовится перемирие между испанцами и французами: первые хотели оставить себе Неаполитанское королевство, а вторые – Ломбардию. Соглашение было действительно подписано 11 февраля в Лионе, и флорентийцы узнали в связи с этим, что, поскольку они являются союзниками Франции, гарантия «прекращения военных действий» распространяется и на них. Это было особенно важно перед лицом угрозы со стороны их старого недруга Венеции, которой все меньше благоволили при французском дворе. Оставив «на месте» Валори, Макиавелли через несколько дней покинул Францию, получив гарантии хотя и не слишком прочные, но дающие ясно понять, что Людовик XII не намерен исключать Флорентийскую республику из числа своих союзников.
Во Флоренции его ожидали новые хлопоты и треволнения, связанные, как это частенько случалось, с опасными перемещениями оказавшегося не у дел кондотьера. На этот раз это был Бартоломео д’Авьяно, недавно получивший отставку у Гонсало де Кордовы и пытавшийся снова продать свои услуги. Он вступил в переговоры со своими потенциальными нанимателями, заклятыми врагами Флоренции: с Петруччи из Сиены, с неизменными Вителли и Орсини, с Бальони из Перуджи, а также с правителями Лукки и конечно же пизанцами. В Синьории испытывали беспокойство по поводу формирующейся коалиции против Флоренции и срочно направили Макиавелли в Перуджу к Джампаоло Бальони, искусно ведущему двойную игру. Макиавелли быстро понял, что Бальони, несмотря на свой примирительный тон, по уши увяз в заговоре, и срочно вернулся в середине апреля (1505) во Флоренцию, где шла подготовка к защите города. Его сразу же отправили в Мантую для заключения договора с наемным войском маркиза де Гонзага. Оставался открытым вопрос с Сиеной, внушавшей опасение Совету десяти. Дорогу со стороны Сиены перекрывало многочисленное войско, а Макиавелли было поручено выведать намерения Пандольфо Петруччи: он направился в Сиену, но Петруччи ошеломил его таким количеством противоречивых заявлений, что он предпочел поскорее вернуться во Флоренцию, тем более что Бартоломео д’Авьяно только что обострил ситуацию, открыто введя свою армию на флорентийские земли. На этот раз действительно началась война, однако – о, чудо! – флорентийская армия под командованием уполномоченного по военным делам Антонио Джакомини разгромила армию Бартоломео д’Авьяно в Сан-Винченцо-ин-Маремма. Во Флоренции было всеобщее ликование (Макиавелли воспел эту победу во второй части поэмы «Десятилетия»), и всем хотелось умножить успех, отплатив жителям Лукки и Пизы за их сговор с коварным кондотьером. Наконец решили брать штурмом Пизу, и Макиавелли, находившийся в лагере под стенами города, вместе со всеми ожидал сигнала к началу атаки. 13 сентября войска пошли на штурм. Однако пизанцы, не растерявшись, неожиданно для всех отразили натиск, а флорентийские наемники бесславно разбежались в ночь с 14 на 15 сентября.
Все произошедшее окончательно убедило Макиавелли в том, что время наемников ушло, и теперь необходимо перейти к другому, более эффективному способу формирования войск, то есть к рекрутскому набору в ряды «национальной» армии.
5
Великое предприятие: рекрутский набор
В 1505–1506 гг. Макиавелли наконец дали поручение, которого он давно ждал и которое, как ему представлялось, должно было самым надежным образом обеспечить безопасность его города. Ему предстояло собрать ополчение, состоящее из одних флорентийцев, и тем положить конец вредной традиции содержания наемного войска, «кондотты», в пагубных последствиях которой он не раз имел возможность убедиться на протяжении всей своей карьеры дипломата. Излишне упоминать здесь измену гасконцев под Пизой в 1499 г., восстание швейцарцев в том же году и бесчисленные миссии, которые ему приходилось выполнять, отправляясь к итальянским князькам, прижимистым и мелочным, у которых единственным источником доходов была служба вместе со своим нищим войском в богатых принципатах (как, впрочем, и республиках) Италии. Войска эти были ненадежны и всегда готовы перейти на сторону врага ради выгоды и даже, как в 1499 г., взбунтоваться против своего нанимателя. Что же до их военных доблестей, они были, как известно, склонны к предательству и не желали рисковать собой на чужой земле.
Однако в реальности собрать ополчение на своей территории, не приглашая, как было принято, иностранного войска «a condotta» (ит. «по найму») на определенный срок, было делом новым, необычным и слишком уж напоминало набор своего личного войска; да и сам термин milizia (ит. «ополчение») допускал разные толкования… Закрадывались подозрения: не стремится ли тот, кто набирает ополчение на постоянной основе, к единоличной власти, которая будет опираться на преторианскую гвардию? Однако Макиавелли, затевая рекрутский набор, не изобретал ничего нового – и раньше во Флоренции проводились отдельные наборы в контадо: в 1498 г., в 1501 г., когда городу угрожал Чезаре Борджа, позднее в 1503 г. для защиты от нападения со стороны Лукки и в 1505 г. для борьбы с Бартоломео д’Авьяно. Но на этот раз речь шла о том, чтобы учредить регулярную «милицию» и придать ополчению официальный характер, для чего требовалась сложная юридическая процедура. Как следует из многочисленных писем, выполняя эту задачу, Макиавелли знал, что может рассчитывать на помощь влиятельных людей, таких как братья Содерини, еще в тот период, когда план его был далек от осуществления. Свидетельством тому письмо от 24 мая 1504 г., в котором кардинал Содерини, видя, что дело затягивается, обращается к Макиавелли со словами поддержки, звучащими, однако, несколько двусмысленно: «Не сдавайся. Быть может, однажды ты добьешься всемерной славы, коль скоро не будет другой награды…»
И все же дело не сдвинулось с мертвой точки до тех пор, пока Флоренция не оказалась в самом отчаянном положении, и тогда гонфалоньеру Содерини пришлось дать Макиавелли как секретарю, «ведающему военными делами», полную свободу, чтобы он смог приступить к набору и подготовке местного ополчения. Ему предстояло составить докладную записку, на основе которой в дальнейшем мог быть издан закон о военной службе (Ordinanza). Этот закон он представил властям в «Речи о введении на флорентийской территории военной службы»,[67] и затем декретом от 6 декабря было официально учреждено ополчение. На Большом совете он получил одобрение более значительного против обычного большинства пополанов, а это было явным признаком того, что перемены давно назрели и кондотта многих уже не устраивала. Макиавелли, «выпестовавшему» этот закон, было конечно же поручено воплотить его в жизнь. С января по март 1506 г. он вел набор рекрутов в контадо, то есть в сельских округах. В то время его можно было встретить повсюду в области Муджелло, и уже 2 января 1506 г. он обратился с первым письмом к Совету десяти, чтобы торжественно объявить о начале своей кампании по набору рекрутов.
Однако не все шло гладко: приходилось принимать в расчет соперничество между небольшими поселениями и переубеждать тех, кто видел в этой кампании разновидность новой подати. Но ничто не могло охладить пыл Макиавелли: он вел набор рекрутов и в Понтассьеве, и в Дикомано, и в Сан-Годенцо, во всех крупных населенных пунктах флорентийского контадо, где было много крестьян, про которых он напишет в своем «Военном искусстве», что из них получаются самые лучшие солдаты. Предполагалось, что призывать в ополчение будут мужчин от семнадцати до шестидесяти лет, но похоже, что в этом деле Макиавелли полагался скорее на молодежь, и, стремясь tentare la fortuna (ит. «испытать удачу») на военном поприще, не брал рекрутов старше 35 лет. Тот же принцип мы встретим и в «Военном искусстве», в книге VII: «Пусть женщины, старики, дети и инвалиды останутся дома и уступят место… молодым и крепким мужчинам».[68] То же читаем и в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» (II, гл. 29), где в эпизоде осады Рима галлами он упоминает «никчемную толпу женщин, стариков и детей», покинувшую город перед началом военных действий, или в «Истории Флоренции» (I, гл. 29), в рассказе об обороне Падуи, из которой при появлении Аттилы вывели женщин, детей и стариков, чтобы «доверить молодежи защиту города». Произошла настоящая революция в умах: до того момента основной фигурой в сражении очень часто бывал senex (лат. «старик»), которого канцлер Коллучо Салютати оценивал в свое время как человека умудренного опытом: «Было гораздо больше убито на войне подростков (pueri) и юношей (juvenes), чем стариков, и пожары и разрушения уничтожили гораздо меньше почтенных седовласых старцев, чем людей, устрашающих своей силой или беспомощных по причине своего юного возраста». Макиавелли, напротив, делает ставку на молодых людей, о чем пишет в «Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия» (I, гл. 60), предлагая (вопреки тому, что было принято во Флоренции)[69] доверять им в случае необходимости ответственные поручения: «А когда юноша, обладающий большими достоинствами, смог прославиться, совершив нечто выдающееся, было бы очень обидно, если бы город не мог призвать его на службу в этот момент, и нужно было бы ждать, пока, постарев, он не утратит ту силу духа и то проворство, которыми, пока он был молодым, родина могла воспользоваться».
Поскольку Ordinanza не касалась горожан, а исключительно крестьян, Макиавелли позаботился и о том, чтобы не помешать сельскохозяйственным работам, пообещав устраивать учения в нерабочие дни или по воскресеньям. Те из них, которые требовали участия всей армии, должны были проводиться всего два раза в год. Таким образом, усилия Макиавелли были направлены на то, чтобы привлечь к обороне Флоренции часть населения, которая в ней раньше не участвовала.
В результате во Флоренции были устроены три смотра войск, 15 февраля, 2 июня и в конце ноября 1506 г. Для их проведения Макиавелли выбрал самый передовой образец построения того времени: «швейцарское каре», достоинства которого он превозносил несколькими годами позже в своем «Военном искусстве». Смотр, который прошел 15 февраля 1506 г, в день карнавала, на площади Синьории, был великолепным: «400 пехотинцев из наших крестьян вышли на площадь по приказу гонфалоньера, каждому был выдан белый камзол, пара двухцветных бело-красных брюк, и белый берет, и башмаки, и железная кираса, и копья, а некоторым и аркебузы… Это событие было признано одним из самых замечательных среди тех, что когда-либо происходили во Флоренции». Представление понравилось народу, но сильно смутило аристократов, которые, как они говорили, видели в нем наглядное подтверждение своих опасений: была собрана вооруженная толпа к услугам группировки, находящейся у власти, группировки пополанов, руководимой пожизненным гонфалоньером. Макиавелли, впрочем, принял некоторые меры предосторожности, чтобы оградить себя от подобных обвинений. Он сообщил, что рекрутский набор не является обязательным для всех и, выдавая этим доморощенным солдатам оружие только на время учений, можно не опасаться, что однажды крестьяне воспользуются своими боевыми навыками, чтобы сбросить иго флорентийской земельной аристократии. Однако же этих солдат следовало хорошо муштровать, в противном случае пришлось бы их приглашать только на парады, чего и опасались некоторые скептически настроенные умы. Поэтому Макиавелли, с согласия Содерини, принялся искать воина, хорошо проявившего себя на поле битвы и способного передать новобранцам свой опыт. Кто подошел бы для этого больше, чем Мигель де Корелла, недавно вышедший из тюрьмы, куда его бросили по приказу папы римского? Он был верным сторонником Чезаре Борджа, и его кандидатуру Франческо Содерини, отличавшийся решительностью, назвал своему миролюбивому и кроткому брату-гонфалоньеру в письме от августа 1505 г. Конечно, во Флоренции некоторые отнеслись к нему настороженно, но Пьеро Содерини это не остановило, и Корелла взял в свои руки подготовку флорентийского ополчения, естественно, под руководством и контролем Макиавелли. Это не положило конец сетованиям аристократов, поскольку Корелла получил, конечно же с подачи кардинала Содерини, звание bargello del contado (ит. ист. «глава полицейской стражи в контадо»), что соответствовало приблизительно начальнику деревенской полиции, хотя можно было бы довольствоваться менее вызывающим и более нейтральным званием capitano di guardia (ит. «капитан стражи»). Звание bargello наводило на мысль о провокации против аристократии, страстно желавшей, чтобы militia, или milizia, сохраняла чисто военный характер. Но звание, о котором идет речь, не было новшеством и уже само по себе указывало на намерение братьев Содерини и Макиавелли отобрать у аристократии часть ее исключительных прав, которыми она пользовалась в рамках системы правосудия. Недовольство все же улеглось после того, как в 1507 г. это звание было упразднено с приходом нового человека на место Корелло.
2000 «призывников» проявили себя, впрочем, весьма достойно при осаде Пизы, ради которой и проводился набор. Их ни при каких обстоятельствах не рассматривали как ударную армию и использовали в основном для поддержки и усиления частей наемников, без которых решительно невозможно было обойтись, но в итоге рекруты сыграли важную роль во взятии города, отрезав пути снабжения Пизы продовольствием в зимнее время, когда наемники, как правило, были «на отдыхе». Пиза пала 8 июня 1509 г., но Макиавелли с неменьшим рвением продолжил рекрутский набор. В Вальдарно и Валь-ди-Кьяне он провел набор в легкую кавалерию, что нашло отражение в указе 1511 г. «О наборе кавалеристов» (Ordinanza de’cavalli),[70] и продолжил укреплять пехоту.
«Причины призыва на военную службу»
Как следует из самого названия сочинения «Причины призыва на военную службу» (La Cagione dell’Ordinanza), он исключительно важен для понимания того, как развивалась мысль Макиавелли в период детальной разработки и осуществления одной из своих центральных политических идей. Тем паче что он, невзирая на уважение, которое ему всегда оказывали флорентийские власти, был всего лишь исполнителем (хотя и высокопоставленным).
Принцип набора рекрутов в ополчение не был нов: он был известен еще во времена Древнего Рима, о чем хорошо знали во Флоренции, по крайней мере в образованных кругах, где фигура консула-диктатора Цинцинната, который, вернувшись с войны, возвращался к труду пахаря, была знакома по сочинениям Тита Ливия, Аврелия Виктора и многих других. При жизни Макиавелли гуманист, епископ Франческо Патрици, приближенный богослова-эрудита папы Пия II Пикколомини, предлагал в 1470 г. в своем сочинении «Об устроении государства» (De institutione rei publicae), чтобы повсеместно молодые люди (flor iuventutis, «цвет молодежи», от двадцати до тридцати лет) проходили военную подготовку, поскольку государство неизмеримо лучше защищают собственные граждане, чем наемники.[71] Да и в самой Флоренции государственный деятель, посол Маттео Пальмьери (1406–1475), восхищался римским идеалом вооруженного гражданина, civis armatus, в известной «Книге о гражданской жизни» (Libro della vita civile), изданной во Флоренции в 1529 г. крупным издательским домом Giunta и имевшей большой успех во Франции под названием «Гражданская жизнь» господина Матье Пальмье, в переводе Клода Де Розье» (La Vie civile de Maistre Mathieu Palmier, traduite par Claude Des Rosiers) (Paris, Jean Longis, 1557). Немногим раньше сторонник и близкий друг Савонаролы Доменико Чекки предложил похожую военную реформу, а именно формирование армии по приходам на основе рекрутского набора в Флоренции и контадо. Он видел в этом род воспитания в духе гражданственности, при котором общее благо ставится выше частных интересов. Чекки не слишком углублялся в этом чисто теоретическом сочинении в практические детали, в частности, не касался стоимости содержания на военной службе ополченцев, разом лишавшихся средств к существованию. А возлагать все расходы по содержанию ополчения на город, как предлагал Чекки, было абсолютно нереально. Кроме того, Чекки ничего не предлагал относительно системы командования, хотя подобное предприятие не могло обойтись без участия военного специалиста. Но какой бы нереалистичной ни была «Реформа» (Riforma) Чекки, достоинство этого сочинения состояло в том, что в нем обосновывалась необходимость ради блага Флоренции привлекать к ее защите население контадо, что открывало путь нововведениям Макиавелли. Не везде в мире подобные проекты оставались на чисто теоретической стадии, опыт набора ополчения был опробован в других странах, в частности в 1448 г. во Франции, когда Карл VII объявил о рекрутском наборе для своей армии «вольных стрелков», освобождавшихся от налогов.[72] При этом французский король следовал, по всей видимости, более раннему примеру герцогов Бретонских, с 1425 г. набиравших лучников поочередно во всех приходах.
Таким образом, к тому моменту, когда Макиавелли приступил к реализации своего проекта призыва на военную службу, он опирался на основательную теоретическую базу и, как он подчеркивал в трактате «Причины призыва на военную службу», с самого начала ориентировался на «Институции» (Institutiones) императора Юстиниана, ставшие в Средние века образцом в том, что касалось определения границ imperatoria potestas (лат. «границ императорской власти»), и вслед за «Институциями» не разделял военное дело и правосудие: «Я оставлю в стороне вопрос о том, хорошо или плохо будет поставить ваше государство под ружье: каждый знает, что, говоря «империя, королевство, княжество, республика» или называя того, кто повелевает, будь то правитель самого высокого ранга или капитан маленькой шхуны, мы тем самым говорим «правосудие и оружие». Правосудия у вас немного, а оружия и вовсе нет [non punto]». Таким образом, принцип был обозначен: не бывает правосудия без армии; к этому принципу он вернулся в «Государе» (не бывает хороших законов без мощного оружия). Но Макиавелли не был кабинетным ученым, и ту связь, которую он испытывал на прочность на протяжении всей своей дипломатической карьеры, надлежало теперь использовать – в конкретных целях – в ходе набора флорентийского ополчения. Нигде в La Cagione он не обращается к прецедентам и примерам из философских и литературных текстов: ему приходилось быть конкретным и точным, чтобы добиться одобрения. И потому он берет для подтверждения своего тезиса только современные образцы: «milizia e ordine de’Tedeschi» (ит. «ополчение и регулярную армию у германцев»), иначе говоря, швейцарскую модель – и сразу подчеркивает прагматичный характер предприятия (необходимо взять Пизу и обороняться от натиска чужеземцев), ссылаясь на недавние бедствия: набеги на флорентийскую землю герцога Валентино, Вителлоццо Вителли и, совсем недавно, кондотьера Бартоломео д’Авьяно. И коль скоро следует связывать, по примеру Юстиниана, военную силу и право, то исходя из этого принципа крестьяне контадо станут с тем большей охотой записываться в ополчение, чем больше будут признаваться их личные права. Отсюда и общее заключение: логика подсказывает, что целью является приобщение всего флорентийского населения, сельского и городского, к доктрине рекрутского набора, основанной на доверии граждан к институциям власти. Из этого вытекает необходимость пересмотреть распределение властных полномочий во Флоренции, начав с создания Совета, независимого от optimates, городской олигархии, вызывавшей вполне справедливое подозрение у жителей контадо и нередко обеспечивавшей себе большинство в традиционных Советах, таких как Совет десяти, уже становившийся объектом ожесточенной критики.
Впрочем, приобщение Макиавелли к большой политике, как ни парадоксально, произошло благодаря его военной «карьере», поскольку 6 декабря 1506 г. была создана комиссия Novi di Ordinanza из девяти должностных лиц, возглавивших флорентийскую армию и ополчение, руководить которой (без жалованья) поручили, естественно, ему, и свою основополагающую речь по этому случаю он посвятил голосованию по финансированию, выделяемому новому совету, – «Речь о военной организации флорентийского государства» (Discorso dell’ordinare lo Stato di Firenze alle armi). Дон Мигель де Корелла получил подтверждение своих полномочий и поступил de facto в подчинение Совету девяти.
Но такое почетное назначение не превратило Макиавелли в кабинетного чиновника, его неоднократно встречали летом 1508 г. на дорогах контадо, где он набирал роту за ротой для усиления осады Пизы, с которой Синьория решила покончить после пятнадцати лет войны. Макиавелли, воспользовавшись случаем, спешно стянул свое ополчение в Сан-Миньято и в Пондетеру, а затем 21 августа привел его к стенам города. Пиза находилась в полной изоляции; обещанной финансовой помощи от французов и арагонцев ждать не приходилось. Конец близился, во Флоренции его торопили, и Макиавелли торопился больше всех, продолжая набор рекрутов и с придирчивостью устраивая им смотры в контадо. Его видели повсюду вблизи передовой позиции: в январе 1509 г. он приехал, к примеру, в устье реки Фьюмеморто, чтобы отрезать пути снабжения пизанцев продовольствием и обречь их на голод, перекрыв реку Арно и ее каналы. Он постоянно поддерживал сообщение между войсками, осаждавшими город, и столь необходимым арьергардом. Даже Совет десяти отдавал должное его настойчивости и упорству («Мы возложили на твои плечи весь груз ответственности за это предприятие») и постарался хоть немного облегчить его тяготы, назначив ему в помощники двух комиссаров: его старого недруга, сторонника аристократической факции Аламанно Сальвьяти, и Антонио де Филикайя, приора с 1503 г., которые обладали всеми необходимыми полномочиями для командования войсками. Это не мешало Макиавелли брать на себя любую работу, например, напоминать Лукке про обещание придерживаться нейтралитета или призывать к порядку синьора города Пьомбино, претендовавшего на роль посредника между Флоренцией и пизанцами. Осада Пизы, к которой активно привлекались «его» войска, была его великим предприятием, и, когда зашла речь о том, чтобы поручить ему организацию интендантской службы флорентийской армии в Кашине, он с достоинством отклонил предложение: «Я знаю, что находиться там не так опасно и не так тяжело, но если бы я желал быть вне всякой опасности, я бы остался во Флоренции… а там я буду бесполезен и умру от отчаяния». Он так много курсировал между тремя флорентийскими лагерями, что солдаты стали признавать в нем своего единственного командира, к великой досаде Сальвьяти, не скупившегося на оскорбления в его адрес, от которых он открещивался в своем письме к Макиавелли, пытаясь оправдываться: «Хотя солдаты признают только вас, вам хорошо известно, что вы там вовсе не для того, чтобы отдавать приказы!» Вскоре Сальвьяти умер от малярии там же под Пизой.
Не стоит удивляться, что 20 мая 1509 г. Макиавелли впервые встретился с пизанскими парламентерами, прибывшими для переговоров о капитуляции. Не стоит удивляться также и тому, что именно он сопровождал делегацию побежденных, когда она направилась во Флоренцию для заключения соглашения, на котором затем появилась его подпись (под подписью его начальника Марчелло Вирджилио Адриани).
Во Флоренции для Макиавелли наступила минута славы: весь лагерь сторонников его прославлял, а его друг, комиссар Филиппо да Каза Веккья, прислал ему из города Барга, где он служил, полные восхищения слова: «Вы достойны тысячи похвал за столь важное завоевание. Можно по праву сказать, что этим мы полностью обязаны вам, по крайней мере по большей части вам… Каждый день я открываю в вас пророка, достойного сравнения с самым великим из тех, кто был у еврейского или любого другого народа. Никкколо, Никколо, признаюсь, что не смогу передать словами всего того, что хотел бы высказать вам».
Никколо оставалось еще три года до окончания его карьеры.
6
Последние великие посольства
Макиавелли и Юлий II: «Натиск лучше, чем осторожность»
Занимаясь набором ополчения, Макиавелли должен был по-прежнему выполнять свою каждодневную работу секретаря Совети десяти и Второй канцелярии. Политическая ситуация во Флоренции была взрывоопасной, как и во всей Европе, где Германия в лице Максимилиана и Франция в лице Людовика XII пытались, соперничая друг с другом, утвердить свое политическое господство. Это неизбежно отражалось на политической обстановке во Флоренции, особенно в 1508 г., когда клан аристократов склонялся к союзу с Германией, а партия пополанов – к союзу с Францией. Однако с некоторых пор следовало считаться с еще одной влиятельной в контексте европейской политики фигурой, Юлием II делла Ровере, которого Макиавелли в «Государе» относит к числу политиков, «идущих напролом». Поддержка в светской жизни этого энергичного человека была в тот момент еще более необходимой из-за того, что мирное соглашение, заключенное в октябре 1505 г. между Францией и Испанией, казалось тогда, весной 1506 г., очень непрочным. Но понтифик первым пошел в наступление. Достойный продолжатель дела Александра VI Борджа, он сам вынашивал планы по созданию в центре Италии папского государства, которое могло бы соперничать с национальными государствами, Францией, Испанией или Германией. Однако на этот раз ему нужна была не Романья, а два города, Перуджа и Болонья, которые следовало «очистить» (по выражению папы) от их правителей, двух старых недругов Флоренции, Джампаоло Бальони, известного своими многочисленными предательствами, и болонца Эрколе Бентивольо. Для захвата этих городов у папы, возможно, и была вполне боеспособная армия, но в таком деле лучше было опереться на помощь доказавшего свою доблесть кондотьера. А тут Флоренция как раз заключила договор с наемным войском Маркантонио Колонны, который в недавнем времени успешно служил… под началом Бентивольо. Юлий II был наслышан о его проворстве и заслугах и всячески старался привлечь его на свою сторону, что, естественно, не устраивало флорентийцев. Вот почему было решено отправить самого лучшего дипломата, способного выиграть время, не вызвав при этом раздражения у столь влиятельной персоны. В роли такого дипломата мог выступать только Макиавелли, который уже не раз доказал свое мастерство и раньше, в переговорах с Людовиком XII, и совсем недавно, во время своих контактов со вспыльчивым герцогом Валентино. Итак, 27 августа он прибыл к Юлию II в Непи, под Витербо, куда папа явился в сопровождении большой свиты, напоминавшей скорее папский двор, чем армию. Положение Макиавелли было не из легких: то, что он собирался сказать, могло вызвать у понтифика большое неудовольствие. Суть дела, как он объяснил Юлию II, была проста. Флоренция конечно же не хотела отказываться от основных своих средств защиты, поскольку была окружена государствами хоть и невеликими, но способными причинить реальный вред. С другой стороны, Бентивольо не был врагом в буквальном смысле слова, несмотря на его склонность перебегать из одного лагеря в другой в зависимости от сиюминутной выгоды, притом его всегда поддерживали французы. Нападая на него, Юлий II подвергал себя риску, который не вполне осознавал. И наконец, ничто не доказывало, что папа, сделавшись хозяином Болоньи, не решит пощадить Бентивольо, который захочет отомстить флорентийцам, ставшим худшими из предателей в его глазах. Юлий II сразу все понял: он немедленно предъявил Макиавелли письма Людовика, в которых тот безоговорочно одобрял поход против своей давней союзницы Флоренции, и заверил его: Бентивольо не останется жить в городе как обычный гражданин, а он, Юлий II, не позволит ему занять более высокое положение. Ничего другого сказано не было, но Макиавелли, следуя с того момента за папой по пятам, еще раз услышал от него тому подтверждение. При этом папа добавил, что он отказывается от помощи, которую ему предлагают венецианцы, поскольку они могут потребовать в ответ нечто, что не понравится флорентийцам…
Папский двор – но Макиавелли к этому уже привык – без конца переезжал с места на место: то он оказывался в Витербо, то в Орвьето, в Кастильоне-дель-Лаго… или в Перудже. Проявив большую неосмотрительность, Юлий II остановился там 13 сентября, после того как хитрый Бальони побывал у него в Орвьето, пообещав отдать ему город. Макиавелли был поражен бесстрашием – или наивностью – понтифика и еще больше Бальони, который в итоге не стал чинить вреда тому, кто явился (вместе со всей Священной коллегией), чтобы сдаться на его милость. «Он не причинил зла тому, кто пришел отнять у него государство, писал он Совету десяти, что, видимо, есть следствие его незлобивой натуры или человеколюбивого характера. Чем все это кончится? Я не берусь этого предсказать». Бесстрашное поведение Юлия II оказалось вполне оправданным, и он пробыл в Перудже до 22 сентября. Макиавелли напишет впоследствии в «Государе» и в «Рассуждениях», как был изумлен таким «неудержимым натиском» Юлия II; свидетельство этому мы находим и в его знаменитых «Фантазиях» (Ghiribizzi), адресованных (но, видимо, так никогда и не отправленных) одному из Содерини, Джованбаттисте или его дяде гонфалоньеру. Это, возможно, единственное произведение, которое дает нам возможность составить представление о политических взглядах флорентийского секретаря, основываясь хотя бы на его оценке этого «хода» Юлия II. Речь в нем идет о «природных» темпераментах правителей, а также о различиях между эпохами, когда им приходится проявлять свои таланты. Успех их деятельности, как объясняет нам автор, зависит от степени соответствия личности своему времени: «Счастлив тот, кто согласует свои действия со своим временем, и, напротив, несчастлив тот, кто своими поступками отступает от своего времени и порядка вещей [l’ordine delle cose]». Такое совпадение темперамента с ситуацией может быть случайным, как в случае с Юлием II в Перудже, но в любых обстоятельствах способность людей сопротивляться фортуне очень ограниченна, поскольку они не способны сделать над собой усилие и изменить свой темперамент, сообразуясь с ситуацией: «Фортуна непостоянна; она управляет людьми и держит их в повиновении». Это нелицеприятное суждение смягчается пометкой на полях рукописи: «Испытывать судьбу, которая благосклонна к молодым, и меняться в соответствии с временами», которая задолго предваряет заключение к XXV главе «Государя»:
И все-таки я полагаю, что натиск лучше, чем осторожность, ибо Фортуна – женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать. Таким она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело: поэтому она, как женщина, – подруга молодых, ибо они не так осмотрительны, более отважны и с большей дерзостью ее укрощают.
Этой фразе о правильном обращении с фортуной суждено было войти в историю…
Неукротимый папа затем отправился, снова в сопровождении Макиавелли, в Губбио, потом в Урбино, а после в Чезену, где он под пристальным взором Макиавелли устроил смотр своим войскам. Но время шло, а положение в Болонье, которая была его основной целью, не менялось. Приехав в Форли, он не скрывал своего гнева. Сперва он разразился папской буллой в адрес Бентивольо, а это страшное оружие было доступно только ему, затем вызвал Макиавелли и сразу же без обиняков высказал свое главное требование: ему НУЖНО подкрепление, он требует Колонну! Макиавелли незамедлительно передал это требование Синьории, от которой без проволочек пришел ответ, и 16 октября он смог известить папу, что Колонна выступил в поход, расходы на который оплатила Флорентийская республика. Но и этим дело не кончилось: поскольку на пути из Форли в Болонью неизбежно предстояло проехать по флорентийской территории, Макиавелли снова пришлось сопровождать папу, переезжая от селения к селению (Модильяна, Палаццуоло…), всякий раз оплачивая путевые издержки из своего кармана. В Имоле Макиавелли не смог избежать встречи с посланцами Бентивольо, который в старые времена оказывал поддержку Флоренции… Макиавелли все же нашел республике оправдание: Бентивольо сам подал пример флорентийцам, поступившим с ним так, как он поступал с ними во времена, когда Чезаре Борджа был всесильным правителем.
Участие Макиавелли в предприятии на этом заканчивалось: вместо него прислали посла (Франческо Пепи), и он не присутствовал при торжественном въезде Юлия II в Болонью 11 ноября. На День всех святых он был уже во Флоренции, где снова стал отцом (всего у него родилось пятеро детей) и где ему пришлось столкнуться с участившимися нападками нобилитета. Его все больше отождествляли с гонфалоньером Содерини: он был, как говорили, его «mannerino» («кастрированным барашком»). Это весьма двусмысленное прозвище означало также «посредник». Буонаккорси предупредил его, что Аламанно Сальвьяти публично (на ужине) назвал его мошенником (ribaldo), несмотря на его успехи на дипломатическом поприще и на мудрую политику Пьеро Содерини, которому за четыре года удалось привести в порядок государственные финансы. Политическая обстановка во Флоренции все более обострялась: нобили, составлявшие большинство во многих ключевых Советах, противились как могли мерам Содерини, одновременно управлявшего Синьорией и расширенными Советами, где он мог рассчитывать на абсолютное большинство. Непрекращающаяся борьба с нобилитетом дала Макиавелли повод к рассуждениям, в частности в «Государе», о том, как вести себя с сильными мира сего.
Макиавелли и беспомощный император
Ставленник флорентийских нобилей пребывал в волнении: Максимилиан мечтал теперь о возрождении Священной римской империи и, судя по всему, жаждал в начале 1507 г. изгнания французов из Ломбардии. Нужно было вести за ним слежку и для этого отправить к нему посла. Содерини сразу назвал кандидатуру Макиавелли, но нобилитет ему воспротивился. Содерини уступил, и к императору направили Франческо Веттори. От него пришли плохие новости: Максимилиан не только собирался короноваться в Италии, но требовал, чтобы ему оплатили поездку. Судя по всему, Веттори был в большом затруднении, и Содерини удалось настоять, чтобы к нему на подмогу послали его любимца Макиавелли с поручением добиться от Максимилиана существенных уступок. И вот 17 декабря Макиавелли выехал из Флоренции на север… Он пересек неспокойную (французскую) Ломбардию и 11 января 1508 г. прибыл наконец в Больцано, ко двору немецкого императора, где начал переговоры: он предложил сначала 30 000 дукатов с выплатой в три этапа, затем 40 000 и ждал до 24 января ответа от Максимилиана, который желал немедленно получить 25 000. Насчет остального предстояло решить позднее, когда немцы прибудут в Италию. Но Больцано находился очень далеко от Флоренции, курьер перемещался медленно, и указания из Синьории поступали редко. Оба посла, впрочем прекрасно понимавшие друг друга, чувствовали себя как «на затерянном острове»: во Флоренции начали сомневаться в военной мощи Максимилиана, и послам велели остановиться на сумме в 60 000 дукатов, но предлагать ее только в том случае, если станет ясно, что у Максимилиана есть реальные возможности для похода в Италию. Двор Максимилиана тоже не сидел на месте и вскоре переехал в Тренто, потом в Инсбрук, снова в Больцано, а затем опять в Тренто; когда же Максимилиан наконец сообщил, что согласен на 30 000 дукатов, было слишком поздно: Макиавелли уже известил Синьорию о том, что спешить не стоит, а надо прежде всего оценить реальные силы и твердость намерений императора. Дальнейшие события полностью подтвердили его правоту: Максимилиану, потерпевшему поражение от венецианцев, пришлось отказаться от своих притязаний в Италии. Макиавелли, больной (он страдал от «камней в почках») и уставший, незамедлительно уехал во Флоренцию, куда добрался 16 июня. Миссия ко двору безликого и нерешительного императора было тяжелой, но от метаний этой ничтожной личности все же была польза: Макиавелли смог оценить сложившуюся в Германии обстановку и написать об этом в докладе «О положении дел в Германии» (Ritratto delle cose della Magna): это богатая страна («в ней много людей, достатка и оружия»), и богатство немцев проистекает оттого, что они «живут как бедняки, не строят, плохо одеты, и у них нет мебели в домах», они много производят и экспортируют и своими товарами «наводняют Италию». Они исключительно жадны к наживе и «не хотят даже идти на войну, если их не оплачивают со всей щедростью». Они отличные наемники, что вызывало особый интерес Макиавелли, хотя лошади в кавалерии экипированы недостаточно. «У них очень хорошая пехота, а пехотинцы хорошего телосложения, в отличие от швейцарцев, маленьких, чумазых и уродливых».
О положении дел во Франции (III)
Помимо не слишком успешного развития событий в Пизе, общая ситуация в Европе была чревата войной. Папа римский, укрепивший свои позиции благодаря успехам в Болонье и Перудже, стремился к новым завоеваниям. Максимилиан постепенно забыл о прежних неудачах и снова вознамерился связать свою судьбу с Италией. Что касается Франции, ее злейшим врагом, как известно, был делла Ровере, который безустанно повторял, что жаждет освободить Италию от варваров, пришедших из-за гор.
Камбрейский мир между Людовиком XII и Максимилианом позволил последнему добиться некоторых успехов на Апеннинах, чем он не воспользовался, так как не сумел собственными силами отвоевать Падую, и вернулся в свои земли. Перед отъездом он напомнил флорентийцам про долг, но на этот раз потребовал всего 30 000 дукатов (с выплатой в три этапа). Флорентийцы подчинились и заплатили ему в октябре сразу 10 000 дукатов. Относительно следующих 10 000 Макиавелли было поручено – положительно он становился мастером на все руки – доставить их в Мантую. И вот 10 ноября флорентийский секретарь отправился в путь с крупной суммой (конечно же в золоте) в сопровождении двух погонщиков мулов. Задача Макиавелли этим не ограничивалась; Синьория, как обычно, поручила ему изучить обстановку и представить отчет. Для Максимилианова войска ситуация складывалась неблагоприятная, как никогда ранее, повсюду, но особенно в Вероне, где у венецианцев и императорских войск дело вполне могло дойти до потасовки. Макиавелли прибыл в Верону, но там ничего не происходило, и в течение трех недель он напрасно ожидал с каждым днем все менее вероятного столкновения. Он явно скучал и, видимо, именно в Вероне, в период вынужденного безделья сочинил произведение в духе Горация, где описывал свои «амурные» похождения с участием старой проститутки, чье отталкивающее уродство он заметил слишком поздно. Шла ли речь о реальных событиях? Или, может быть, это была проба пера, литературное соперничество с знаменитыми образцами? Так или иначе, по прошествии трех недель он попросил у Совета десяти позволения вернуться, в первую очередь для того, чтобы не следовать дальше за императором, от которого он так устал и который сам уже возвращался в родные земли: в Инсбрук, а затем ради очередной, бесконечно долгой и изнурительной, ассамблеи в Габсбург. Разрешение было дано немедленно, и 2 января он был уже во Флоренции.
Во Флоренции ему угрожали неожиданные неприятности. Распространился слух, что он не имеет права исполнять должность секретаря из-за происхождения отца. Некий человек в маске в сопровождении двух свидетелей донес на него властям – об этом написал ему бдительный Буонаккорси, уточнив, что некоторые члены Советов поверили этим сомнительным утверждениям. Стало быть, лучше всего, предупреждал Буонаккорси, ненадолго отложить возвращение. Макиавелли не стал ждать. Что же стояло за этими утверждениями? Некоторые усматривали в этом намек на «внебрачное рождение» Бернардо, другие, с большей вероятностью, на его неплатежеспособность, что могло или должно было закрыть ему доступ к официальным должностям. Эта история обошлась без последствий: Макиавелли был под покровительством гонфалоньера, что как минимум ограждало его от клеветы. Но на этом неприятности не закончились, поскольку в Риме он оказался втянут в судебную тяжбу, начавшуюся по неизвестным нам основаниям. Некоторые, и среди них историк Роберто Ридольфи, предположили, что это было дело о церковных бенефициях, связанное с разделом имущества после того, как брат Тотто вступил в права наследства…
Основной проблемой регионального масштаба являлись, в первую очередь, экспансионистские устремления Юлия II, все более агрессивно настроенного против Франции и не допускавшего ни малейших признаков ее присутствия в Италии. Кардинал Руанский умер несколькими месяцами раньше, и больше некому было сглаживать противоречия между двумя сюзеренами. Флорентийская республика, прекрасно сознавая, какую опасность представлял понтифик, оказалась меж двух огней и не знала, как ей быть. Прежде всего следовало в очередной раз выяснить, чего ожидать от Франции. Туда и направили Макиавелли, сопроводив его тремя указаниями: Совет десяти желал, чтобы он разведал намерения короля, Пьеро Содерини – чтобы убедился в его верности, а кардинал Франческо Содерини хотел, чтобы он приложил все свои таланты к сохранению хороших отношений между Людовиком XII и папой…
Макиавелли прибыл ко двору в Блуа, имел продолжительную беседу с всесильным министром Роберте, затем с самим королем, причем оба ждали от него четкого ответа относительно позиции республики в случае конфликта. Макиавелли изложил все обстоятельства в письме к Совету десяти. Он знал, что ответа придется ждать долго, и тем временем беседовал со всеми, кто имел влияние при дворе, разузнавая об их отношении к Юлию II: весь двор высказывался о нем хуже некуда, что подтверждал ему и папский легат, удрученный тем, как мало уважения испытывают при французском дворе к понтифику… 8 августа на охоте у него появилась возможность побеседовать с королем о положении дел в Италии. Из этой беседы он сделал вывод, что Флоренция в случае военного конфликта вынуждена будет примкнуть к одной из сторон, и незамедлительно сообщил о своих соображениях Совету десяти. Роберте спросил у него, не захотят ли флорентийцы в случае победы в войне подчинить себе Урбино? Нет, флорентийцы предпочитают Лукку… Но французы проявляли все большую настойчивость, и Макиавелли был вынужден предупредить об этом Совет десяти: «Эти люди хотят любой ценой вовлечь нас в эту войну…» Людовик XII готовил Галликанский собор, а в это время папа совершил нападение на Модену, но папские швейцарцы наткнулись на сопротивление Ломбардии. В довершение всего при дворе вспыхнула эпидемия коклюша. Не только король, но и Макиавелли не избежал этой участи: усталый, больной, он узнал к тому же, что урожай в Сант-Андреа в Перкуссине будет скудным, и попросил прислать себе замену. Флоренция направила ему на смену нового посла, который пустился в путь и ехал неспешно, с частыми остановками, к месту своего посольства, где Макиавелли все больше выходил на первый план. По счастью, Юлий II воспылал гневом, вконец озлобившись на Флоренцию, вознамерился сменить ее правительство, на его взгляд слишком франкофильское, и оскорбил ее послов, отчего позиция Флоренции в этом конфликте стала очевидна для всех. Макиавелли, находясь в Туре, полагал, что его миссия закончена. Тем не менее он дождался нового посла, ввел его в курс дела и отправился в обратный путь. Он прибыл во Флоренцию 19 октября и представил Совету десяти безрадостный отчет: конфликт между папой и королем неизбежен, и Флоренция будет в него втянута.
Последующая дипломатическая деятельность Макиавелли была связана с этой непростой войной, состоявшей как в военных действиях, так и в религиозном противостоянии. При этом Флоренция преследовала цель избежать участия в конфликте, куда помимо воли она вовлекалась все больше и больше. Хуже всего в этих обстоятельствах было то, что Людовик XII решил атаковать понтифика при помощи его же оружия, пожелав провести церковный собор в Пизе, чтобы свергнуть папу с престола! Однако во всем западном мире с 1509 г. принято было считать, что Пиза находится в вассальной зависимости от Флоренции. Если бы собор прошел там, это недвусмысленно указывало бы на то, что Флоренция его поддерживает, а она хотела всеми силами этого избежать. К тому же Юлий II угрожал захватить всех флорентийских купцов на территории папского государства и наложить на город интердикт. Флоренция, надеясь, что папа утратит свое влияние после полной победы французов при Аньяделло и тяжелейшей болезни, которая должна была положить конец правлению «papa terribilis» (лат. «грозного папы»), из-за притязаний Франции оказывалась теперь на передовой позиции лицом к лицу с понтификом, воскресшим в том, что касалось его здоровья, и полностью восстановившимся по части своих амбиций. При этом папа, пытаясь воспрепятствовать Галликанскому собору, сам призвал провести официальный собор в Латерано и своей буллой Sacrosanctae отлучал от церкви всех тех, кто будет участвовать в пизанском соборе… В этих условиях Макиавелли снова послали во Францию, с тем чтобы он всеми способами помешал проведению этого злосчастного собора и прежде всего разубедил мятежных кардиналов ехать в Пизу. Четверых из них, кардиналов Гийома Брисонне, Франсиско Борджа, Федерико Сансеверино и Бернардино Карвахала, он встретил по дороге между Пьяченцей и Пармой. Ему не удалось отговорить их от поездки в Пизу, но он заметно охладил их пыл. Вслед за этим он приехал в Милан, где остановился для очень короткой миссии у вице-короля и откуда уехал уже 15-го. 22-го он прибыл в Блуа, где располагался французский двор, и встретился с официальным посланником Флоренции Роберто Аччайоли. Со следующего дня Флоренция находилась под действием папского интердикта, а оба посла уже были у короля, который в итоге отказался отменить собор или изменить место его проведения, но согласился по их просьбе отложить его до Дня всех святых. Откладывать события, если нельзя их отменить, стало основной дипломатической тактикой во Флоренции XVI в. Макиавелли по неясным причинам оставался при короле три недели (возможно, из-за усталости), вернулся он 2 ноября и сразу же отправился в Пизу, где уже проходил по инициативе французов очень немногочисленный собор. Туда приехала всего горстка кардиналов (четверо из шести действительных голосов), четырнадцать епископов и четыре французских аббата, а также один итальянский. Жители были настроены враждебно, местное духовенство тоже, и Совет десяти, опасаясь, что членам собора будет оказан плохой прием, послал Макиавелли защищать их силами войска, набранного из числа ополченцев. Но миссия Макиавелли была в действительности шире: добиться от участников совета, чтобы они перебрались во Францию или в Германию, где, как он объяснил кардиналу Карвахалу, «народ более расположен к покорности, чем народ Тосканы». Но все было напрасно: такого рода решение было не в их компетенции. Синьория, сказал Макиавелли, больше уже не в состоянии им помочь. Под напором враждебно настроенной толпы несчастные после очередного заседания отправились для продолжения собора в Неаполь. И тем не менее Юлий II все еще гневался на флорентийцев: мир с папой был восстановлен только после ухода от дел Содерини. По возвращении во Флоренцию Макиавелли обнаружил, что за время его миссии во Франции общественное мнение изменилось: папу больше не порицали и мало кто был расположен вступать с ним в войну. Союз с Францией обречен, тому было множество признаков; особенно сильное впечатление произвел случай, когда молния ударила в здание канцелярии, повредив золотые лилии, украшавшие портал!
Пребывание Макиавелли во Франции помогло ему собрать весьма точные сведения, которые (в 1510 г.?) он изложил в коротком, но емком докладе «О положении дел во Франции» (Ritratto delle cose di Francia), где он как дипломат (или шпион) высокого ранга объясняет, что лежит в основе могущества этой страны: князья находятся в подчиненном положении, поместья не дробятся, а передаются от отца к перворожденному сыну. Страна отличается изобилием: «Франция благодаря своей протяженности и преимуществам, которые дают большие реки, плодородна и богата, продовольствие и рабочая сила там стоят дешево, почти что ничто». Однако на это богатство ложатся тяжелым бременем церковные поборы: «Прелаты во Франции получают две пятых с рент и доходов королевства, в котором множество епископств, [и] все, что попадает им в руки в виде налога с десятины и других денег, они не выпускают из рук, как и подобает церковникам, известным своей скупостью». Французы покорны своему королю, они опасаются только англичан «из-за разорительных набегов и грабежей, которые те чинили встарь во французском королевстве», и не боятся ни испанцев, ни фламандцев, ни итальянцев. Однако же они опасаются швейцарцев, «набеги» которых опасны. Макиавелли перечисляет суды, университеты… и описывает в деталях, без прикрас, устройство французского двора и армии, останавливаясь на обычае, который не может оставить его равнодушным: содержать вольных стрелков, оплачиваемых городом из расчета один человек на приход, обеспечивая им военное снаряжение и коня в полной готовности, чтобы в любой день выступить в поход по приказу короля.
22 ноября 1511 г. Макиавелли и гонфалоньер Содерини составили свое завещание.
Угроза со стороны арагонцев, ударной силы папского войска, становилась все явственней: к папе отправили послом историка Франческо Гвиччардини, но предложения, с которыми он приехал, исходили от Содерини… этот абсолютно напрасный шаг вызвал к тому же неудовольствие французов.
7
Макиавелли и конец республики
Возвращение Медичи
С этого момента события ускорились: победа французов в битве при Равенне 11 апреля 1512 г., в которой погиб бесценный Гастон де Фуа, не принесла ожидаемых плодов. Хуже того: столкнувшись с угрозой нападения швейцарских наемников Максимилиана, в июне Франция оставила Ломбардию, и традиционный союзник флорентийских пополанов проделал бесславный обратный переход через Альпы, более не в силах поддерживать своих друзей… Зато для Юлия II настал миг триумфа – вполне земного, поскольку он снова получил Болонью, Пьяченцу, Парму и бо́льшую часть Романьи. Святой престол даже потребовал от Флоренции присоединения к антифранцузской лиге, но Синьория, как обычно, увильнула от ответственности, предложив лишь разделить расходы… Однако было уже поздно: в Тоскану вошли войска вице-короля Неаполя Рамона де Кардоны. Разумеется, этому предшествовал приезд Макиавелли, слывшего во Флоренции специалистом по военным вопросам. Он предложил с отрядом в тысячу ополченцев дождаться испанцев в Фиренцуоле, но гонец, присланный Содерини, предупредил его, что испанцы «развернули» свои позиции и на самом деле подходят южнее, со стороны Барберино-ди-Муджелло, с целью затем спуститься к Прато. Остановившись в окрестностях города, Кардона отправил к Содерини гонцов с требованием отказаться от власти и позволить Медичи вновь поселиться во Флоренции на правах простых граждан (возместив ему расходы в произвольно названном размере в 100 тысяч дукатов). Содерини сообщил, что подобные вопросы решает не он, а народ, который, когда к нему обратились, ответил отказом. Месяц спустя Макиавелли рассказал в письме об этом заседании Большого совета: Содерини ради спасения мира предложил пожертвовать собой, согласившись вновь стать простым гражданином. Тогда члены Совета, восхищенные его благородством, в один голос заявили, что готовы положить свои жизни на защиту города.
Кардоне пришлось осадить Прато. Боевой дух в его войске, не слишком многочисленном (пять тысяч пеших и две сотни конных солдат), страдавшем от нехватки оружия и дурной пищи, оставлял желать лучшего. Первая же предпринятая атака была легко отражена флорентийцами. Кардона, разуверившийся в успехе, отправил врагу послание с новыми условиями: он готов снять осаду, если ему выплатят 3000 дукатов, а его воинов снабдят хлебом. Содерини, к великому несчастью флорентийцев, вновь ответил отказом, за что годы спустя его горько упрекал Макиавелли (в XXVII главе книги II «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», озаглавленной «Благоразумные государи и республики довольствуются победой; кто ищет большего, часто находит лишь собственную гибель»: «Оказавшись на равнине, не увидев никого и испытывая нужду в пропитании, они [испанцы] попытались добиться соглашения; возгордившийся народ Флоренции отверг предложение, в результате чего последовало падение Прато и его правительства».[73] После отказа Содерини Кардона 29 августа предпринял вторую атаку, и его жалким пушкам удалось пробить брешь в крепостных укреплениях Прато. Регулярная армия в этом случае бросила бы все силы на то, чтобы ее заткнуть, но… отряды ополчения Макиавелли, охваченные паникой, бросились спасаться бегством, оставив поле боя едва живым от голода испанцам, которые предались безудержным грабежам, убийствам и насилию. Если верить Макиавелли, число погибших достигало 4000 человек. В близко расположенной Флоренции, отныне лишенной защиты, также возобладала паника: женщины из почтенных семейств укрылись в монастырях, торговцы покинули город, стражники, охранявшие дворец Синьории, испарились без следа. Однако улицы города в считаные часы заполнились молодыми сторонниками Медичи – palleschi, – которые собирались на площадях, оглашая их криками: «Palle! Palle!» (ит. «Клубки! Клубки!»). Редких сторонников Содерини, осмелившихся высунуться из своих палаццо, осыпали насмешками и ударами. Кардона воспрянул духом и потребовал вначале 60, а затем и 120 тысяч дукатов, особенно настаивая на уходе Содерини и возвращении Медичи. У Содерини земля горела под ногами. Ему все стало ясно, когда в его покои во дворце ворвался отряд молодых аристократов и, угрожая шпагами, потребовал освобождения 25 своих сторонников, ранее из предосторожности брошенных в застенок. Осознав, что игра проиграна, Содерини вызвал Макиавелли и попросил связаться с его другом Веттори, пользовавшимся благосклонностью сторонников Медичи. Веттори прибыл во дворец, и Содерини сообщил ему, что готов уступить власть, если ему и его семье будет гарантирована безопасность. Несколько часов спустя Содерини в сопровождении Веттори уже выехал из города в Сиену. Его ждала долгая ссылка.
С отъездом гонфалоньера во Флоренции образовался политический вакуум. Впрочем, ненадолго. 1 сентября в город вернулся Джулиано Медичи – под приветственные возгласы своих друзей и в удивительно скромном экипаже, долженствовавшем свидетельствовать, что Медичи уже не те, что были до изгнания. Всем теперь заправляли вооруженные palleschi, которые не допустили созыва Большого совета вплоть до 14 сентября, когда во Флоренцию в свою очередь вернулся – с триумфом – кардинал Джованни Медичи. Два дня спустя Медичи собрали на площади Синьории неофициальный parlamento, в который вошли исключительно palleschi. Этот «парламент» назначил комиссию, разумеется, в сокращенном составе, – она называлась balia и включала сначала 46, а затем 66 горожан, – с целью реформировать правительство. Балья немедленно приступила к ликвидации системы, действовавшей с 1494 г. Совет девяти, возглавлявший ополчение, был распущен – как, собственно, и само ополчение. Должность гонфалоньера перестала быть пожизненной, срок ограничили 14 месяцами. Большой совет также был распущен, и была воссоздана система многочисленных Советов, которые до 1494 г. служили Медичи своего рода прикрытием политической власти, на самом деле безраздельно принадлежавшей этому семейству. На должность гонфалоньера был назначен Ридольфи – фигура, устраивавшая все стороны, – тогда как Макиавелли остался при должности секретаря Совета десяти и Второй канцелярии. Его поведение в этот «латентный» период представляется довольно странным. Сохранилось письмо, в котором он подчеркнуто сухо пересказывает ход событий, приведших к падению Содерини: адресованное некой «даме благородного происхождения» (вероятно, Изабелле д’Эсте, супруге маркиза Мантуи Франческо Гонзаги), оно выдержано в весьма почтительном по отношению к Медичи тоне. Горожане, по его мнению, всеми силами желают жить столь же достойно при Медичи, как жили прежде, «во времена правления их отца Лоренцо Великолепного, оставившего по себе столь славную память». Это еще не все. 29 сентября Макиавелли в одном из писем (он напишет их как минимум два) советует кардиналу Джованни Медичи проявить мудрую сдержанность в возвращении имущества, прежде конфискованного у семейства Медичи; складывается впечатление, что в первые дни установления нового режима Макиавелли поверил в возможность восстановления связи времен, прерванной в 1489–1512 гг. свободным правлением, рассматриваемым как отступление: «Полагая, что искреннее расположение послужит извинением моей самонадеянности, позволю себе дать вам следующие советы…» Далее идут слова, которые мы встретим и в «Государе»: «Государь… должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества». Макиавелли также позволяет себе выступить с «Увещеванием сторонникам Медичи», в котором настаивает на тщетности оголтелой хулы в адрес Содерини с его «ошибками» с целью понравиться новым хозяевам. Здесь парадоксальным образом проявляется наивная неспособность Макиавелли понять озлобленность Медичи, униженных долгой ссылкой, отчасти стоившая ему репутации циника: он верил во всемогущество разума, перед которым должны отступить гнев, ненависть и вражда. Медичи – элита, люди воспитанные и блестяще образованные; как можно сомневаться, что, вернувшись к власти, они не сумеют побороть свои страсти и не прислушаются к голосу разума? Известно же, что разум не нуждается в гриме, а достоинства государя (гл. XXII–XXIII) измеряются достоинствами его советников, главным талантом которых остается честность!
Как бы то ни было, вместе с Пьеро Содерини с политической сцены исчез основной элемент созданной им политической системы. Судьбы Макиавелли и Содерини были неразрывно связаны на протяжении десяти лет, с момента избрания последнего пожизненным гонфалоньером. Макиавелли в гораздо большей степени, чем секретарь Первой канцелярии добродушный гуманист Марчелло Вирджилио Адриани, был советником Содерини по международным делам в самом широком смысле слова, шла ли речь о малознакомом и всегда таящем угрозу государе наподобие Людовика XII или Максимилиана, неистовом, необузданном итальянце вроде герцога Валентино или папы Юлия II или одном из бесчисленных местных князьков, которых легальная дипломатическая деятельность Макиавелли вообще не должна была касаться. Человек, способный исполнить любую миссию, вплоть до инспекции укреплений, он ни разу не подвел Содерини, и тот никогда не скупился на его поддержку, охотно воспринимая его зачастую оригинальные предложения, например идею о создании ополчения.
Как ни странно, в своих политических сочинениях Макиавелли не только не ставит Содерини в пример другим, но и осыпает его упреками, особенно негодуя на два его качества, по его мнению, несовместимые с успешным управлением: доброту и терпение. Так, в третьей книге «Рассуждений о первой декаде Тита Ливия», объясняя суровую необходимость при «переходе от республики к тирании или от тирании к республике» принимать «запоминающиеся меры… против тех, кто противится новому положению вещей», в качестве отрицательного примера он приводит как раз Содерини, «который надеялся терпением и добротой победить жажду сыновей Брута вернуться к иному правлению, но ошибался» (кн. III, гл. III). Политическая наивность послужила причиной его падения, а также «его власти и репутации… ибо он не знал, что злокозненность нельзя ни усмирить со временем, ни смягчить подарками». Еще более серьезным недостатком он называет неспособность приспосабливаться в своих поступках к конкретной ситуации и обстоятельствам: «Пьеро Содерини… всегда действовал гуманно и терпеливо. Он и его родина процветали, пока времена благоприятствовали подобному поведению, но едва настала пора, когда следовало порвать с терпением и смирением, он не сумел этого сделать и погубил и себя, и родину» (кн. III, гл. IX). Образцом для подражания, по его мнению, мог бы быть Юлий II делла Ровере, с которым, впрочем, Макиавелли не ладил: «Папа Юлий II на всем протяжении своего понтификата действовал с натиском и яростью; поскольку времена тому благоприятствовали, все его начинания удались». Мысль о том, что политический деятель обязан соотносить свою «психологию» с духом времени, постоянно возникает в его политических трудах; мы обнаруживаем ее и в XXV главе «Государя», где он противопоставляет тех, кто действует с осторожностью (впрочем, не называя Содерини), тем, кто идет напролом, как Юлий II, правда, уточняя, как и в «Рассуждениях», что в мирные времена подобное поведение не привело бы его к успеху. Как ни странно, человек, который привлек Макиавелли к управлению государством, предстает у него образцом политического провала; складывается впечатление, что Макиавелли не мог ему простить миролюбия, неприемлемого во времена постоянных конфликтов. Упреки в адрес покровителя, чье падение повлекло за собой и отставку Макиавелли, продолжали сыпаться на него и после кончины. Мы не можем не привести здесь колкую эпиграмму, сочиненную Макиавелли в 1522 г., когда он узнал о том, что бывший гонфалоньер умер:
- Пьер Содерини жил на белом свете,
- И вот душа его явилась в ад,
- Но тут Плутон вскричал: «Ступай назад,
- В преддверье ада, где другие дети!»[74]
Пытка дыбой
Новые правители не отличались благородством, и с их приходом началось «сжатие» (serrata) политического класса. 7 ноября 1512 г. Макиавелли, поверившему было в их великодушие, пришлось испытать жестокое разочарование: Синьория, проявив абсолютное единодушие, лишила его всех должностей: «Cassaverunt, privaverunt, et totaliter amoverunt» (лат. «Его сломали, обездолили и полностью отстранили от дел»). Как, впрочем, и его верного соратника Буонаккорси, разделившего с ним опалу, – в отличие от добряка Марчелло Вирджилио Адриани, под началом которого работал Макиавелли, – тот сумел доказать, что не слишком запятнан сотрудничеством с пополанами, поскольку выступал лишь в роли скромного чиновника-эрудита, никогда самостоятельно не принимавшего важных решений. 10 ноября Синьория объявила Макиавелли, что ему запрещено в течение года покидать территорию Флоренции, и потребовала внести залог в размере 3000 золотых флоринов; эти деньги за него выплатили три друга, имен которых мы не знаем. 17 ноября – новый запрет, на сей раз касающийся посещения Палаццо-Веккьо; отныне Макиавелли мог попасть во дворец исключительно по вызову новых властей, дабы отчитаться за гигантские суммы, потраченные на содержание ополчения. Ирония судьбы заключалась в том, что отчитываться ему пришлось в том числе и перед Адриани. «Аудит» продолжался до 10 декабря.
18 февраля 1513 г. в дверь Макиавелли постучали вооруженные люди. Дома его не оказалось, и вскоре был издан эдикт, предписывающий всякому, кто знает, где он прячется, немедленно сообщить об этом властям. Макиавелли, не желая навлекать на головы друзей неприятности, сдался сам и тут же был брошен в сырую темницу в тюрьме Стинке. Дело в том, что Медичи чувствовали себя во Флоренции не слишком уверенно, особенно учитывая, что папа был ими крайне недоволен: он поддержал «революцию», сместившую Содерини, не для того, чтобы кардинал Джованни получил тираническую власть, а для того, чтобы полностью подчинить его себе. Если добавить озлобленность республиканцев, не желавших мириться с поражением, то нетрудно понять, почему Медичи ощущали себя со всех сторон окруженными недоброжелателями. Поэтому, когда им донесли, что два видных горожанина, Агостино Каппони и савонаролец Пьетропаоло Босколи, замышляют заговор, они не могли не ухватиться за столь удобный повод, тем более что при одном из задержанных нашли список из двух десятков фамилий других «заговорщиков». За дело взялся Совет восьми. Обоих арестованных допросили с пристрастием, и эти салонные бунтовщики признались, что готовили убийство кардинала и/или Джулиано. В действительности в списке фигурировали имена потенциальных противников Медичи, с которыми Каппони и Босколи только собирались установить связь. Но Совет восьми решил, что всех их следует немедленно схватить и подвергнуть пытке. Под номером седьмым в списке значился Макиавелли. Его пытали шесть раз, поскольку он лично знал Босколи и еще двух предполагаемых заговорщиков. Макиавелли держался стойко, впоследствии отмечая, что палачи отнеслись к нему с мягкостью. Между тем это была настоящая пытка дыбой: человеку, стоящему на специальном помосте, заламывали руки за спину, связывали их веревкой и поднимали вверх. Затем помост опускали, и несчастный падал в пустоту, выворачивая себе запястья и плечевые суставы. За двадцать два дня заключения Макиавелли перенес подобное истязание шесть раз, но не назвал ни одного имени.
23 февраля Босколи и Каппони казнили. Ранним утром Макиавелли услышал звуки молитвы Pro eis ora («Молись за них») – осужденных вели на казнь. Он был один, лишенный какой бы то ни было поддержки, и понимал, что ему тоже грозит гибель. Единственной его надеждой в этих условиях оставалось семейство Медичи. Кардинал от него явно отвернулся. Зато Джулиано… Про него говорили, что он большой поклонник литературы, особенно поэзии. И закованный в кандалы Макиавелли сочиняет самоуничижительный сонет в духе стихотворений Клемана Маро, написанных в сходных обстоятельствах.
- «Я к вам пришел, чтобы молиться с вами»…
- Что ж, виноваты сами!
- Пусть подыхают в петле. В добрый час!
- А я помилованья жду от вас.[75]
В первых числах марта наконец начинается суд. Выносятся приговоры, но относительно мягкие: кого-то приговаривают к тюремному заключению, кого-то – к изгнанию (Валори и Фольки на два года в Вольтерру), кого-то – к штрафам… Макиавелли отделался залогом – то ли сработал сонет, то ли сказалось вмешательство его друга Веттори, занимавшего должность посланника в Риме.
Между тем 21 февраля скончался Юлий II делла Ровере. Кардиналу Медичи повезло – уже 11 марта, после пятидневного заседания конклава, он был избран папой под именем Льва Х. Флоренция ликовала; каждый, независимо от того, к какому сословию принадлежал, рассчитывал извлечь из этого избрания выгоду, прежде остававшуюся привилегией знатных римских семейств. Празднества продолжались пять дней и пять ночей. Перед дворцами Медичи жгли повозки. Распахнулись двери тюрем; даже Содерини был прощен. Макиавелли, выйдя на свободу, был озабочен одним: как вернуть себе расположение людей, которым, по всей очевидности, предстояло на долгие годы взять в свои руки бразды правления во Флоренции. Первым делом он сочиняет поэму, прославляющую наступление мира, озаглавленную «Песнь блаженных духов» (II Canto degli Spiriti Beati). Затем пишет «благодарственное» письмо Франческо Веттори, в котором просит покровительства для своего брата Тотто, мечтающего попасть в папское окружение, и службы для себя при его святейшестве. Между Макиавелли и его «другом» Веттори завязывается обильная переписка, причем второй не жалеет красноречия, пытаясь объяснить первому, почему его просьбы не могут быть исполнены.
В конце концов Макиавелли с этим смирился, о чем свидетельствует его письмо от 18 марта: «Если нашим господам представляется разумным не отказываться от моих услуг, я буду счастлив и стану действовать таким образом, что они о том не пожалеют. Если же они не желают ничего обо мне знать, я продолжу жить как жил. Я родился в бедности и познал страдание прежде, чем испытал радости жизни». Он понимает, что особенно рассчитывать на Веттори не приходится: в Риме эгоизм флорентийского посланника вошел в поговорку, если он кому-то и помогает, то исключительно самому себе. Макиавелли в надежде освежить добрые воспоминания Джулиано отправляет ему в подарок нанизанных на вертел дроздов. 30 марта приходит письмо от Веттори, который со свойственной ему «деликатностью» сообщает, что папа и слышать не желает о Макиавелли; добиться места для Тотто ему тоже не удалось. Письмо задело Макиавелли за живое. Он отвечает Веттори, что оно «причинило ему боль горшую, нежели пыточные веревки». И добавляет, что решил пустить дело на самотек. Но политика у него в крови, и 9 апреля он пишет «другу» свое знаменитое исповедальное письмо: «Судьбе было угодно, чтобы я, не имея талантов говорить… ни об убытках, ни о прибылях, говорил о делах государственных, и потому я должен или дать обет молчания, или только о них и вести речь». В это же время ему становится известно, что Франческо Содерини, тот самый кардинал Содерини, с которым они так легко нашли общий язык в Риме, снова благосклонно принят верховным понтификом. Сейчас или никогда! Надо просить его о покровительстве! Веттори спешит охладить энтузиазм Макиавелли и в который раз напоминает ему, что одно лишь его имя пробуждает при папском дворе память о слишком недавних и слишком мучительных событиях… Макиавелли его не слушает. В середине апреля Джулиано собирается в Рим; почему бы ему не замолвить словечко за несчастного страдальца? 16 апреля он все еще верит, что может вернуть себе благосклонность сильных мира сего:
Мне трудно думать, что, действуя с известной ловкостью, я не сумею добиться своего и получить должность если не во Флоренции, то при папе или при Церкви, где на меня, полагаю, смотрят с меньшей подозрительностью! Я глубоко убежден, что, стоит Его Святейшеству хоть раз прибегнуть к моим услугам, это принесет благо не только мне; я сочту за честь оказаться полезным всем, кто отнесется ко мне по-дружески.[76]
Веттори медлит с ответом, а когда отвечает, предпочитает пересказывать римские сплетни. Впрочем, это не мешает ему обратиться к Макиавелли за советом, когда политическая ситуация в Европе становится слишком запутанной: после перемирия, заключенного между королями Франции и Испании, венецианцы вступают в союз с французами, и Веттори не понимает ни почему, ни как это произошло. Обрадованный Макиавелли – еще бы, «другу» удалось задеть в его душе самую чувствительную струну! – в письме от 29 апреля дает поразительный по глубине и проницательности политический анализ событий. В ответ – молчание. 20 июня обеспокоенный Макиавелли («несколько недель назад я изложил вам свои соображения по поводу перемирия между Францией и Испанией, но с тех пор не получил от вас ни одного письма») возвращается к той же теме, уточняет свои выводы и оттачивает формулировки. Наконец переписка возобновляется, и Веттори просит Никколо обеспечить ему «своим пером мир» – это его-то, который с 1498 по 1512 г. славился как раз умением вести острую полемику. Макиавелли, хоть и отстраненный от важных дел, включается в игру, но все больше поддается пессимизму. «Если у нас мудрый, серьезный и уважаемый папа, – пишет он 26 августа, – то «император у нас легкомысленный и непостоянный, король Франции – гневливый и трусливый, король Испании – бестолковый и скупой, король Англии – богатый, отважный и падкий до славы; победители-швейцарцы грубы и дерзки, а мы, итальянцы, бедны, тщеславны и униженны». На это письмо Веттори не ответит.
Из переписки с посланником, в которой вопрос о его личном будущем постепенно отступал на второй план, Макиавелли сделал следующий вывод: масштаб его «полезности» изменился, иначе говоря, ни папа, ни римские Медичи не возьмут его на службу, во всяком случае, при нынешнем положении вещей. Условия для его возвращения еще не сложились. Но в его колчане оставалась еще одна стрела: члены Совета десяти, в том числе Содерини, привыкли на протяжении многих лет просить у него «советов», а роль советника при государе в политическом контексте итальянского Возрождения считалась весьма престижной – не случайно в большинстве тогдашних руководств особое внимание уделялось изучению вопроса о «хороших» и «дурных» советчиках.
Разумеется, страсть давать советы совсем недавно, когда Макиавелли вздумалось делиться с Медичи своими соображениями о том, как следует вести себя семейству, после долгого изгнания вернувшемуся в те края, откуда оно бежало после переворота, сослужила ему дурную службу. Что ж, это означает лишь, что ему надо сменить тактику. Италия, как он признает, «унижена» и нуждается в преобразованиях. Он по-прежнему будет давать советы, но не столь прямолинейно; он постарается «объяснить» Медичи, в чем состоит их миссия в новой Италии, пережившей катастрофу французского нашествия. Но, не располагая личным состоянием и ни гроша не получая от Синьории, Никколо был вынужден удалиться в родную деревню Сант-Андреа в Перкуссине. Именно там был создан обращенный к Лоренцо Медичи бессмертный «Государь».
8
Сант-Андреа, или время шедевров
Деревенское заточение
В местечке под названием Сант-Андреа в Перкуссине, расположенном в одиннадцати километрах от Флоренции, Макиавелли проведет восемь месяцев, заполненных вынужденным досугом, работая над произведением, которое принесет ему мировую славу, хотя при жизни у него не мелькнет ни малейшей догадки о том, какой размах приобретет эта слава. Дом, в котором жил Макиавелли, отличался простотой; соседка называла его Albergaccio (ит. «убогая харчевня»). Макиавелли в меру сил надзирал над работами, проводившимися в его скромном поместье, деля свое время между общением с современниками и с другими, более любезными его сердцу собеседниками – великими авторами классической литературы, как он сам сообщает об этом в одном из самых известных своих писем от 10 декабря 1513 г. к Франческо Веттори, тогда «светлейшему послу» Флоренции при папском престоле и его единственному заступнику перед Медичи, вновь воцарившимися во Флоренции. Это письмо – ответ на послание Веттори от 23 ноября, в котором тот расхваливает римскую жизнь.
Я сижу в деревне, и со времени последних происшествий не провел во Флоренции полным счетом и двадцати дней. До сих пор занимался собственноручной ловлей дроздов. Поднявшись до света, я намазывал ловушки клеем, затем обходил их, нагруженный связкой клеток, как Гета, когда он возвращался из порта с книгами Амфитриона, и собирал от двух до шести дроздов. Так я провел весь ноябрь, а затем, к своему неудовольствию, лишился этого развлечения, хотя оно чересчур ничтожно и непривычно.
Вот как я живу. Встаю я с солнцем и иду в лес, который распорядился вырубить; здесь в течение двух часов осматриваю, что сделано накануне, и беседую с дровосеками, у которых всегда в запасе какая-нибудь размолвка между собой или с соседями. <…>
Выйдя из леса, я отправляюсь к источнику, а оттуда на птицеловный ток. Со мной книга, Данте, Петрарка или кто-нибудь из второстепенных поэтов, Тибулл, Овидий и им подобные: читая об их любовных страстях и увлечениях, я вспоминаю о своих и какое-то время наслаждаюсь этой мыслью. Затем я перебираюсь в придорожную харчевню и разговариваю с проезжающими – спрашиваю, какие новости у них дома, слушаю всякую всячину и беру на заметку всевозможные людские вкусы и причуды. Между тем наступает час обеда, и, окруженный своей командой, я вкушаю ту пищу, которой меня одаривают бедное имение и скудное хозяйство. Пообедав, я возвращаюсь в харчевню, где застаю обычно в сборе хозяина, мясника, мельника и двух кирпичников. С ними я убиваю целый день, играя в трик-трак и в крикку; при этом мы без конца спорим и бранимся и порой из-за гроша поднимаем такой шум, что нас слышно в Сан-Кашано. Так, не гнушаясь этими тварями, я задаю себе встряску и даю волю проклятой судьбе – пусть сильнее втаптывает меня в грязь, посмотрим, не станет ли ей наконец стыдно.
С наступлением вечера я возвращаюсь домой и вхожу в свой кабинет; у дверей я сбрасываю будничную одежду, запыленную и грязную, и облачаюсь в платье, достойное королевского или папского двора; так, должным образом подготовившись, я вступаю в старинный круг мужей древности и, дружелюбно ими встреченный, вкушаю ту пищу, для которой единственно я рожден; здесь я без стеснения беседую с ними и расспрашиваю о причинах их поступков, они же с присущим им человеколюбием отвечают. На четыре часа я забываю о скуке, не думаю о своих горестях, меня не удручает бедность и не страшит смерть: я целиком переношусь к ним. И так как Данте говорит, что «исчезает вскоре то, что, услышав, мы не затвердим», я записал все, что вынес поучительного из их бесед, и составил книжицу «О государствах».[77]
Итак, в декабре 1513 г. Макиавелли приступил к работе над «Государем», тем самым войдя в славную когорту авторов политической литературы. Главным, что отличало его от предшественников, было то, что он, несмотря на постоянные ссылки на античные образцы, рассматривал политические проблемы не в абстрактном измерении, а с точки зрения реалий своего времени, то есть отталкиваясь от существующих тогда режимов, настолько сложных, что без ознакомления с их особенностями мы вряд ли поймем позицию Макиавелли.
Вопрос reggimento в Италии периода Возрождения
Макиавелли писал для настоящего времени или, по крайней мере, для ближайшего будущего. Поэтому невозможно следить за его мыслью вне контекста эпохи со всеми ее драматическими событиями. Мы не можем оставить без внимания военные столкновения и политические конфликты, сотрясавшие тогда Северную Италию, не можем не исследовать гражданское устройство общества, на протяжении двух веков находившееся в становлении. Макиавелли изучал его и пытался определить, какой образец (или какие образцы) правления следует предложить тем, кто способен претворить их в жизнь.
Действительно, если рассматривать итальянское Возрождение с чисто эстетической точки зрения, то Кватроченто предстает сияющей вершиной, блестящим завершением процесса, начатого робкими – но гениальными! – намеками Треченто. В области литературы и философии это было бурное вторжение античной мысли, этого кладезя знаний, в темную удушливую атмосферу бесконечного Средневековья.
При всех очевидных достоинствах и неоспоримой логичности подобного подхода следует все же признать, что «прогресс» развивался на гораздо менее блестящем фоне, отмеченном войнами с массовыми убийствами и разрушениями, затронувшими в том числе и Флоренцию. Тогдашняя Италия представляла собой лоскутное одеяло, состоявшее из герцогств, республик и т. п., яростно отстаивавших свою независимость и часто враждовавших друг с другом в стремлении ослабить ненавистных соседей-конкурентов.
Вместе с тем население пылающих взаимным озлоблением городов и поселений Северной и Центральной Италии испытывало приблизительно одни и те же страхи. Понятие «Италия» оставалось в значительной степени умозрительным: если люди и осознавали, что существуют в рамках некой глобальной общности, то определяли ее исключительно по отношению к Древнему Риму; для политического и юридического объединения этого было явно недостаточно.
В чем же заключалась проблема reggimento (ит. «способ управления») в Италии эпохи Ренессанса? Здесь сложилось два типа государственного устройства – республика и «княжество».
«Республика» имела в Италии давние традиции. Республиками были Амальфи, а также Пиза, Генуя и Венеция, которым в прошлом (в VI–VII вв.) удалось сохранить независимость от Византийской империи и могущественного Италийского королевства. Все эти города, к которым присоединились Рагуза, Гаэта, Анкона и Ноли, начиная с XII в. пользовались полной автономией. Их жители занимались торговлей, по большей части с Востоком, где Византия постепенно утрачивала свои позиции. Политическая система в них опиралась на горожан, точнее говоря, на корпорации, имевшие свое представительство в постоянно действующих или временных советах; исполнительную власть осуществлял так называемый «подестат», членов которого в случае надобности вербовали из числа иноземцев. При этом не следует думать, что «республиканские» города-государства были связаны какой-либо солидарностью. Так, в 1137 г. Пиза завоевала и разграбила республику Амальфи, которая после этого настолько ослабела, что была вынуждена уступить старшинство в области торговли соседнему Неаполю. Но и Пиза получила свое: после поражения в морской битве при Ливорно против Генуи в 1284 г. она покорилась Флоренции и окончательно отошла на второй план. Четырнадцать лет спустя Генуя разгромила венецианский флот в сражении близ далматинского острова Курцола и на семь десятилетий обеспечила себе морское владычество; Венеция возьмет реванш лишь в 1381 г., после победы в так называемой «войне Кьоджи», которая развернется и на море, и на суше.
Республикой в Италии считался любой город, не подчинявшийся власти «князя» или «герцога», как легитимного, так и самопровозглашенного. Так, республикой была Генуя, несмотря на наличие консулов, предводителей народа и подестат, сформировавшийся в XIII в.; с 1339 г. политическая власть здесь перешла в руки дожей, первым из которых стал простолюдин и гибеллин Симон Бокканегра, впоследствии воспетый Верди. В гибеллинской Пизе, в XIII в. управлявшейся подеста и консулами, сложился «народный» строй сложной конфигурации, основанный на предполагаемом равновесии между арматорами (ordo maris), купцами (ordo mercatorum) и «обществом», то есть выходцами из разных сословий. Подобная система продержалась с 1254 по 1284 г., когда Пиза потерпела сокрушительное поражение от Генуи. После этого военная и торговая мощь Пизы постепенно сходила на нет, что сопровождалось возвратом к системе управления по типу Синьории и завершилось присоединением к Флоренции в 1406 г.
Лукка с 1160 г. именовалась «свободной коммуной». В XIV в. она подпала под единоличную власть Угуччоне делла Фаджуола, которого изгнала, призвав на его место кондотьера Каструччо Кастракани (при нем Лукка достигла расцвета, а Макиавелли написал его биографию), но с 1372 г. снова стала республикой. Здесь правил законодательный орган – Генеральный совет, – состоявший из представителей граждан, но, как это сплошь и рядом происходило во всех итальянских «республиках», его численность быстро сократилась до 180 человек, избираемых от разных кварталов города; часть своих полномочий они делегировали более узкому органу, именуемому Советом тридцати шести. Исполнительная власть принадлежала Совету старейшин, состоявшему из девяти членов и гонфалоньера. В конце века, после убийства нескольких гонфалоньеров подряд, Лукка отказалась от этой системы и избрала «синьора», которым стал Паоло Гуиниджи, но вскоре вернулась к республиканской форме правления и при поддержке Милана вступила в вооруженную борьбу с Флоренцией.
Но образцом республики, разумеется, оставалась Венеция со своими институтами, служившими гарантией против захвата власти знатными семействами. В основе политической системы теоретически лежал Большой совет, созданный в 1172 г. и состоявший сначала из 35, а затем из ста «советников», назначаемых тремя членами народного собрания (Concio). Но постепенно формирование Большого совета становится все более закрытым, и начиная с 1315 г. претендовать на членство в нем могут лишь представители узкой прослойки знати, с 18 лет вписанные в так называемую «Золотую книгу»; в 1319 г. их число ограничивается 30 человеками.
Вершину исполнительной власти занимал дож (герцог), с 1172 г. избираемый коллегией сначала из 40, а затем из 41 человека. В 1268 г. правила избрания дожа усложняются: отныне выборщиков из числа членов Большого совета в возрасте старше тридцати лет определяет жребий. Девять человек, вытянувших жребий, предлагают кандидатуры еще сорока. Среди них проходят выборы, и снова остается 40 человек. Эти сорок опять тянут жребий: на сей раз «счастливчиков» – двенадцать, и они предлагают еще 25 кандидатур. Посредством нового тура голосования их число сокращается до девяти, и эти девять называют 45 имен потенциальных выборщиков. Наконец проходит последняя жеребьевка, в результате которой определяются одиннадцать выборщиков. Им предстоит сделать выбор из 41 кандидата, ни один из которых не участвовал в предыдущих жеребьевках и выборах.
Флорентийские республиканцы с пристальным вниманием следили за происходящим в Венецианской республике. Даже не будучи союзником Флоренции, Венеция тем не менее демонстрировала достойный образец политической стабильности. Впрочем, каждый лагерь искал в венецианской системе то, что отвечало его чаяниям: Савонаролу вдохновляла идея Большого совета, а пополаны видели в фигуре пожизненно назначаемого гонфалоньера отблеск власти дожа…
В Северной Италии преимущественно сложились всевозможные княжества с более или менее стабильными режимами. Так, Милан за исключением краткого республиканского периода (так называемая Амброзианская республика) всегда был княжеством. Его независимость как свободной коммуны подвергалась серьезным испытаниям. В 1162 г. Фридрих Барбаросса осадил, а затем захватил город. В 1176 г. миланцы, вступив в союз с Ломбардской лигой городов, взяли реванш, разгромив войско Фридриха Барбароссы в битве при Леньяно. В 1277 г. архиепископ гибеллин Оттоне Висконти взял власть в городе в свои руки и, несмотря на быструю смену «предводителей народа», правил им от имени императора. В 1295 г. он передал бразды правления своему племяннику Маттео. Герцогством Милан стал лишь в 1395 г., когда император Венцеслав I пожаловал титул герцога Миланского Галеаццо Висконти, тогда «синьору» Милана. Династия Висконти продержалась до 1447 г. и угасла по причине отсутствия наследников. В борьбу за герцогство вступили француз Карл Орлеанский, испанец Альфонсо V и итальянский кондотьер Франческо Сфорца, женатый на внебрачной дочери последнего герцога; Людовик Савойский, со своей стороны, требовал, чтобы герцогство вернулось под власть императора. Воспользовавшись неразберихой, граждане Милана 14 августа провозгласили Амброзианскую республику, названную в честь епископа Амброзия, жившего в конце IV в. Они предложили двуглавую систему управления, включавшую Совет из 24 «предводителей и защитников свободы» и Генеральный совет из 900 членов, представлявших шесть городских приходов. Это была гибеллинская республика, и крупные города герцогства, такие как Парма, Павия, Лоди и Пьяченца, не пожелали в ней участвовать. Чтобы уберечь герцогство от распада, республиканцы призвали на помощь Сфорца. Он покорил Павию и Пьяченцу, ограбив и убив значительную часть населения, а затем нанес поражение венецианской армии в знаменитой битве при Караваджо. Но, чувствуя недоверие со стороны республиканцев, Сфорца переметнулся во вражеский лагерь, и венецианцы назначили его главнокомандующим войском. В Милане началась кровавая неразбериха: во главе Совета без конца сменяли друг друга гвельфы и гибеллины, на улицах города не прекращались вооруженные стычки. Масла в огонь подлили французы, бросив против Сфорца шесть тысяч наемников, которые 22 апреля 1449 г. были разбиты при Боргоманеро знаменитым кондотьером Коллеони, служившим семейству Сфорца. Тем временем в Милане гвельфы уничтожили всех знатных гибеллинов, до которых смогли дотянуться, и к 8 сентября с Советами было покончено. Милан признал власть подеста Бьяджо Ассерето. Милан и Венеция заключили мир, который не устраивал Сфорца: тот не позволил Венеции снабжать миланцев продовольствием, и в городе вспыхнул голод. Сила была на стороне Сфорца, и после нескольких кровавых «народных» выступлений, сводивших на нет деятельность Совета и собрания, Милан покорился завоевателю. 25 марта 1450 г. Сфорца торжественно вступил в город новым герцогом Миланским, сместив династию Висконти. Милан снова стал княжеством. Макиавелли будет часто приводить в пример его историю.
«Книжица»
Подлинное название самой знаменитой книги Макиавелли – «О государствах».[78] Именно его приводит автор в письме к посланнику Франческо Веттори от 10 декабря 1513 г. – как мы уже упоминали, это был ответ на письмо Веттори от 23 ноября, в котором тот приглашает Макиавелли посетить Рим. Макиавелли в своем письме ясно говорит о том, какие цели преследует, работая над «книжицей». Перечисляя имена авторов, античных и современных, которых он по вечерам читает в деревенской глуши, Макиавелли прямо заявляет:
И так как Данте говорит, что «исчезает вскоре то, что, услышав, мы не затвердим», я записал все, что вынес поучительного из их бесед, и составил книжицу «О государствах», где по мере сил углубляюсь в размышления над этим предметом, обсуждая, что такое единоличная власть, какого рода она бывает, каким образом приобретается и сохраняется, по какой причине утрачивается. И если вам когда-либо нравились мои фантазии, вы и эту примете не без удовольствия, а государю, особенно новому, она может пригодиться, и я адресую ее его светлости Джулиано [Медичи]. Филиппо Казавеккья видел эту книжку; он может подробнее описать, что она собой представляет и какие мы вели о ней беседы, хотя я еще не кончил ее пополнять и отделывать.
…Я обсуждал с Филиппо, стоит ли преподнести мою книжку или не стоит, и если подносить, то самому или послать ее вам. К тому, чтобы не подносить, меня склоняет опасение, что Джулиано ее даже и не прочитает, а этот Ардингелли[79] присвоит себе часть моих последних трудов. К подношению же меня побуждает жестокая необходимость, ибо я разоряюсь, и пройдет совсем немного времени, как погрязну в жалкой нищете, не говоря о моем желании, чтобы эти синьоры Медичи вспомнили о моем существовании и поручили хоть камень в гору катить; потому что, если они и тут не обратят на меня внимания, мне придется пенять только на себя; а по прочтении этой вещи будет видно, что я не проспал и не проиграл в бирюльки те пятнадцать лет, которые были посвящены изучению государственного искусства, и всякий захочет использовать богатый опыт человека, готового им поделиться. Что касается моей верности, в ней не следует сомневаться, потому что, ранее всегда соблюдая верность, я не могу теперь вдруг научиться ее нарушать; и кто был верным и честным, как я, сорок три года, не изменит свою природу за один миг; свидетельство моей верности и честности – моя бедность.[80]
Итак, для нас несомненно, что «Государь» написан под влиянием обстоятельств как свидетельство доброй воли и политической компетентности, а также как доказательство того, что его автор достоин солидной должности в Риме или во Флоренции. Вместе с тем это труд, основанный на реальном опыте; в предисловии говорится, что на его сочинение автора подвигли «познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих и непрестанным изучением дел минувших». Как же построена композиция небольшой по объему книги из 26 глав, адресуемой будущему «государю», «избавителю», призванному «овладеть Италией и освободить ее из рук варваров»?
«Государь» – это учебное пособие, посвященное устройству государства. Логично поэтому, что автор начинает свой труд с типологии государств: их перечисления (гл. I) и анализа их функционирования (гл. II–XI). Итак, Макиавелли различает:
государства, основанные на наследственном единовластии (в силу невозможности стать предметом приобретения представляющие для автора минимальный интерес);
смешанные государства – более динамичные, поскольку образуются в результате присоединения к уже существующему государству новой территории;
новые государства, приобретаемые силой своего (или чужого) оружия, доблестью или милостью судьбы. Это самый блестящий фрагмент книги, так как Макиавелли на протяжении долгих лет лично наблюдал, как образуются и распадаются подобные государства;
государства, основанные на гражданском единовластии: в них государь приходит к власти в силу «благоволения» сограждан;
церковные государства, особенность которых заключается в том, что ими трудно «овладеть», зато их легко удержать.
Начиная с главы XII тональность изложения меняется: Макиавелли рассуждает о тонкостях взаимоотношений государя с армией. Это обстоятельство побуждает некоторых комментаторов утверждать, что вторая часть книги была написана уже после того, как Макиавелли в декабре 1513 г. отправил письмо Веттори: ведь в этом послании он говорит, что его «книжица» посвящена объяснению того, «что такое единоличная власть, какого рода она бывает, каким образом приобретается и сохраняется, по какой причине утрачивается», иначе говоря, описывает содержание первых одиннадцати глав.
Итак, в главах XII–XIV Макиавелли излагает свое видение военной программы, в который раз подчеркивая, что использование наемных войск вредит государству и что гораздо разумнее набирать войско из местных жителей. В последней части книги он показывает, какими средствами государь может сохранить государство (гл. XVI «О щедрости и бережливости»; гл. XIX «О том, каким образом избежать ненависти и презрения»), какие опасности его подстерегают (гл. XXIII «Как избежать льстецов»), наконец, в главе XXV он ставит ключевой для всей политической проблематики Возрождения вопрос: «Какова власть судьбы над делами людей и как можно ей противостоять?» Здесь Макиавелли с опорой на примеры развивает свою главную мысль о том, что в своей деятельности государь должен уметь приспосабливаться к обстоятельствам. В заключение он обращается к государю-объединителю (хотя тот пока никоим образом не проявил себя в этом качестве) с призывом вернуть Италии достоинство, утраченное в 1494 г. под натиском свирепых французов.
«Государь» вписан в средневековую традицию литературного жанра, известного как «зеркало для князей» и появившегося на Западе, судя по всему, в IX в.; «зеркала», настаивавшие на том, что политика должна быть подчинена морали, в конце XV – начале XVI в. снова сделались популярными. Это была своего рода дань уважения поколения гуманистов постфеодальной системе, благодаря которой смогли расцвести их таланты. Появляются «Воспитание государя» Бюде; «Воспитание христианского государя» Эразма Роттердамского (1516), адресованное будущему Карлу V: в девяти главах подробно рассматриваются свойства «благочестивого человека», каким и должен быть суверен; сочинение Бартоломео Сакки «О государе», обращенное к герцогам Мантуанским; еще один «Государь», принадлежащий перу поэта Понтано и имевший целью привлечь внимание Фердинанда I Неаполитанского: автор превозносит человечность и любезность суверена, но также и его величие; посвященное папе Сиксту IV «Королевство и воспитание короля» Франческо Патрици (1412–1494), в котором добродетель государя разложена на 40 нравственных достоинств. На самом деле все эти сочинения представляют собой руководство к действию, адресованное тому или иному суверену; политика в них рассматривается как составная часть этики, а содержание добродетели заимствовано у Цицерона, как оно описано в начале труда «Об обязанностях»: это компромисс между мудростью, справедливостью, твердостью и умеренностью; к этим качествам Цицерон добавляет добродетели, свойственные правителю: честность (исполнение о