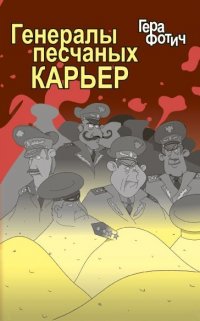Читать онлайн Спасти президента бесплатно
- Все книги автора: Гера Фотич
© Г. Фотич
Об авторе
Гера Фотич (псевдоним автора) родился в Ленинграде в 1960 году. Как большинство сверстников окончил среднюю школу. Обучаясь в Ленинградском Арктическом училище, в 1980 году стал победителем городского творческого конкурса посвящённого 110 годовщине со дня рождения В.И. Ленина. После чего был принят в литературное объединение.
С этого времени стал сотрудничать с различными журналами и газетами, такими как Звезда, Новый мир, Юность, Искатель, Смена. Был полярником. Продолжительное время работал заграницей: в Канаде, Анголе, Перу и других странах. Творческий диапазон достаточно широк: повести рассказы, очерки, стихи. Печатался в сборнике молодых поэтов. Изучал творчество В. Набокова, М. Булгакова, У. Фолкнера, Ф. Кафка. Пытаясь найти поддержку у тогда уже известного писателя Даниила Гранина, учился видеть мир по-своему. Очередная повесть «Колба» об одиночестве человека живущего в самой счастливой стране не вызвала в то время восторга у мэтра художественной литературы. Редактировалась больше года, но в свет так и не вышла.
После чего с 1988 года не печатался и 20 лет посвятил себя борьбе за справедливость.
Это первое произведение автора после многолетнего молчания.
В своём творчестве Гера Фотич затрагивает чувствительные стороны человеческих взаимоотношений и психологии индивидуума. Несмотря на жестокость некоторых сцен, пытается разбудить в душах людей самые прекрасные человеческие качества, заставить их задуматься о доброте и нравственности.
Глава 1. Сон
Тело повиновалось нехотя. Можно даже было подумать, что это не повиновение, а просто какая-то остаточная согласованность между определёнными закономерностями. Когда от какого либо движения, как нам кажется, возникает волна расходящаяся кругами и затрагивающая всё на своём пути. И создаётся впечатление, что именно она повлияла на то или иное действие, но на самом деле, если вдуматься и сопоставить всё по детально, то придём к абсурду. Стоит ли об этом задумываться, если за этим анализом стоит обычный хаос?
Неизвестная сила, рождаемая где-то внутри организма из маленькой горящего в центре кусочка ещё неизученной человеческой плазмы, заставляла его двигаться ежесекундно. Шаг за шагом. Будто кто-то сидит внутри и оттуда бездумно управляет рычагами. Двигает их вперёд-назад, словно новичок, впервые севший за управление и старающийся показать себя сразу во всём цвете перед наблюдающей комиссией. И дело не в том, что ему интересно сама зависимость от его манипуляций, а потому, что другого шанса ему не дадут. И все оправдания на то, что у него нет опыта, и его не научили этому, экзаменаторов не убедят, потому что по неизвестно кем заведённым правилам ему даётся всего лишь одна попытка, только эта.
Мозг словно счётная машинка, раскручиваемая заражённой бешенством ручкой, лихорадочно работал – он хотел жить. Каждой клеточкой своего сознания, сопротивляясь очевидной тупой безнадёжности надвигающейся неотступно и закономерно. Если бы ему дали свободу, он разорвал хрупкую скорлупу черепа и вырвался наружу, обретя спасение. Мгновенная реакция, изворотливость и мимикрия, совершенствуемые в извилинах годами, выручили бы и на этот раз. Но вырваться из тела было невозможно, и приходилось тащить, его едва успевая укрывать от свистящих пуль и осколков. Мозг, пульсирующий от напряжения и вздувающийся под черепной коробкой, словно разваривающаяся манная каша не понимал, почему он должен погибнуть.
Из-за того, что неуклюжее месиво называемое организмом уже впитало в себя кучу свинца и едва волочит за собой свои конечности?
Кровь, бьющая фонтаном, стремительно покидала тело, но от этого оно становилось всё тяжелее. Мозг сделал всё как нужно. Не совершил ни одной ошибки. И не хотел расплачиваться за чужие. Он имел полное право ненавидеть это тело, возлагая на него все грехи, в отчаянии злорадствовать, когда по мышцам пробегала очередная судорога боли. Мозг знал боль, но никогда её не чувствовал. У него не было чувств, и поэтому он просто не понимал.
А тело молчало, угрюмо следуя неизвестно где рождаемому приказу. Что оно могло сделать? Ослабевая с каждым движением, из последних сил старалось уберечь голову. Чувствуя свою обречённость, испытывало огромную вину за то, что вместе с ним погибнет ни в чём неповинный мозг, полный жизненной энергии и миллионов способов выжить. Старалось как можно ниже пригнуть голову к земле, в надежде подарить ему несколько лишних секунд жизни. Лишних?
Но никто не мог понять их, обрекаемых друг другом на гибель, как этот парень, ползущий во тьме, разрезаемой светящимися клинками раскалённых лучей, в неизвестном направлении под градом пуль и осколков. Задыхающийся от боли и обиды. От непонимания, – каким образом и почему он здесь оказался. Когда чужая земля рвёт гимнастёрку на его груди, не придаст сил и не окропит живой водой высохший ручей. Кто он здесь? Что ему надо? С лёгкостью отрывается многолетний куст, за который ухватилась рука. Срывается камень, служивший опорой для ноги. Обломки скал, словно пики, вонзаются в рёбра, раздвигая их, пытаясь прорвать лёгкие. Он не видел своего врага. Только чувствовал как металл, разрывая тело, со скрипом наматывает ткань тельняшки, проникает в плоть. Каждая новая боль уже не ощущалась отдельно, а просто накапливалась в организме, постепенно выводя из подчинения один орган за другим. И вскоре уже нечем было пошевелить. Всё тело срослось с чужой землёй. Всосалось её глубинным дыханием, почувствовав обожженную горечь безысходности. Бесконечно-бездонное, голубое небо заглянуло парню в глаза и отразилось в них таким же светом. Скрывая в себе ответ на его немой вопрос, благословило в вечный путь меркнущее сознание.
И только мозг ещё продолжал вопить: «неужели это конец»?!
Глава 2. Купе
Йонас вздрогнул и открыл глаза. Опять этот сон, – подумал он. Кончится это когда-нибудь? Что ему надо от меня? Что он хочет мне рассказать?
Настроение было испорчено. Шея затекла – видимо он уснул. Воротник пальто успел натереть подбородок и сейчас он неприятно щипал. В купе было жарко. Окно запотело. Йонас подумал открыть форточку, но вспомнил, что вряд ли он сможет это сделать. Непонятно почему в поездах дальнего следования не стали открываться форточки. Кто их закупорил? Борьба с терроризмом? Или с пьяными подростками, выкидывающими в окна бутылки? А может просто жалобы на обыкновенные плевки из передних вагонов, которые в результате непонятных турбулентных процессов обязательно залетали в форточки последних вагонов? Ну что плевки! Народу постоянно кто-нибудь плюёт в лицо: правительство, депутаты, президентская братия…. И ничего, даже не утираются. Стоит приглядеться и можно увидеть многолетние следы, оставленные на их лицах зеленовато простудными полупрозрачными сгустками лейкоцитов. Где та форточка, которой можно отгородиться от хамства и унижения в этой стране?
Сквозь отрешённую дремоту, словно наводя резкость бинокля, Йонас пытался на чем-нибудь сконцентрироваться. Но сонная голова, раскачиваясь под ровный стук колёс, пыталась снова беспомощно упереться подбородком в грудь. Он снова и снова крепил её вертикально, но видимо сказывалось напряжение последних часов, и организм включал защитную функцию. Наконец последним усилием воли он уставился на расплывчатый портрет мужчины, висящий на противоположной стене, и решил зацепиться за него взглядом. Будто размахнувшись скалолазной кошкой, всадил её остриё прямо в центр светлого пятна. Контуры лица на портрете тут же стали чёткими.
– Ух, ты – чуть не вырвалось вслух у Йонаса, – ну никак без тебя не обойтись. Сонливость прошла мгновенно. Со стены смотрел его однокашник, а ныне великий кормчий страны. Йонас привстал и приблизил своё лицо к портрету: что-то было искусственное, не живое в этом взгляде голубых прищуренных глаз. Как будто живительный макияж, наложенный на усопшего. Жиденькая светлая чёлочка зачёсанная назад. Маленькие глазки хитро прищуренные, но излучающие душевное тепло. Подбородок вполоборота казался волевым, но не жёстким. Он чем-то походил на одного из вождей революции в портретах дошкольных учреждений. Где казался детям очень добрым и заботливым. Словно, вот сейчас должна войти воспитательница и, показав на портрет указкой, начать рассказывать о его тяжёлом детстве. О трудовой юности и борьбе за справедливость равенство и независимость. Как он со школьной скамьи мечтал о демократии и свободе. Верил в светлое всеобщее капиталистическое будущее. В гуманное распределение материальных благ и несметных богатств. Почётную заслуженную старость и свободный всплеск молодых идей обеспечивающих дальнейший прогресс отчизны.
Быть может, ещё в прошлом веке, когда все ещё безнадёжно продолжали строить самое гуманное общество на земле, он специально пошёл на службу государству, чтобы помогать политическим заключённым и диссидентам чем ежедневно подпиливал устои прогнившего строя: плохо работал, опаздывал на совещания, безалаберно относился к своим служебным обязанностям и указаниям руководства. Быть может, он даже создал маленький капиталистический кружок. И принимая в него новых членов, брал с них торжественную клятву, возможно соратники по кружку делали порезы на запястьях и прикладывали их к разработанной программе борьбы. А в завершение торжественной части он продавал по себестоимости, конфискованные на подпольном рынке, настоящие джинсы, которые вновь вступившие обещали хранить и одевать на заседания кружка. А потом каждый отчитывался, какой очередной поступок совершил с целью расшатывания ненавистных правителей…
– Ну, разошёлся – прервал свой сарказм Йонас, – оставь его на потом.
Но на душе полегчало.
Сколько разных портретов этих лиц он видел в кабинетах, коридорах, на улицах своего города. Зачем их столько? Почему каждый чиновник считает своим долгом повесить портрет нынешнего президента у себя над головой? Сменить его после перевыборов на другой, а потом на следующий. И снятые, хранить в кладовке, замотанными в полиэтиленовую плёнку, – вдруг, кто из них снова вернётся? Зачем деньги платить?
Большинство портретов висело за спиной хозяев кабинетов. Но иногда вешали перед собой. Чтобы любоваться в промежутках между подписанием государственных бумаг и получением взятки? Все сидят под этими портретами как под солнцем: и те, кто ворует, и те, кто не даёт воровать. Входя в кабинет и покидая его, смотрят на главу государства, думая о своём.
Сколько разновидностей его портретов существует? Сто? Тысяча? Можно наверно даже попробовать их коллекционировать! Портреты в кабинетах, на футболках и нижнем белье, матрёшках и яйцах Фаберже. В зависимости от фактуры – выражение лица. То полное доброты и ласки, прищур в глазах. То появлялся волевой подбородок на портретах, висящих у руководителей властных структур и чиновников города. Неожиданно вырисовывались жёсткие скулы и твёрдый металлический взгляд глубоких широко открытых глаз. Или скрытая под ухмылкой уверенность и непобедимость – когда он на портрете в кимоно. Хотя ничего такого у него никогда не было.
Он казался школьным товарищам бедненькой серой мышкой, его остренькое личико всегда смотрело прямо в лицо преподавателям, словно высасывало ещё что-то кроме передаваемых знаний. Многим преподавателям это не нравилось – им казалось, что он высматривает что-то у них во рту, как птенец в клюве своей заботливой матери. Но школа находилась на набережной и имела старые добрые традиции, что не позволяло учителям открыто выражать своё мнение, не посоветовавшись с руководством. Это их раздражало.
Но ещё больше, им не нравилось то, что в эти моменты, как им казалось, он думал совсем о другом – им неведомом. И это отражалось в его рассеянном взгляде. Возможно, уже тогда этот худенький мальчик видел себя отцом великого народа. Он никогда не был лидером. Никогда не имел своего мнения – поэтому никогда не спорил. Делал так, как скажет папа. Если его нет – то есть мама. Или директор. Может быть завуч. Ну а если никого из авторитетов рядом нет – то он слушал присутствующих и ждал, чем всё закончится. Это стало его преимуществом. Способом выживания, схожим с философией японской борьбы! Папа сказал надо заниматься, и он пошёл.
На ковре он мог выжидать долго – пока противник не сделает ошибки. И тогда решающий бросок и победа. Наверно там он и нашёл свой механизм жизни. Хотя это был уже не ковёр. Это были его однокашники, сокурсники, приятели, товарищи. Были ли у него друзья? Он шёл, используя чужие ошибки. Не проявляя малейшей инициативы – он ждал. И как только кто-то рядом ошибался, он был тут как тут. И все были уверенны, что именно он был прав с самого начала, потому, что он оказывался рядом и был чист! А значит, был победителем. Наверно, ему казалось, что это была честная борьба. Быть может у японцев так и есть.
Вернулось тягостное состояние души, а потом Йонас почувствовал запах женщины. Который окружил его со всех сторон: с облезлого потолка, облупившихся стен, сложенных на верхней полке комплектов одеял и постельного белья. Не духов, не запах жимолости, а едва уловимый аромат женского пота. Нежный. Будоражащий. Овеянный таинственными воспоминаниями. Возвративший давнее смятение чувств, и сплетение тел, порождающее единение человеческих душ и ведущий к чему-то первичному, первобытному, лишённому искусственного налёта и полировки цивилизацией.
Купе начальника поезда ничем не отличалось от всех остальных. Только вместо соседней койки – письменный стол со сложенными на нём папками бумаг, книг и переплетенных инструкций. Это был её мир. Маленькая крепость, скрытая от вселенского зла за башенками женских духов и крепостными стенами из гигиенических салфеток.
И на этот раз именно Йонас оказался внутри. Он въехал сюда, будто в троянском коне, дождавшись своего часа. И выбрался наружу из переплетенья своих проблем и неприятностей, от которых уже не мог спастись самостоятельно.
Где ещё могут мужчины найти спасение от обрушившегося на них небосклона, который они сами годами создавали над своей головой, хвастаясь его грациозностью и великолепием. Показывая всем это чудо и продолжая лепить на его уродливое начало замысловатые узоры собственных проблем, искренне веря, что создают нечто великое и грандиозное. Разве могут они сказать, что всю жизнь возводили над собой груду булыжников лишь приблизительно напоминающее некий эстетический образ навеянный смрадом цивилизации и прогресса!
Сбоку на штанге висело несколько ярких цветастых блузок, и ещё какие-то атрибуты интимного гардероба. На крючке – красная как революционное знамя сумочка. Она была изрядно пошаркана долгими путешествиями в поездах. Множественные потёртости, трещины на стыках швов и вялые скольжения из стороны в сторону придавали ей вид независимой мудрой надменности. Словно покачивая своей пунцовой физиономией, глядя на Йонаса, она говорила: ну что, дружок, и до тебя дошла очередь? Казалось, что ещё чуть-чуть и она сможет развернуться в огромное полотнище торжественно рея, провозгласить публично долгожданные права и возглавить борьбу за независимость всех женщин нового века!
На пластиковом столе, окаймленном металлической лентой с множеством многолетних зазубренных следов от откупориваемых бутылок, позвякивая ложкой в стакане, стоял недопитый чай. Поезд слегка раскачивался и Йонас вспомнил, что даже не успел раздеться – снял с себя длинное серое пальто. Оказывается, он незаметно для себя уснул, глядя на пролетающие в окне поезда белые берёзы. Натёртый жёстким воротником подбородок, продолжал саднить.
Он посмотрел в окно. Было начало очередного холодного лета.
Глава 3. Учительница
Природа выглядела грязной и унылой, будто размытая выплеснутой на неё ребёнком водой из пластикового стаканчика, где он ополаскивал свои акварельные кисточки, рисуя наивные пейзажи. Заросшая травой пашня, вырубленный проплешинами лес, покосившиеся чёрные домишки, пустых заброшенных деревень вызывали чувство жалости. На прогнившем крылечке, опираясь на палку сгорбившись, сидела, словно тень разлагающейся коряги неподвижная старуха. Одетая во всё чёрное, она была частью этого изъеденного временем и насекомыми деревянного порога. Глубокие червоточины не жалели их обоих, продолжая вырезать на состарившихся лицах глубокие морщины как кружевные иероглифы с закодированным в них тайным умыслом. Можно было подумать, что она сидит здесь уже целую вечность.
Ей казалось так же. Как долго – она уже и не помнила. И не пыталась это сделать. Зачем ей это знать, если вокруг ничего не меняется? Любое ненужное напряжение мысли отдавалось у неё в голове невыносимой болью. Но была ли это боль? Если на протяжении десяти лет жизни у тебя что-то болит. Разве можно назвать болью то, к чему ты привык и чего не замечаешь? Ведь мы не задумываемся о своих лёгких, пока они не заставят нас отхаркивать кровь или о ногах, пока они ещё могут спешить навстречу любимой.
Наверно о боли тоже можно не вспоминать пока не почувствуешь облегчения.
А если оно не наступит никогда?
Наверно так должно и быть. Просто что-то изменилось. Так стал работать твой организм.
Кто-то не чувствует этой боли. Кто-то никакой не чувствует: ни своей, ни чужой и живёт себе долго, страдая похмельным синдромом прошедших возлияний. Бывает даже сильно страдает, но снова продолжает жить, и не чувствовать что живёт….
Старуха на крыльце не чувствовала своё тело. Локоть остриём упирался в колено, а кисть руки в подбородок. Она не хотела знать, где она и что сейчас делает. Только так она могла отдаться своим чувствам – своей душе. Хотя для этого ей не требовалось никакого напряжения. Сердце давно перестало болеть. Глаза отличали только светлое от тёмного и она, слегка повернув голову в сторону поезда, пыталась почувствовать не что-нибудь хорошее, а хотя бы какие-то изменения в проносящейся мимо воющей махине.
Но если бы кто-то из пассажиров поезда смог увидеть её сморщенное лицо, то был бы поражён её нежно голубым лучистым взглядом, ещё стремящимся прорваться сквозь мутную пелену пережитых лет. Он словно трепетал, пульсируя в застенках морщин, прося всего лишь чуточку тепла, которого ей, возможно, не хватало, чтобы почувствовать себя.
Но давно уже никто не пытался заглянуть ей в глаза и подарить надежду кроме пугливых бродячих собак, которые могли бы рассказать ей о человеке гораздо больше, чем те книги, по которым она воспитывала своих учеников.
Только неразборчивый гул от стука колёс стоял у неё в ушах. Как раньше – многоголосье школьников выпущенных из душных классов на перемену в коридоры рекреаций. История – это то, чему она учила детей. Она знала её назубок. Красный университетский диплом не давал повода сомневаться в этом никому, и даже директору школы на набережной, куда она принципиально пошла преподавать. Непоколебимая вера в правоту своих знаний давали ей разрешение непримиримо бороться с недоумками, путающими съезды партии твёрдой поступью ведущей к коммунизму – народному счастью и благополучию. Она ощущала в себе цепного пса стоящего на страже отечественной истории и готова была загрызть любого сомневающегося в исторической справедливости и исключительной гениальности руководства страны. Разве могла она позволить себе в такой ответственный момент для страны думать о призрачности собственного материнства. Ведь она была в ответственности за всё подрастающее поколение, которое только и мечтало улизнуть с её занятий, послушать ночью «вражеские голоса», а утром глумиться над истинными ценностями и достоянием народа. Кто же, как не она должна была направить этих юнцов на путь истины?
Именно её она любила как своего, не родившегося ребёнка, как единственного мужчину. И когда по ночам её тело разрывали судороги истерик природного материнства и неудовлетворённости, она скручивала жгутом край одеяла и зажимала между своими крепкими молодыми ляжками так сильно, будто надеялась, что эта накрахмаленная белизна войдёт внутрь, разорвёт девственную плевру и усмирит взбунтовавшуюся плоть непорочным единением с её верой в светлое будущее.
Девочкой она пережила блокаду. Когда все старались уехать в деревню и говорили, что там сытнее. И всё последующее время она искренне верила в богатые кущи полей, сытость деревенских хлебов. Читала в многотиражках об огромных урожаях, борясь и ненавидя вражеские слушки о голоде и поморах в деревнях. И вот уже лет пять, а может десять она в деревне. Живёт? Или нет? С почётом проводили на пенсию и забыли. А несколько лет спустя появился её бывший любимый ученик, такой светленький с жиденькими волосиками на головке и острым носиком продолжал навещать. И теперь уже не мальчик, а настоящий молодой мужчина. Кивал головой, слушая её рассказы, совсем как раньше на уроке. Потом предложил ей на лето выехать в деревню на отдых, где он снял дачу. Просил подписать документы. А вернувшись, она обнаружила, что кто-то продал её квартиру и там уже проживает незнакомая семья. Выяснилось, что якобы она подписала какой-то документ, и теперь возврата нет. Больше всего она расстроилась, что ей негде будет видеться со своим учеником. И с надеждой вернулась в деревню. Но любимчик больше не приезжал.
А он ли это был? Был ли вообще этот мальчик?
Так долго длится день…
Глава 4. Желтая тетрадь
Йонас никогда не был на войне, но тот сон постоянно преследовал его как долг незнакомому парню, неизвестно где и непонятно за что отдавшему жизнь. Одногодки Йонаса, как декламировала пресса, со школьной скамьи стремились выполнить интернациональный долг. Он таких не знал. Но потом оказалось, что они есть, и служат рядом. Было у них нечто общее – военное братство: дружба и взаимовыручка. Тот сон неотступно преследовал Йонаса. И сопротивляясь изо всех сил, он чувствовал, что где-то рядом стоят его друзья, о которых он не догадывался. Они всё знают, и всё видят как он ползёт по скалам под градом пуль и осколков. Но почему они не могут ему помочь? Почему не подадут руки? Где их братство? Забыли клятву? Просыпаясь с ощущением обиды и ярости в душе, он невольно осознавал, что это и была их помощь. Они тянули его за собой в такую казалось страшную и непонятную ему неизвестность, пытаясь уберечь от мерзости за которую он цеплялся ломая ногти, сдирая фаланги пальцев в кровь. Отбивался от своих друзей! От тех, которым доверял но только свою жизнь, но и жизнь близких. Всеми силами, брыкаясь ногами, кусая их за руки. Старался вернуться…. Зачем?
Просыпаясь среди ночи в холодном поту, он продолжал скручивать руками простыни и отталкивать одеяло. Во сне стискивал свою жену так, что утром на её теле красовались множественные синяки от пальцев его рук.
Она долго терпела. Уговаривала. Советовала. Молчала. Пыталась давать ему лекарства. Ушла спать на диван. Затем просто ушла. Йонас не обижался на неё.
Государство никогда не заботилось о своём воинстве. Денег не было, и в праздники он мог подарить свой жене сумку с продуктами, любовь и огромную признательность, о которой не умел говорить. А своим детям, сочинённые им, сказки полные нежности и любви. Полные заботы, которой он никогда им не давал. Верили они ему, слушая наивные и в то же время полные переживаний и чувств, слова, оставленные неровным почерком на обычной белой бумаге? Мог ли он спросить их об этом? Узнать то, чего не хватало ему в жизни, которая казалась сплошной войной. Быть может не такой кровавой, как теперь любят показывать по телевизору.
Йонас достал из кармана пальто свою старую жёлтую тетрадку, исписанную шариковой ручкой с множеством помарок и зачёркиваний. Это были сказки, которые он сочинял своим детям, пытаясь заронить в их души ростки любви и благородства. Но дети уже выросли, а он продолжал их писать. Кому? Некоторые из них уже не выглядели сказками. Это был его мир, который он придумал сам, и который носил с собой. В нём не было ненависти и вражды. Там он ставил вопросы и сам на них отвечал. Там он думал обо всём. О тех людях, с которыми служил и жил. Просто встречал на улице или в подъезде. Там он оправдывал их жестокость и ненависть, подлость и лицемерие. Они были для него просто людьми, которых он жалел:
«… Тянулась холодная осень. Снега ещё не было. Холодный студёный ветер, снующий по мощёной брусчаткой набережной, заставлял редких прохожих поднимать воротники своих пальто и курток, закрываясь от непогоды. Воспользовавшись всеобщей беспомощностью, ветер хозяйничал по всему городу, шлёпая по мостовой летающими пластиковыми пакетами и глухо звякая катающимися пивными банками. Изредка, притворяясь, будто из последних сил, он срывал с дерева листок и разноцветной перчаткой бросал кому-нибудь в лицо, словно вызывая на дуэль всё вокруг. Желая помериться силой и ловкостью. Но люди не принимали этого оскорбления. Они спешили по своим делам, сетуя на непогоду.
И только старый военный корабль, стоящий на постаменте открыто встречал его вызов. Он думал.
Мысли стучали дождем по его прогнившему корпусу, звучали голосами прохожих, шелестели листьями гонимыми прочь набежавшим порывом ветра. Он думал обо всём и ни о чём. О будущем настоящем и прошлом. Прошлое было так далеко как непосильно разбивающиеся о парапет волны. Оно было так близко как живительная влага, приносимая воздухом и дарившая надежду на будущее, периодически выглядывающее из-за неопределённости настоящего. Всё что творилось вокруг, не укладывалось в его понимание. И от этого, по постаменту вниз до самого основания постоянно ползли трещины. Изредка приходили доктора в белых халатах и замазывали трещины специальными растворами. Но трещины появлялись вновь, будто вырастающие из днища корабля корни. Раньше он бороздил просторы океана. Всё было ясно и понятно. Но теперь всё стало по-другому. Брызги набежавшей и разбившейся о парапет волны дарили ему надежду, высыхающую солёной слезой на треснувшем иллюминаторе. Думы были его не о себе, а о людях. Он ежедневно смотрел на них и не мог понять, что ими движет…
Глава 5. Вокзал
Суетиться не хотелось. Йонас вообще не любил спешки ни в чём. И не любил тех, кто спешит. Он шёл не торопясь. В своём длинном сером пальто. Как идут люди чётко знающие, что придут вовремя, и никто не будет тревожиться за них, глядя на стрелки часов. В левой руке он крепко держал свой великоватый кейс. Правая рука ровно отмахивала как в строю. Он не любил зонты, которые постоянно где-то оставлял. И шляпы не любил. Они казались ему вычурными. Спортивная шапка с пальто не сочеталась. Поэтому приходилось частенько прогуливаться с непокрытой головой.
– Ноги в тепле, голова в холоде, а сердце в пламени, – вспоминал он, интерпретируя неизвестного автора. Сам себя, оправдывая, когда голова мёрзла от пронзительного ветра.
По прогнозу, сегодня дождь не ожидался, и он мог не волноваться. Йонас знал, что на вокзалах патрули иногда проверяют граждан. Но, как правило, тех, у кого можно чем-то поживиться. Чем можно поживиться у седого военного?
Вокзал был построен совсем недавно на месте старых полуразрушенных двухэтажных домов и пластиковых времянок – бывших ларьков и бытовок, где в последнее время квартировали бомжи. Когда-то это был популярный рынок, где отоваривалось живущее поблизости население. Это была маленькая страна как подобие всего государства. Со своими рабами и хозяевами, произволом чиновников и преступного беспредела. Весь рынок знал хозяина в лицо. Это был невысокий круглолицый мужчина, постоянно усмехающийся. Отчего все считали, что с чувством юмора у него всё в порядке. Убедиться в этом частенько предоставлялась возможность. Не раз из его кафе выбегали повара с блинами на голове или неся на лице недавно приготовленное жаркое или поджарку. Очень не любил он, когда в его кафе плохо кормили граждан.
Мог долго по всему рынку бегать вокруг ларьков с разделочным ножом или сковородкой за обидчиком, дабы тому неповадно было. При этом очень уважал стражей порядка и даже распускал слухи, что он тоже таковым является – чтоб уважали и боялись.
Теперь вместо рынка стоит дворец из стекла и металла. Венец современной дизайнерской идеи.
Куда всё делось? Куда исчез тот весельчак? Кто теперь главный? Хозяева не появляются – их знают только по периодически появляющимся письменным указаниям и распоряжениям. Иногда, в кого-то из них стреляют. И затем на бумагах появляются новые фамилии.
Йонас частенько думал о том, что раньше жизнь была справедливей. Подлецу можно было просто дать в рожу. И он бы смолчал. Сейчас – попробуй только назови его поддонком! Сразу – в газету! Хорошо, если потянет в мировой, а то и федеральный арестует. Платите, деньги господа, и правосудие будет на вашей стороне. Все хотят денег. Государство тоже хочет денег! Дайте! Дайте!
Не может прокормить свору чиновников? Почему если ты купил дом или квартиру, на зарплату, с которой уже уплатил кучу налогов – продолжаешь ежегодно платить налог на недвижимость? Почему не ввести налог на телевизор и магнитофон, которые стоят дома, на чайник, а заодно и чай. Можно ввести налог на секс. По количеству купленных презервативов. Кстати посчитать от объема. Если до десяти сантиметров, то, как одну силу. Если ближе к двадцати – плати за две! Ну как автомобили!
Рабы? Навстречу в красных светящихся накидках с импортными вениками шли темнокожие эмигранты – уборщики. Вот они остановились, окружив своими блестящими швабрами и яркими вёдрами старика – ветерана в телогрейке с баяном, сидящего на деревянном ящике. На лацкане – невзрачная медаль «За отвагу». Попросили что-то сыграть, напевая ему на ухо. Тот попробовал. Но иностранный мотив не поддавался его старческим высушенным пальцам. Пыхтя и сопя носом, он старался изо всех сил. Было заметно, как из-под облезлой мохнатой шапки, натянутой до бровей, к носу катились капельки пота. Смеясь, и что-то болтая на своём, они высыпали горсть мелочи в открытый для подаяния футляр. Пошли дальше. Гордое свободное племя. Сыновья заснеженных гор и бескрайних лугов вынужденные в незаконной миграции сражаться за чистоту улиц, которую величественный культурный город уже не может поддержать сам! Где вы потомки великих князей и поклонники всемирно известных мудрецов?
А вы, кто борется за чистоту нации, охотники за иноземными головами, носите фашистскую свастику, на ходу выбрасываете хабарики из машин на улицу – разучились убирать за собой? Вспомнили о своём происхождении?
По всем программам телевизора выступают клоуны. Почему бы не посмеяться? Куда подевались недавние таланты? Неужели смех и юмор существуют для того, чтобы делать из людей идиотов?