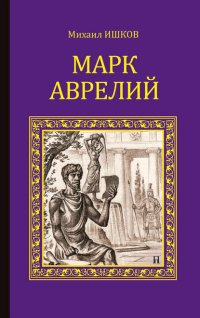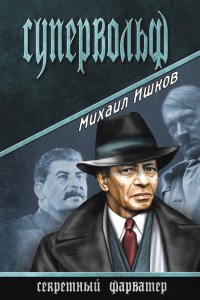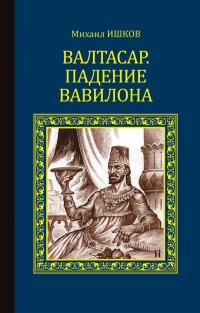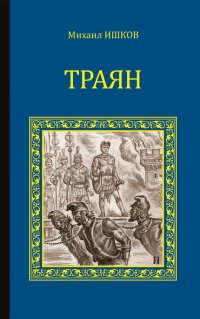
Читать онлайн Траян. Золотой рассвет бесплатно
- Все книги автора: Михаил Ишков
© Ишков М. Н., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
Об авторе
Современный русский писатель Михаил Никитович Ишков родился в 1947 году в Германии в семье офицера Красной армии. Но по возвращении в Советское государство его отец указал в анкетных данных другое место рождения сына – село Михайловка в Алтайском крае. После войны в подобной ситуации так поступали многие красноармейцы, чтобы не портить биографию своим детям.
С 1951 года семья поселилась под Москвой, в Подольске. Здесь будущий писатель окончил среднюю школу. В 1969 году после учебы в московском вузе Михаил получил диплом инженера-аэрофотогеодезиста и отправился работать на Север, в Ухту. В 1972 году вернулся в город своего детства и, замыкая круг, устроился на родной завод, возле стен которого вырос. Тогда же поступил в Литературный институт им. М. Горького на заочный факультет, а после его окончания в 1983 году работал в издательстве «Современник». В 1990 году перешел в издательство «Советский писатель», здесь трудился до 1992 года в должности старшего редактора, заместителя заведующего редакцией русской советской прозы, заведующего редакцией. Серьезным литературным дебютом Михаила Ишкова можно считать сборник повестей и рассказов «Краеугольный камень», вышедший в 1991 году.
С перестройкой основная издательская карьера закончилась, наступили трудные времена. Приходилось браться за разную работу, включая торговлю, а заодно и заниматься переводами с английского популярных фантастических романов. За эти годы Михаил убедился, что самое главное в жизни – согласие с самим собой, вот почему, как рассказывает сам писатель, он наконец решился воплотить в жизнь свою заветную мечту – написать исторический роман. В 1998 году вышла его первая книга о Кортесе, а следом – роман о таинственном графе Сен-Жермене. Затем в поисках радости Михаил Ишков отправился в литературное путешествие по Древнему Вавилону и воинственной Ассирии, о чем составил многостраничные описания в романах «Навуходоносор», «Валтасар. Падение Вавилона» и «Семирамида. Золотая чаша». Творческий визит писателя в Древний Рим пришелся на самое захватывающее и непостижимое время, названное потомками «Золотым веком». Это столетие от воцарения Траяна и до гибели Коммода оказалось первым в истории человечества отрезком, когда подданные подпали под власть самых образованных и мудрых правителей. Их было пятеро – знаменитый Траян-законник, его последователь, строитель Пантеона и поэт Адриан, рассудительный и самый незлобивый из императоров Антонин Пий, философ на троне Марк Аврелий и, как черная клякса на белом, гнусный Коммод, попавший в когорту самых известных злодеев Древнего Рима. Их судьбам Михаил Ишков посвятил несколько больших романов.
Среди других ярких работ писателя – исторические триллеры о самом загадочном человеке двадцатого века Вольфе Мессинге («Супервольф») и не менее загадочном изобретателе Николе Тесле, якобы взорвавшем над Сибирью Тунгусский метеорит («Изобретатель тайн»).
В настоящее время Михаил Ишков по-прежнему живет в Подольске, он полон идей, творческих сил и неустанно продолжает исследовать и преодолевать все новые и новые горные высоты и тайные тропы мировой истории.
Избранная библиография Михаила Ишкова:
«Краеугольный камень» (1991)
«Кортес» (1998)
«Сен-Жермен» (1998)
«В рабстве у бога» («Знак оборотня») (1999)
«Навуходоносор» (2001)
«Валтасар. Падение Вавилона» (2002)
«Марк Аврелий» (2003)
«Коммод» (2005)
«Траян» (2005)
«Адриан. Имя власти» (2008)
«Семирамида. Золотая чаша» (2010)
«Вольф Мессинг» («Супервольф») (2010)
«Никола Тесла. Изобретатель тайн» (2010)
* * *
Вспомним о Золотом веке…
Вспомним о Траяне.
Время его правления – это песня! Это начало столетия, о котором Эдуард Гиббон, англичанин, первым[1] в Новое время нарисовавший общую картину становления, величия и крушения Римской империи, сказал так: «Если бы у кого-нибудь спросили, в течение какого периода всемирной истории положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее, он должен был бы без всяких колебаний назвать тот период, который протек от смерти Домициана до восшествия на престол Коммода». Того же взгляда на Золотой век придерживаются и современные исследователи, правда, с некоторыми, вполне убедительными оговорками.
Золотой век – это слаженный хор выдающихся людей своего времени, объединившихся в понимании жизни как стремления к добродетели, и запевалой в этом хоре оказался Марк Ульпий Траян. Не стоит упрекать его войнами и покорением Дакии, Парфии, расправой над восставшими евреями. Войны, кровь, смерть – это был (как, впрочем, и сегодня) тот круг мироощущения, в котором жили люди две тысячи лет назад. Как писал Теодор Момзен, «…признание полного равноправия парфянского[2] государства лежали за пределами круга римской политики, так же как отмена рабства и тому подобные нереальные для того времени идеи».[3] (Не стану утверждать, что даки согласились бы с хвалебными эпитетами, относящимися к Траяну. Скорее они назвали бы его «кровожадным злодеем», но спросить их об этом уже невозможно). Также трудно согласиться с обвинениями Траяна в жестокостях, допущенных по отношению к христианам. В те годы это было обычное восприятие безумцев, решивших уйти от мира сего в Град божий, там их якобы ждало спасение. Важно другое – его умение найти согласие с самим собой, а ведь именно о согласии нам следует заботиться прежде всего и более всего.
Император Траян наряду с Александром Македонским является одним из двух самых популярных героев европейского средневекового народного творчества. Имя «Траян» или «Троян» не пустой звук и для русского уха. В пантеоне небожителей наших предков существовало божество с именем Трояна. Некоторые историки полагают, что это божество олицетворяет императора Траяна, который в течение нескольких столетий считался на Руси каким-то более сильным, чем все иные, существом, якобы обладающим сверхчеловеческой мощью. По-видимому, основанием для таких представлений послужили победы Траяна в Дакии, после которых он, видимо, и стал известен нашим предкам. Упоминается это имя и в «Слове о полку Игореве». По этому поводу уже более двух столетий идет дискуссия: связан ли этот Троян с римским императором или с неким Трояном?
Не вдаваясь в подробности, хочу отметить исконную тягу, связывавшую наших предков с человеком, чьи прижизненные деяния обрели статус божественности не по воле римского сената или установлениям придворных историков, а по масштабам свершенного и умению жить в согласии с самими собой.
А теперь о горечи в душе, без которой не было бы этого романа. Каюсь, именно эта боль бескомпромиссно побудила меня дать картины эпохи лучшего из императоров. Собирая сведения о временах царствования Нервы и Траяна, мне то и дело приходилось выписывать соответствующие даты. Все они укладываются в период, ограниченный 80-ми годами первого столетия нашей эры и 20-ми второго. Другими словами, составляя хронологическую таблицу, записываю – Траян родился в 53 году н. э., императором стал в 98 году н. э. Казалось бы, зачем это прилипчивое «н. э.», однако стоит убрать привычное обозначение, как рука сама тянется приписать ко всем этим датам 19… или 20… Родился в 1953 году, войну с даками начал в 2001 году.
Улавливаете аналогию?
Если мы не возродим силу, если наши недра окажутся дешевым источником сырья для, как ее осторожно называют, «мировой экономики», если россиян окажется менее пятидесяти миллионов, как то планируют озабоченные будущим России зарубежные общественные и благотворительные организации, как мы сможем удержать контроль над нашими национальными богатствами: над территорией, окружающей средой, полезными ископаемыми, сокровищами живой природы, будь то окружающие наши границы океаны или населяющие наши пространства леса?
В любом случае совместная для всех нас задача – сохранение родины – должна быть решена. Или нас ждет судьба Дакии. К сожалению, нынешнее глубинное народное мнение состоит в том, что многие полагают: раз объявлена свобода, я уж как-нибудь выплыву, а до других мне дела нет. Странное, позорящее нацию заблуждение. Глупо надеяться, что можно выплыть в одиночку, таких топят баграми. Или ракетами. Спасение отчизны – наше общее дело, оно должно быть исполнено, и результат, его прочность будут определяться степенью нашего согласия. Гай Светоний Транквилл, современник Траяна, автор популярной и по сей день книги «Жизнь двенадцати цезарей», как-то заметил: «При согласии и малые дела растут, при раздорах и великие разрушаются». Именно эта составляющая вдохновила меня в деяниях Траяна.
Он, как никто другой, был способен сплотить вокруг себя людей с различными, порой противоположными, точками зрения, при этом, как император Марк, никогда не упускал из вида конечную цель. Он твердо знал, куда и зачем идет. Он всех приглашал с собой в путь. Человек добродетельный от природы – не удивляйтесь, такие тоже порой появляются на свет, более того, иногда даже приходят к власти, – отчетливо сознавал, что согласие возможно только на основе общего дела. Существуют, правда, утверждения достаточно серьезных историков, упрекавших его в простодушном милитаризме, в уповании на силу как наилучший способ решения всех проблем, однако эти замечания касаются более индивидуальных свойств характера, чем реальных дел. Не таким уж грубым «силовиком» являлся Траян. А вот сумел ли Марк добиться согласия с окружающим миром, об этом судить тебе, читатель.
Вот о чем еще следует обязательно упомянуть. Давным-давно, в Траяновы века, жил на свете некто Эпиктет.
Был такой знаменитый умница и святой, сначала раб (хозяин как-то для проверки стойкости его убеждений сломал Эпиктету ногу), затем вольноотпущенник, своей жизнью объяснявший и подтверждавший Зеноновы постулаты. Когда в 94 году император Домициан выслал всех философов и астрологов из столицы, Эпиктет поселился на противоположном берегу Адриатического моря в Эпире. Лучшие умы Древнего Рима один за другим ездили за море, чтобы послушать хромого изгнанника и попытаться разобраться, что же в нашей жизни добродетель, что порок, а что безразличное. Но главное – получить ответ на вопрос, как добиться счастья, то есть прожить отмеренные годы в согласии с природой – своей и всеобъемлющей.
Здесь как раз уместно вспомнить слова Арриана из его предисловия к «Беседам с Эпиктетом»:
«…для меня лично не имеет большого значения, если читатели сочтут, что я не умею писать, а для Эпиктета и малейшего значения не имеет, будут ли восхищаться его речами или относиться к ним с пренебрежением, потому что когда он говорит, то стремится исключительно к тому, чтобы направить мысли слушателей к самому лучшему».
Перефразируя, повторю: если для Эпиктета не имело значения, как будут относиться к его речам, если его целью было исключительно стремление направить мысли слушателей к самому лучшему, то и для меня лично не имеет значения, сочтут ли мой роман достойным и полезным. В любом случае я должен написать его, памятуя при этом о словах сенатора Гельвидия Приска (о котором будет сказано ниже).
Возвращенный из ссылки за несогласие с властью Гельвидий вот как ответил императору Веспасиану. Когда император велел передать ему, чтобы Гельвидий не являлся на заседания сената, тот объяснил: «В твоей власти лишить меня звания сенатора, но, доколе я сенатор, я должен являться на заседания». «Ну, являйся, – говорит Веспасиан, – только молчи». «Не запрашивай моего мнения, и я буду молчать». Но я обязан запросить мнение!» «А я – сказать то, что представляется мне справедливым». «Но если ты скажешь, мне придется убить тебя». «Когда же, – ответил Приск, – я говорил тебе, что я бессмертен. Ты сделаешь то, что твое, а я то, что мое. Твое – убить, мое – умереть без трепета. Твое – изгнать, мое – без огорчения отправиться в ссылку».
Возвращая читателям такие имена, озвучивая исторические фразы из нашего – нашего! – прошлого, отчетливо понимаешь, что поневоле вынужден встать в строй за этими людьми, чьи судьбы, смерти и, главное, жизни служат украшением человеческого рода.
Tertium non datur.
Так вот, Эпиктет как-то упомянул: книг и так написано слишком много, философ должен не столько теоретизировать, сколько подавать пример.
Хромоногий прав, согласимся с ним.
Общие рассуждения, конечно, важны, однако что конкретно можно извлечь из описания деяний того или иного исторического человека? Ну был такой Траян, ну был, может, даже лучшим из всех правителей, но мы живем сегодня не под сенью Траяна, не в его власти.
Что нам Траян?
Этим жизнеописанием я как раз и постараюсь ответить на поставленный вопрос. Давайте последуем за нашим героем, вместе прикинем, чему можно научиться у Марка, какую часть его опыта использовать.
* * *
Встречающиеся в тексте философские термины объяснены в дополняющем роман Приложении, помещенном в конце текста. Но есть просьба: обращайтесь к Приложению только в том случае, если интерес к нему окажется нестерпимым. Роман пишется для чтения, для развлекаловки. Предлагаю остановиться на комментариях, иначе эта дорога далеко утянет…
Часть I. Укротитель Рима
Если государство не в силах воевать с любым врагом, оно вообще не может воевать.
Теодор Момзен
Тревога есть неосознанное чувство вины, может быть, даже извечной, которой человек награждается при рождении, с которой живет отпущенные судьбой годы.
Кто не понимает этого – развлекается.
Автор
Глава 1
Известие о смерти императора Нервы отставной префект конницы Ларций Корнелий Лонг встретил настороженно. Мелькнула, правда, надежда: может, боги все-таки вспомнят о справедливости? Может, примут во внимание его искалеченную руку? Левую кисть он потерял во время кампании в Дакии в 88 году.[4] Культя нестерпимо ныла по ночам, не давала покоя. Боль нагнетала дурные мысли – таяла последняя надежда на людей, на соратников, на влиятельных друзей.
На императоров, наконец!
На его веку Нерва был третьим. Служить пошел при Тите. Того сменил Домициан, его брат, три раза отметивший воинскую доблесть Лонга на поле боя, наградивший его почетным лавровым венком
Каков итог?
Спустя два года после награждения его грубо выперли из армии.
Ларций прислушался…
Ночь выдалась зябкая, тихая. Давно в Риме не было таких холодов, как в эту зиму 98 года. Тибр покрылся корочкой льда – невиданное доселе зрелище. Давным-давно остыла жаровня.
Окликнуть Эвтерма, пусть добавит угольков?
Пустое! Если угодил в немилость, если самый отъявленный негодяй, которого когда-либо видел Рим, ведет за тобой охоту, этим жаром не согреешься.
Префект лежал в своей спальне на широкой кровати и, время от времени вытирая сочившиеся слезы, разглядывал расписанный цветами потолок. В центре была изображена улыбавшаяся, с венком в руке Флора, а вокруг танцующие и восхваляющие богиню обнаженные соблазнительные девицы – одна краше другой. Сюда он должен был привести невесту, сосватанную ему родителями, да так и не привел.
Неужели придется расстаться с этими стенами?
С родным домом, расположенным на западном скате Целийского холма. С Флорой, чье изображение напоминало ему о незабвенных днях, когда он, вернувшись из первого похода в Германию, нанял грека с Этрусской улицы расписать потолок перед свадьбой. Заплатил прилично. С очаровательной, любимой с детства мозаикой на заднем дворе, где были изображены голуби, пьющие воду из большой серебряной чаши-скифоса? Помнится, ребенком он несколько раз пытался схватить ближайшую настороженно вскинувшую головку птицу. Папа и мама смеялись… С мозаичными полами, приводившими в восторг всех, кто посещал их дом?
К Лонгам наведывались охотно, здесь каждого ждали вкусное угощение и приятный разговор. Неужели придется перевозить с обжитого Корнелиями Лонгами за шесть поколений места домашнее святилище-сакрарий, в котором хранились семейные боги и изображения предков? Ларций прикинул – точно, дому было не менее двух с половиной сотен лет. Его стены видали солдат Мария, Суллы, Цезаря и Августа. Сколько поколений Корнелиев взросло под опекой родных пенатов!
Теперь все это должно отойти к чужому дяде?
На меньшее популярный сенатор, обвинитель и «страж государства» Марк Аквилий Регул, не соглашался. Когда Ларций, искалеченный, вернулся из последнего похода, доверенное лицо Регула, вольноотпущенник Павлин, невысокий круглолицый толстяк, поражавший крупной уродливой бородавкой на носу и ласковым обращением, заявил:
– На снисхождение не рассчитывай. Пусть твой отец отпишет в завещании в пользу Регула свой дом на Целиевом холме и половину добычи, которую ты привез из Дакии, и живите спокойно. Ни о чем не беспокойтесь. Если Тит откажется – ждите беды.
* * *
Отставной префект поднялся с ложа, поежился, подошел к маленькому, затянутому железной решеткой оконцу.
Был конец января. Рим был темен, лишь в той стороне, где располагался форум и императорский дворец, полыхали костры. Их жгли караулы преторианской гвардии, выставленной у входа во дворец, – спасались от холода. Говорят, осенью они взяли в плен нового императора Нерву, потребовали, чтобы тот выдал на расправу участвовавших в убийстве Домициана Секунда и Норбану, нынешних префектов претория.[5] Рассказывают, что сам Нерва – немощный старик! – встал на пути у солдатни, однако те грубо отшвырнули цезаря в сторону, отыскали обоих префектов и в Солнечной галерее отрубили несчастным головы. От подобного душевного потрясения Нерва слег, а теперь скончался. Теперь граждане ждут приезда Траяна.
Ларций вздохнул: что творится в Риме?!
Рим сошел с ума?!
Преторианцы пустили кровь своим командирам Секунду и Норбане! И где – в Солнечной галерее Палатинского дворца! В священном месте, расположенном рядом с парадным Августовым залом. Если у негодяев поднялась рука обесчестить стены, хранившие память о Юлии Цезаре, чего можно ждать от Регула? Удивительно, едва только уличная болтовня донесла до родителей невесты весть о нездоровом любопытстве, проявленном сенатором к дому жениха, они отказали Лонгам. Отказали бесцеремонно, наплевав на давние связи взаимного гостеприимства!
Дальше, как говорится, некуда.
В таком случае какое дело ему, Ларцию Лонгу, до унижения Нервы? До назначения в соправители провинциала Марка Ульпия Траяна? Ларций был знаком с Траяном, встречались раза два – и что? Какое ему дело до Траяна? Какое дело до осквернения святынь, если он сам, его жизнь, благополучие семьи уже третий год висят на тончайшем волоске, и эту нить грозится обрезать самый пакостный из всех римских доносчиков и охотников за чужими завещаниями сенатор Марк Аквилий Регул?
Он плюнул в окно.
Глядя в темноту, Ларций в который раз перебрал события последних лет.
После поражения от германцев, заговора Сатурнина и заключения в 89 году унизительного для римлян мира с царем даков Флавий Домициан впал в меланхолию и подозрительность. Ему повсюду чудились заговоры. Единственным спасением он считал армию. В ту пору цезарь переговорил с Ларцием насчет будущей должности префекта претория. Подобное возвышение кружило голову, никто из Лонгов еще никогда не взлетал так высоко. Корнелий поклялся Домициану, что не пожалеет жизни в борьбе с врагами цезаря. Обласканный милостью, явился домой. Не сразу обратил внимание, что в доме невесело. Отец при встрече с трудом выдавил из себя подобие улыбки, домашние рабы прятали глаза.
Вечером того же дня к ним в усадьбу постучал вольноотпущенник Регула Павлин и потребовал встречи со «славным воином и защитником отечества Корнелием Лонгом». Гостя провели в таблиний, служивший Титу Корнелию и самому Ларцию кабинетом. Здесь Павлин сообщил, что, пока Ларций воевал в Сарматии, его родители повели себя неразумно. Павлин объявил условия сделки, на которых Марк Аквилий Регул согласен закрыть глаза на дерзкое и преступное поведение Тита и Постумии, запятнавших себя бесчестьем. В ответ на недоуменный взгляд префекта, Павлин разъяснил «славному воину», что его родители, то ли по недомыслию, то ли по злонравию, приняли участие в заговоре против императора. Они вели себя вызывающе, вполне в духе гнусных республиканцев, которые не раз посягали на жизнь величайших и божественных… При этом Порфирий кивком указал в сторону Палатинского дворца. В конце короткого разговора посланник Регула сообщил, что его господин уже беседовал со стариками, они оставили решение этого вопроса на усмотрение законного наследника.
Порфирий поиграл волосиками на бородавке и добавил, что милость его господина безмерна. Он не желает позорить допустивших «оплошность» граждан и навлекать на семейство Корнелиев Лонгов гнев «величайшего из величайших», «божественного из божественных». Регул милостиво согласился подождать, пока вернувшийся «с полей сражений герой битв, заслуженно добившийся милости императора», лично отписал бы в пользу «преисполненного уважения к семейству Лонгов Марка Аквилия Регула виллу на Целиевом холме» и выдал ему из принадлежавших семье средств вспомоществование в размере двухсот тысяч сестерциев.
Ларций дал пощечину негодяю. Тем же вечером родители укорили его: ах, сынок, ты поспешил. Не следовало портить отношения с этим мошенником. Может, мы смогли бы договориться?..
– Договориться о чем? – опешил Ларций.
– Регул грозит подать донос, – призналась мать, Постумия. – Если Регул и мы полюбовно не решим этот вопрос, ты можешь лишиться всего имущества.
– С какой стати я должен лишаться имущества? – удивился сын. – И что имеешь в виду, говоря «полюбовно решим этот вопрос»?
Мать не ответила.
Голос подал Тит Корнелий:
– Тебя давно не было в Риме, сынок. Мы крепко провинились перед тобой.
После чего отец опустил голову, так и оцепенел.
Постумия тоже вела себя тихо. Беда, убившая их лица, была так велика и неподъемна, что молодой человек растерялся, присмирел. Помнится, тогда шел дождь, вода капала в имплувий – небольшой водоем, устроенный во внутреннем дворике. Капли падали редко, с какой-то надрывной мелодичной тоской.
– Пока ты воевал в Сарматии, – тихо выговорила мать, – в Риме был казнен мой дальний родственник Арулен Рустик. Его сгубил Марк Регул. Он донес, что Арулен написал биографию невинно убиенного Гельвидия Приска.
– Мы не хотели тревожить тебя, – добавил отец, все такой же высоченный, напоминавший колонну, равно округлый в плечах и бедрах. – Полагали, все обойдется.
– Что обойдется? – повысил голос Ларций.
Он, как и отец, тоже был немалого роста, правда, был пошире в плечах и поуже в бедрах. Нижняя челюсть его, как у всех Корнелиев, заметно выдавалась вперед, придавая ему суровый, если не сказать зверский, вид.
– Рассказывайте по порядку, – приказал он.
Родители переглянулись. Начала Постумия.
– Город живет в страхе, – призналась она. – Палач в карцере ни дня не сидит без работы. Наш император…
Старик Тит неожиданно встрепенулся и вставил уточняющее замечание:
– Это лысое пугало!..
Мать укоризненно глянула на мужа:
– Ти-ит…
– Прости, родная.
Пауза. Наконец мать справилась с дыханием и продолжила:
– После того как взбунтовался Сатурнин, Домициан окончательно потерял голову. Ему повсюду мерещатся заговоры. В городе расплодилось неисчислимое количество доносчиков, они толпами бродят по улицам и вынюхивают, где кто что сказал, что кому передал. Только из числа бывших консулов жертвами уже стали двенадцать человек, а скольких сочли участвующими в заговорах и отправили в карцер! Он уже предал смерти своего родственника Флавия Клемента, а его жену, свою племянницу, Домициллу, отправил в изгнание. Он ненавидит философов, в каждом из них видит мятежника. Они, мол, подбивают граждан на сопротивление властям, на неучастие в общественных и значимых церемониях. Они пророчат и учат, как под видом поиска счастья отказывать цезарю в верховной власти над каждым из подданных.
– Какое нам дело до философов? – спросил Ларций.
– Он казнил Арулена Рустика, – едва слышно прошептала мать.
Ларций задумался. В Сарматии до него дошел слух, что Арулен написал что-то похвальное Тразее Пету и Гельвидию Приску.[6] Говорили, что этот панегирик был торжественно сожжен на форуме. Арулен приходился Лонгам дальним родственником. Тит и Арулен были женаты на двоюродных сестрах, но даже эта дальняя связь мало что объясняла в несчастье, которое вдруг обрушилось на их семейство.
– Мама, не томи, – попросил Ларций. – Скажи понятно.
– Он казнил Арулена Рустика, а его жену сослал на Сицилию.
– И что?
– Перед отъездом, – призналась мать, – Гратилла пряталась в нашем доме. Регул, сгубивший доносами Арулена, проведал об этом и явился к твоему отцу с требованием внести его имя в завещание. Павлин уже познакомил тебя с его требованиями?
Ларций замедленно кивнул.
– Он угрожал обвинить нас в оскорблении величества. В таком случае тебе ничего недостанется.[7]
– Вы согласились?! – воскликнул Ларций.
– Нет, – ответил отец. – Я сказал, что следует дождаться твоего приезда. Ты сам должен решить свою судьбу.
– Какую судьбу? При чем здесь судьба? Почему Гратилла не могла остановиться в твоем доме перед изгнанием? Разве ты как римский гражданин не мог предоставить ей временное убежище?
– Это раньше мы были римскими гражданами, а теперь мы стадо, охранять которое взялся голодный волк. Знал бы ты, скольких состоятельных людей сгубил лысый Нерон![8] Знал бы ты, как нажился на его страхах поганый Регул и подобные ему. Знал бы ты, что заявил в сенате этот покровитель доносчиков и негодяев?
– Что же он заявил? – поинтересовался Ларций.
– Без обвинителей законы будут бессильны, и государство окажется на краю гибели.
– Вот что, отец, – после некоторого раздумья заявил Ларций. – Ты откажешь Регулу. Я знаком со многими влиятельными людьми, с бывшими консулами, с сенаторами – с Секундом Цецилием, например, ведь он, кажется, наш дальний родственник? Нам нечего бояться грязных поклепов.
– Как скажешь, сынок, – вздохнул отец.
* * *
Получив отказ, Регул выступил в сенате с речью, в которой публично обвинил стариков Корнелиев в пособничестве государственной преступнице – жене негодяя, посмевшего «воспеть» человека, присужденного божественным Веспасианом к изгнанию, потом к смертной казни.
«Верность императору, обязанность соблюдать законы, – заявил Регул, – не может делиться на людей незнакомых и на родственников, ближних или дальних. Закон суров, но это закон. Это бремя оказалось не под силу отступникам, нагло поправшим волю божественного цезаря и посмевшим оказать содействие той, кому было предписано покинуть город».
В выступлении Регул благоразумно умолчал, знал ли префект конницы Ларций Лонг о преступной связи родителей, однако добавил, что странно видеть в будущем префекте претория сына человека, злоумышляющего на высшую власть в городе.
Этот новый заговор пришелся Домициану по вкусу, однако император никогда спешил. Он предпочитал действовать последовательно, каждый раз докапываться до истины.
Спустя месяц Регул обвинил по тому же делу старавшегося не ввязываться ни в какие склоки Веллея Блеза, а также его клиентуру, якобы знавшую и покрывавшую преступные деяния хозяина. Ни в каких связях с «заговорщиками» Веллей замечен не был, однако небезызвестная Гратилла перед отъездом тоже побывала у него, и он ссудил ее деньгами. Вина или беда Веллея заключалась в том, что он был очень богат. Блез был одним из немногих состоятельных людей в Риме, кто мог позволить себе в пределах городской черты владеть обширным парком.
Спустя две недели после выступления Регула Ларция вызвали во дворец. Услышав слова гонца, Ларций испытал дурные предчувствия. Предупредил родителей. Отец сразу помрачнел, мать принялась вытирать слезы – все молча. Коротко попрощавшись, в сопровождении личного раба Эвтерма отправился на Палатин. Здесь его ждал императорский секретарь Титиний Капитон.[9] Разговаривал доброжелательно, интересовался состоянием дел в армии – почему, например, легат погибшего в Сарматии Двадцать первого Неудержимого легиона не внял сведениям, доставленным лазутчиками, в частности самим Ларцием Лонгом, и завел своих солдат в болото, где их и уничтожили? Может, Ларций что-то напутал? Может, разведка представила неточные данные?..
Ларций обстоятельно и терпеливо объяснил, что представленные им данные были точны, а по какой причине легат поступил так опрометчиво, он судить не может. Его тогда при легионе не было, его вместе с алой отослали к Данувию.
Капитон согласился – действительно, в тот день, когда варвары уничтожили Двадцать первый легион, Лонг отсутствовал. Однако в настоящее время он присутствует в городе и, конечно, знаком с обвинениями, выдвинутыми против его родителей и Веллея Блеза? Ларций подтвердил, что с обвинениями знаком, но считает их ничтожными. Сам факт предоставления приюта родственнице не может считаться актом государственной измены. Капитон и с этим согласился, однако добавил, что тщательное разбирательство вполне откроет истину и, чтобы расследование было проведено объективно, принцепс вправе рассчитывать на своего верного офицера.[10]
– Ты согласен? – спросил Титиний.
– Безусловно! – подтвердил Ларций.
– В таком случае, – продолжил Капитон, – желательно, чтобы ты, префект, выступил свидетелем и подтвердил, что Веллей давно вызывал у тебя подозрения. Я со своей стороны готов предоставить факты, подтверждающие умысел, который содержится в последних высказываниях и письмах Веллея. Твое слово воина очень поможет отысканию истины. Если мы договоримся, можно будет согласиться, что вина твоих родителей воистину ничтожна.
Ларций не мог скрыть удивления:
– Но как я, находясь в действующей армии, за сотни миль от города, мог проведать о тайных замыслах Веллея?
– Вот как раз об этом тебе и следует поразмышлять. Ты должен хорошенько подготовиться к выступлению перед следственной комиссией. Там будет много горлопанов и тайных недоброжелателей цезаря. Они не упустят случая поймать тебя на каком-нибудь противоречии.
Лицо у Ларция приобрело удивленно-глуповатое выражение. Он признался:
– Не мастак я на такие штучки, Капитон. Боюсь, у меня ничего не получится.
Титиний развел руки:
– Решать тебе, префект. Я могу подождать. Скажем, две недели. Скажи, ты знаком с Марком Ульпием Траяном?
– Это тот, что родом из Испании? Наместник Верхней Германии?
– Да.
– Знаком, но мельком. Виделись пару раз.
– Что ты можешь сказать о нем?
Ларций задумался: неужели и за Траяном идет охота? Неужели этот громила тоже влип? Вслух ответил:
– Что я могу сказать? Пользуется авторитетом среди солдат. Силен, крепок, в военных делах осторожен, попусту не рискует. Верен присяге и ныне здравствующему императору, да хранят боги божественного Домициана.
– Пусть хранят, – согласился Титиний. – Можешь идти.
Ларций растерялся. В первое мгновение едва не бросился целовать секретарю руку, однако сумел сдержаться. Поблагодарил Капитона за неслыханную щедрость, будто тот походя подарил ему жизнь, попрощался:
– Мира тебе и здоровья, Титиний.
Ошеломленным – не испуганным или растерянным, а именно ошеломленным, с примесью стыда – вышел Ларций Корнелий Лонг из Палатинского дворца.
Предложение Капитона, сделанное явно по указке сверху, мало что было ошарашивающим, недопустимым, оскорбительным, неумным, но, главное, бессмысленным, ибо как Ларций мог узнать о намерениях Веллея. Чтобы врать в присутствии почтенных отцов-сенаторов, лжесвидетель должен был обладать неистребимым запасом необходимой для такого бесчестного дела наглости.
Если его спросят, каким образом он, находясь на границе, сумел разузнать, по какой причине и как Роман решил покуситься на жизнь цезаря, что он сможет ответить?
Прибегнул к помощи астрологов?
Или, занимаясь на досуге колдовством, ухитрился таинственным образом проникнуть в мысли злоумышленника? Да за такое признание его непременно лишат головы, так как не было во всем государстве более ненавистных Домициану подданных, чем астрологи и философы.
* * *
Стоя у окна, Ларций Лонг вздохнул: пусть боги вам, астрологи и философы, будут судьями! На этом месте Ларций резко оборвал вновь всколыхнувшее печень раздражение. Что толку тратить слова на инвективы! Согласие на предложение Капитона означало потерю чести, отказ – гибель родителей и его тоже скорую гибель.
Изумляло другое: как Рим докатился до жизни такой?
Он тогда прямо спросил отца: что же творится в городе, если ему, честному гражданину, посмели сделать подобное предложение? Как это возможно?
Тит только руками развел, точь-в-точь как Капитон. Этот жест уже давно вошел в моду в городе. Его употребляли по поводу и без повода. Чуть что – сразу руки в стороны, пожимание плечами, удивленно-глуповатое лицо и ускоренным шагом в сторону. Подальше от вопрошающего.
Отец ответил не сразу, сначала поинтересовался:
– Помнишь, я упомянул о словах Домициана, которыми он поощрил доносчиков. Но я не сообщил о поводе, который позволил лысому негоднику произнести их. Послушай, сын, множество бед сулит нам судьба, но в любом несчастье следует быть спокойным и поступать в соответствии с велениями разума. Твой собственный разум есть часть разума мирового. Что есть мировой разум? Это то, чем держится мир или, иначе, высшая сила, порождающая все живое. Это вечный огонь, наполненный животворящим дыханием…
– Отец! – внезапно рассердившись, Ларций прервал Тита. – Выражайся короче. Сейчас не время для обличительных речей, объяснений, что такое мировой разум, и прочих философских финтифлюшек, до которых так охоч мой раб Эвтерм. Не он ли обучал тебя искусству выражаться тёмно?
– Философия не рабское искусство, – насупился отец. – Но если ты настаиваешь, я могу и короче. Сынок, помнишь Сабина Куртизия?
– Конечно, мы с ним учились у грамматиста в начальной школе.
– Именно учились, но разному выучились. Пока ты был в армии, Сабин обвинил сосланного на Родос отца в организации покушения на цезаря. Куртизия привезли из ссылки, в цепях привели в сенат, где поставили лицом к лицу со своим обвинителем. Отец строго, я бы сказал, сурово, но без надменности и презрения глянул на отпрыска, а нарядный молодой человек заявил не смущаясь, что его отец в силу жестокосердной неприязни к императору даже в изгнании не оставил злобных замыслов. Он готовил покушение на принцепса. За ним числятся и другие, более страшные деяния.
Старик спокойно выслушал обвинение, затем, устремив взор на сына, Серен потряс оковами и воззвал к богам-мстителям, моля их возвратить его в ссылку, где он мог бы жить вдали от подобных нравов, а на его сына когда-нибудь обрушить возмездие. Он потребовал, чтобы обвинитель назвал других участников заговора, ведь не мог же он, старик, находясь в изгнании на далеком острове, в одиночку осуществить государственный переворот, тем более убийство принцепса. Тогда обвинитель, вынуждаемый законом подтвердить обвинение, называет в числе соучастников ближайшего друга Домициана Нерву.
Лысый Нерон пришел в великое смущение и снял обвинение. Отпрыск, зная, что простой народ, не стесняясь в выражениях, угрожает ему расправой, в преступном неистовстве дал деру. Что же ты думаешь? Не прошло и двух недель, как по приказу принцепса его возвращают из Равены и заставляют довести обвинение до конца, причем в разговоре с ним Домициан не скрывал ненависти к старику-отцу. Наконец в сенате были собраны голоса: Серен-старший был осужден на смерть, замененную впоследствии ссылкой. В связи с этим приговором Домициан заявил: без обвинителей законы будут бессильны, и государство окажется на краю гибели.
Тит Корнелий помедлил – по-видимому, боролся с собой – и, проиграв сражение с желанием блеснуть словцом, не скрывая гордости, с воодушевлением закончил:
– Так доносчиков – породу людей, придуманную на общественную погибель и до того необузданных, что никогда и никому не удавалось сдержать их в разумных границах даже с помощью наказаний, – поощрили обещанием наград.
Наступила тишина.
Молчали оба, отец и сын.
Наконец Тит Корнелий обратился к Ларцию:
– Полагаю, ты вправе согласиться на предложение Капитона. Объяви, что ты давно подозревал меня в преступном замысле. В противном случае тебя тоже постигнет кара. Я хотел бы, чтобы ты выжил и отомстил нашим врагам. О нас не беспокойся.
Сын невольно отпрянул. Отец оттер пальцами намокшую переносицу и добавил:
– Собственно месть мало занимает меня. Куда больше беспокоит твоя судьба.
– Моя судьба неотделима от моего имени, – нарочито не торопясь, едва сдерживая ярость, ответил Ларций. – Мое имя неотделимо от твоего. Предать тебя – опозорить род. Зачем мне тогда жить, отец? И как?..
– Тоже верно, – согласился отец. – В таком случае пусть решают боги.
Он был невозмутим.
Через месяц эдиктом Домициана Лонга уволили из армии. В указе упоминалось о неспособности префекта «ввиду ранения» в полной мере выполнять обязанности начальника конницы. Объяснение откровенно издевательское – ведь после того, как в сражении в Сарматии Ларций потерял левую кисть, он еще почти год командовал конным отрядом, и никому его искалеченная рука не мозолила глаза. Выходное пособие, обязательное в таком случае, назначили уничтожающе оскорбительное – несколько тысяч сестерций.[11] Ему было предписано жить тихо, из города без разрешения не выезжать.
После отставки Ларция на семью Лонгов одно за другим посыпались несчастья. Рухнули надежды на дальнейшую карьеру. В дом один за другим повалили кредиторы, за ними крупные жулики, решившие «по-доброму» отбить у впавшего в немилость семейства приносивший неплохой доход кирпичный завод в Тарквиниях (в пригородах Рима), а также откуп на поставки азиатского вина в Рим, чем издавна занимались Лонги. Поспешили и мелкие доносчики, и вымогатели во главе с «ночным грозой Рима», фракийцем Сацердатой. Эти тоже требовали включения их в завещание Тита и Постумии, иначе, грозились вымогатели, они сожгут кирпичный завод. Темные личности шныряли по усадьбе, перешептывались с домашними рабами, старались подкупить их. Ларцию пришлось отправить на дальнюю виллу не внушавших доверие слуг. Лонги держались как могли, однако состояние семьи таяло на глазах. Сорвалась сделка в Азии, затем кредитор ни с того ни с сего набросил процент на заем. Прибавил совсем чуть-чуть, но попробуй обратись в суд центумвиров. Тут еще сосед потравил урожай винограда.
Скоро Лонги перестали принимать гостей, да и где было найти таких смельчаков, которые отважились бы заглянуть к заведомому преступнику, осмелившемуся укрыть в своем доме жену самого Арулена Рустика.
С той поры Ларций больше не ввязывался в разговоры, касавшиеся «похабного», как его называли в городе, мира с даками, более похожего на капитуляцию. Какое дело ему до легкомысленного наместника Мезии Сабина, подставившего свои легионы под удар Децебала и погибшего на поле боя? До не имевшего боевого опыта и тем не менее считавшего себя великим стратегом Корнелия Фуска, допустившего разгром армии в первом же сражении с даками? До Семпрония Руфа, гордеца и выскочки, заведшего свой легион в узость между двух озер и утопившего солдат в болотах?! До того же Траяна, которым непонятно с какой целью интересовался Титиний Капитон. Какое ему дело до разнузданной солдатни, которой собственные центурионы и трибуны опасались более противника. После того как император прибавил солдатам жалованье на четверть, они еще более распоясались. Какое дело до армии, если его из этой самой армии вышвырнули за ненадобностью?
Пропадите вы все пропадом!
Глава 2
Ларций прошелся по комнате, присел на кровать. Руки у него подрагивали. Обе. Ощущение было полным. Ларций с ненавистью глянул на обрубок, с которого на ночь снял металлический крюк. Порывисто вздохнул:
«Может, все-таки лечь, дождаться сна?»
Пустое. Проваляется до рассвета, потом весь день будет болеть голова. Он поднялся, вновь приблизился к окну.
Будущее и теперь, когда в городе свершилось столько перемен, казалось мрачным, как эта холодная январская ночь, царствовавшая за пределами дома. Пока еще его дома. Уже не было Домициана, уже успел отправиться на небеса Нерва, которого с такой радостью после убийства тирана приветствовал сенат. Всего-то год поцарствовал. Единственное, что успел сделать, – так это усыновить Марка Ульпия Траяна. Каков, однако, взлет для испанца, вот кому белозубо улыбается судьба!
Однако что изменилось?
Ни-че-го!
Где он, Траян? Говорят, бродит где-то на границе, вдали от Рима, а в городе по-прежнему торжествуют такие, как Регул, поток доносов не иссякает. Завещания пишутся под диктовку бесчисленных проходимцев, свободнорожденных граждан нагло обращают в рабов, наместники ведут себя в провинциях, как волки среди стада овец. Все так же по ночам на городских улицах хозяйничают бандиты во главе с Сацердатой. Преторианцы, по-видимому, навечно обосновались в Палатинском дворце, во вместилище божественной власти.
Сказывают, испанец – так за глаза называли Траяна – собирается воевать даков. Один уже пытался, едва ноги унес. Теперь и этот туда же. Когда же он отыщет время заняться городскими делами? Пора бы показаться на глаза римскому народу. Когда наконец в его, Ларция, судьбе наступит ясность? Ведь прошло уже шесть лет с момента обвинения его родителей в сенате.
Шесть страшных лет ожидания худшего, страха за жизнь Тита и Постумии, за собственную жизнь!
Шесть лет унижений, ежедневной борьбы за сохранение имущества. У старины Кокцея до разбора дела Лонгов так и не дошли руки – он день и ночь пресмыкался перед преторианцами. Как до гибели тирана Ларций бродил по дому, так и теперь бродит. Неужели покорение даков – задача несравнимо более важная, чем покой и безопасность таких, как он, Ларций Корнелий Лонг?
Или, может, такие пустяки, как несчастья каких-то Лонгов, нового цезаря не занимают? Тогда пусть власть предержащие популярно объяснят, в чем он, Ларций Корнелий, человек из сословия римских всадников, законопослушный гражданин, опытный, храбрый солдат, провинился перед отечеством? Почему город, родной и великий, властвующий над миром и сыплющий блага на головы своих детей от Британии до Евфрата, с легкостью готов отдать одного из своих питомцев на растерзание дрянному, порочному человеку? Почему не служившие в армии торжествуют над увечными воинами? Что это за государство, позволяющее негодяям гордиться, а честным гражданам – пребывать в страхе?
А то Траян, Траян!..
Ну что Траян?
После отставки из армии в безумной попытке спасти себя и родителей Ларций бросился за помощью к сильным и богатым. Прежде всего к тем, кто пользовался уважением в городе. К своему бывшему начальнику, бывшему консулу Сексту Фронтину.[12] Под его началом Ларций начинал службу. В ту пору ему было шестнадцать, а Сексту – около сорока. Выходит, теперь ему под семьдесят.
Бывший консул встретил сослуживца приветливо, однако выяснить, какое решение Домициан намеревается принять по делу Лонгов, отказался. Сослался на то, что сам попал в немилость. Вся его помощь уместилась в нескольких советах, которые Ларций сгоряча счел издевательскими, а спустя некоторое время, после глубоких размышлений, пришел к выводу, что подобные наставления – явное свидетельство старческого маразма, в которое впал бывший консул. По поводу ввергающей в ужас неопределенности, в которой пребывал его бывший подчиненный, Фронтин выразился с подобающей мудрому человеку рассудительностью: это пустое.
Услышав эти сочувственные слова, Ларций на мгновение опешил.
Всем известно: Рим слезам не верит, но не до такой же степени!..
Потом унял гнев. Старик как ни в чем не бывало принялся вспоминать годы совместной службы. Затем признался, что на досуге занялся составлением трактата по военному искусству. Точнее, собирает различные военные хитрости, способные в трудную минуту помочь любому полководцу. Тут же прочитал несколько выдержек из своей книги.
Ларция взяла волчья тоска: зачем он приперся к этому старому пню? Чтобы услышать байки времен ганнибаловых и покорения греков? Тоже мне стратег нашелся! Тут же осадил себя – на что он, собственно, рассчитывал? Homo homini lupus est. В Риме любят повторять эти слова Плавта.
Между тем старик в белой тоге с широкой красной полосой поделился с гостем:
– Вот чем, Ларций, я теперь заполняю досуг. Собираю все, что способно подтвердить остроту ума и находчивость, более всего необходимые на войне. Я хочу собрать как можно больше примеров, способных научить, а в трудную минуту и помочь любому полководцу принять верное решение. Надеюсь увидеть тебя в числе первых читателей и дотошных критиков моего труда.
Ларций криво усмехнулся.
Старик улыбнулся.
– Полагаешь, ко времени ли старый веник вроде меня взялся за описание деяний тех, кто в полной мере освоил искусство войны? Я считаю, что любое полезное дело всегда ко времени. Например, гимнастика. Мне скоро семьдесят, но я ежедневно проделываю полезные упражнения, совершенствуюсь во владении оружием и совершаю дальние прогулки. А ты? Приседаешь ли по утрам? Разводишь руки в стороны? Тренируешься ли в метании дротиков с коня, не растерял ли навыков обращения с длинным сарматским копьем-кóнтосом?
– В моем положении, – пожал плечами гость, – более пристало позаботиться о памятнике, который поставят в семейной усыпальнице, чем о рукомашестве и ногодрыжестве. Тем более о сарматском копье. Конечно, если найдутся люди, которые предложат в самое ближайшее время применить его на деле, я докажу, что и однорукий способен на многое.
Наступила тишина. Фронтин помолчал, наконец, усмехнувшись, ответил:
– Я смотрю, ты повесил голову, дружок. Расходы на памятник излишни; память о нас будет жить, если мы заслужим этого своей жизнью. Неужели ты поддался страху?
Ларций пожал плечами:
– В моем положении волей-неволей поддашься страху.
– Страх, Ларций, всего лишь ожидание зла. Это движение души неразумно, оно ни в коей мере не согласуется с человеческой природой. Ведь ты же не будешь спорить, что твоя природа есть часть природы космической?
– Спорить не буду, – осторожно ответил гость.
– И правильно.
Ларций шумно выдохнул.
– Все это слишком сложно для меня, Фронтин, – признался он. – Я не понимаю, чем в моем положении может помочь знание о том, что моя природа связана с природой космической.
– Это и радует, – улыбнулся хозяин.
– Что именно, – нахмурился Ларций.
– Твоя искренность. Твое твердое намерение следовать велениям собственной природы, ведь, как я слышал, ты не отказался от родителей?
– Это не выход, – мрачно буркнул гость.
– Конечно. Твоя единственная опора – это выдержка, римская невозмутимость и мужество. Это немало.
– Невозмутимость невозмутимостью, но если дела и далее пойдут в том же порядке, мне придется расстаться не только с имуществом, но и с жизнью.
Фронтин улыбнулся и похлопал молодого человека по плечу:
– Я смотрю, ты совсем раскис, Ларций. Гони дурные мысли!
После короткой паузы старик добавил:
– Ты всегда был мне приятен, поэтому я рискну дать тебе совет, вполне вытекающий из осознания, что ты – разумное существо и часть космоса. Что и в тебе живет частичка одухотворяющей мир горячей пневмы. Попробуй последовать за своим ведущим. Ты всегда был рассудительным, спокойным человеком. Не теряй надежды, займись гимнастикой. Я знаком с греком, искусным механиком. Он творит чудеса. Одному моему знакомому соорудил такой кинжал, что его можно упрятать в наручной повязке. А какие искусственные руки он изготавливает! Любо-дорого посмотреть. Пальцами на такой руке вполне можно удерживать фиал, полный вина. Или поводья коня. Вот тебе мой совет: закажи ему протез, пригодный для использования и в походе, и в бою, и в домашней обстановке. Другими словами, отыщи в себе согласие с самим собой.
– Полагаешь заказать протез – это наилучший выход в моем положении? Тогда я буду спокоен и за имущество, и за родителей?
– Безусловно.
Они помолчали, после чего хозяин задал неожиданный вопрос:
– Как тебе Траян, Ларций?
– Который? – не сразу сообразил гость. – Отец или сын?
– Сын, наместник Германии.
– Я с ним едва знаком. Мы встречались в Германии, куда Марк перегнал свой легион, и еще раз здесь, в Риме, в девяносто пятом году. Семья хорошая, знатная. Отзывы положительные. Громила что надо, спит на голой земле, вынослив, как мул. Любимое развлечение – охота, и чтобы в диких местах, и чтобы до истомы.
– Значит, любит продираться сквозь дебри? – уточнил хозяин.
– Не только. Еще любит лазать по горам. Ребята рассказывают, где ни появится, ни одной горы не пропустит. В Альпах влез на самую высокую вершину. А еще любит плавать по морю, когда оно неспокойно. Или грести на лодке. Оружием владеет хорошо.
– Лучше тебя? – усомнился Фронтин.
– Иберийским мечом лучше. Пилумом[13] лучше – на расстоянии сорока шагов попадает в медную монету. Сказать, кто в бою лучше владеет щитом, трудно, я – конный. Характер у громилы спокойный, нос не задирает, хотя в тридцать восемь лет стал консулом. Другой на его месте уже из носилок не вылезал бы, а этот в походах идет впереди войска. Шаг хороший, ровный.
– Это радует, – одобрил хозяин.
– Что радует? – не понял Ларций.
– Что шаг широкий, ровный…
– А-а.
На том и расстались.
Через несколько дней, еще раз обстоятельно обдумав состоявшийся разговор, Ларций обнаружил в словах старика некое умолчание, неожиданно больно его задевшее. Что-то Фронтин недоговаривал – и насчет механической руки, и насчет кинжала, который, оказывается, можно незаметно пронести в наручной повязке. Интересно, зачем кому-то понадобилось проносить оружие, спрятанное под повязкой?
В любом случае эта скрытность крепко обидела Лонга, однако, как ни странно, она же и подарила трепетную надежду. Неужели в Риме нашлись люди, которым более невыносимо состояние страха и ощущение пропасти, в которую по милости озверевшего тирана катилось государство? Неужели кто-то всерьез взялся за особого рода гимнастику, которой увлекались Брут и Кассий,[14] за организацию проноса кинжала в тщательно охраняемые покои императора? Через неделю, решив проверить, в верном ли направлении работает мысль, Ларций решил повторить опыт и навестить давнего покровителя их семьи, также бывшего консула, Кореллия Руфа.
Кореллию в ту пору уже было далеко за семьдесят, возраст вполне праотческий, однако Руф встретил гостя живо и радостно, назвал «сынком», похвалил, что сохраняет достоинство и, находясь под следствием, осмелился навестить впавшего в немилость, больного старика. В юности Кореллий заболел подагрой. Эта болезнь передалась ему от отца. «Болезни, сынок, как и все прочее, передаются по наследству», – со вздохом объяснил хозяин, когда они устроились в спальне, где тот также принимал еду. Кореллий пригласил разделить с ним трапезу. В еде Руф по-прежнему был умерен, ел только овощи. Особенно налегал на репу, нахваливал ее, называл чудодейственной.
Ларций положил в рот несколько вымоченных в оливковом масле долек, с кислым видом пожевал. Затем Руф жестом отослал из спальни рабов. Такой уж у него был порядок: когда приходил близкий друг, все удалялись, даже жена, хотя она умела свято хранить любую тайну.
Когда они остались одни, хозяин спросил:
– Как ты думаешь, Ларций, почему я так долго терплю такую муку? Да чтоб хоть на один день пережить этого грабителя Домициана. Дали бы мне боги достойное подобному духу тело, я бы не задумываясь выполнил то, чего желаю.
Ларций воскликнул:
– Благодарю тебя, дядюшка! Ты первый и единственный, кто не побоялся высказать вслух то, о чем я все эти месяцы мечтаю. Я мог бы помочь тебе в этом деле. Даже несмотря на то, что у меня всего одна рука.
– Ну-ну, сынок, – улыбнулся хозяин, – никогда не спеши заняться грязной работой. Разве мы не римляне, не властелины мира, чтобы самим пачкать руки? Пусть ее исполнят скверные люди. В Риме таких достаточно, особенно среди пришлых. Ты лучше скажи, знаком ли ты с Марком Ульпием Траяном?
Ларций открыл рот от удивления.
– Дался вам этот Траян! Куда ни придешь, все разговоры только о наместнике Верхней Германии.
– Кто еще интересовался Траяном? – как бы невзначай спросил Кореллий.
– Титиний Капитон и Секст Фронтин.
– Хвала богам! – облегченно воскликнул хозяин и попытался вскинуть руки. Тут же застонал от боли. Когда страдание оставило его, уклончиво объяснил:
– Это понятно. Титиний представляет цезарю кандидатуры на должность, а Секст царапает что-то по военному искусству. А сам ты как относишься к Траяну?
– Дядюшка, я никак не отношусь к Траяну. Я с ним едва знаком. Слыхал, что он отменный вояка. В его действиях незаметно суеты и безалаберности. Более ничего.
– И ладно. Это я так, к слову. А ты не стесняйся, ешь репу. Это необыкновенный, целительный овощ. Я, например, с удовольствием ем его.
В дальнейшем беседа велась исключительно вокруг лекарственных свойств овощей и прочих необыкновенных и целительных снадобий.
Вот и весь разговор.
Дома Ларций всерьез задумался над словами самых известных в Риме стариков. После долгих размышлений окончательно уверился, что в идиотских на первый взгляд советах жевать репу, дрыгать по утрам руками и ногами, заказать дорогой, по-видимому, протез скрыта какая-то твердая косточка, в которой надежно хранилось тщательно скрываемое, очень вкусное, но запретное ядрышко. Ему никак не удавалось разгрызть косточку, а разгрызть хотелось. Что там шевелилось под спудом казней, доносов, торжества негодяев, припадков злобы, которые то и дело охватывали Домициана? Отчего в городе вдруг зародился такой страстный интерес к Траяну?
С того дня Ларций, оторвавшись от своих обид, начал внимательно прислушиваться к тому, что происходит в городе. Начал посещать судебные заседания в базилике Юлия. Действительно, в Риме творилось что-то невразумительное. В рабочих кабинетах, домашних библиотеках, столовых-триклиниях, по садам сенаторских особняков копошилось что-то неуловимо будоражащее, внушавшее смутную надежду. Беседы велись странные, исторические, часто вспоминали первую гражданскую войну, когда в государстве объявились сразу три императора – Отон, Вителий и Веспасиан. Это были страшные времена, когда брат поднимал руку на брата, а отец требовал награду за то, что в бою сразил негодника-сына, посмевшего примкнуть к негодяю-узурпатору. Не вражеские поселения, не варварские племена страдали от солдатни, но родные италийские города и селения. Горели до боли родные, знакомые с детства усадьбы. Была разрушена и разграблена Кремона.[15] Это были унылые воспоминания, ведь так кончилось царствование Нерона.
В тот девяносто шестой год Рим доверху наводнили знамения. Уже восемь месяцев подряд на столицу в бессчетном количестве сыпались молнии, так что Домициан, суеверный, как все тираны, в отчаянии воскликнул: «Пусть же разит, кого хочет!» Как бы там ни было, а молнии ударили и в Капитолий, и в храм Флавиев, и в Палатинский дворец.
Не в силах справиться с сомнениями, в поисках ясности Ларций отправился к своему сослуживцу Цецилию Секунду, сделавшему карьеру на выступлениях в суде и уже обладавшему сенаторским достоинством. Десять лет назад они вместе служили в Сирии в Третьем галльском легионе. Цецилий через год обязательной службы вернулся в город. Он приходился племянником известному в Риме командующему флотом, а также неутомимому чтецу и собирателю знаний Плинию Старшему. Незадолго до своей гибели дядя усыновил его.
Первым делом боевые товарищи вспомнили прошлое.
– Помнишь, как мы с тобой орудовали в Азии, в Третьем галльском легионе? – засмеялся хозяин, потом придавил улыбку и поинтересовался: – Как родители?
Ларций промямлил что-то о беспокоящих отца болях в пояснице, о том, что матушке не дают покоя колени. О себе сказал, что просиживает дома.
– Изредка выхожу на форум. По приказу цезаря пытаюсь получить назначенные мне деньги. Уже который год говорят: приходи завтра. Кстати, я слышал, ты доволен современным состоянием красноречия и строишь свои выступления по образцу таких искусных ораторов, как Марк Регул?
– Нет, Ларций. Я считаю крайней глупостью в ораторском искусстве выбирать для подражания не самые лучшие примеры.
Он помолчал и добавил:
– Как, впрочем, и во всем остальном.
Еще пауза.
Наконец Плиний поинтересовался:
– Я полагаю, ты жаждешь откровенности?
Гость кивнул.
Хозяин одобрительно качнул головой.
– Признаюсь, – наконец выговорил Плиний, – не вижу смысла надрываться в государстве, где давно уже низость и бесчестность награждаются не менее – нет, что я говорю, – более, чем скромная верность, негромкое исполнение долга и неприхотливость в жизни. Ты только что упомянул о Регуле. Он и мне не дает прохода. Жалкий бедняк, какого богатства он достиг подлостью! Ведь, когда он появился в Риме, никто не заставлял его обвинять других, он сам позаботился о том, чтобы его имя внушало ужас. С другой стороны, ты не прав, утверждая, что я редко появляюсь в сенате и что отказался от защиты справедливости. Сейчас я и Корнелий Тацит[16] готовимся защищать провинциалов из Африки.
– В таком случае я пришел к нужному человеку! – воскликнул Ларций. – Если ты считаешь возможным помочь незнакомым тебе людям, то и я мог бы рассчитывать на твою поддержку. Скажи, как мне поступить с проклятым Регулом, ведь ты знаком с обвинением, которое он предъявил моим родителям?
– К сожалению, Ларций, ты обратился не по адресу. Вряд ли теперь меня можно назвать влиятельным человеком.
– Но должна же быть на моего обвинителя хотя бы какая-то управа? – воскликнул Ларций. – Он закусил удила! Почему молчит тот, – гость ткнул пальцем в потолок, – у кого на глазах творятся чудовищные безобразия? Отчего он не видит и не слышит? Почему, в конце концов, до сих пор не начинает судебный процесс, на котором я мог бы выступить свидетелем в пользу своих родителей?
– По слухам, – не глядя на гостя, ответил хозяин, – Веллей Блез согласился включить цезаря в свое завещание. Домициану достанется три четверти его состояния. Без такого богача, прости, друг, Лонги в качестве поживы мелковаты. Разве что для приманки вас использовать? Полагаю, следующим обвиняемым, по-видимому, буду я, хотя с меня много не возьмешь. Мое состояние среднее, вряд ли они добудут более десяти миллионов сестерций. Что ты скажешь, если вдруг обнаружится заговор, в котором мы оба близко сошлись с императрицей и вместе вынашивали злобные планы, как бы ловчее умертвить цезаря?
– Почему именно мы и почему с императрицей? – удивился отставной префект.
– Потому, Ларций, что следует мыслить масштабно, с перспективой. Мы с тобой – для неопровержимости обвинения, императрица, пара-тройка богачей, обладающих стомиллионными состояниями, – для его основательности. Чувствуешь размах? А какой доход в казну! Скажи, ты пришел ко мне, чтобы уговорить меня, как и Секста Фронтина и Кореллия Руфа, присоединиться к вашему заговору?
Лонг даже отшатнулся:
– У меня и в мыслях не было, Секунд!
– Об этом знаем я и ты, а вот что наплетет императору Регул, судить не берусь.
– Выходит, своим посещением я навлек на твой дом беду? – спросил Ларций.
– Навестил ты, дорогой Ларций, меня или нет, это не имеет значения. Если нам в компании с императрицей и префектами претория суждено попасть на плаху, ни ты, ни я в этом не будем виноваты. Императрица – да, ее поведение вышло за все допустимые рамки. Говорят, она заперла трагика Париса в своей спальне на ключ и не выпускает его даже по малой нужде. Возможно, это от страха.
Ларций пропустил шутку мимо ушей.
– Выходит, – начал допытываться он, – нам только и остается сидеть и ждать, пока нас зарежут как жертвенных ягнят?
Плиний рассмеялся:
– Вот ты и проявил свою преступную сущность, Ларций! Прав был Регул, утверждая в сенате, что яблоко от яблони недалеко падает.
– Полагаешь, что поймал меня на слове?
– Я ничего не полагаю, Ларций. Я просто обращаю твое внимание, что задавать такие вопросы нынче очень небезопасно. Но, по сути, ты мыслишь в верном направлении…
Вновь тишина. Ларций глотнул приятный напиток, называемый калдой,[17] бросил взгляд на красивую, изготовленную в далеком Китае чашку, затем поставил ее на стол.
– Если я мог бы помочь?..
– Чем ты можешь помочь, Ларций, если сам висишь на волоске.
– Сколько же я буду висеть?
– До наступления зимы точно. Позволят боги, нить может оборваться и раньше. Скорее всего, в середине сентября. Дальше висеть всем нам уже нет никакой возможности.
Глава 3
Плиний как в воду смотрел – 18 сентября 96 года император Цезарь Домициан Август был зарезан в собственных комнатах. Спальник Парфений остановил императора, когда тот собрался в баню, – доложил, что его хочет видеть какой-то человек, у которого есть сообщение чрезвычайной важности. Этим человеком оказался управляющий Домициллы Стефан, в тот момент находившийся под судом за растрату.
Во избежание подозрений он притворился, что у него болит рука, и несколько дней подряд обматывал ее шерстяной повязкой. К назначенному часу он спрятал под нею особым способом изготовленный кинжал. Увидев императора, Стефан подал ему записку и заявил, что это список предателей, намеревающихся убить «божественного цезаря». Пока Домициан просматривал список, Стефан ударил его кинжалом в пах. Говорят, Домициан отчаянно боролся за жизнь, но присутствовавшие заговорщики и кое-кто из гладиаторов, сумевших проникнуть во дворец, добили его ударами меча.
В числе участников заговора называли жену императора Домицию Лонгину, префектов претория Норбана и Петрония!
Услышав о гибели тирана, сенаторы сбежались в курию, принялись вопить от радости. Потребовали лестницы, чтобы тут же сорвать со стен щиты и изображения ненавистного Домициана. Одновременно единодушным поднятием рук и торжествующими воплями постановили стереть все надписи, разбить скульптуры и уничтожить всякую память о злодее. Потом единогласно отдали голоса за пожилого, с трудом удерживающего себя в руках Кокцея Нерву, тем самым оплодотворив слух, что не только участвовавшие в убийстве знали о заговоре. Вот когда Ларцию открылась правда, касавшаяся потайного ядрышка, ловко упрятанного в непроницаемую косточку из нелепых советов, которыми одарили его Фронтин и Руф.
Услышав о гибели деспота, Ларций со всех ног помчался на форум. В тот день народу на площади собралось видимо-невидимо. Также бессчетно здесь было и золотых статуй, воздвигнутых прежним цезарем. Домициан испытывал какую-то болезненную склонность к собственному возвеличиванию. Рим был переполнен его изваяниями, отлитыми из драгоценного металла. Бронза его не устраивала, по-видимому, по причине своего плебейства.
Вбежав на форум, Ларций задержался возле одной из таких статуй. Изображение было огромное, в четыре человеческих роста, золота на него пошло не сосчитать. Всем хватит. Сначала толпа грозила умерщвленному тирану кулаками, швыряла в изображение камни, затем могучей струей плеснула народная ярость. Горожане набросили на шею статуи веревки и дружно повалили золотого истукана наземь. Правая рука прежнего цезаря, ранее на постаменте вскинутая в приветственном жесте, теперь казалась жалкой, устремленной вверх. То ли взывала к небу, то ли молила богов о защите – пусть грянет гром, молния ударит в святотатцев. А может, просила милосердия? Кто ее, руку, разберет. О каком помиловании могла идти речь, когда дело касалось такого отпетого злодея, каким был Домициан. После недолгой паузы, во время которой собравшиеся оторопело разглядывали лежавшее на спине изображение поверженного императора, толпа с радостными криками набросилась на груду золота. Кто-то из наиболее дерзких плебеев под рев толпы принялся отламывать низвергнутому тирану ступню, другой, достав самнитский кинжал, пытался отделить нос. Затем на статую набросились все, кто оказался поблизости. То же самое происходило и с другими статуями Домициана, находившимися на площади. Не удержался и Ларций. Пробившись вперед, он гневно вцепился в правую руку лежавшего на спине гиганта. Еще несколько мгновений назад эта рука благообразно вздымалась над площадью. Четыре пальца чуть расставлены, а большой отведен в сторону, так что все они сложились в характерном для мертвой хватки жесте. Создавалось впечатление, будь у римского народа одна шея, император не прочь был бы вцепиться в нее. А может, тиран уверовал, что уже вцепился и держит город мертвой хваткой?
Опасное заблуждение.
Выше локтя какой-то зверского вида мастеровой в кожаном фартуке, накинутом на голое тело, принялся зубилом и молотком отделять руку. Ему помогали такого же зверского вида чернобородые, ведущие себя нагло сообщники. Ларцию тоже нестерпимо захотелось взять что-нибудь на память. Что-нибудь ценное, увесистое. Возместить потери! Он и сам не заметил, как с помощью крюка и маленького кинжала принялся отделять от кисти большой палец. Трудился яростно, пока его не отпихнул один из тех, кто отрубал руку. Ларций тут же бросился в драку.
Между тем на площади уже полилась кровь. В схватке принимали участие рабы, вольноотпущенники, свободные граждане, в толпе мелькнула и широкая красная полоса на сенаторской тоге. Важный, рассвирепевший от жажды справедливости сенатор – нижняя челюсть у него заметно подрагивала – указывал своим рабам, уже вооруженными молотками и зубилами, как половчее отделить голову злодея. Первого нападавшего Ларций сумел отпихнуть. Тогда на него пошли стеной. Впереди выступал негодяй с совершенно омерзительной рожей – шрам через всю левую щеку, на лбу рубцы. Уж не из беглых? Подобная рана – явный признак того, что негодяй пытался замаскировать выжженное на лбу рабское клеймо. И эта тварь посмела поднять руку на римского всадника! Ларций испытал необыкновенный, будоражащий прилив негодования. Он закричал так, что вокруг него собралась толпа. Негодяй сплюнул и замешкался. Этих мгновений Ларцию хватило, чтобы добыть долгожданной трофей – указательный палец вздетой к небу руки.
Конечно, невелика награда, с полфунта. Это не отрубленная к тому моменту голова и не левая нога, которую с радостными воплями уже потащили в ближайшую подворотню, даже не рука, доставшаяся чернобородому мастеровому, но радости этот небольшой сувенир или, если угодно, трофей доставил немало.
В следующую минуту кто-то разгоряченный победой или, наоборот, посчитавший себя обиженным во время дележки крикнул, что на Этрусской улице полным-полно сторонников бывшего императора. Они засели в ювелирных, торгующих роскошными тканями, а также драгоценной посудой лавках и ждут момента, когда можно будет вновь восстановить тиранию.
Не тут-то было! Трезвые головы в сенате сумели настоять, чтобы новый император немедленно отдал приказ навести порядок на форуме. Преторианцы неожиданно уперлись, однако очень скоро внезапно сменили упрямство на чрезвычайную исполнительность. Центурионы бегом расставили караулы у сохранившихся драгоценных останков прежнего императора и еще неопрокинутых статуй. С наступлением темноты все эти предметы были доставлены в военный лагерь у Номентанской дороги, где гвардейцы разделили золото поровну.
Несколько дней Лонг ходил радостный, то и дело любовался на выдранный с «мясом» золотой палец, согревался надеждой: теперь новый принцепс разберется с его делом, даст острастку Регулу.
Однако радовался недолго. Шли дни, но в городе ничего не менялось. Скоро надежда угасла, подступила безысходность. Притушил надежду все тот же Регул, которому новый принцепс поручил надзирать за сбором отходов в Риме. Должность была исключительно хлебная, уважаемая. Прежнее недоумение проснулось в душе: в столицу начали возвращаться обиженные Домицианом изгнанники (вернулась и Гратилла, всю ночь проплакавшая с матерью у них в доме), в то же время доносчики как безбоязненно расхаживали по улицам, так и расхаживают.
В те дни его пытался поддержать Кореллий Руф – пригласил в свой дом, чтобы проститься. В записке говорилось, что Мировой Логос услышал его просьбу – тиран пал. Теперь он со спокойной совестью может уйти из жизни. Когда Ларций зашел к дядюшке в спальню, тот с гордостью сообщил:
– Третий день ничего не ем, – затем радостно добавил: – Уже скоро.
Ларций не нашел, что ответить. Сидел в растерянности возле узкого, простенького ложа с загнутой спинкой в изголовье и с удивлением, смешанным со страхом, разглядывал старика. Когда он только вошел к Руфам, жена Кореллия встретила его в атриуме и, глотая слезы, страстно принялась упрашивать гостя отговорить мужа от пагубного намерения. Призналась: «…нас он не слушает, на все мои просьбы, просьбы сестер, дочерей, маленького внука отвечает: пустое. Говорит, пора отдохнуть».
Наконец, сообразив, что молчание неприлично затянулось, Ларций, вспомнив о просьбе жены, предложил:
– Может, дядюшка, лучше повременить?
– Это тебя, – старик кивком, с трудом двинув головой и поморщившись от боли, указал на дверь, – они научили?
Ларций тоже кивком подтвердил его догадку.
Кореллий улыбнулся:
– Вчера внучок принес мне кусочек репы. Говорит: отведай, дедушка. Потом с любопытством посмотрел на меня – глазенки черненькие – и спрашивает: «Дедушка, ты совсем уходишь? Тебя больше не будет?» Совсем ухожу, малыш. Больше меня не будет. Будешь меня вспоминать? Буду, отвечает, очень буду. И заплакал: не уходи, говорит, дедушка. Я ему: ничего не поделаешь, Гай. Хватит.
Он улыбнулся, потом спросил:
– Как твои дела, Ларций? Все переживаешь, ночами не спишь? Пытаешь природу, за что тебя так? Выше голову, префект. Как видишь, все в нашей власти. Даже смерть. Что же, всю жизнь следовать заветам Зенона, прислушиваться к Эпиктету, а теперь раскиснуть? Проявить трусость? Неразумно без цели мучиться, неразумно забыть о долге, а тот, кто неразумен, безумец. Неужели на старости лет я добровольно запишусь в сумасшедшие. Нет, нет и нет. Умирать не страшно, когда знаешь, что тиран пал и ты приложил к этому руку. Я исполнил долг, того же и тебе желаю. Выше голову, Ларций. Приходи на похороны.
– Обязательно! – страстно выговорил Ларций и обеими руками сжал костлявую руку старика, лежавшую поверх одеяла.
Когда подошел к двери, его остановил возглас старика:
– Знаешь, сынок, а репки хочется. Солененькой, с оливковым маслом…
– Принести?
– Нет, сынок, сам полакомься. Репа – она очень полезна для молодого организма, – голос его упал до шепота. – Слышишь, сынок, права была супруга Тразеи, когда вонзила кинжал в сердце. Умирать не больно.
Кореллий Руф еще четыре дня ожидал смерти. После похорон Ларций опять всю ночь промаялся.
Героизма, разумного, трезвого выбора в решении старика Руфа было хоть отбавляй, однако опять же таилась в его поступке и некоторая недоговоренность, смутившая Ларция. Руф почувствовал себя свободным – это хорошо. Но разве это выход для него, отставного префекта?
Споткнувшись об эту мысль, Ларций некоторое время с недоумением прикидывал: вот он, Ларций, Корнелий Лонг, тоже старается избежать порочных страстей, старается не впасть в безысходность. Однако мучения все же испытывает. За объяснением обратился к своему личному рабу Эвтерму. Тот был большой дока по части умения жить. Эвтерм растолковал, что безысходность – это скорбь от размышлений, неотвязных и напряженных, а мучение – страх перед неясным. Зная причины, легче избавиться от этих пороков, но будет ли разумно в его, Ларция, положении пойти и повеситься, он сказать не может? С одной стороны, конечно, это достойный выход. Если ты ощущаешь себя свободным человеком, будь готов быть свободным во всем. С другой – не трусость ли бросить родителей на произвол судьбы, причинить им страшное горе? Пример Кореллия убедителен, однако другой мудрец, Агриппин, заявил: сам себе трудностей не создаю. Так и не найдя ответа, Ларций спросил: стоики утверждают, что наша душа – частичка, сколок, искорка мировой души или все пронизывающей, одухотворяющей природу пневмы. В таком случае эта самая пневма тоже должна испытывать страдания? Выходит, ей тоже неспокойно? Тогда о каком бесстрастии, снисходительном отношении к ударам судьбы может идти речь? Эвтерма ответил откровенно:
– Не знаю, господин. Я слыхал, что в провинции Иудея сто лет назад объявился некий безумец, утверждавший, что он – сын Божий и явился на землю смертью смерть одолеть. Что, мол, он и есть страдающая мировая душа, и те, кто поверит ему, придут к нему, получат надежду на спасение.
Ларций недоверчиво прищурился.
– Где, говоришь, проживал этот мудрец? В провинции Иудея? В этой Иерусалиме, которую сравнял с землей император Тит?
– Точно так, господин.
Ларций вздохнул.
– Варварское племя, а туда же! О мировой душе заговорили, – он подумал немного и с некоторым сожалением, справившись с подступившей к горлу безысходностью, добавил: – О сострадании-и-и…
В те дни, когда Нерва прятался в Палатинском дворце, случались у римлян и веселые минутки. Например, потешный водевиль сочинил своей смертью Веллей Блез, на которого даже после смерти Домициана продолжал давить Регул. Веллей, чувствуя приближение смерти, пообещал наглецу оставить ему в наследство свой знаменитый парк за Тибром, однако в оглашенном завещании не было ни слова ни о парке, ни о Регуле. Узнав, какую шутку сыграл с ним богач, сумевший провести самого пронырливого сенатора, которого знал Рим, Регул пришел в ярость, но успокоился тем, что купил у наследников Блеза этот парк и выбросил оттуда все, что напоминало о прежнем хозяине.
Прошел месяц, другой, но дело Лонгов так и не стронулось с мертвой точки. Новый принцепс в ответ на запрос Ларция ответил, что сейчас не время «сводить счеты и тем самым расшатывать устои государства». Затем провозгласил: «Требование момента в том, чтобы в Риме царили согласие и радость по случаю установления справедливости и торжества законов». «Мелкие дрязги, – добавил новый принцепс, – пора отставить в сторону». Этот ответ, по меньшей мере странный, если не издевательский, вконец расстроил Ларция.
Он решил поговорить с Плинием. Судя по предыдущей встрече, Плиний много знал и был вхож в круг близких Нерве сенаторов.
Сначала старый друг отвечал скупо и осторожно. Намекнул, что дело Лонгов, к счастью, пока не привело к убийственному для их семьи результату. То есть можешь и потерпеть… Другие пострадали куда чувствительнее, чем «ты, мой друг», и отдать долг этим убиенным, вернуть сосланных, вернуть честь лишенным ее – задача более насущная, чем помощь еще не успевшим пострадать и только ожидавшим своей участи согражданам, «как бы горько это ни звучало для тебя».
Действительно, звучало горько, но еще горше стало на душе, когда Плиний признался: Нерва висит на волоске. Преторианцы уже в открытую грозят принцепсу смертью, требуют, чтобы тот немедленно выплатил им наградные, объявил Домициана «божественным» и сократил срок службы до десяти лет.
Ларций рот открыл от изумления:
– Как до десяти? С шестнадцати до десяти?
– Точно.
– Выходит, в армии будут служить двадцать, а в гвардии десять? Кто же тогда будет воевать? Чем нам закрыть границы?
– Об этом я должен спросить тебя, опытного префекта, но не спрошу, потому что ответ ясен. Попытка Нервы усидеть на двух стульях – и нашим, и вашим – провалилась. Старик одновременно возвращает из изгнания несчастных и прощает доносчиков. Он называет это политикой национального примирения. Но если бы это была политика! Это всего лишь попытка удержаться у власти – попытка беззубая, трусливая, гибельная для государства. Нерва никак не может совладать со страхом, который поселился в нем во времена Домициана. Денежные поступления из провинций резко сократились, а кое-кто из наместников словно забыл о существовании столицы. Видно, решили воспользоваться моментом. Выплату жалованья легионам в начале года мы еще выдюжим, после чего государственное казначейство можно будет закрывать. Денег в казне нет и не предвидится, так что подкупать солдатню будет нечем. Сенат назначил комиссию из пяти человек для подготовки рекомендаций по снижению общественных расходов. В воинских лагерях на Данувии неспокойно, там со дня на день может вспыхнуть мятеж. Большие сомнения вызывает верность наместника Сирии Красса Лицинциана, родственника Гая Кальпурния Красса. Под его командой четыре легиона, судя по донесениям верных людей, он то и дело вспоминает, что является родственником Пизона, наследника Гальбы.
– Это тот, которого Гальба избрал себе в соправители, после чего Пизон не прожил и года?
– Рад, Ларций, что ты хорошо знаком с римской историей, потому что наступают времена, о которых не хочется вспоминать, тем более жить.
– Ты имеешь в виду гражданскую войну, которая случилась полвека назад?
– Да.
– Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь?
– Чтобы ты был готов ко всему.
– Неужели нет выхода?
– Опытные люди посоветовали Нерве взять себе соправителя. Они настаивают на кандидатуре Кальпурния Красса. Я решительно воспротивился. В этом случае гражданская война неизбежна, ведь все мы прекрасно знаем, что представляет из себя Красс. Напыщенный петух, который сначала делает, потом думает.
– Кого же ты предлагаешь?
– Наместника Верхней Германии Траяна. И не только я, но и Фронтин, и те, кто в настоящее время способен мужественно взглянуть правде в глаза. Нас много.
– Но он родом из провинции?
– Это хорошо или плохо, Ларций?
Лонг смутился.
– Не знаю… – наконец выговорил он.
– И я не знаю, а всех остальных претендентов знаю и могу сказать, что каждый из них с легкостью проделает путь Домициана, а то и Калигулы. Поэтому я за Траяна. Удивительно, но бедствия порой благотворно действуют на смертных! Многие словно прозрели и начинают внимать доводам разума. Когда я спрашиваю достойных и уважаемых людей – какой принцепс нам нужен? – все едины в том, что пора рискнуть. Обратиться к свежей крови. Однако каждый старается выдвинуть свои условия, этих требований уже не сосчитать…
– Это естественно, Секунд.
– Хорошо, давай сыграем с тобой в ту же игру? Выдвигай требования, которым должен соответствовать будущий правитель.
– Во-первых, ему должна доверять армия.
– Согласен.
– Во-вторых, иметь опыт управления государством
– Нет возражений.
Ларций заинтересовался. Он продолжил уже с некоторым воодушевлением:
– Претендент должен быть достаточно молод, иметь голову на плечах, отличаться добродетелями. Быть щедрым, великодушным, дальновидным, не отличаться злопамятностью, уметь выслушивать других… Секунд, я могу перечислять до утра, только что толку от подобного реестра. Таких людей не бывает.
– Точно. Но из всякого правила есть исключения. Траян – одно из них. Он разумен, умерен, справедлив и мужествен.
– Я слышал о нем много хорошего, – согласился Ларций, – но что будут стоить эти достоинства, когда власть окажется в его руках?
– Ты прав, но как нам быть в тот момент, когда Риму грозит гражданская война, когда подняли голову даки. Об этом не сообщают в Городских ведомостях, но Децебал уже попросту оккупировал правый берег Данувия. Наш берег, Ларций! Его люди снуют по великой реке, обирают купцов, при каждом удобном случае беспрепятственно высаживаются на берег, грабят обе Мезии. В Риме положение не лучше. Ночью без вооруженной стражи лучше на улицу не выходить, а в некоторых кварталах и днем опасно появляться. У нас по-прежнему торжествуют регулы и сацердаты. Преторианцы смеют грозить правителю мечом. Не лучше ли хотя бы раз в жизни довериться разуму и предпочесть очевидные достоинства малоизвестного претендента мелким порокам известных? В конце концов, чем мы отличаемся от животных?
– Расчет верный, – кивнул Ларций, – но как много неизвестного остается за расчетом! Я готов рискнуть, иначе мне никогда не избавиться от Регула.
Ларций как в воду глядел. На следующий день в его доме появился вольноотпущенник Регула – длинный, мрачный, грубоватый, с лошадиным лицом Порфирий. Напомнил о завещании. В отличие от улыбчивого толстяка Павлина, этот выражался прямо:
– Зря, Ларций, рассчитываешь на нового принцепса. Нерва стар и немощен, армия против него, так что давай раскошеливайся. Мой хозяин обвиняет твоих родителей не в оскорблении конкретного цезаря, а в пособничестве врагам отечества. Это обвинение еще никто и никогда не оставлял без внимания.
На этот раз Ларций обошелся без пощечин, однако затем до утра простоял у окна.
Какая надежда на Траяна? Кто он, Траян? Папаша звезд с неба не хватал, все что выслужил, заработал горбом и беспрекословным повиновением. Сынок весь в отца. Тоже звезд с неба не хватает, а если бы и хватал, в человеческих ли силах снять заклятье с Рима? Дано ли смертному навести порядок в этой клоаке, от которой отступились боги? Способен ли обычный, из плоти и крови, человек помочь подданным, тоже скроенным из плоти и крови, хотя бы на мгновение почувствовать себя гражданами, нужными государству людьми?
Существует ли такой человек?!
Глава 4
Эдикт об усыновлении и возведении в соправители императорский гонец вручил Марку Ульпию Траяну вечером, когда тот вернулся с охоты. Весь день травили медведя. Тот как раз собирался залечь на зиму, да не тут-то было. Траян разохотил его подраться. Медведь, правда, попался молодой, охотник из племени треверов объяснил, что зверю только три года. Еще ни веса, ни дикости набрать не успел.
Когда зверь встал на задние лапы и двинулся в сторону наместника – голова на четверть человеческого роста повыше Траяновой, – Марк выхватил нож, шагнул ближе. Мелькнула мысль, что мишка уже и не наберет ни того, ни другого. Теперь, выходит, лесной житель рычал не на простого вояку, пусть даже в ранге наместника, а поднял лапу на самого императора! Тут же родилась мгновенная фантазия – медведь подходит ближе, вдруг склоняется перед ним и ревет по-своему, по-звериному: «Аве, цезарь! Аве, великий!..»
Но этот выверт, сцена из сказки, которыми в младенчестве баловала его чернокожая нянька Сельма, представился потом, в спальне. В первую минуту после возвращения, когда въехали во двор провинциального претория, вся охотничья компания с изумлением уставилась на местного квестора. Старик выскочил из двухэтажного административного здания, подобрал полы тоги и зайцем – по грязи! – бросился к наместнику.
Друзья-приятели придержали коней – никто не ожидал подобной прыти от отличавшегося редкой спесивостью чиновника. Квестор всегда вел себя чрезвычайно величаво, к месту и не к месту поминал, что родом из Рима. Он был абсолютно уверен, что все хорошее, что есть в мире, может происходить только из великого города.
Между тем квестор, добежав до коня Траяна, в буйном порыве прижался лицом к ноге Марка. Тут уж все окружающие потеряли дар речи. Между тем старик воскликнул:
– Божественный! – и зарыдал.
Траян так и остался сидеть на коне. Наконец, справившись с секундным замешательством, освободил ногу из объятий римлянина и поинтересовался:
– Хорошо, божественный. Что дальше?
Квестор звучно сглотнул, прокашлялся и почти шепотом сообщил:
– Гонец из Рима.
– Ну, гонец. Дальше?..
– У него эдикт несравненного Нервы. Он усыновил тебя, Марк. Ты – император! Ты – цезарь, Марк. Ты – соправитель нашего мудрейшего Кокцея.
– Не врешь? – недоверчиво спросил Траян.
– Как можно, великий! – изумился и даже чуть испугался квестор. – Разве эдиктами шутят?!
Траян, чуть отъехав в сторону от залившегося слезами чиновника, соскочил с коня. Марк был высок и некрасив – подбородок маловат и невыразителен. Ни слова не говоря, широким шагом направился в преторий – едва сдерживал себя, чтобы не побежать вприпрыжку, как квестор. Наконец одолел несколько десятков шагов до ступеней, ведущих в неказистое двухэтажное здание. Там, в темном коридоре, прибавил ход, ворвался в парадный зал. Здесь его поджидал уставший до изнеможения всадник с преторианскими значками. Молоденький флажконосец, сопровождавший императорского гонца, прислонился к колонне и откровенно посапывал. Услышав шум распахиваемых дверей, частый топот, флажконосец встрепенулся, вытянулся и вслед за императорским гонцом вскинул руку.
Оба в один голос рявкнули:
– Аве, цезарь! Аве, великий!..
Только теперь Траян поверил. Когда гонец передал ему перстень с голубоватым, увесистым бриллиантом, подарком Нервы, он убедился: это не сказка, не опала, не бред какой-то! Невозможное, о котором он и помыслить страшился, свершилось!
Конечно, весь последний год Марк сознавал, куда утягивал его ход событий. Уже с полгода обладавшие влиянием сенаторы то и дело навещали задрипанный Колон (Кёльн). Кое-кто из гостей оправдывал свой приезд исключительно хозяйственными интересами – многие вдруг воспылали страстным желанием прикупить здесь земли и настроить виллы. Все нарадоваться не могли пейзажами дикой Германии – эта часть земли была совсем недавно отхвачена Домицианом у племени хаттов. Даже такой уважаемый человек, как Секст Фронтин, причиной поездки назвал желание подарить молодому наместнику свой труд, посвященный всяческим военным хитростям, которые применяли славные полководцы древности.
Когда же популярный полководец попросил наместника дать оценку его труду, Марк опешил!
Потом задумался.
Все гости дружно и многословно пересказывали последние столичные новости, сетовали на незавидное положение, в каком оказался страдающий от страха Нерва. Преторианцы бунтуют, требуют наказать убийц «славного» Домициана. Цезарь фактически находится под домашним арестом в собственном дворце! Однажды подставив шею под мечи преторианцев и не сумев спасти своих друзей, Норбана и Секунду, он совсем потерял присутствие духа. Более того, император был вынужден публично объявить благодарность убийцам за «спасение государства».
Ночами сенаторы вели откровенные разговоры о гибельном положении, в каком оказался Рим. Как о чем-то страшно секретном, рассказывали о небывалом дефиците государственной казны, истощенной постройками и зрелищами, которые устраивал Домициан. Повышение жалованья военным, раздача донативов (денежных подарков) по случаю мнимых военных успехов не только развратили армию, но и окончательно подорвали финансовое положение империи. Римская граница, в сущности, оказалась открытой, пути для нападения варваров свободны. Резко уменьшилось поступление налогов. Гости жаловались, что негодяи, видя такую неподготовленность Кокцея к власти, распоясались вовсю. Воровство и своеволие, которое после смерти державшего их в жесткой узде Домициана начали позволять себе легаты и проконсулы в провинциях, превзошли всякие пределы. Разоткровенничавшись, делились слухами, ходившими по Риму, – безответственные люди, например, утверждали, что аристократ Гай Кальпурний Красс имеет намерение силой захватить власть в стране. Он уже отправил в Далмацию уйму денег на подкуп солдат, но, главное, сумел договориться с наместниками Сирии, Каппадокии и Вифинии, под рукой у которых было до шести легионов. Сообщали о подозрительном шевелении в Парфии и Дакии – цари даков и парфян якобы снюхались между собой. Если да, то при нынешних обстоятельствах это была серьезная угроза самому существованию государства. Гости делились мнением о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы выправить положение. Твердили о твердой руке, способной наконец покончить с безобразиями, творившимися в столице, приструнить гвардию, справиться с разнузданностью дрянных людишек.
Конечно, это были слова, только слова. Цену словам Траян знал: прежний император, Домициан, приучил, что всякий словоохотливый, тем более доброжелательный, посетитель вполне может оказаться первостатейным доносчиком. Нынешнего императора, Кокцея Нерву, Марк видал только издали. Слушая гостей, Марк невольно задавался вопросом: неужели стареющий и трусоватый Кокцей, чтобы удержаться у власти, пошел по пути Домициана? Сам отвечал: непохоже. Друзья в Риме сообщали, что часть сенаторов навестила не только его, но побывала и в Далмации, Сирии, Каппадокии, Вифинии.
Когда тот же Фронтин поинтересовался, каким видит Траян дальнейший ход событий в государстве и как он смотрит на взаимоотношения сената и принцепса, Марк сказал себе: вот он, момент истины! Вот ради чего эти важные, надменные римляне помчались в такую даль. Тут же, опять же про себя, добавил: стоп. Он запретил себе даже мечтать о самой возможности приблизиться к власти, получить в руки полномочия, позволившие бы ему самому решать судьбу Рима. Насчет взаимоотношений цезаря и сената ответил, что видит их как крепкий союз, основанный на четком разделении обязанностей. Образцом для него служит порядок, установленный Октавианом Августом, император, он же принцепс или цезарь, всего лишь первый в сенате и в государстве гражданин. Власть цезаря не подлежит сомнению, однако в его обязанности входит также уважительное отношение к сенату и его членам.
А если, спросил Фронтин, кому-то придет в голову обвинить кого-либо из членов сената в оскорблении величества или в подготовке заговора, как ты поступишь?
Предложу организовать внутрисенатскую комиссию. Когда она закончит работу, ознакомлюсь с окончательными выводами, однако суд должен проводить сенат.
Фронтин одобрительно кивнул.
Когда консуляр уехал, Траян чуть отпустил натянувшие душу вожжи и оценил свои перспективы. Ну префект претория, ну друг цезаря, ну полководец, которому Нерва поручит войну с Парфией, – это понятно и охотно. Примерять же заранее пурпурную тогу августа, надеяться на то, чтобы взять в руки императорский жезл, взять орла, – это был смертельно опасный перехлест. В подобной дерзости было что-то фантастически немыслимое, невозможное для рожденного в Испании провинциала.
Вот почему, когда гонцы вскинули руки и гаркнули, так нестерпимо и радостно ожгло. Тут же в зал ввалилась толпа, принялись поздравлять, кто-то из наиболее искушенных принялся целовать руки. Траян, не в состоянии вымолвить ни слова, брезгливо отдернул их, глянул грозно. От рук отстали, однако начали громогласно скандировать:
– Аве, цезарь! Аве, великий!..
Так и громыхали, пока чернокожий Лузий Квиет, его начальник конницы, не хлопнул новоявленного императора по плечу:
– Теперь, Марк, ты тоже стал божественным! Видать, крепко напугали преторианцы старика Нерву, что он решил поискать у тебя защиты.
Квиета поддержал – но куда тише и рассудительнее – Луций Лициний Сура, ближайший друг Марка, весь этот год находившийся в Колоне и постоянно обращавший мысли Марка к искусству управления государством, а также весельчак и «неунываха», «неисправимый жирнюга» и «паннонский кабан», как звали его приятели, Гней Помпей Лонгин.
– И не только Нерва! – поддержал мавра Лонгин. – Но и сенат, оба высших сословия, а также плебс. Скажи что-нибудь, Марк, не стой столбом.
Новый император улыбнулся, затем вскинул обе руки и в мгновенно наступившей тишине исторически провозгласил:
– Завтра войсковой сбор, жертвоприношения, раздача наградных. Сейчас спать.
– А по стаканчику, Марк? – предложил «паннонский кабан».
– Завтра, дружище. Все завтра.
Всю ночь Траян промаялся на ложе. Приходила жена, обняла его. Он попросил оставить его одного, прогнал и личного раба Зосиму.
Тот начал возражать, однако Траян порадовал пожилого грека:
– С сегодняшнего дня ты – императорский спальник. Если хочешь, могу сделать тебя декурионом императорских спальников, а теперь заткнись и ступай вон.
Зосима поклонился, затем гордо вскинул голову и вышел.
Рухнувшая на Марка новость кружила голову. Невозможное свершилось.
Что это, удача?
Награда судьбы или наказание?
В тот момент, словно в насмешку, ему вновь вспомнился медведь. Перед умственным взором въявь предстал громадный косолапый, чей необузданный рев, неловкие поклоны свидетельствовали о признании в нем первого из смертных. Если точнее – повелителя мира.
Занятная сцена!
О таком взлете мечталось в детстве, когда он читал или слушал рассказы отца о подвигах Камилла, Сцеволы Муция, Катонов, Старшего и Младшего, Аттилия Регула, Сципионов, Фабия Кунктатора, Тита Манлия Торквата[18] и, конечно, о деяниях Гая Мария, Суллы, Юлия Цезаря и Октавиана Августа. Все эти герои и победители с младенческих лет казались родными и близкими, их имена то и дело поминались в семье Марка Ульпия Траяна Старшего. Не беда, что Ульпии давным-давно переехали из Рима в Испанию.
Даже свадьбу его с Помпеей Плотиной родители сыграли, исполнив все древние, уже вполне отжившие, торжественные обряды, тем самым еще раз подчеркнув свою принадлежность к римскому народу, приверженность к римскому образу мыслей.
Марк рос мечтательным, послушным мальчиком, часто отдавался на волю фантазии. Любил слушать рассказы отца о деяниях древних героев, об отцах-основателях государства. Только Рим, утверждал отец, способен навести порядок во всклоченном, обезумевшем, переполненном толпами варваров мире. Внимал ритору, слушался маму, совершенствовался во владении оружием. Заучивая наизусть тексты, написанные неисчислимыми ордами греков, вместе со школьными друзьями негодовал – всю эту премудрость хитрые греки создали на горе доблестным римлянам! Однако, если папа сказал, надо заучивать, значит, надо. Зачем, об этом не задумывался, терпел. Волновало иное – вот он с мечом в руке первым взбирается по лестнице на стену вражеского города и затем получает венок за храбрость. Вот он сидит на троне, в руках у него жезл Августа, он повелевает вселенной, его приветствует толпа. Не рабски, не по персидскому обычаю, а вполне граждански, со вскинутыми вверх руками, их ладони обращены к нему:
«Аве, цезарь! Аве, великий!»
Траян потер подбородок, усмехнулся. Самое удивительное и непостижимое, что в этой бренной жизни может нечаянно свалиться на голову смертного, – это осуществленная мечта. Такое случается даже с самыми обыкновенными и покладистыми людьми, к каковым всегда причислял себя Траян.
Одно дело – фантазировать на тему «что, если…», другое – ощутить эту ношу на своих плечах. Теперь уже не помечтаешь, времени не будет.
Пойти позвать Суру и поговорить о добродетелях, о пороках и безразличном.
Ах, до философии ли сейчас?!
А почему бы и нет?
Почему бы не испробовать остроту и полезность философии?
О чем они чаще всего спорили? Ну, конечно, об истинных, или, как называл их Сура, «глубинных», причинах падения Домициана, о тех, кто бесславно погиб от рук собственных слуг, – Калигуле, Нероне. О том, как следовало бы вести себя на месте этих оглашенных, поддавшихся страстям и порокам и вследствие этого потерявших головы правителей. О наиболее выгодных направлениях ударов, способных восстановить у соседей уважение к Риму. Разбирали дотошно, кто из соседей наиболее опасен. Таких на границах Рима было немного – Дакия и Парфия. Все сходились в одном: самый опасный противник – это, безусловно, царь даков Децебал, который сумел обыграть даже такого умницу, как Домициан.
Тщательно разбирали политику и поступки Домициана. Уж кому-кому, а Марку было отлично известно, каким огромным, пронзительным умом обладал этот когда-то симпатичный молодой человек.
Начинал он замечательно. Если бы он смог продолжать их череду до самой смерти, возвеличили бы его до звания лучшего в анналах Рима императора.
Почему же Домициан не устоял в добродетели? В чем причина, что он скатился до ничтожества?
Расхаживающий по спальне Траян присел перед очагом, согревавшим комнату в этой холодной снежной Германии. Подкинул пару поленцев. Радовало, что «паннонский кабан» Лонгин прав, что помощники у него не дураки. Это его первое преимущество перед зарезанным в собственной спальне цезарем.
С другой стороны, этих самых философов не пересчитать.
Бесчисленные толпы!
И все твердят разное, голосят о разном. Как же нормальному человеку разобраться в этих воплях, учениях, назиданиях, откровениях и многочисленных советах? Как выбрать наиболее практичное и полезное. Здесь, конечно, без собственной сметки не обойтись. В том и состоит сила разума, утверждал Эпиктет, что, являясь частичкой разума мирового, его малым подобием и детищем, тебе, ничтожный, дано понять, что есть благо, а что зло.
Правда, этому надо учиться. Когда дело касается монеты, сколькими способами пользуется человек для ее проверки? Бросив динарий, он внимательно прислушивается к звону, пробует на зуб, а когда дело касается нашей собственной жизни, мы, зевая, принимаем на веру всякую глупость – ущерба-то от этого вроде нет!
Так говорит Эпиктет. Верно говорит. Он называет себя стоиком.
Итак, чем эти умники могут помочь Траяну в том положении, в каком вдруг очутился Траян?
Прежде всего не поддаваться страстям!
Это очень верно. Терять голову никогда нельзя.
Даже на троне.
Хромоногий Эпиктет предупреждает: удары судьбы неневыносимы по своей природе.
Почему?
Потому что, зная о несчастьях, ты волен встретить их мужественно, со знанием дела. Вот и вся философия.
Траян погрел руки у огня. Вспомнил слова сенатора Агриппина по поводу того, в чем человек властен, а в чем нет – «сам себе я препятствий не создаю».
К Агриппину прибежали, пугают: тебя судят в сенате!
«Желаю успеха. Однако уже пять часов (в этот час он обычно упражнялся, затем обливался холодной водой), пора заняться гимнастикой».
Когда он кончил упражнения, пришли мрачные, глаза отводят. Говорят: ты осужден.
«На изгнание, – спросил Агриппин, – или на смерть?» – «На изгнание» – «А имущество?» – «Не конфискуется». – «Значит, позавтракаем в пути».
Агриппин был готов к ударам судьбы, потому что обладал знанием. Марк спросил себя, достаточно ли у него, новоявленного императора, знаний. В любом случае, усмехнулся Траян, если мне наедине с собой дано задумываться о подобных вещах, выходит, я тоже кое-что соображаю. Беда в другом – готов ли он, Марк Ульпий Траян, с той же невозмутимостью, подчиняясь только разуму, справиться с обрушившимся на него ударом судьбы, ведь то, что случилось с ним, иначе как ударом не назовешь.
Марк прикинул.
Время покажет, готов или нет, но прежде надо сохранить рассудительность, умеренность, остаться справедливым и не терять мужества от свалившегося величия. Это непросто. Еще как непросто. Положение в стране действительно ужасное. Это надо пресечь.
Но как?
Теперь не спрячешься за отговорку: мол, я только исполняю, но не приказываю. Теперь как раз он приказывает. Что же он должен приказать в первую очередь? Подскажите, умники!
Он с досады сунул указательный палец в огонь. Ожгло сильно, до боли. Боль привела в чувство, вернула спокойствие и рассудительность.
Конечно, можно собрать друзей, обсудить все до тонкостей. Они обязательно подскажут, будут искренни, и, вполне возможно, в их рассуждениях будет много верного, но в таком случае кто император? И не спросит ли обиженный, чьим мнением пренебрегли, почему правитель послушал его, а не меня. Нет, прежде он сам должен найти выход.
Итак, что же необходимо совершить в первую очередь?
В чем моя цель?
В том, чтобы восстановить величие Рима.
Какие основные препятствия ждут на этом пути?
Прежде всего этот неисправимый заговорщик Кальпурний Красс, а также притаившиеся за его спиной наместники Сирии, Каппадокии и Вифинии.
Может, казнить их сразу? Тем самым с первого же дня нарушить слово, данное сенаторам о недопустимости террора в отношении своих противников, внести смуту в умонастроения подданных и вскоре начать опасаться каждого приблизившегося к нему? Не спрятал ли тот под наручной повязкой острый кинжал?.. Вот она, западня, в которую угодил Домициан. Однажды испугавшись, начав убийства, все свои последующие действия он направлял уже не на пользу государства, а на сохранение власти и бегство от убийц. Вывод: самое легкое решение не всегда является самым правильным.
С другой стороны, угроза со стороны Красса вполне реальна, игнорировать ее значит проявить недопустимое легкомыслие. Самое верное средство против любого злоумышленника, мечтающего о мятеже и неповиновении, – это армия. Необходимо постоянно держать армию под рукой.
Каким образом осуществить это условие, если он немедленно, не теряя ни дня, отправится в столицу?
В Риме невозможно сохранить невозмутимость. Завалят жалобами, ходатайствами, просьбами, мольбами, детскими слезинками. Будучи провинциалом, в столице он непременно попадет под влияние какой-нибудь партии, пусть составленной из самых порядочных и умных граждан, – все равно интересы этой сенаторской группы будут довлеть над интересами всей державы, а это недопустимо. Этот урок плохо выучил Домициан, когда допустил доносы, когда пошел на поводу у самых низменных людей. В Риме следует появиться в лучах славы, имея на руках четкий план действий…
Он вновь сунул палец в огонь. Боли не почувствовал – вдохновение наградило его безмятежностью.
Мало иметь план! Надо непременно приступить к его осуществлению, чтобы все, что творится в государстве, в Италии и в столице, имело точную меру – это деяние на пользу задуманному, значит, оно добродетельно. Нет – значит, порочно.
Итак, в столицу спешить нельзя, армия должна быть под рукой. Все наместники провинций должны безоговорочно признать его верховенство.
Как совместить эти положения?
Война!
Это единственное разумное решение.
Рим жил, выжил, расправил крылья во время войн. К тому же нынешний момент буквально дышит войной – даки набрали такую силу, что далее терпеть их своеволие опасно.
Хорошо, война. Какие перспективы этот ход открывает во внутренней политике? Армия при нем, никто из наместников не посмеет отказать ему в присылке легионов. Тем самым появляется реальная возможность ослабить их. Но прежде всего можно заткнуть глотку Крассу, так как во время боевых действий всякий протестующий обоснованно может быть назван предателем, а предательство и попытка мятежа во имя спасения отчизны – это две большие разницы.
Он прошелся по комнате, прикинул, что известно о Дакии.
Последние два века горная страна, расположенная за Данувием, между Тиссой и Прутом, обширная, плодородная, щедрая для людей, постоянно крепла. Находясь вблизи имперской границы, варвары постепенно овладели нижним течением Данувия и, прикрывшись великой рекой, жадно впитывали все, что было хорошего в Римской империи. Децебал перестроил армию – причем перестроил умно. Не стал вводить римскую организацию, римские звания и прочие внешние приметы. Он перенял сам дух – при прочих равных условиях побеждает тот, кто лучше организован. Децебал, по существу, одолел Домициана еще до начала войны. Мира он добился, напустив на римлян сарматов и маркоманов. По очереди. Для этого необходимо иметь золото. Много золота. Откуда оно у Децебала? Он добывает его в Карпатах. Следовательно, у него есть надежная опора в противостоянии с любым противником.
Как свидетельствуют купцы, ходившие в земли даков, Децебал сейчас в полной силе. Он способен вывести в поле двести тысяч человек, вполне обученных и умело владеющих серповидными дакийскими мечами. Они называют себя «волками». Еще Юлий Цезарь, хорошо понимавший, какую опасность представляла эта новая военная сила, возникшая на северо-восточном азимуте империи, незадолго до своей насильственной смерти приступил к подготовке похода за Данувий. На «волков» косо поглядывал Тиберий, слабосильный Клавдий постоянно жаловался, что «с даками сладу нет». Следует признать правоту Домициана, поставившего себе цель сокрушить беспокойных соседей. Принимая в расчет его ошибки, необходимо исключить возможность заключения союза между соседствующими с Римом народами. Напрочь перекрыть связи Децебала с Парфией. С германцами и сарматами договориться, помахав у них перед носом железным кулаком. И, конечно, восстановить спокойствие в городе, а для этого…
Траян неожиданно рассмеялся. Все-таки допер!
Прибежала Помпея Плóтина, за ней друзья, сподвижники. Помпея бросилась к мужу.
– Марк, что случилось? Что тебя развеселило?
– Сначала строгости, потом милости – вот и весь секрет! – сквозь смех заявил Марк и залился еще громче.
Все, кто был в комнате, переглянулись. В их взглядах читалось недоумение.
Император неожиданно успокоился, обратился к Суре:
– В чем, по-твоему, ошибка Домициана, за которую он поплатился жизнью?
Сура пожал плечами. Промолчали и остальные.
Траян погрозил им пальцем.
– В том, – объяснил он и риторским тоном продекламировал: – что по недомыслию Домициан сначала начал рассыпать милости, а потом, разочаровавшись в благодарности подданных, на которую ни один здравомыслящий правитель не может рассчитывать, поддался неразумным страстям и обрушил на граждан репрессии. Нам следует поступить наоборот. Сначала жестокости, безоговорочное подчинение, война, потом мир, смягчение жестокостей.
Но прежде необходим план войны. Начинать ли, ребята, задуманное сразу, невзирая на сопротивление зарвавшихся наместников и податливость угодников, или сначала разобраться с Крассом и поддерживающими его сенаторами? Полагаю, что нам нужно сразу, с первого дня начинать гнуть свою линию. Как это сделать, нам и требуется обсудить.
Тут же начали дискуссию. Плотина вызвала домашних рабов, приказала собрать что-нибудь закусить, вызвать писцов. На ходу, в хлопотах, спросила:
– Горячее будете?
– Буду, – откликнулся супруг. – Пусть зажарят медвежатину. Нечего валяться, уже четыре часа утра. И пусть принесут вина.
Результатом симпозиума стало беспардонное опьянение Лузия – к полудню мавританец не мог языком шевелить – и решение не терять времени. В Рим спешить не следует. В столицу прибыть, когда будет готов план нападения на Дакию, чтобы с первого дня перехватить управление из рук на глазах дряхлеющего Нервы и с ходу запустить гигантскую военную машину Рима. Завтра же разослать приказы германским легионам – 21-му Стремительному, расположенному в Монготиаке, 11-му Клавдиеву, 1-му Минервы, 20-му Валериеву Победоносному, находившемуся в Британии, – выступать в поход на восток в провинции Паннонию и Верхнюю Мезию.
– Четырех будет мало, – потер лоб Лаберий.
Траян не стал спорить.
– Добавим еще два. Из Сирии и Каппадокии.
Уже через неделю Траяну представилась отличная возможность испытать на практике основоположения своей будущей репрессальной политики, которые они, спаивая мавританца (слаб он оказался на неразбавленное вино), совместно разработали той ночью. Получив приказ о выступлении, взбунтовался 21-й легион. Солдаты сбежались на сходку, принялись кричать: донативов (денежных выплат) по случаю вступления на трон не было, неопровержимых знамений никто не видел. Выходит, боги помалкивают! Жалованье за прошедший год еще не заплатили! И что это за жалованье! Ищите других дураков, чтобы за какие-то триста денариев отправляться за Данувий. Уж больно Траян прыток! Ополоумел испанец – на зиму глядя в поход?!
Император, встретив отчаянное упрямство, наглость и нежелание выполнять приказ о выступлении, распустил легион.
– Все свободны! – заявил император. – Можете расходиться по домам. Я не называю вас гражданами, потому что в трудный момент вы отступили, поддались низменным страстям. Даю три дня сроку – те, кто желает служить и готов отправиться в Паннонию, будут возвращены в строй.
Тут же конники из личной охраны императора опечатали алтари каждой когорты и в целом легиона, войсковую казну и пекулий, в котором хранились солдатские сбережения, собрали в претории штандарты с изображением козерога – божественного покровителя легиона. Сложили значки когорт и центурий, начали упаковывать статуи Юпитера, Минервы и Геркулеса, выставленные на площади перед преторием. Когда оставшиеся не у дел солдаты начали собираться в виду лагерных стен – их намерения были неясны, но взгляды не предвещали ничего хорошего, – специально подобранные люди пустили слух, что в сторону Монготиака движутся верные Траяну легионы из Верхней Германии. Услышав эту новость, опозоренные вояки, растерянные, хмурые, начали расходиться по домам.
К назначенному сроку в состав легиона записалось не более четверти прежнего состава. На следующий день император издал эдикт, в котором объявлялось о начале процедуры исключения Двадцать первого легиона и всех его офицеров из состава римской армии. Не стало в римском войске легиона, победившего Цивилиса, не стало легиона, под началом Германика ходившего в глубь Германии.
Узнав о позоре, постигшем 21-й легион, 11-й Клавдиев, стоявший лагерем еще севернее, почти в устье Рейна, без возражений снялся с места и покорно двинулся в сторону дакийской границы.
Марк нагнал его неподалеку от Бриганция, во временном лагере. Сразу выговорил легату за то, что солдаты тащатся как старые клячи. Скандал выкатился на площадь перед преторием. Там Траян попытался словом вдохновить солдат на героические свершения – те только усмехались в ответ. На следующий день, дождавшись, когда последний солдат покинул стоянку, император выехал из ворот лагеря и мелким шагом – конь Траяна едва переставлял ноги – начал обгонять походные колонны. Было пасмурно, земляная дорога была разбита, ноги разъезжались. Там и тут солдаты скользили, падали. Колонна то и дело останавливалась – по какой причине, никто толком не мог сказать. Император, с головы до ног залепленный грязью, обогнал колонну, в авангарде спешился, приказал назначенному трибуну остановить когорты и подозвал одного из солдат:
– Почему еле ноги переставляешь? Устал?
– Ты сам попробуй! – с неожиданной злостью выкрикнул легионер. В следующее мгновение его грязное лицо страшно побледнело. Перепуганный, он бросился к императору, схватил его руку, принялся целовать.
– Пощади, божественный… Я не узнал тебя.
– Плохо! – ответил Марк. – Очень плохо! Императора ты боишься больше, чем своего центуриона. Где центурион?
К императору подбежал младший командир. Он был одет в добротный пластинчатый панцирь, на голове каска, на которой от уха до уха тянулся гребень из выкрашенной красной краской щетины. Вытянувшись перед цезарем, принялся «поедать глазами начальство».
– Как звать? – спросил Траян.
– Гай Фауст, – зычно выкрикнул центурион.
– Давно пользовался палкой, Фауст?
Тот смешался, повел глазами по сторонам.
– Ясно, – кивнул император. – Не хочешь быть центурионом?
– Хочу, – вмиг озлобился вояка. – Два года до пенсии…
Император кивнул.
– Понятно. Если не желаешь, что тебя за два года до пенсии как беззубого пса выгнали вон, без наградных, без вспомоществования, вспомни, зачем тебе вручена палка.
Неожиданно из строя донесся презрительный голос:
– Видали мы таких храбрых!..
– Кто сказал?! – разъярился император. – Фауст, кто смел подать голос без разрешения?
– Да есть тут такие.
– Кто именно?
– Сервилат, божественный.
– Сервилат, если ты такой храбрый, – окликнул Траян, – выйди из строя.
Передние шеренги расступились, и вперед вышел могучий, как бык, солдат. Глянул волком.
– Плетей, – скомандовал Траян, – и чтобы без работы не сидел. Понял, Фрукт.
Затем Траян обратился к воинам:
– Граждане, я лично буду задавать темп. К вечеру отставшие будут признаны дезертирами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ясно?
– Куда яснее, – нестройно откликнулись из строя.
– Вот и хорошо.
Император встал впереди легионного знаменосца, державшего древко с распростершим крылья легионным орлом. Марк поднял руку, резко опустил ее и принялся маршировать, при этом вслух начал командовать.
– Раз, два, три. Левой, левой.
Вечером выяснилось, что отставших в легионе не оказалось.
Глава 5
В конце осени 97 года, когда старик Нерва после года царствования окончательно впал в меланхолию и всякая надежда на скорое появление нового императора в столице окончательно испарилась, Ларций получил письмо от Плиния, в котором тот просил навестить «старого друга».
Разговор был короткий. Плиний намекнул, что кое-кто хотел бы в частном порядке известить Марка о том, что творится в Риме. Эти «кое-кто»?..
– Фронтин, что ли? – перебил хозяина Ларций.
Плиний немного смутился, поиграл бровями, потом ответил:
– Тебе не откажешь в сообразительности.
– Наш героический пожиратель репы тоже был в этом списке?
– Да.
– Я согласен.
– На что, Ларций?
– На то предложение, которое ты собираешься мне сделать.
Плиний задумался.
– Что ж, я поддержу твою кандидатуру. Однако мало отвезти сообщение Траяну, необходимо узнать, каковы его планы. Что он собирается предпринять в первую очередь? Когда появится в Риме? Его сторонники должны знать, чем нам заняться в первую очередь.
– Я согласен.
– Что ж, будь наготове.
Прощаясь, Плиний приказал мальчишке-факелоносцу и двум рабам вооружиться палками и сопровождать гостя до самого дома.
– Пусть они переночуют у тебя, Ларций. Я бы не хотел, чтобы они возвращались домой в такой поздний час.
Ларций пожал плечами:
– Мы с Эвтермом и вдвоем бы справились.
– Береженого боги берегут… – назидательно заявил сенатор.
С приподнятым чувством покинул дом Плиния Ларций Корнелий Лонг. В преддверии поручения, пусть даже неясного, одноразового, не сулившего особых благ, он почувствовал небывалый прилив энтузиазма. Радостно было сознавать, что вот и он, инвалид и отщепенец, кому-то понадобился. Неужели в этом волчьем городе о нем еще помнят!
В душе сразу затеплилось, запело.
Проходя через атриум, решил, что завтра же отправится к рекомендованному Фронтином мастеру и договорится насчет протеза. Вот будет здорово, если у него появятся пальцы, пусть даже и металлические! Этим теплом полнился еще в вестибюле доме Плиния, где Эвтерм застегнул у него на спине ремни легкого чешуйчатого панциря, без которого Ларций по ночам не отваживался выходить из дому. Раб перепоясал господина коротким иберийским мечом. Ларций уже сам проверил, крепко ли держится на искалеченном обрубке металлический чехол с крюком на конце. Это было очень полезное приспособление – самой железякой можно действовать как дубиной, а крюк был хорош тем, что позволял притянуть врага поближе и всадить в него клинок. Острием крюка тоже можно было наносить тяжелые раны. Вооружен был и Эвтерм – крепкий молодой раб из Фригии. Мальчишкой он приглянулся Ларцию, когда на невольничьем рынке в Риме тот постеснялся прилюдно помочиться.
В ту пору Ларцию как раз исполнилось семнадцать лет. Он в первый раз надел взрослую тогу. Отец в сопровождении родственников и друзей отвел юного Ларция на форум, затем в Капитолий, где его имя внесли в списки граждан. Спустя неделю по настоянию родителей Ларций в компании с домашним прокуратором[19] отправился на невольничий рынок подыскать себе в подарок послушного личного раба. С прежним случилась постыдная история – он был уличен в краже и отправлен на кирпичный завод. Заметив стыдливость симпатичного страдающего мальчишки, будущий префект решил: щенок, по-видимому, из хорошей семьи. Так и оказалось – Эвтерм являлся жертвой киликийских пиратов, захвативших корабль, на котором его семья направлялась в Антиохию. Его разлучили с родителями и после нескольких перепродаж доставили в Рим. Там Ларций и высмотрел кудрявого черноволосого гречишку.
Перед тем как приложить к купчей свой перстень, исполненный важности молодой гражданин спросил мальчишку:
– Будешь служить верно?
– Постараюсь, господин.
– Что значит «постараюсь».
– Верная служба – тяжкий труд, нелегко достойно исполнить его.
– Ты что, из философов?
– Мой отец был ритором в школе.
– Чему же он тебя научил?
– Следовать природе и стремиться к счастью.
– К счастью?! Интересно, что может составить счастье раба? Ладно, разберемся. Учти, я люблю чистоплотных слуг.
Почти два десятка лет Эвтерм провел рядом с Ларцием. Они привыкли друг к другу. Как-то в первые дни Ларций за какую-то провинность надавал слуге пощечин. Мальчишка неожиданно разрыдался, вместо красноты, выступающей на лицах других рабов после подобного наказания, этот заметно побледнел, а ночью отважился на неслыханную дерзость – Эвтерма едва успели вынуть из петли. При этом рабы, спасшие его от смерти, хорошенько проучили новенького. Чтоб впредь было неповадно.
Ишь, что надумал, молокосос!
Свободы возжелал! Не спеши, приятель, сначала здесь, «в земной юдоли», как выразился пожилой садовник Евпатий, помучайся.
Когда Ларцию сообщили о случившемся, он испытал мгновенный, бросивший в краску испуг. Обескураженный подобным безрассудством Ларций решил сам допросить молокососа. Тот ответил дерзко, глядя в глаза: господин, лучше прикажите дать мне розог, но по щекам хлестать я себя не дам. Ларций вышел из себя: молчи, раб, иначе… В этот момент в комнату вошла Постумия Лонгина, успокоила сына, взяла мальчишку-раба за руку и увела с собой. О чем они разговаривали, Ларций так никогда и не выведал. Вечером Тит пригласил сына в кабинет и с неподражаемой римской прямотой укорил его:
– Кого, сын, ты хотел бы видеть возле себя в родном доме – тайного врага или верного человека?
– Странный вопрос, – пожал плечами Ларций.
– Тогда взгляни вокруг. Ни я, ни твоя мать не гнушаются принимать пищу вместе с рабами. Ты тоже никогда не считал это унижением. Разве они не люди? Разве они не твои соседи по дому? Нельзя, Ларций, искать друзей только на форуме и в курии. Если будешь внимателен, найдешь их и дома. Изволь-ка подумать: разве тот, кого ты зовешь своим рабом, не родился от того же семени, не ходит под тем же небом, не дышит, не живет, как ты, не умирает, как ты?
– Однако, отец, разве я не имею права наказать раба?
– Наказать – да, издеваться – нет.
– Велика беда – надавать пощечин!
– Разве дело в пощечинах! Ты лупил его по щекам именно потому, что он, страшась унижения и боли, предупредил тебя, что для него это невыносимо.
– Ну… – покраснел Ларций.
– Если бы это касалось только Эвтерма, я не стал бы начинать этот разговор. Однако ты испытал наслаждение, причинив ненужную боль другому человеку, а это уже порок, невыносимый для добродетельного человека. Ты меня понял?
– Да, отец.
– Вот и хорошо. Евпатий даст тебе розог.
– Слушаюсь, отец.
Когда наказанному, выпоротому так, что несколько дней он не мог присесть, но при этом во время наказания сумевшему сдержать слезы Ларцию попался на глаза этот придурок Эвтерм, он подозвал его и, выпятив вперед нижнюю челюсть, с угрожающим видом спросил:
– Ну-ка ты, риторское отродье, скажи – какая разница между первоначалами и первоосновами, на которых держится мир?
Услышав вопрос, перепуганный, вновь побелевший лицом, сжавшийся в ожидании тычков и пощечин Эвтерм несколько расслабился, осмелился подойти ближе.
– Первоначало деятельное, – ответил он, – это Бог или Логос, а начало страдательное, над которым свершается действие, – это материя, иначе то, что мы познаем через ощущения. Началам противоположны основы – это огонь, воздух, вода и земля. Все тела состоят из соединения этих четырех основ. Все они принадлежат к материи и пронизаны божественной огнедышащей пневмой, или иначе одухотворяющим дыханием. Разница между ними в том, что начала по своей сути неизменны, основы вполне видоизменяемы, из них возникают тела.
– Хорошо, – с прежним пристально-угрожающим видом предупредил Ларций. – Я запомню, что сегодня, в пятый день майских календ, ты заявил, что тела возникают из основ. Я обязательно проверю, верно ли ты излагаешь учение стоиков, раб. И берегись, если ошибся. Тебя выдерут, как нашкодившего кота.
– Я сказал правильно, господин, – перепугался мальчишка. – Так меня учил отец.
– Вот я и говорю, посмотрим…
Эвтерм оказался прав. Ритор в школе, где молодой Лонг обучался красноречию, очень удивился словам молодого римского невежи, который сумел-таки выучить урок и разобраться в учении Зенона. Этот ответ спас Ларция от розог, на которые был щедр грек-учитель. После той стычки юный хозяин уже специально, пытаясь как бы подловить мальчишку, приказывал объяснить, что такое признание, калокагатия, апатейя, что есть ведущее и почему оно влечет к добродетели. Почему ваши вонючие греческие мудрецы полагают, что пороки – это род душевной болезни. Когда Эвтерм, робея, признавался, что не знает, хозяин приказывал ему поинтересоваться и объяснить «эту греческую дребедень», придуманную, чтобы «пудрить мозги достойным римским гражданам». «Нам, римским гражданам, – заявлял Ларций, – хватило отеческих добродетелей – pietas, gravitas и simplicitas,[20] чтобы завоевать мир».
Раб позволил себе съехидничать – труднее удержать его в руках. Для этого надо обладать знаниями. Ларций с тоской подумал: «Может, дать ему розог?» Позже вынужден был согласиться: слуга прав. С тех пор подробное обсуждение школьных заданий вошло у них в привычку, и Ларций, уже всерьез заинтересовавшись, требовал ответа, зачем он, сын римского всадника, появился на свет и как добиться счастья? Скоро подобный экзамен превратился в своего рода игру, которой в ту пору многие увлекались в Риме.
Римское общество времен Нерона, Веспасиана и Домициана очень интересовалось вопросом, как прожить счастливо, как научиться стойко переносить удары судьбы, которые в ту пору беспрестанно сыпались на головы людей. Хотелось узнать, ощупать, зримо прочувствовать такие невесомые материи, как истина, добродетель, порок, а этого можно добиться, только обучаясь. Только читая, слушая, споря, соглашаясь и не соглашаясь, можно приоткрыть завесу тайны и потрогать истину, разглядеть сосуд, в котором хранится добродетель. Тираны зверствовали, подданные искали спасения. Если смерть неизбежна, если никто не может сказать, когда и по какой причине ее насылает деспот, значит, следует по крайней мере умереть достойно. То есть без страха. Наводнившие Рим философы заявляли: этому можно и нужно учиться. Учите, потребовали римляне и с той же последовательностью и неутомимостью, с какой они овладели миром, потомки Ромула стали приобщаться к науке жизни. Во времена Нерона Рим потрясла судьба Луция Сенеки, Тразеи Пета, Пакония Агриппина и Гельвидия Приска и еще многих других, которые в угоду какой-то чужедальней мудрости героически проявили себя в тот самый момент, когда Нерон потребовал от одних смерти, от других изгнания. Все они своими судьбами доказали, что умение жить – это не пустая наука.
Рассказывая о превратностях судьбы, философы часто ссылались на пример хозяина Эпиктета Эпафродита, вольноотпущенника и секретаря Нерона, одного из первых римских богачей. Могущественный в эпоху Нерона человек, он присутствовал при последних минутах господина, когда императора-актера или, может, актера-императора должны были захватить посланные за ним вдогонку мятежники. Эпафродит помог Нерону вонзить меч в горло. Этот баловень судьбы в угоду моде, а может, ради забавы – хотелось похвастать перед дружками, каких чудаков он держит у себя в рабах, – разрешил Эпиктету посещать лекции известного римского философа Музония Руфа. Он вволю издевался над Эпиктетом и в назидание, чтобы набравшийся философской премудрости раб не очень зазнавался, однажды приказал скрутить ему ногу особым орудием. Эпиктет оставался спокойным и только предостерег хозяина: «Ты сломаешь ее». Когда же это действительно случилось, Эпиктет так же спокойно добавил: «Ну вот, ты и сломал». Во времена Домициана был у Эпафродита сапожник, которого он продал за непригодностью. По воле случая этот раб, купленный одним из приближенных цезаря, стал сапожником Домициана. Видели бы вы, как стал ценить его Эпафродит. «Как поживаете, милый Фелицион? Целую тебя!» Когда кто-нибудь спрашивал Эпафродита: «Чем занимается сам?» – он благоговейно отвечал: «Советуется с Фелиционом!» Чем же кончил Эпафродит? Каков итог пресмыкательств? Домициан казнил его, объявив гражданам, что даже с добрыми намерениями преступно поднимать руку на господина.
Во времена правления Нерона и Домициана таких примеров было множество, так что в обществе очень скоро возобладало убеждение, что умение стойко переносить невзгоды – это самое необходимое знание, которому только и стоит учиться. Так философия вошла в моду. Всякий раз после смерти очередного тирана Рим оказывался наводнен всякого рода босоногими, бородатыми учителями. Они расхаживали в драных плащах, с посохами в руках называли себя кто киниками, последователями Диогена, разговаривавшего с Александром Македонским, не вылезая из бочки; кто сторонником Эпикура, нахвалившего наслаждение в качестве единственной и достижимой цели жизни. Другие – их было большинство – излагали учение, рожденное в Афинах, в расписной Стое, Зеноном, у которого была кривая шея. Его учение было подхвачено кулачным бойцом Клеанфом, явившимся в Афины с четырьмя драхмами в кармане и случайно на улице наткнувшегося на Зенона, и, конечно, обладавшим огромным самомнением и величайшими способностями Хрисиппом. Наука этих троих пришлась римлянам особенно по сердцу.
Ларций и Эвтерм по примеру многих часто рассуждали о том, что куда полезнее и приятнее совпадать в своих устремлениях с окружающей природой (а для этого, конечно, необходимо знать, что есть благо и что зло и что требует от тебя природа), чем жить по прихоти капризов, своих и божественных? Разобрав до тонкости предмет, оба единодушно согласились, что провозглашенное Зеноном стремление к самосохранению как изначально движущее поведением человека и при определенных условиях возвышающее его до заботы о благе государства, а то и до понимания обязанностей отдельного существа по отношению к миру в целом – куда более действенная, воистину неодолимо влекущая сила, чем воспеваемое Эпикуром удовольствие. Разве жизнь состоит исключительно в поиске наслаждений, спрашивали они и согласно отвечали: нет, это пустое, это обман. Подобное мнение поддерживал и отец Ларция Тит. Скоро последователей Зенона развелось в столице видимо-невидимо, пока Домициан не изгнал это поганое племя из Италии.
Главный вопрос, обращенный к каждому из живущих на земле, был прост, понятен: в чем ты властен, а в чем нет? Ясно, что никому не дано избежать несчастий, болезней, прочих ударов судьбы, и бунтовать против божественного промысла либо против подобного устроения мира – глупо и бесполезно. Но если мы не в состоянии избежать невзгод, то в своем отношении к подобным ударам мы вполне свободны. Каждый волен сетовать на судьбу, взывать к небесам, искать виноватых, удариться в мольбы и покаяние, в отместку терзать других. Но он также награжден правом стойко встретить опасность, проявить благоразумие, ни при каких обстоятельствах не расставаться со справедливостью. Вот еще вопрос: что есть смерть? Как к ней относиться? Как к неотвратимой мучительной неизбежности, как к незаслуженному наказанию или как к несчастному случаю, который может произойти с каждым из нас?
Разве в этом выборе нам отказано? Разве мы не в силах сохранить мужество и с достоинством перенести невзгоду? Просто надо знать, что есть добродетель, а что порок и как приобщиться к первому и избегать второго.
Разве не так?
Теперь поговорим об окружающей нас вселенной. Взгляните вокруг непредвзято и ответственно. Разве все, что есть в этом мире, не устроено разумно? Разве все, что движется, не движется по самым совершенным траекториям? Разве законы, по которым устроена природа, не пригодны для счастья? Будь по-иному, мир давным-давно развалился, погряз бы в катастрофах. Но нет! Что мы видим ежедневно? Вечную, потрясающую своим постоянством смену дня и ночи. Без пропусков и прогулов, радуя нас, встает солнце. Идут дожди, то вызывая умиление в душе, то недоброе словцо в адрес небесной силы. Почва и женское лоно наполняются влагой и с радостью взращивают посеянное нами семя. Каждую ночь на небо выбегают звезды – предметы вполне полезные и удобные в обращении. Изучив ход светил, можно водить корабли, выносить суждение, что ждет человека. На звезды – будь то в полночный час, когда вы в обнимку с девушкой изучаете рисунок созвездий, или зимней морозной ночью на рынке – можно любоваться, загадывать желания, познавать мир и самого себя. А удовольствие поймать рыбку в реке, собирать грибы, искупаться в жаркий день, выпить пива, научиться владеть мечом или сарматским копьем-контосом, понять Пифагора, утверждавшего, что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, прочитать книгу, окунуться в море? А радость погладить кошку, погулять с собакой?
Давайте обратим взгляд на самих себя. Разве человек не совершенство? Разве его разум не часть мирового Логоса? А как порой мы пользуемся божественным даром? Хлещем по щекам слабых и униженных, бьем ногами собак, спускаем шкуры с кошек, режем животных на аренах. Разве только животных! Убиваем без разбора людей, и кто больше убьет, тот требует и удостаивается лаврового венка и триумфа.
Это все от незнания. От заблуждений, к которым склонен безграмотный в вопросах жизни человек.
Как раз последнюю истину о бессмысленности человекоубийств Ларций отказывался принять. Мир устроен на крови. Эвтерм и соглашался, и не соглашался, однако спорить не отваживался.
Скоро интерес Ларция к подобным беседам угас. Его ждала армия. Куда охотнее он теперь занимался воинскими упражнениями, в которых домашним партнером в схватках нередко выступал Эвтерм. Вот тут хозяин вовсю отыгрывался на гречишке. Не щадил, старался уколоть побольнее, а то лупил наотмашь деревянным, напоминавшим дубину мечом. Правда, только до той поры, пока Эвтерм с помощью Ларция не освоил несколько приемов, позволявших мгновенно обездвиживать размахивающих мечами.
На этой отменной закваске – философии и умении наносить удары – взрастало в ту пору поколение римлян – покорителей мира.
Совершенствовать воинскую науку хозяину и рабу пришлось в военных лагерях. Так что, когда Ларций вышел на улицу, он мог быть спокойным за свой тыл.
* * *
Так до конца не справившись с уже забытым энтузиазмом, взволновавшим Ларция после разговора с Плинием Младшим, отставной префект решительно свернул в сторону амфитеатра Флавиев (Колизея). Мальчишка-факелоносец, тут же смекнувший, что придется топать краем страшной Субуры – района города, где по ночам царствовали разбойники, – нерешительно остановился, испуганно глянул на гостя, попытался было приотстать. Забеспокоились и приставленные к гостю рабы, тогда Ларций взял факелоносца за ухо и вывел вперед. Далее пошли ровно, в ногу.
На улицах было пусто, тихо. До полуночи оставался час, на улицах еще не было слышно криков и призывов о помощи. В полную силу работали все похабные заведения – от трактиров, где подавали дрянное вино и жаркое из кошек, до лупанариев, двери которых освещались красным фонарем. По пути встретили рабов-лектикариев, протащивших носилки с каким-то важным господином. Носилки окружала многочисленная охрана. Уже на выходе из Субуры, когда в свете луны впереди обнажился гигантский бастион Колизея, они услышали тонкий девичий вопль, затем несколько грубых окликов и, наконец, увесистый шлепок. Факелоносец замер, умоляюще глянул на Ларция. Префект прибавил шаг и, обгоняя свет, бросился на крики. Эвтерм и два приданных им раба поспешили следом. Последним, обливаясь слезами и коротко всхлипывая, побежал мальчишка.
Неподалеку от пересечения улицы Патрициев с Тибуртинской дорогой, рядом с дешевым трактиром «Три пескаря», двое неизвестных дядечек выволакивали из богато украшенных носилок женщину, которая умоляла оставить ее «в покое».
Ларций приблизился, поинтересовался:
– Что здесь происходит?
Женщина зарыдала, страстно протянула в его сторону руки. Один из налетчиков, высокий, крепкий детина, хрипло посоветовал:
– Иди своей дорогой.
– Да ты грубиян, приятель! – удивился Ларций, потом приказал: – Оставьте госпожу в покое!
Одетый в короткий хитон без рукавов, детина отпустил женщину, выпрямился, повернулся к Ларцию. Он был бородат и страшен. Другой, пониже ростом и пошире в плечах, укрытый воинским плащом-сагумом, тем временем деловито перехватил жертву за пояс. Женщина взбрыкнула, ударила негодяя ногами, вырвалась и попыталась спрятаться в глубине паланкина.
Детина тем же хриплым голосом пригрозил:
– Ступай, пока цел.
Ларций как-то разом успокоился и еще раз приказал:
– Повторять не привык – оставьте ее в покое.
– Сейчас привыкнешь, – ответил детина и, выхватив широкий латинский кинжал, двинулся на Ларция. В следующее мгновение из-за ближайшего угла вывалилась ватага разбойных людей – их было трое. Все бросились на префекта.
Первого из них встретил Эвтерм. Чуть отступив, он пропустил врага и подставил ему ногу. Тот, кувыркаясь, полетел наземь. Второй сам наткнулся на выставленный меч. Ларций между тем отбил нападение размахивающего кинжалом детины, сделал ложный выпад, затем, сдвинувшись в сторону, вонзил меч ему в брюхо. Следом ударил левой рукой по голове одного из трех нападавших. Удар получился крепким, злодей сразу осел и схватился за голову. Потекла кровь. Эвтерм успел лишить чувств того, кто упал на неровную мощенную камнем мостовую. Нападавший, пытавшийся выудить жертву в глубине носилок, отскочил в сторону. Здесь на мгновение замер, глянул на Ларция и отбежал в тень.
Мальчишка-раб, вцепившийся в факел, уставился на двух умиравших на мостовой людей, неожиданно тонко и протяжно завыл. Затем глаза у него расширились, он отскочил к стене и завопил во весь голос. Его поддержала рыдающая девица.
Поле боя осталось за Ларцием. Он заглянул в паланкин – там в темноте что-то белело.
– Они убежали, – сообщил он.
Женщина тут же на четвереньках выбралась из паланкина, спряталась за Ларция. Он вытащил ее из-за спины. Перед ним оказалась молоденькая, залитая слезами девица.
– Где твой дом? – спросил он. – Мы проводим тебя.
Девица заплакала еще горше.
– Мне нельзя домой. Они будут ждать меня возле дома.
– Почему ты решила?
– Я слышала их разговор, они совещались между собой, та ли я добыча, за которой их послали. Они еще спросили мое имя.
– Ты назвала себя.
– Да.
– Назови еще раз.
– Волусия Фирма.
Ларций повторил про себя.
– Волусия?.. Я не слышал о тебе.
– Я недавно приехала из Ареция. Мои родители умерли, и тетя Кальпурния приютила меня.
– Зачем же в такой поздний час ты очутилась на улице?
– Тетя послала. Приказала мне спрятаться в другом ее доме, на Авентинском холме.
– От кого прятаться?
– От ее бывшего мужа. Он был очень недоволен, когда узнал, что я приехала из Ареция.
– М-да… Запутанная история. Как же мы поступим? Если не возражаешь, переночуешь у нас. Это недалеко, на Целийском холме.
Девушка не ответила. Между тем факелоносец, Эвтерм и рабы придвинулись ближе. Затем из близлежащих подворотен начали выдвигаться смутные тени. Ларций насторожился, взялся за оружие.
– О, – воскликнула девица, – не беспокойтесь, это мои сопровождающие.
– Храбрецы, ничего не скажешь.
– Да уж, – неожиданно улыбнулась девушка.
При свете придвинутого факела Ларций обнаружил, что она хорошенькая.
– Как будем решать? – спросил он.
– Мне никогда не приходилось ночевать в доме чужого мужчины, – призналась девушка.
– Кроме чужого мужчины в доме находится его мать Постумия и отец. Они добрые люди.
Девушка опустила голову.
– Я согласна.
Постумия, услышав историю, случившуюся с несчастной Волусией, сразу заохала, потащила девушку в домашнюю баню. Ларций между тем испытывал страшный голод – с ним после кровавого дела всегда такое случалось. Ел и радовался – наконец-то посчастливилось наказать негодяев. Хотя бы на этих отыгрался. Далее мысли утекли вдаль, к Данувию на границу, куда лежала его дорога. Так размечтался, что не сразу обратил внимание на вошедшую в триклиний гостью. Когда же опомнился, повернулся в ту сторону – оцепенел. Слова не мог вымолвить. Что здесь скажешь! Объявить, что Волусия хороша собой, – все равно что похвалить соловья за пение.
Смутилась и девушка, прикрыла лицо краем великоватой для нее чужой столы. Наступила тишина, которую нарушила Постумия, запоздало вошедшая в столовую.
– Наша гостья настояла. Сказала, что хочет поблагодарить тебя. Я сказала, что завтра, он уже лег и спит, а ты, оказывается, вот где. Пируешь перед сном.
– Я бы тоже что-нибудь отведала, – наконец подала голос Волусия.
– Отведай, – согласилась Постумия. – Сразу успокоишься. Я знаю, когда такое случается, у меня тоже разыгрывается, аппетит. Пойду распоряжусь, чтобы принесли что-нибудь вкусненькое.
Она вышла. Ларций поднялся с ложа, молча, словно все еще отыскивая во рту проглоченный язык, пригласил девушку занять расположенное напротив место. Волусия поблагодарила взглядом, и сердце у префекта забилось так сильно, что он не удержался и помог гостье устроиться на ложе. Если это награда за те невзгоды, которые фатум в последние годы обрушил на него, пусть восторжествуют боги. Их милость безгранична. Устраиваясь на ложе, девица покачнулась, и Ларций, помогая, чувствительно коснулся ее. Ее рука была мягка, волнующа. Мужчину сразу бросило в жар, девушка вздрогнула, спустя мгновение поблагодарила взглядом. Когда Ларций прилег на своем месте, совладал с голосом и спросил, чем же так опасен ее дядя и почему ее тетя Кальпурния, несмотря на поздний час и дрянную славу, сопутствовавшую ночному Риму, отважилась отправить ее на другой конец города.
– Дядя утверждает, что все имущество тети должно принадлежать только их сыну. Он потребовал от меня немедленно и публично отказаться от тетиного наследства. Тетя возразила. Она заявила: «Ах так! В таком случае и Марк ничего не получит». Это была ужасная сцена.
– Что же это за дядя такой, который считает возможным распоряжаться имуществом разведенной с ним жены.
– Его зовут Марк Аквилий Регул, а тетю – Кальпурния Регула. Вам, должно быть, приходилось с ним встречаться.
Ларций поперхнулся. Откашлявшись, долго сидел молча. Наконец ответил.
– Да уж… – он мрачно посмотрел на гостью. – Приходилось.
Глава 6
В ту же ночь Сацердата, отмеченный приметным шрамом на лбу, владелец лавки по изготовлению надгробных памятников, тайно явился к сенатору Регулу, в его поместье за Тибром, которое тот купил у скончавшегося год назад Веллея Блеза. Сацердату сразу провели к хозяину.
Регул, невысокий, на удивление узкогрудый, худой и неумеренно подвижный старик, встретил полночного посетителя неласково. Правое веко у сенатора чуть подрагивало. Он, потирая руки, некоторое время торопливо расхаживал по комнате, потом спросил:
– В чем дело, дружок? Почему мне до сих пор не доложили, что этой девки больше нет на свете? Я удивляюсь, у тебя при виде красотки дрогнула рука или ты хитришь со мной?
– И рад бы схитрить, да только у меня погибли двое верных товарищей, и сейчас мне не до хитростей. Я пришел сообщить, что через пару часов девку никто днем с огнем не найдет. Ее отвезут в лупанарий где-нибудь в Сирии, и никто никогда не услышит о ней.
Регул разом успокоился, пригладил остатки волос на маленькой, длинноносой головке – щеки у него были впалые донельзя, – прищурившись, глянул на гостя.
– Ты часом не рехнулся, Сацердата? Я ничего не понимаю. При чем здесь лупанарий, какая-то Сирия? Что ты, паршивый раб, мелешь? Племянницу римского сенатора в лупанарий? На крест захотел? Тебе что было предписано? Зарезать чисто, без боли. Можно придушить, – сенатор на мгновение остановился, в упор глянул на гостя и погрозил пальцем. – Не раздражай меня, Сацердата. Оставь жалость к павшим соратникам при себе и объясни толком, что случилось?
Сацердата, невысокий, квадратный, необыкновенно волосатый – волосы на груди лезли из горлового выреза грязной, сшитой из добротной плотной ткани, туники – буркнул:
– Я не люблю, когда со мной разговаривают грубо, Регул. Ты не мой хозяин, и не тебе учить меня, как исполнять заказ.
– Именно заказ! – воскликнул сенатор и вновь забегал по комнате. – Именно! Меня не интересуют твои импровизации насчет Сирии, грязного борделя и прочая ерунда. Мне нужен результат – смерть Волусии. Чтобы я больше не слышал о ней. Никогда. Это все. Ты верно сошел с ума – племянницу римского сенатора отправить в потаскухи, да еще не по своей воле, а по принуждению! Пусть тебя поразят боги, неужели ты хочешь, чтобы слух о таком чудовищном преступлении коснулся чьих-либо высокопоставленных ушей? И вообще чьих-либо ушей? Это недопустимо. Это просто из ряда вон!! Мне также не нужна кровавая резня! Тебе было приказано – тихо, без крови. Неужели ты настолько жаждешь славы, что намерен потрясти Рим подобным убийством? Чтобы все эти ничтожества начали болтать: мол, невинное создание пострадало от рук переполнивших Рим подонков! А чья она родственница? Ах, Марка Аквилия Регула. Тогда понятно. Ты хочешь, чтобы мое имя каким-либо образом связывали с потрясающим воображение убийством?!
Марк Аквилий так же внезапно, как и начал бегать, успокоился, приблизился к Сацердате, все так же стоявшему посредине небольшой, скудно убранной комнаты, заглянул беглому рабу в глаза.
– Теперь по поводу хозяина. Сацердата, ты посмел угрожать мне. Это плохо, этого я от тебя не ожидал. Мне обидно. Неужели ты нашел на меня управу? Интересно, какую?
Раб откровенно смутился, насупился, переступил с ноги на ногу.
– Ты приказал убить Красса Фругия, претора.
– Кто это может подтвердить? Ты, что ли? Вот так явишься в коллегию центумвиров и заявишь: я, беглый раб и дезертир Сацердата, обвиняю сенатора римского народа в том, что он приказал мне лишить жизни претора Красса, когда тот решительно воспротивился избранию его в сенат?
Регул рассмеялся.
– Отважишься, Сацердата?
Сацердата исподлобья глянул на хозяина и невразумительно буркнул:
– Когда я принес тебе голову Красса, ты вцепился в нее зубами. Начал кусать и оторвал ухо.[21]
– Этому постыдному поступку есть свидетели? Кто-нибудь, кроме тебя, сможет это подтвердить?
Тот не ответил. Регул мгновенно придавил смех, его лицо налилось кровью, сморщилось от презрения и злобы.
– А вот твоя жизнь, вся, до последней минуточки, в моих руках.
– Как это? – вскинул голову Сацердата.
– Не прикидывайся, раб. Стоит мне только выступить в курии и объявить, что наглость злодеев перешла всякие границы, сенат примет решение о твоей поимке, и за твою голову назначат награду. Как полагаешь, за какую сумму твои соратники в тот же день продадут тебя. Десяти тысяч сестерциев хватит?
Сацердата и на этот раз промолчал.
Регул махнул рукой.
– И пяти будет довольно. Ты и глазом не успеешь моргнуть, как в твоей же грязной мастерской твои же люди накинут тебе мешок на голову и острым, очень острым ножиком сделают чик-чик. Я постараюсь, чтобы они подольше водили ножиком. Приплачу, и все будет сделано. Тебе все понятно, раб?
– Понятно, господин.
– И больше в моем присутствии не смей строить из себя дурака. А то в Сирию, в лупанарий! Два соратника! Итак, что случилось в Субуре. Кто этот храбрец, посмевший отбить девку?
– Тебе уже донесли?
– А ты как думал. За тобой нужен глаз да глаз. Мало ли какая блажь взбредет тебе в голову. Может, ты захочешь попользоваться девкой, затем отдать ее своим молодцам, а мне скажешь, что не удержался, уж больно ягодка хороша. Я же тебе объяснял, Сацердата, что не стоит выводить сильных в Риме из невозмутимого состояния духа. Тем более перед приездом нового принцепса. Мало ли что взбредет в голову этому испанцу? Может, он захочет навести в городе порядок, тогда подобная кровавая сцена будет очень кстати. Ему, но не мне. Мне нужны женины деньги, более ничего. У меня растет сынок, я дал клятву оставить ему сто двадцать миллионов, и я оставлю. В то время как я хожу по Риму и выколачиваю из людишек их достояние, собственная жена, мать моего сына пригрозила лишить мальчика наследства. Это, знаешь ли… неверный ход. Ненужный выверт. Так кто же отбил девку?
– Ваш старый знакомый Лонг.
Наступила тишина.
Спустя несколько мгновений остолбеневший от неожиданности сенатор пришел в себя, принялся медленно хватать воздух пальцами. Наконец выдохнул:
– Ничтожество! Какое ничтожество! Почему этому Лонгу не сидится в родных пенатах? Зачем он бродит по ночным улицам? Ему мало приключений? Ничтожество, ничтожество и еще раз ничтожество!..
Сацердата встрепенулся и вставил слово:
– Вот и я говорю. Сейчас можно успеть до рассвета. Я со своими людьми ворвусь в его дом, прирежу девку и наконец рассчитаюсь с ним за палец.
– За какой палец? – удивился о чем-то задумавшийся Регул.
– Золотой, какой же еще! Он вырвал у меня золотой палец Домициана, когда на форуме делили его золотую статую.
– Ах, вот ты о чем. Я же говорю: ничтожество. Просто ничтожество. Однако ты опять за свое. Брать штурмом дом римского всадника – это дурной тон. К тому же откуда, как считаешь, возвращался Лонг?
– Из дома Плиния Младшего.
– Я так и думал. Так и знал. Нет, сожмись душа, не время мстить, и о какой мести может идти речь, когда имеешь дело с ничтожествами. Их надо давить, как вшей… или выколачивать из них наследства.
Регул наконец сел в деревянное, с высокой спинкой и подлокотниками кресло-солиум, стоявшее в углу. Сидя в нем, он обычно принимал своих вольноотпущенников. Сацердата подошел ближе.
Сенатор неожиданно продекламировал:
– Как верно сказано – римлянин, царь, победитель, повелевает вселенной; морем и сушей, и все, что оба светила обходят, владеет безраздельно. Но ненасытен он… – тут же без паузы он перешел к прежнему предмету разговора. – Нападение на дом Лонгов сравнимо по дерзости и бесстыдству с насилием над этой девкой. Это не выход. Ладно, иди. Ты уверен, что она в доме Лонгов?
– Как в том, что вижу вас.
– Ступай, закройся в своей мастерской и жди. Если бы не новый цезарь?.. Кто его разберет, провинциала? Может, в нем еще горит жажда справедливости и лучшее он хочет сделать на земле устройство.
– Он именно этого и хочет, – подтвердил фракиец.
– Как ты можешь знать? – встрепенулся сенатор.
– Знаю, – усмехнулся раб. – Наслышан.
Регул задумчиво глядел на раба. Внезапно он вскочил, вновь забегал по комнате, замахал руками.
– Ну, конечно! непременно!.. Это будет очень ловкий ход.
Затем Марк Аквилий, пробегая мимо кресла, вновь и неожиданно рухнул на сиденье, с той же стремительностью успокоился. Приставив ладонь ко лбу, несколько долгих минут сидел неподвижно, затем распорядился:
– Днем отправишься в преторий, куда свозят трупы, найденные за ночь на улицах города. Опознаешь своих людей. Возьми с собой побольше свидетелей, ведите себя достойно. Можно пустить слезу. Девок возьмите, пусть изображают неутешных вдов. Я тем временем приглашу в гости Лонга, и мы здесь вдвоем полюбовно уладим наши дела. Полагаю, теперь у него не будет выбора и их хорошенький домик, такой нарядный домишко, наконец-то достанется мне.
– Ну, ты даешь, хозяин! – Сацердата не смог скрыть восхищенного удивления. Он повел головой и постучал себя указательным пальцем по голове. – Соображаешь.
Сенатор повторил его жест – постучал себя по темени – и выговорил:
– Тем и жив.
– Только я не пойму, как быть с девкой? – спросил раб.
– Меньше знаешь, крепче спишь, – ответил хозяин.
* * *
Ранним утром, еще затемно, в дом Лонгов на Целии явился мрачный, невыспавшийся Порфирий и передал Ларцию приглашение Марка Аквилия Регула немедленно посетить его дом на Квиринальском холме. Приказной тон слова «немедленно» долговязый вольноотпущенник объяснил особыми обстоятельствами.
– Мой господин, – Порфирий не удержался от зевка и тут же прикрыл рот левой культей, – ни в коем случае не желает нанести обиду достойному префекту, однако в этом деле только быстрота может помочь полюбовно решить дело с нападением вашими людьми на его племянницу.
Ларций спросонья не сразу понял, о чем дылда ведет речь. Что за нападение?
Порфирий охотно объяснил.
– Сегодня ночью ты, префект, и твои люди напали на племянницу моего хозяина Волусию, захватили ее и притащили в свой дом, – голос его посуровел. – По-видимому, ты решил взять ее в заложницы, дабы принудить достойнейшего из сенаторов закрыть глаза на совершенное твоими родителями преступление и пойти на сделку с совестью. Но это еще не все. Несчастье в том, что при нападении ты убил двух римских граждан, пытавшихся защитить бедную девушку. Сам знаешь, какая кара ждет тебя за подобную дерзость. Мой господин, однако, не желает раздувать это дело и готов пойти с тобой на мировую. С этой целью он и прислал меня. Вопрос должен быть решен до полудня, пока родственники убитых не подали на тебя в суд.
На этот раз Ларций, поднаторевший на общении с Регулом и его доверенными лицами, обошелся без пощечин. Он бесстрастно выслушал гостя, потом спросил:
– Ты с ума сошел?
– Нет, префект. Я в полном здравии, чего и тебе желаю.
Порфирий позволил себе криво ухмыльнуться, потом дружески посоветовал Лонгу:
– Не стоит, Ларций, затевать тяжбу с Регулом. Зачем тебе это? Если Марк Аквилий предлагает договориться, лучше договориться.
Решение Ларций принял мгновенно.
– Я согласен. Когда пойдем?
– Сейчас же, если римского префекта не затруднит такой ранний час.
– Римского префекта ничто не затруднит.
По пути Ларций поинтересовался у вольноотпущенника, где тот потерял руку.
– Префект, мне бы не хотелось вспоминать о том страшном случае, – ответил вмиг насупившийся Порфирий. – Я полагал, что с меня довольно и лошадиного лица, и долговязости, чтобы стать насмешкой для римлян, но фатум рассудил иначе.
Отправились втроем, Ларций прихватил с собой Эвтерма.
Вилла Марка Аквилия Регула располагалась за Тибром, в живописном месте, где устраивали свои парки и сады Помпей и мать Нерона Агриппина. Вход в усадьбу располагался сразу за храмом Флоры. К дому вели роскошные пропилеи с колоннами из зеленого каристийского мрамора, проход был замощен белейшими, тоже мраморными плитами. В глубине рисовался дом. Строение было невелико, в два этажа, оконца маленькие – другими словами, вид имело неказистый, особенно в сравнении с роскошными входными портиками и регулярным парком, который славился в Риме своими диковинками и чрезмерным обилием статуй.
Пока шли к дому, Ларций не произнес ни слова. Готовился к тому, чтобы холодно, с достоинством, но без дерзости поговорить с человеком, донимавшим его все эти годы. Выдержки хватило на первые несколько шагов, потом ясно ощутил, что угодил в ловушку. Регул сумел застать его врасплох. Ларций рад был сохранить невозмутимость, но куда там! Шел и озирался, вел себя как мальчишка, оказавшийся в удивительной, сказочной стране. Правда, римская сказка была груба, назойлива, надменна, нарочито шибала в глаза драгоценным мрамором, резными фризами, белыми плитами под ногами, но более всего – обилием статуй, выставленных в обоих портиках.
И слева, и справа.
Порфирий обратился к нему. Ларций не ответил, ему было не до разговоров. Статуй действительно было многовато, однако более всего ошеломляло, что эти истуканы, все до единого, изображали одного человека – Марка Аквилия Регула. Очутившись под присмотром первой пары изваяний, префект ощутил что-то вроде недоумения. Когда же первая пара спрятала каменные незрячие глаза за округлостью колонны и на него уставилась следующая, затем третья, четвертая, пятая, его пробрал трепет. Выставленные на пьедесталах регулы с надменностью, а то (вдруг померещилось) с насмешкой изучали гостя.
Хозяин поджидал гостя на ступенях дома. За его спиной топтался жирный, с отметиной на носу Павлин. В глубине вестибюля Ларций приметил двух рабов – один был крив, другой хром. Регул, заметив искреннее замешательство, сразившее строптивого префекта, не скрывал удовлетворения.
– В добром ли здравии мой гость? – приветствовал он Лонга.
– Спасибо, – откликнулся Ларций и пожелал хозяину долгих лет жизни.
– Я смотрю, ты удивлен, – Регул кивнул в сторону статуй. – Перед входом их ровно два десятка, это только как бы официальное преддверие задуманной мной экспозиции. Остальные в парке. Если желаешь, могу показать?[22]
У Ларция на мгновение мелькнуло: согласиться – значит пойти на поводу у заклятого врага. Но если Регул враг, а в том не было сомнений, выходит, что между ними война, а на войне, как утверждает Фронтин, особенно ценятся военные хитрости. Кроме того, Ларцию и в самом деле вдруг нестерпимо захотелось ознакомиться с экспозицией в целом. Хозяин виллы испытывает удовольствие, разгуливая по парку под присмотром толпы двойников? Неужели ему не страшно остаться с ними один на один? Не сошел ли сенатор с ума?
– Нет, уважаемый Ларций, я не сошел с ума, – заявил хозяин. – Дело в том, что после долгих и трудных боев в сенате я наконец осознал, что моя жизнь имеет немалое общественное значение. В этом же меня убеждали мои друзья. Я сдался. Поверь, моя цель не в том, чтобы возвеличить собственную особу, как болтают всякие ничтожества. Я попытался изобразить благородного римлянина во всей полноте его обязанностей – на государственном посту, в сенате, в коллегии децемвиров, на отдыхе, читающим книгу или свиток, дающим ценные указания вольноотпущенникам, заботящимся о птичках, зверушках, лошадках, осликах. В этих статуях отражена вся моя жизнь, как частная, так и государственная.
– Я с удовольствием ознакомлюсь с твоим парком, Марк. Ты и в самом деле заинтересовал меня. По крайней мере, твои объяснения звучат здраво.
Регул был явно доволен ответом гостя. Он даже позволил себе побегать перед ним, после чего взял Лонга под локоток и торопливо поволок в боковую аллею.
– Послушай, Ларций, у меня до сих пор не укладывается в голове, по какой причине мы, два разумных человека, два гражданина, озабоченных судьбой отечества, так жестоко и бескомпромиссно враждуем. Нам давно пора встретиться, обсудить претензии. Я уверен, мы нашли бы взаимоприемлемое решение, но об этом после, а пока взгляни на этого босоногого мальчишку, каким я был полвека назад.
Он провел гостя мимо младенца, дрыгающего мраморными ножками на руках у кормилицы, затем ковыляющего, научавшегося ходить – ему помогала воспитательница, чье лицо, как, впрочем, и лицо кормилицы, было скрыто под накидкой. Эта деталь привела Ларция в чувство – Регул вовсе не сумасшедший! В его скульптурных группах без затей воплощался гениальный замысел: лица тех, чья жизнь не имела государственного значения, были скрыты, не прописаны. Резец скульптора их даже не коснулся, в то время как облик главного героя каменной эпопеи был вырезан до тончайших деталей, до каждой складочки на юношеской тоге. Наконец Регул подвел гостя к скульптуре, на которой мраморный мальчишка лет десяти, уложив одну ногу на другую, увлеченно выковыривал занозу из ступни. Фигура отличалась естественной простотой и живостью.
Ларций одобрительно покивал.
– Превосходная работа, Марк. У тебя безупречный вкус.
– Естественно, – засмеялся Регул, – ведь это касается меня лично.
Они двинулись дальше.
Каждая аллея была посвящена тому или иному периоду в многотрудной, бурной и хлопотливой жизни сенатора. Вот взрослеющий Регул декламирует перед коллегией децемвиров. Вот он, заложив руку за полу тоги, прогуливается по портику. Скульптурные группы были редки и выполнены по уже известному принципу. Всюду Регул и только Регул. Это был парад Регулов, инкубатор Регулов. Здесь они рождались и расползались по Вечному городу. Очутившись в их толпе, насмотревшись на мраморных, бронзовых, золотых, серебряных, покрытых слоновой костью истуканов, Ларций вскоре изменил свое мнение насчет художественного вкуса хозяина. Оказалось, что Регул крайне односторонне понимал красоту. У Ларция вызвала отвращение золотая статуя, на которой сенатор был изображен в образе Геркулеса. Все здесь было чересчур – плечи более широки, чем положено, грудь преувеличенно выпуклая. Выставленная вперед нога зачем-то была обута в крупную, впору слону сандалию. Хороша была палица, фактура дерева была передана изумительно.
Далее среди стоявших на равном расстоянии друг от друга статуй его взгляд тоже не отметил ни одной более-менее приличной работы. Большинство героических портретов отличались некоторыми, как и в случае с Геркулесом, преувеличениями. Раздражало однообразие поз – все исключительно государственные, парадные. Чаще всего Регул держал в руке свиток либо, вскинув правую руку, обращался к римскому народу. В чем не откажешь мастерам, создавшим этот зоопарк, в котором содержался один-единственный хищник, так это в умении полировать и отделывать поверхности.
Скоро Лонг вступил на дорожку, по бокам которой были выставлены скульптурные портреты, изображавшие десятилетнего мальчика. Игривости в них было больше.
– Это мой сын, – признался хозяин и потупил глаза. – Хороший мальчик.
Последняя ведущая к дому дорожка была посвящена inners otium.[23] Картинки досуга Регула тоже были чрезвычайно государственны. Вот Регул указует перстом в землю – по-видимому, отдает приказ начинать сев. Следующий Регул, приставив ладонь ребром к бровям, то ли обозревает родные просторы, то ли следит за приближением неприятеля, сгорающего от нетерпения разрушить Рим. Удивительно, но среди всех величавых Регулов в тогах только один был в воинском облачении. Ларций поймал себя на мысли, что машинально считает скульптуры, однако скоро сбился со счета.
– … всего их ровно пятьдесят семь, по числу прожитых лет, – скромно признался Марк Аквилий.
Они подошли к дому с тыльной стороны. В этот момент Регул перешел к делу.
– Я не понимаю, зачем надо было силой захватывать мою племянницу. Если она тебе приглянулась, мы могли бы уладить этот вопрос полюбовно.
Ларций, еще переваривающий увиденное, внезапно как бы проснулся. Он испытал острый приступ негодования, однако прежний опыт общения с Регулом позволил сохранить невозмутимость.
– Ты, Марк, по-видимому, неверно извещен о том, что случилось в Субуре. Я со своими людьми спас Волусию от насильников и убийц.
– Ну-ну, не преувеличивай. Чтобы не переливать из пустого в порожнее, хочу сразу предупредить: я все знаю, и не надо обманывать, будто ты вступил в драку из благородных побуждений. Ты, вероятно, следил за моей родственницей? Ждал, когда она выйдет из дома? По крайней мере в суде я буду отстаивать именно такую версию. У меня найдется достаточное количество свидетелей, которые подтвердят, что твои рабы часами следили за домом Кальпурнии. Твоя ошибка в том, что после инцидента ты доставил ее в свой дом. Ты случайно не коснулся ее? Конечно, я тебя понимаю, она очень хорошенькая, но поступить так с невинной девушкой? Римской гражданкой!..
Регул вскинул руки, затем принялся торопливо расхаживать перед гостем.
– Вопреки обычаю, наперекор приличиям и общественному спокойствию!..
Остановился он внезапно, перед самим Ларцием – этот прием Регул часто использовал в суде. Набегается по залу – то к одному зрителю обратится, то другого призовет в свидетели, то начнет втолковывать третьему. Потом бросится к обвиняемому, приблизится вплотную, ткнет в него указательным пальцем и потребует признания. Он и в Ларция ткнул.
– Теперь тебе не выкрутиться. В любом случае суд признает ее твоей наложницей со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я же со своей стороны докажу, что у вас был сговор. Как полагаешь, у вас был сговор или это мне приснилось?
– Волусия будет свидетельствовать, что ты намеревался убить ее и завладеть имуществом жены.
– Ладно, сговор оставим на крайний случай. Значит, похищение с целью принуждения. Подобным образом ты пытался заставить меня отказаться от обвинения твоих родителей. А что, – Марк Аквилий не удержался и потер руки. – Выгодное получается дельце. Имей в виду, Кальпурния никогда не будет свидетельствовать против меня. Почему, тебя не касается, а словам обезумевшей и не разобравшейся в случившемся девицы я противопоставлю слова множества взрослых и трезвых граждан.
Прибавь к этому суд, в котором я – царь и бог. Мои слова потрясают. Когда я начинаю говорить, колонны начинают раскачиваться. Толпа поклонников – или, как выражается плебс, «хор», – под руководством «начальника хора» бурными аплодисментами будет встречать каждое мое слово, а любое твое заявление вызовет гнев толпы. Возгласами, свистом и угрозами они заставят замолчать твоих защитников. Вообрази картину – я встаю и обращаюсь к судьям, указываю на толпу. Вот он, глас народа, вот граждане, оскорбленные в лучших чувствах. Они хотят знать, до каких пределов дошла безнаказанность и долго ли будет торжествовать несправедливость? Римский префект оказался жалким бандитом и негодяем! Они потребуют твоей смерти… если мы не договоримся.
Учти, Ларций, я знаток в соблюдении меры – в данном случае я не буду касаться обвинений против твоих родителей. Это дело государственное, оно будет ждать решения принцепса.
– Каковы же твои условия?
– После того, что случилось, ты просто обязан жениться на обесчещенной дуре. При этом я требую, чтобы Волусия подписала отказ от всякого наследства, которое может оставить выжившая из ума Кальпурния. У моей бывшей жены есть собственный сын, который нуждается в деньгах. Поверь, Ларций, мне лично ничего не нужно. Именно поэтому я провел церемонию освобождения моего Марка из-под своей отцовской власти, чтобы Кальпурния с чистой совестью отписала ему свое состояние.[24] Нам не нужны лишние рты. А вот, кстати, и Марк-младший.
В этот момент из дома выбежал десятилетний мальчик, бросился в их сторону. За ним поспешили два раба, оба были горбаты. Заметив господина, в страхе остановились шагах в десяти. Ларций сразу узнал мальчишку – после скульптур, отражавших недолгую жизнь ребенка, это было сделать нетрудно. Мальчик был весь в отца – такой же узкогрудый, дерганый, однако глаза смотрели живо и ласково.
– Вот Марк, – Регул взял сына за плечо, повернул лицом к гостю. – Познакомься с Ларцием Корнелием Лонгом. Это героический человек! Три войны, награды от самого принцепса, почетное копье, венок, шествие в триумфальной колонне.
– Я слышал о ваших подвигах, префект! – необыкновенно тонким и радостным голосом воскликнул мальчик. – Когда подрасту, я тоже вступлю в армию. Вы не смотрите, что у меня слабая грудь. Я уже занимаюсь гимнастикой. Вот, смотрите, могу стоять на руках.
Мальчик тут же неподалеку от статуи, изображавшей его отца в позе углубленного размышления – правая нога в гигантской сандалии чуть выдвинута вперед, левая рука заложена за край тоги, лицо мрачное, – неловко попытался встать на руки. Не удержался, дрыгнул ногами и упал набок.
Засмеялся.
Ларций тоже, однако улыбка получилась какая-то скомканная, жалкая.
Ему было очень не по себе.
Впервые встретившись с таким отъявленным, изощренным живодером, каким показал себя Регул, Ларций внезапно до озноба ощутил, насколько слаб он в борьбе с подобным противником. Регул подавляюще превосходил его хваткой. Не зря Плиний Младший настаивал: «Регул – это сила! Если он чем-то захвачен, чего только не сделает!.. Если бы эту силу – иначе как назвать подобную целеустремленность – он обратил на хорошее, сколько добра мог бы сделать! Хорошие люди, правда, слабее дурных и как невежество ведет за собой дерзость, а размышления – медлительность, так и честную душу сдерживает совестливость, а негодяй крепнет от своей дерзости. Пример – Регул. Грудь слабая, произношение неясное, язык заплетающийся, соображение медленное-медленное, памяти никакой. Одним словом, ничего, кроме бешеного нрава, но бесстыдством и этим самым неистовством он добился того, что считается оратором. Один из моих друзей чудесно, говоря о нем, перевернул катоново определение оратора: “Оратор – это плохой человек, не умеющий говорить”. Клянусь Геркулесом, он прав».
Ларций не мог отделаться от мысли, что Регул овладел жизнью, как усадьбой Блеза, а рабов калечил для того, чтобы на их фоне особенно впечатляюще выглядели его статуи. В юности, ступая на стезю общественного обвинителя и стража престола, он пытался выцыганить у судьбы дешевенький легат. Когда же фортуна устала воевать с этим напористым, никогда не испытывающим смущение адвокатом и решила отделаться от него толикой удачи, он тут же оседлал судьбу. Погнал лихо, с посвистом.
Регул расставил по Риму свои метки, которые выпирали из каждого угла, как статуи в его аидовом парке. Истина открылась Ларцию сразу, бесхитростная, жеванная-пережеванная – один на один против Регула ему не устоять. Он не спешил придавить Лонгов только потому, что у него было множество других подобных дел, к тому же Регул бы уверен: Лонги никуда не денутся, рано или поздно и до них дойдет очередь.
Где же искать помощников?
Ларций уже пытался обратиться к сильным мира сего, они наградили его полезными советами. Один предложил заниматься гимнастикой, другой – жевать по утрам и вечерам репу. Так же доброжелательно и невозмутимо вело себя и государство – эта огромная и мощная машина. Считала ли власть себя обязанной подсобить Ларцию?
Куда там!
Государство только и знало, что требовать от Лонга крови, денег, героизма, энтузиазма и лярвы знают чего еще. Что же взамен?
Ни-че-го-шень-ки.
Значит, сдаться?
Он вновь жалко улыбнулся.
Выбора не было. В конце концов Волусия хотя бы хорошенькая, а то с Регула станется – мог бы подсунуть ему какую-нибудь уродину, тогда пришлось бы тащить этот хомут до погребального костра. Ларций почему-то сразу и напрочь уверился, что Волусию ему подсунули. Столкновение в Субуре подстроили. Хотелось выть, но поможет ли вой? Боги, покровитель Геркулес, куда вы смотрите?! Даже в женитьбе он оказался неволен и должен плясать под дудку Регула. У него допытывались насчет Траяна: хорош ли испанец, не станет ли он тираном? В окружении таких, как Регул, кто устоит? Покажите мне такого человека! Он должен быть выкован из железа.
Выходит, вся его жизнь – это бесконечное восхищение очередным нероном, домицианом, траяном, которым он по определению обязан восторгаться и отписывать им свое имущество, а те, в свою очередь, вольны делать с ним все, что им заблагорассудится. И то ладно, только не оставляйте один на один с Регулом.
Напрасные надежды! У них другие заботы.
Он отвернулся. Регул не торопил, деликатно дожидался ответа. Мальчик тронул его за рукав.
– У вас что-то болит? – спросил он. – Может, приказать принести воды?
Какой хороший, заботливый мальчишка! Занимается гимнастикой, разучивает стойку на руках. Мечтает пойти служить в армию. Обратил внимание на чужую боль. Везет же старому пню – и сына ему боги подарили! Хорошего, заботливого мальчика.
Он вытер слезы, выступившие из глаз, глянул на Эвтерма. Тот в присутствии господ, властелинов мира, доблестных римлян, стоял как каменный.
Вспомнилась Волусия. Ларция едва не стошнило. Действительно, красота – страшная сила. Как ловко она строила глазки: ах, я бы тоже что-нибудь отведала. Выходит, ему придется породниться с Регулом? Таков оракул? В этом случае Плиний, Фронтон, Руф и подобные им неизбежно отвернутся от него.
Он страстно выругался про себя – пускай отворачиваются! Что хорошего он видел от этих заговорщиков? Они щедры на советы. Это их любимое развлечение. Еще любят расспрашивать: как ты находишь Траяна? А как Траян находит меня, мое положение?
– Я подумаю, – наконец вымолвил он. – В любом случае у меня тоже есть условие.
– Какое? – искренне заинтересовался Регул.
– Если я соглашусь, сделка останется между нами. Никто не должен знать о ней. Кальпурния должна что-то отписать Волусии. Что угодно, пусть что-нибудь ничтожное, но обязательно. Кроме того, ты оставишь в покое моих родителей.
Регул задумался, потер руки и, не в силах справиться с натурой, забегал. Сначала помчался к сыну, обнял его за плечи, как бы провожая, поволок его к дому. Затем, любовно подтолкнув, направил мальчика в сторону стоявшего поодаль домашнего раба.
– Значит так, Ларций. Первое условие принимается, второе отвергается. Я уже сказал, твои родители вляпались в государственное преступление. Пусть нынче Арулен – герой и гордость Рима, и его жена – несчастная страдалица, но на момент ее изгнания она считалась государственной преступницей. Этот факт невозможно опровергнуть. С другой стороны, если ты женишься на Волусии, мы могли бы еще раз обсудить мои справедливые претензии. Итак, я жду ответ.
На том и расстались. Уже за воротами, минуя храм Флоры, Ларций обратился к Эвтерму:
– Ты все слышал? Как быть?
Раб ступал рядом, шествовал как равный. Крепкий, красивый мужчина, умное лицо, крупный нос, никаких видимых физических недостатков. По виду он вполне мог сойти за римлянина – успел прижиться, обтереться в городе. Таких в Риме было подавляющее большинство. Сообразительный раб скоро становился вольноотпущенником, так как только в этом случае он мог проявить свои способности и принести пользу покровителю. При удаче вольноотпущенник прорывался к государственным должностям, а уже его дети вполне могли заседать в сенате.
Эвтерм вздохнул и поделился.
– Регул не уверен в себе.
– С чего ты так решил.
– Слишком много статуй.
– Меня не интересуют статуи. Я спрашиваю, как мне поступить?
– Не надо спешить с ответом.
* * *
Дома Ларция ждало новое испытание. Отправленная утром в дом тетки Волусия после полудня вместе с взбалмошной тетей, решившей немедленно поблагодарить Лонгов за спасение племянницы, явилась в их дом с визитом.
Никто в доме не знал, где утром побывал Ларций. Не знала об этом и Кальпурния, рассыпавшаяся в похвалах префекту и с заметным разочарованием рассматривающая скудное убранство дома Лонгов. Племянница тоже делала вид, что не догадывается о встрече с Регулом, если, конечно, это не было игрой.
Девицу обстановка не занимала. Она время от времени украдкой поглядывала на молодого человека. Ларция буквально корежило от этих взглядов. Волусия находилась рядом и была нестерпимо желанна. Страсть кружила голову. Однако стоило на мгновение вспомнить о разговоре с ее дядей, как Ларция неотвратимо швыряло в бешенство.
Лицемерка и негодница!
Сколько коварства умещалось в таком нежном и таком соблазнительном теле.
Не в силах совладать с собой, он поднялся и, сославшись на хозяйственные заботы, вышел из атриума. Пересек внутренний дворик, называемый перистилем, и оказался в саду, начинавшимся сразу за хозяйственными постройками.
Была весна, цвели вишни. Два века назад их привез из азиатского похода Лукулл. С тех пор деревца прижились в Италии, расплодились и каждую весну осыпали белым цветом предместья Рима. Вот и дед Ларция увлекся чужеземной забавой, он любил эти ягоды, любил сладкое варево из вишен на меду и непременно, чтобы без косточек. Домашние рабы проклинали сезон сбора плодов, когда им долгими днями и ночами приходилось выковыривать косточки. Доставать их следовало аккуратно, чтобы не испортить форму плода.
Здесь, в саду, цвели любимые Постумией Лонгиной фиалки и розы. Стены и две колонны в беседке были обвиты плющом и самшитом. Виноградная лоза густо покрывала проемы между колоннами. Здесь Волусия и нашла Ларция. Осторожно, ни слова не говоря, присела рядом.
Так они и сидели, всматриваясь, как набегавший ветерок смахивал с деревьев бело-розовые лепестки. Не спеша, словно танцуя, лепестки опускались наземь. Пахнуло дымком. Наверное, рабы что-то жгли в перистиле. Волусия закашлялась. Успокоившись, спросила:
– Ларций, чем ты занимался сегодня утром?
Ларций усмехнулся. Вероятно, надеется, что ответит: думал о тебе, драгоценная! Вслух промолвил:
– Был в гостях у твоего дяди.
Девушка испуганно прижала руки к груди.
Ларций продолжил:
– Знаешь, что он мне предложил?
– Нет.
– Жениться на тебе, чтобы спасти твою честь. Кроме того, он потребовал, чтобы ты подписала бумагу, в которой отказываешься от тетиного наследства. Ты знала об этом?
У Волусии на глазах навернулись слезы.
– Нет.
Ларций с интересом глянул на нее, сквозь зубы сплюнул наземь.
– Ловко придумали. Мало того что Регул затянул удавку на шее моих родителей, так он еще подсунул мне бесприданницу и хитрюгу, каких поискать.
Волусия не ответила, молча глотала слезы.
Ларций почувствовал себя неловко.
– Что же ты молчишь?
Девушка наконец справилась со слезами.
– Ты можешь думать все что угодно, но я сказала правду. Я слышала разговор этих ужасных людей. Они искали меня и хотели убить. Мне более ничего неизвестно. Ты обидел меня, Ларций. Ты, который спас меня от гибели и бесчестья, ты, который, не страшась за свою жизнь, защитил меня от разъяренных бандитов. Ты… – она, не в силах продолжать, замолчала, затем глубоко вздохнула и договорила: – Ты обвиняешь меня в лицемерии. Я прощаю тебя. Можешь думать все, что тебе угодно, но благодарность к тебе я сохраню.
Ларций растерялся. Что за денек! Все правда – и ловушка, и западня, и яма, в которую затаскивал его Регул. Не важно, знала об этом Волусия или нет.
– Мне другое обидно, – сказала Волусия. – Неужели ты поверил, что я позволила бы этим грязным животным прикоснуться к себе? Неужели поверил, что за вознаграждение я согласилась бы играть постыдную роль в этом спектакле?
– Знаешь, Волусия, когда я увидел тебя в столовой, я решил, что ты – нимфа и это счастье – видеть такую девушку рядом.
– А сейчас?
– Сейчас не знаю. Не верю. Понимаешь, не верю, что и мне может достаться кусочек счастья.
– А ты поверь, Ларций, – предложила девушка. – Не думай, что я навязываю себя. Я недавно в Риме, и тетя уверяет, что я могу отыскать головокружительную партию. От родителей у меня осталось кое-какое имущество. Мне не нужна головокружительная партия. Мне нужен ты, Ларций, и всегда будешь нужен. Когда я вошла в триклиний, и ты встал мне навстречу, я была так взволнована. Со мной случилось чудо – я поверила, что высшим благом будет для меня входить в этот триклиний, ждать, когда ты поцелуешь меня. Я предложу тебе то, что любишь больше на свете. Что ты любишь больше всего на свете, Ларций?
– Рыбу. Жареную рыбу по-римски, как готовит наша кухарка Гармерида.
– Я буду тщательно следить, чтобы рабыня научилась готовить рыбу по твоему вкусу. Но, Ларций, никогда более я не прощу тебе подлые мысли в отношении меня. Тетя рассказала мне твою историю. Мне кажется, я могла бы помочь тебе.
– Чем?
– Составить твое счастье. Как бы ты ни уставал днем, как бы ни мучился в походах, как бы ни был ранен, я хочу, чтобы ты знал: у тебя есть друг, она ждет. Она верна тебе.
Ларций повесил голову.
– Это противно разуму, Волусия, но это выше меня. Позволь, я сделаю тебе предложение.
– Без всяких условий?
– Без всяких условий. Только ты и я.
– Я согласна, Ларций. Тетю я уговорю. А поступим мы следующим образом. Ты объявишь о помолвке. Мы проведем церемонию, а там видно будет.
Марк Аквилий Регул как ни в чем не бывало явился на обручение. Держался как патриарх, суетился, распоряжался рабами, давал указания молодым, где и как встать, как передать невесте железный перстень – символ скорого брачного союза. Присутствовавший на обряде Плиний Секунд во все глаза следил за сенатором. Сразу после церемонии, во время скромного угощения, устроенного Лонгами, Регул улучил минуту и поинтересовался у Ларция:
– В чем дело, дружище? Я до сих пор не получил ни ответа, ни отказного письма племянницы.
– Не торопи, Марк, – ответил хозяин. – Помолвка – еще не свадьба.
– Что ж, подожду, пока ты вернешься из дальней поездки.
Ларций удивленно посмотрел на него.
– Да-да, дружок, – подтвердил Регул. – Мы ждем тебя с хорошими вестями. Кстати, вдовы убитых тобой людей потребовали расследовать это ужасное ночное происшествие. Я в приятельских отношениях с префектом города, он пока не дал ход этому делу, так что не пытайся меня обмануть.
У Лонга опустились руки.
Глава 7
Известие о скоропалительной и скандальной помолвке Ларция Лонга с «племянницей», как публично именовал Волусию Марк Регул, вызвало замешательство среди сенаторов, поддерживавших Траяна. Во время встречи, состоявшейся на вилле Плиния Младшего в Лавренте, Титиний Капитон прямо заявил Фронтину:
– Не кажется ли тебе, Секст, что, посылая Лонга, мы так или иначе впутываем в это дело Регула?
– Каким же это образом, Титиний? – деловито осведомился старик.
– Тебе лучше, чем кому-либо, известно, что участие Регула, даже косвенное, способно замарать самое возвышенное и благородное предприятие. Добродетель в его руках непостижимым образом превращается в удавку, которой он пользуется, чтобы набить себе карман. Ты же знаешь, как Марк отозвался о нем: «…таким не место возле власти».
– Разве вопрос в Регуле? – пожал плечами Фронтин. – Разве в такие дни, когда судьба государства висит на волоске, его вызывающие смех претензии участвовать в большой политике должны нас волновать? Тебе лучше, чем кому-либо, известно, что по большому счету в решении государственных вопросов Регул – ноль. Даже наши противники, поддерживающие Кальпурния Красса, или те, кто делает ставку на префекта Египта Корнелия Пальму, не желают иметь с ним ничего общего.
Что касается поездки…
Мы никогда не скрывали, что ждем личных указаний Траяна. Это решение вполне могло дойти до Регула, у него повсюду свои люди, так что обвинять в этом Лонга глупо. Теперь тем более нельзя менять посланца. Если Регул прослышал о том, что в преддверии войны мы предлагаем императору разобраться с отребьем, наводнившим город, замена Лонга лишь подтвердит подозрения Аквилия, что дело касается его лично. Вот на что он очень способен – так это внести смуту в сенат. Его хлебом не корми, только дай замутить воду, дай возможность громыхнуть лживой и демагогической речью. Божьим наказанием для нас будет публичное обращение Регула к кому-нибудь из наших сторонников с требованием объяснить, правда ли, что мы и наши друзья настаиваем на репрессиях по отношению к «честным гражданам»? Если же все останется, как есть, наши недруги решат, что мы бродим в потемках, и они сочтут, что у них есть возможность обвести нас вокруг пальца. Но это, так сказать, сопутствующие поездке обстоятельства. Главным в этом деле является сам Лонг.
Доверяем мы ему или нет?
Он дал мне слово, что ни разу, ни в какой форме не сообщал прожженному доносчику о цели своей поездки.
– Я не обвиняю Лонга в пособничестве Регулу, – мрачно усмехнулся Титиний. – Такие, как этот мошенник, всюду пролезут. Я спрашиваю: не будет ли чрезмерным легкомыслием после этой помолвки посылать его к императору?
В разговор вступил Плиний Младший.
– Как раз для того, чтобы такие, как Регул, не встревожились, мы и предложили послать Ларция. Доносчик полагает, что префект у него в руках, мы же полагаем, что никто, кроме Лонга, не сможет убедительно, на собственном примере, изложить императору истинное состояние дел в городе. Кто лучше отставного заслуженного калеки сумеет убедить Траяна, что далее с прибытием в Рим тянуть нельзя. Траян очень падок на воинские доблести.
Фронтин невозмутимо осадил молодого сенатора:
– Это все так, Плиний, но я веду речь о другом.
Затем старик обратился к Капитону:
– Титиний, рассуди, если мы сами, в своем кругу проявим недоверие к верному человеку, чем мы будем отличаться от Регула и подобных ему мошенников? Зачем надо было выстраивать такую сложную комбинацию со Стефаном и прочими убийцами, вольноотпущенниками и рабами Домициана, заигрывать с Нервой, с преторианцами. Вспомни, сколько нам пришлось убеждать Нерву, что лучше Траяна соправителя не найти, пора влить свежую кровь в государственный организм? Зачем было попускать Крассу уговаривать преторианцев на бунт, чтобы те припугнули Нерву. Именно – припугнули – помнишь, Титиний? То, что сейчас происходит в столице, – это форменный бунт с кровопролитиями, с разгулом порочных страстей. Гвардия осквернила дворец, нагло требует дополнительных подарков, сокращения сроков службы? Боюсь, если мы заменим Лонга, он будет вынужден принять жестокое решение, ведь будет задета его честь. В таком случае мы примемся губить граждан собственными руками? Ты этого хочешь, Титиний?
– Разве сейчас можно доверять кому бы то ни было? – скептически сощурился Титиний Капитон.
– В такие времена особенно следует доверять верным людям. Я ручаюсь за Ларция – даже в эти гиблые дни он не перестал заниматься гимнастикой и воинскими упражнениями. Если бы вы видели, как он на полном скаку мечет дротики, как владеет сарматским копьем, у вас тоже не осталось бы сомнений. Собственно, какие тайны он может выдать? Наше послание? Оно выдержано во вполне приемлемых, благочестивых выражениях.