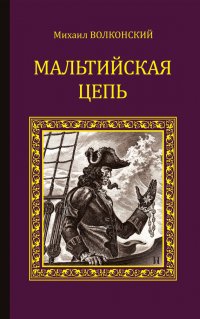
Читать онлайн Мальтийская цепь (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Михаил Волконский
© ООО «Издательство «Вече», 2013
Об авторе
Весьма популярный в конце XIX – начале XX века русский писатель Михаил Николаевич Волконский родился в Петербурге 7(19) мая 1860 года. Он принадлежал к древнему княжескому роду, ведущему свое происхождение еще от Рюрика. Волконский закончил Императорское училище правоведения (1882), служил в Главном управлении государственного коннозаводства, потом – в Министерстве народного просвещения. Однако молодого чиновника привлекала литература, и, добившись успеха на любимом поприще, он ушел с государственной службы. Успех Михаилу принес один из первых его исторических романов «Мальтийская цепь» (1891), сюжет которого автор почерпнул из маленькой заметки в старинной газете. Так сразу же определилась характерная особенность творчества писателя: поразившая его какая-либо яркая деталь, скромный исторический факт разрастаются в волнующий авантюрный сюжет, становящийся стержнем большого романа.
Интерес к истории отечества пробудился у Волконского еще в юношестве под влиянием увлекательных романов и убедительных научных работ его двоюродного дяди Е. П. Карновича, выдающегося русского историка и писателя, блестящего знатока истории русского Средневековья. Михаила заинтересовал прежде всего XVIII век, богатый головокружительными переменами в политике, культуре и нравах общества. Но и в этом авантюрном веке писатель отдает предпочтение двум периодам: восшествия на престол Анны Иоанновны и последовавшим за этим правлением Бирона, а также царствованию Павла. Первой тематике посвящены романы «Князь Никита Федорович», рассказывающий о судьбе одного из предков писателя, «Тайна герцога», «Брат герцога» и др.; времени Павла – романы «Сирена», «Гамлет XVIII века», «Ищите и найдете», «Слуга императора Павла». Были, конечно, романы и повести из екатерининских и елизаветинских времен. К последним относится и одно из лучших произведений писателя – «Кольцо императрицы», где выдумка и реальные события органично перетекают в увлекающий читателя сюжет. Романиста влекла история «неофициальная, тайная, сплетающаяся из целого ряда интриг и отношений, разгадать и открыть которые представляется возможным лишь спустя многие годы». Волконский не просто сочинял авантюрные сюжеты, подернутые флёром истории. Во многих своих произведениях он высказывал концепции, порой отличающиеся от классического «официального» мнения. Так, например, он резко осуждал правление Екатерины II и положительно оценивал деятельность Павла I.
Михаил Волконский получил также известность как талантливый и остроумный драматург. Шумный успех имела его пьеса «Принцесса Африканская» (1900) и созданная на ее основе пародийная опера «Вампука, невеста Африканская» (под псевдонимом Анчар Манценилов), поставленная в 1909 году на сцене театра «Кривое зеркало». Яркий след оставил Михаил Николаевич и в журналистике: в 1892–1894 годах он был редактором популярнейшего журнала «Нива», позднее сотрудничал в газете «Новое время» и сатирических журналах «Виттова пляска», «Плювиум», «Продолжение Виттовой пляски». В начале ХХ века Волконский занялся общественно-политической деятельностью: несколько лет он был активным участником правомонархического движения; в частности, был делегатом III Всероссийского съезда Русских Людей (1906) и председателем петербургского отделения Союза Русского Народа. Скончался князь М. Н. Волконский в революционном Петрограде 13 (26) октября 1917 года после тяжелой болезни. Его творчество в советское время оставалось практически неизвестным широкому читателю. Публикация лучших романов Михаила Николаевича в конце прошлого столетия заново открыла нам замечательного русского автора, умевшего в занимательной форме рассказать о прошлом нашей отчизны.
Анатолий Москвин
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ М. Н. ВОЛКОНСКОГО:
«Мальтийская цепь» (1891)
«Князь Никита Федорович» (1891)
«Брат герцога» (1895)
«Кольцо императрицы» (1896)
«Два мага» (1902)
«Гамлет XVIII века» (1903)
«Сирена» (1903)
«Ищите и найдете» (1904)
«Жанна де Ламот» (1910)
«Темные силы» (1910)
«Забытые хоромы» (1910)
«Тайна герцога» (1914)
«Вязниковский самодур» (1914)
«Черный человек» (1914)
«Записки прадеда» (1914)
«Горсть бриллиантов» (1914)
«Воля судьбы» (1914)
«Две жизни» (1915)
«Слуга императора Павла» (1916)
Мальтийская цепь
Часть первая
I. Первый приступ
Солнце с утра поднялось зловеще-багровым, словно докрасна накаленное ядро, шаром, предвещая непогоду. Попутный ветер, задувший было сначала, засвежел и с каждым порывом становился все упорнее, настойчивее и словно нетерпеливее. К полудню закрепили брамсели и грот. Через час пришлось взять еще по два рифа у марселей – к трем часам начался шторм с ливнем. Огромные, как горы, валы высоко поднимали свой белый гребень, вырастая и рушась, как прозрачные, бурливые, клокочущие живые стены. Они распадались и падали с шумящим, стонущим гулом. Снасти скрипели, дерево трещало. Резкий свист ветра не давал отдыха уху. Погода разыгрывалась.
– Отдать бизань-гитовы! – громким, молодым, радостным голосом кричал в рупор Литта, чувствуя уже в себе тот восторг, который охватывает его, когда начиналось или могло еще начаться настоящее дело, настоящая борьба с любимою, грозною и давно привычною ему стихией. – Тя-яни бизань-шхот…
– Эчеленца[1] хочет привести к ветру? – спросил его старый штурман, приближаясь.
Литта, опустив рупор и придерживаясь и упираясь ногами в скользкую, облитую водою палубу, следил за бросившимися исполнять его приказание матросами.
– Эчеленца… – начал было опять штурман.
На этот раз Литта оглянулся на него и удивленно посмотрел, как бы не понимая, зачем был сделан этот лишний вопрос: для штурмана должно было быть ясно и без того, что значит, когда ставят бизань.
Старик сдвинул на сторону губы и прищурил один глаз, но хитрое выражение его лица сейчас же изменилось, потому что в эту минуту качнуло сильнее и он должен был удержаться.
Он всегда относился к распоряжениям командира с каким-то затаенным недоброжелательством. Ему чрезвычайно хотелось, чтобы командир почувствовал наконец необходимость в его, старого штурмана, помощи или указании, хотя он узнал при этом, что Литта, несмотря на свою молодость, не нуждается в нем. Но он именно не доверял этой молодости и отваге командира и ревновал его к той власти, которою сам не был облечен.
– Сходите посмотреть, как работают помпы! – приказал ему Литта.
– У меня есть дело у руля, эчеленца, я здесь нужнее, – попробовал возразить штурман, желая успокоиться хоть на том, что он по крайней мере необходим и что без него все-таки не справятся.
– Ступайте, куда вам велят! – крикнул Литта.
Старик, слегка вздернув плечами и как бы снимая с себя всякую ответственность, повиновался.
Волны между тем поднимались выше прежнего и то поддевали корвет, став вдруг грозною громадой у одного борта его, и, ухнув, разом вырастали у другого, то, сломившись, упадали с размаха и били с шумом палубу, рассыпаясь по ней пеной, брызгами, ручьями и каскадами, и обдавали своею едкою, крепкою соленою водой все, что попадалось им.
Литта, торжествуя свою борьбу, уверенный в своем «Пелегрино», каждый последний гвоздик которого он давно знал и любил, стоял с развевающимися по ветру длинными, мокрыми прядями черных волос и, высоко закинув голову, отдавал приказания, заставляя повиноваться своему голосу не только копошившихся вокруг него людей, но и исполнявший его желания поворотливый, ловкий корвет. В такие минуты его «Пелегрино» всегда казался ему каким-то живым, действующим существом, понимавшим его и связанным с ним одною, неразрывною жизнью. Ему казалось иногда, что он понимает, как человека, скрип и треск своего «Пелегрино», который, трепеща и напрягая снасти, разговаривает с ним, жалуется или ободряет и сознательно борется с ветрами и волнами.
Первый приступ бури становился все грозней и грозней. Ветер, точно порешивший на этот раз доканать-таки «Пелегрино», рвался на него с ожесточенною, злобною яростью. Волны, вторя ему, кидали, охватывали, били и качали корвет, стараясь, словно вдруг выпрыгнув из засады, неожиданно наброситься на него и смыть с палубы бесстрашных, маленьких, почти неприметных в сравнении с их громадой людей.
Литта закрепил веревками двух матросов, ворочавших руль, и себя к палубе. Борьба завязывалась не на шутку.
На передней мачте лопнули два верхних паруса, и лоскутья их трепались, щелкая, как пистолетные выстрелы. Корвет выбивался из сил, но жалобный, просящий защиты стон его все-таки смешивался с по-прежнему бодрым и громким голосом командира.
II. Буря
Старик штурман, осмотрев помпы и узнав, что вода в трюме прибывает, бросился к борту и с нахмуренным, сосредоточенным лицом, держась правою рукою за вант, послал матроса за «освященными хлебами».
Матрос, оторванный от работы, точно очнувшись, испуганно посмотрел на него.
– За хлеб… – начал было он, но нагрянувшая волна не дала ему договорить.
Штурман видел только, как матрос схватился за протянутую по палубе веревку и скользнул. Когда волна, разбившись и журча, раскатилась, его уже не было.
«Смыла, верно», – решил штурман и невольно взглянул в сторону, где должен был находиться командир – не захватила ли и его волна с собою.
Но тот остался на своем месте, у руля. Теперь там происходила заметная и торопливая суетня – видимо, старались исправить что-то.
«Так и есть – руль!» – мелькнуло опять у штурмана, но он не пошел помогать, считая то дело, для которого он остановился здесь, у борта, еще более важным.
Матрос, уцелевший под натиском волны, явился с тремя маленькими хлебцами, бережно прижимая их к груди, чтобы не растерять. Штурман схватил один из них и, усиленно шевеля губами и шепча какие-то слова, перекинул его за борт, потом схватил другой, третий и тоже выкинул их.
– Что там делает Энцио? Скажите ему, что рано еще – дело вовсе не дошло до этого! – закричал Литта, увидев, что штурман, по старинному поверью и обычаю, бросает в минуту опасности за борт хлебы, нарочно освященные и приготовленные для этого случая.
– Энци-о-о! – сквозь шум и рев бури послышалось на палубе. – Командир зовет к себе.
Как бы в ответ штурману на его брошенный хлеб новая волна с новою силою накатилась на корвет и, ударив со всего маха, разбила катер в щепы.
– Мало ему этого! – проворчал сердито Энцио, стискивая зубы. – Тоже «рано», как же! – и он оглянулся, как бы ища, не найдется ли кто-нибудь, кто выразит ему сочувствие.
Но все были заняты своим делом. Казалось, им некогда было раздумывать, каково положение и насколько оно опасно, хотя Энцио со своими хлебами чуть было не заставил опомниться, оглянуться, прийти в себя и, может быть, вследствие этого потерять голову. Однако резкий крик командира о том, что «рано» еще прибегать к крайним средствам, снова дал толчок общему движению.
Сам Литта в увлечении борьбы, требовавшей одновременно и телесной силы и крайнего умственного напряжения, весь был охвачен этою борьбою и сосредоточенно следил за тем, что нужно было делать, что приказать и где и кто ждал его приказания или ободрения.
– Не бойся, держись! – беспрестанно раздавался его звучный голос, и при звуках его матросы работали дружно, смело и споро.
Волны, не унимаясь, громоздясь друг на друга, продолжали швырять несчастный «Пелегрино». Однако их бешеные остервенелые размахи и усилия казались напрасными – Литта твердо и уверенно вел свой корвет и каждый раз вовремя предупреждал опасность, и «Пелегрино» снова выплывал и качался как бы назло ожесточенному морю.
И вдруг, точно и на этот раз признав свое бессилие и выражая свой гнев безвредною, но страшною бранью, буря сверкнула молнией. За ней раздался трескучий громовой удар, раскатившийся по бурному пространству.
Литта поднял голову и улыбнулся, точно поняв, что непогода била теперь отбой.
Самою большою опасностью угрожало показавшееся увеличение воды в трюме. Литта несколько раз посылал к помпам узнать, как они работают. Воды было по-прежнему много. Уровень ее не понижался, хотя и не шел уже на прибыль. И этого было достаточно: течи не оказалось. К вечеру вода стала заметно упадать. Буря унималась.
III. Новая победа
Граф Литта, усталый и измученный, провозившись целый день на палубе, только к вечеру мог успокоиться. Он сам, когда буря пронеслась, осмотрел корвет, велел при себе заменить изорванные паруса запасными, исправить то, что можно, и, отпустив вместе с Энцио большинство экипажа на отдых, остался с выборными охотниками управлять ходом.
Корвет сильно пострадал во время бури. Многое можно было исправить, но требовалась и серьезная починка в гавани. Несмотря на это, Литта решил все-таки идти прямо в Неаполь и, добравшись до этого города, бросить якорь и тогда лишь начать чиниться.
Уже поздним вечером, когда море, совсем утихнув, ласково плескало, как будто не оно целый день бурлило сегодня, и Литта убедился, что всякая опасность исчезла, он разбудил старика Энцио и, сменив людей, ушел в свою каюту. Он вымылся, переоделся, натер целительною мазью свои исцарапанные, распухшие руки и лег на койку, завернувшись легким одеялом.
Всего лет восемь тому назад он в 1780 году, пятнадцатилетним подростком по годам, но по развитию окрепшим уже юношей, поступил в число рыцарей Мальтийского ордена, принеся с собою значительное имение Северной Италии. С тех пор началась его служба ордену, и мало-помалу, несмотря на свою молодость, он достиг звания командира корвета.
Мальтийский орден, окончив свою долголетнюю давнишнюю войну с Оттоманскою Портою, не слагал оружия и посылал свои суда на крейсерство по Средиземному морю для поимки турецких пиратов, беспощадно грабивших христианские суда. Одним из таких крейсеров был корвет «Пелегрино», которым командовал граф Литта.
Литта заснул на своей койке не скоро. Он слишком устал. А когда наконец заснул он, сон его был тяжел и не спокоен.
Вдруг он приподнялся, широко раскрыл глаза и протер их. В окно каюты гляделся бело-молочный туман, слабо освещенный, должно быть, еще восходящим солнцем. Светало.
Сколько времени проспал он – Литта не знал и не мог понять тоже, отчего он так вдруг, словно его толкнул кто, проснулся, и проснулся с каким-то нехорошим, неприятным предчувствием.
Он, не отдавая себе еще хорошенько отчета, что делает, вскочил, бросился к двери и, выйдя на палубу, остановился, невольно пораженный тем, что случилось в его отсутствие.
Энцио, придя на смену и почувствовав себя полным распорядителем корвета, заходил по юту с сознанием всей важности своего положения.
Ночь была лунная, светлая, море не грозило, но послушно расстилалось вширь, и «Пелегрино» скользил при попутном ветре легко и скоро. Энцио ничего не оставалось делать, как добросовестно и спокойно следить за его ходом; но бездействие томило его.
На его счастье к утру поднялся туман, становившийся все гуще и гуще по мере того, как корвет врезывался в него. Энцио не приказывал сбавлять парусов и шел прежним ходом. Ему казалось веселее управлять, чувствуя возможность опасности и идя, не меняя скорости, не боясь натолкнуться на берег. Он так твердо был уверен в своем знании моря, в своем долгом опыте и в безошибочности курса, которого держался, что желал показать всем и каждому, а главное – самому себе, будто ему все нипочем и решительно все равно – туман или не туман, – и, что бы там ни было, он не только не уступит молодому командиру в уменье управлять судном и вести его, но еще может поучить и тех, кто постарше.
Энцио долго стоял, скрестив руки на груди, и торжествующе улыбался, чувствуя, как скользит ходкий «Пелегрино». Он вспоминал подробности вчерашнего бурного дня и видел себя главным действующим лицом его, твердо уверенный, что буря миновала благополучно, благодаря выброшенным им за борт хлебам.
Наступил рассвет. Туман начал редеть. Энцио самодовольно продолжал улыбаться, оглядывался по сторонам, делая вид, что не дает даже себе труда обращать внимание на те пустяки, которые выпали теперь на его обязанность. Он лениво зевал и потягивался, глаза его смыкались несколько раз и голова опускалась.
С бака в это время неожиданно раздался крик и тотчас замолк. Энцио, вздрогнув, поднял голову. Несколько матросов, стоявших на палубе, замерли, смотря все в одну сторону. Прямо, сквозь быстро редевший туман, виднелся крутой, почти отвесный каменный берег.
Литта вбежал на палубу как раз в эту минуту. «Пелегрино» несся беззаботно, вольно, как ночная бабочка на огонь, – на верную гибель, красиво распустив паруса и быстро сокращая расстояние, оставшееся до каменного берега, о который суждено ему было разбиться с налета.
Энцио, бледный, держался за волосы, глаза его были неподвижны, бессмысленны. Остальные люди, притихнув и съежившись, уставились вперед, понимая опасность и чувствуя и зная невозможность избегнуть ее. Время, казалось, было потеряно; повернуть, лавируя, было немыслимо – не хватало места, и всякий маневр мог только изменить, пожалуй, ту точку, где должен был разбиться корвет, но отнюдь не спасти его.
Этот миг молчаливого, невысказанного, но ясного для всех сознания постепенно, на виду у всех, приближавшейся гибели и полного бессилия избежать ее вдруг сменился ужасом и суетней людей, бросившихся в отчаянии к гребным судам, самое большое из которых было, однако, разбито вчерашнею бурею. Еще секунда, и эти люди потеряли бы совсем рассудок, и тогда исчезла бы всякая надежда.
Литта схватил рупор и, широко размахнув рукою, крикнул тем голосом, которым привык бороться с ревом бури:
– Долой паруса!
Люди дрогнули. Как молния, промелькнуло у Литты впервые в жизни опасение, что они, оробев, не услышат его приказания; но привычка взяла свое: почуяв командира, матросы дрогнули и бросились к мачтам.
– Лево руля! – скомандовал Литта, и «Пелегрино», сразу лишенный парусов, но разогнанный прежним своим быстрым ходом и сохраняя его еще, послушно повернулся от берега.
Корвет был спасен, и Литта стал лавировать, отдавая приказания и забыв об Энцио, который сейчас же исчез в своей каюте.
IV. В Неаполе
Литта благополучно довел свой корвет до голубого тихого Неаполитанского залива, и «Пелегрино» вошел в гавань, распустив свою красную мальтийскую хоругвь с большим белым восьмиконечным крестом.
Исполнив береговые формальности, Литта спустился на шлюпке в город. Более месяца провел он в море, ни разу не сходя на берег; впрочем, последний и теперь не особенно тянул его к себе, но нужны были кое-какие закупки для корвета: необходимо было освежить запасы, побывать у банкира и узнать, нет ли каких-нибудь писем с Мальты.
Оказалось, однако, что время было слишком позднее – все было заперто, и Литта никуда не попал. Только широкая Толедская улица кишела, как всегда, народом праздным, веселым, смеющимся и кричащим на все лады и наречия.
Сначала Литта с удовольствием, как старому знакомому, обрадовался этому вечному, беззаботному шуму и глядел на непрерывный ряд экипажей, гладко катившихся по твердым, пыльным плитам лавы, которою была выложена улица, на мелькавшие носилки со спущенными шторками, на пеструю толпу, откровенно, не стесняясь, показывавшую свою будничную жизнь. Полуголые лаццарони,[2] красиво, однако, драпируясь в свои лохмотья, спали тут же на улице; рабочие раскинули балаганы и занимались своим делом; продавцы макарон, жареных каштанов, кукурузы, примостившись у маленьких очагов, беспощадно дымивших, наперерыв стараясь перекричать друг друга, хвалили и предлагали каждый свое. Менялы и публичные писцы выдвинули свои столики; аквайолы[3] приставали со своею холодною водой, кричали и звенели стаканами.
Все это сразу охватило Литту и перенесло его в совершенно другую, непривычную жизнь, в которой он почувствовал себя чужим, но ему приятно было видеть незнакомые, добродушные лица и слушать вместо плеска и шума однообразной волны этот неумолчный, стоявший теперь вокруг него говор.
Он прошел всю Толедскую улицу и только тогда заметил, что голова его слегка закружилась и глаза устали от двигавшейся все время пред ним пестроты. Но ему хотелось теперь, когда он был уже на берегу, все-таки пройтись по твердой земле, от которой отвыкли его ноги, и размять их. И он повернул в узкий переулок, стараясь придумать себе какую-нибудь цель, куда идти.
Маленькие неправильные улицы и переулки, в лабиринте которых очутился теперь Литта, были в противоположность главной улице тихи и пустынны. Высокие белые дома с плоскими крышами, с балконами вместо окон, сдавливали их, как коридоры, своими стенами. Здесь было душно и грязно. Мостовые никогда не мелись и не чистились.
На набережной в Вилла-Реале было теперь, вероятно, хорошо и дышалось легче, но Литта не шел туда из нежелания встретиться с большинством неаполитанского общества, знакомого ему. Завтра он наденет парадный узкий камзол, стянет горло кружевным жабо и с перчатками и шляпой в руках появится в гостиных; но сегодня он спустился на берег в будничном, простом платье и хотел оставаться сам с собою, свободным… И он нарочно стал выбирать безлюдные, молчаливые улицы.
По странной случайности или просто потому, что он не старался быть внимательным и невольно шел все по прежней дороге, Литта раза два, желая, впрочем, избежать этого, возвращался все на одно и то же место. Оно было знакомо ему.
Домой, на корвет, казалось рано возвращаться – там Энцио опять станет надоедать с чем-нибудь, – и, подумав про Энцио, Литта вспомнил место, где находился теперь.
Пред ним был низенький домик с такою же плоскою, как и остальные, крышею и так же выкрашенный белою краскою. Окна выходили не на улицу, а на противоположную сторону, должно быть, в сад. С улицы были только толстая, обитая железом дверь с каменной приступочкой и небольшое решетчатое квадратное оконце.
Литта устал; ему хотелось пить.
Штурман как-то случайно, в одну из прежних их остановок в Неаполе, говорил ему, что здесь живет старик француз Лагардин-Нике, давно приобретший некоторую известность своим таинственным даром сибиллических предсказаний людям, совершенно ему незнакомым. Впрочем, и кроме Энцио многие знали Лагардина-Нике и рассказывали про него интересные вещи.
Литта узнал домик француза.
«Во всяком случае, он даст мне кружку воды», – подумал он и, взявшись за привешенный на цепочке к дверям молоток, ударил им по вделанному в нее железному кругу.
Сухой, резкий стук заставил дверь слегка дрогнуть. Какая-то птица, испуганно чиликнув, слетела с возвышавшегося за каменным забором темного кипариса, и все опять смолкло.
Литта подождал. Никто не шел отворять. Литта, прислушиваясь, постоял еще некоторое время с поднятым молотком. Ему показалось, что по ту сторону двери тоже стоит кто-то и прислушивается. Литта ударил еще два раза. Большой железный засов с лязгом отодвинулся, потом стукнул замок, и дверь, заскрипев петлями, слегка приотворилась.
– Лагардин-Нике? – спросил Литта.
Дверь отворилась совсем, и гладко выбритый старик с большими, круглыми серебряными очками на остром носу появился пред посетителем. На нем были довольно потертый от времени черный камзол, высокие черные же чулки и башмаки с серебряными пряжками. Совсем седые его волосы блеснули той белою, ровною, не желтеющею сединой, которая свидетельствует об опрятности, требующей внимания и привычки к ней.
V. Лагардин-Нике
Старик ввел Литту по двум ступенькам прохладных, полутемных, узких – так что два человека не могли пройти рядом – сеней в небольшую сводчатую комнату, всю заставленную кругом книгами на деревянных полках. Тут были также склянки с разноцветными жидкостями, маленькие, пузатые, и большие, длинные, астрологическая сфера, свитки пергамента, глиняные горшки и несколько чучел животных.
От всего веяло внушающей к себе уважение древностью, но на всем лежал тот же отпечаток опрятности, которою белели седые волосы Нике, и вовсе не было заметно запаха пыли, ссохшегося дерева и затхлости, того совсем особенного запаха, который свойствен старинным вещам. Большой дубовый стол на четырех витых ножках, высокие кресла, обтянутые кожей, книги в деревянных и пергаментных переплетах были вычищены, убраны, перетерты и размещены в заботливом порядке. Из-за решеток открытых в сад двух узких окон несло олеандром, лавром и миртою. В углу, вроде готического очага, возвышался камин с жаровнею.
Литта, как рыцарь Мальтийского ордена знакомый с оккультными науками, с первого же взгляда узнал эту не чуждую ему обстановку и большинство книг библиотеки Нике. Большой том Альберта Великого сейчас же бросился ему в глаза. Единственно уцелевшее творение Тота-Трисмегиста лежало на почетном месте. Платон, Пифагор, Аполлоний Тианский и целый ряд новейших оккультистов были здесь налицо. Литта увидел, что он имеет дело с человеком, которому действительно могло быть известно нечто.
Нике молча указал ему на кресло у стола и сам сел против него, терпеливо сложив руки и смотря сквозь свои большие очки прямо в лицо своему гостю.
– Говорят, вы способны давать сибиллические ответы? – начал Литта по-французски, выдавая, однако, произношением свое южное происхождение.
– Мало ли что говорят! – ответил старик, пожав слегка плечами и улыбнувшись одними только губами, так что его лицо осталось по-прежнему спокойным.
– Ну, так вот я пришел спросить у вас…
«Я это знаю», – сказал взглядом Нике и, продолжая улыбаться одними губами, наклонился над ящиком в столе, достал оттуда пачку квадратных из чистого картона карточек и подал их Литте.
– Напишите ваш вопрос на латинском языке, если можете, – пояснил он, – или на французском, но только по одной букве в каждом квадрате. Если не хватит карточек, я дам еще.
«Что ж мне ему написать?» – невольно спросил себя Литта, взяв пачку беленьких квадратиков, и, подумав, решил задать самый общий вопрос – что ему вообще предстоит впереди?
Нике отодвинул свое кресло, встал и, закрыв ящик, отошел к окну.
Литта обмакнул перо в чернильницу и начал ставить на каждом билетике по букве: q, u, i, d, m, а… Он написал таким образом целую фразу:
«Quid manet Julium Pompeium Litta?»
– Готово? – спросил Нике от окна.
– Да!
Написав буквы на билетиках, Литта стал тасовать их, чтобы изменить порядок букв.
Старик опять сел на свое место и, опираясь пальцами повернутой руки на стол, ждал, наклонив голову и уставившись глазами поверх своих очков на своего гостя.
Литта, стасовав билетики, передал их ему.
– На каком языке вопрос? – спросил Нике.
– На латинском.
Нике кивнул головою и, быстро перетасовав видимо привычным движением еще раз билетики, начал раскладывать их в большой круг на столе. Буквы были совсем перемешаны. Две і легли рядом, потом m, потом 1 и т. д. в совершенно произвольном порядке. Обложив круг, Нике взглянул на него, потом точно мельком вскинул взор снова на Литту и, взглянув еще раз на буквы, стал поспешно, быстро, как бы бессознательно, выбирать их, складывая билетики на ладонь левой руки и прижимая их пальцами. Так он очень скоро собрал почти все карточки. На столе осталось только пять. На них были буквы: q, d, m, р, m. Нике взял пачку отобранных им букв и стал раскладывать опять их на столе, но в ряд и в том порядке, в котором отобрал их.
Первые два слова вышли: «Multi limi».
– Multi limi, – прочел вслух Литта. – Это что же: «много грязи»? Кажется, так? – спросил он.
– Да, много всяких неприятностей, гадостей, – подтвердил Нике, продолжая раскладывать.
«Ну, это – довольно расплывчатый ответ», – подумал Литта, следя за тем, как слагаются остальные буквы.
Из них вышло еще два слова: «Nuptiae volutivae».
Литта, прочтя эти слова, вдруг откинулся на спинку кресла и рассмеялся, взявшись рукою за грудь. Это предсказание было неудачно до смешного.
– Nuptiae volutivae – «желанный брак»?! – повторил он сквозь смех. – Ну, этого быть не может, этому трудно поверить.
Нике строго взглянул на него и показал на оставшиеся в кругу пять букв.
– Тут еще остаются пять так называемых немых букв q, d, m, р, m, – сказал он, еще раз останавливая взглядом смех Литты, и продолжал: – Они значат: «Quereretur dux: minister primus Malthae», то есть: «Понадобился бы вождь: первый министр Мальты».
Литта перестал смеяться.
– Позвольте! – спросил он. – Кто же это будет первым министром Мальты?
– Тот, о ком вы задали свой вопрос… я не знаю, – ответил Нике равнодушно. – Когда потребуется вождь, он будет избран в трудную минуту министром Мальты.
– Позвольте! Если вы знаете, что я принадлежу к Мальтийскому ордену, – иначе как же я могу быть министром? – то почему же вы предсказываете мне «желанный брак»? Ведь это – два несовместимых обстоятельства.
– Я ничего не знаю, – медленно качая головою, тихо проговорил старик, – я не знаю даже, о ком вы спрашивали и в чем состоял ваш вопрос… Я говорю, что вышло…
– Я спрашивал про себя, – перебил его Литта. – Правда, я состою рыцарем ордена Мальты, следовательно, ваше лестное предсказание о моем повышении возможно; но вместе с тем, как член духовного ордена, я должен был дать обет безбрачия и дал его с глубоким убеждением, которое едва ли изменю… Значит, брак, да еще «желанный», едва ли возможен для меня. Положим, настанет время, что я изменюсь… допустим это. Хорошо. Но обстоятельств ведь не изменишь… из ордена выйти нельзя; а если бы я каким-нибудь путем и вышел даже из него, что невозможно, то как же я буду министром?.. Согласитесь, что одно с другим совсем не вяжется.
И Литта, уверенный, что доказал старику французу всю его несостоятельность и нелепость его слов, встал со своего места. Он убедился, что Нике вовсе не был таким человеком, каким показался ему сначала, и что он годен разве только для суеверного простака Энцио, который может верить ему.
Литта вынул несколько золотых и бросил их на стол.
Востроносое лицо Нике приняло совсем птичье выражение. Круглые очки приподнялись несколько раз.
– Я у вас не просил этого! – показал он на золотые. – Уберите их!
Литта несколько растерянно посмотрел на него.
– Да, да, уберите их! – подтвердил Нике кивком го-ловы.
«Комедия! Хочет поразить меня бескорыстием», – решил Литта и, собрав со стола деньги, снова спрятал их в карман.
– Вот видите ли, молодой друг мой, вы еще очень скоры и горячи, но жизнь научит вас быть осмотрительней, – проговорил Нике и опять кивнул головою, как бы прощаясь с Литтою.
Он по-прежнему казался спокоен и величав.
Литта молча поклонился ему и вышел на улицу.
VI. На вилла-Реале
– Мельцони! Мельцони! Вы знаете, Джулио Литта появился в Неаполе, – сказал молодой дюк[4] ди Мирамаре, догоняя приятеля и останавливая его за локоть.
– Неужели? – обрадовался Мельцони. – Когда вы его видели?
– Сейчас, мельком, на Главной аллее. Ступайте в казино, я приведу его туда! – и придворный дюк ди Мирамаре быстро повернулся на каблуках, а затем скорыми шажками, покачиваясь и развевая фалды своего шелкового кафтана, побежал на Главную аллею отыскивать Литту.
Мельцони и гулявшие с ним, такие же, как он и дюк, разодетые, блестящие молодые люди весело направились в казино, довольные приездом мальтийского моряка, которого все они очень любили.
Граф Литта принадлежал к богатой итальянской аристократической фамилии Милана и был не только не чужой в том обществе, к которому принадлежали эти молодые люди, но, напротив, многие из них завидовали ему и подражали.
Аллеи и дорожки живописной Вилла-Реале были полны народом – не тем, который шумел на Толедской улице, но разодетым в шелк и кружева, блестевшим богатством, вкусом и весельем беззаботной жизни.
Яркое полуденное солнце играло на золоте и каменьях дорогих нарядов, то и дело мелькавших среди зелени высоких акаций, в сквозной тени широких дубов и между стрельчатыми колоннами стройных кипарисов.
Эта Вилла-Реале, привольно и красиво раскинувшаяся по берегу вечно тихого лукоморья, со своими извилистыми дорожками, прямыми аллеями, лужками, куртинами пестрых цветов, причудливыми купами кустарника, мраморными статуями и выдавшимся от берега круглым мыском с чудесною беседкою, – была любимым сборным пунктом всего лучшего неаполитанского общества.
У казино сейчас же собралась целая толпа вокруг Мельцони, занявшего один из столиков.
Литта подошел к ним вместе с ди Мирамаре, который, несмотря на жару и на толпу, отыскал-таки графа и привел его, улыбающийся и усталый, но довольный тем, что его поиски и хлопоты не пропали даром.
На Литте были теперь богатый кафтан, красный, французского покроя, шляпа с белым пером; большой белый мальтийский крест висел у него на груди на широкой черной ленте. Его загорелое лицо и сильное, крепкое, развитое на море стройное телосложение заметно отличалось от худеньких, тощих фигур окружавших его изнеженных баричей, и, хотя видимо было, что он чувствовал себя гораздо больше «дома» в своем простом платье моряка, все-таки кафтан его сидел гладко и красиво, и он носил его с тою уверенностью и простотой, которые достаются лишь долгим опытом светского человека.
– Граф, здравствуйте!.. Джулио, откуда вы? – послышалось со всех сторон навстречу Литте, который пожимал руки, кланялся и улыбался при виде этого общего внимания к его появлению.
Дюк ди Мирамаре представлял ему тех, с кем он еще не был знаком.
– Ну, рассказывай, – начал Мельцони, – правда, в гавани говорят, – вот мне сейчас Беппо сказал, – кивнул он на скромно сидевшего у стола генуэзца, – что твой «Пелегрино» чуть не потерпел крушение… про тебя теперь просто чудеса носятся.
Литта поморщился и, дернув плечами, положил ногу на ногу, слегка отвернувшись в сторону. Он терпеть не мог говорить про себя.
– Кто это? – спросил он, показав на одну из проходивших мимо по дорожке разодетых дам.
На ней было белое платье на фижмах с крупными букетами розанов, и ее напудренные волосы особенно красиво оттенили нежность южного лица и, как смоль, черные брови.
Дюк ди Мирамаре сейчас же объяснил, кто такая была дама и кто был у ней кавалер-сервенте.
– Нет, это что! – проговорил Мельцони и обратился к Литте: – Но вот я тебе скажу красавица…
– Послушай, что ж ты ему о красавицах говоришь?.. Разве это – его дело? – перебил один из молодых людей, глазами показывая на крест, висевший на груди Литты.
Ему, собственно, очень хотелось, чтобы граф рассказал что-нибудь из своих приключений на море.
– Да нужно же его поставить в курс всех наших новостей, – продолжал Мельцони и снова обратился к Литте: – В Неаполе появилась северная красавица, такая, каких мы не знавали еще до сих пор… как ангел Божий… Данте забыл бы свою Беатриче, если бы увидел…
– Ну, однако… – хотел было возразить один из, видимо, ярых поклонников поэта, мечтательный юноша, но Мельцони не дал договорить ему.
– Что-о? – почти крикнул он на мечтательного юношу. – По-вашему, синьора Скабронска не может поспорить с Беатриче?.. Ну я не знаю, но лучшего создания не было еще на земле…
– Не Скабронска, a Skavronskaja,[5] – поправил его с другого конца стола сидевший там гвардеец, – я выучил это имя.
Литта рассеянно слушал, сидя по-прежнему нога на ногу и смотря в даль ослепительно игравшего на солнце залива.
– Господи! – проговорил он. – Удивительно знакомое имя!.. Кто она?
– Жена русского посланника, приехавшего недавно в Неаполь.
– Скавронский! – вспомнил Литта. – Не тот ли, что был в Милане?
– Да, он лет шесть тому назад ездил и чудил по Италии, – пояснил знавший, кажется, все и всех дюк ди Мирамаре.
– С оперой? – переспросил Литта.
– Да, страстный любитель музыки. В ней он, правда, ничего не понимает, но у него была страсть писать оперы и ставить их на театре. Что это было – ужас!
– Я помню, в Милане, – сказал Литта.
– Да что в Милане! Везде он огромные деньги тратил на постановку своих опер; актерам, театру и публике платил – всем. Богат он, как все русские, пожалуй, даже богаче многих из них… Но, представьте себе, до чего у него доходило! Он не только на сцене заставлял за деньги распевать свои произведения, но вся прислуга у него не иначе разговаривала с ним, как речитативом или ариеттами… входит, например, подеста[6] и докладывает…
И дюк ди Мирамаре, войдя окончательно в роль, встал со своего места и на песке дорожки картинно изобразил в действии, как входил к Скавронскому подеста и пел ему, что расходов по дому было столько-то и столько-то еще предстоит; потом – как дворецкий докладывал ему веселой ариеттой, что «кушать подано и стол накрыт, накрыт, накры-ы-ыт».
– Но ведь он не был тогда женат? – спросил Литта.
– Нет, это теперь, приехав уже посланником, он явился женатым.
– Ну, а что же, он и теперь продолжает чудить так? – проговорил молодой человек, которому сначала хотелось послушать рассказы Литты и который, слушая теперь дюка, не жалел уже о них и смеялся самым звонким смехом.
Кругом тоже смеялось несколько молодых голосов.
– Нет, теперь уже не поют у него! – с грустью сожаления протянул ди Мирамаре, и это вышло у него очень комично.
– Но все-таки и на этот раз дело не обошлось без причуд, – сказал Мельцони. – Когда Скавронский приехал в Неаполь – целую гостиницу очистили для него и выгнали из нее всех постояльцев; теперь он переехал уже в свой палаццо, недалеко отсюда.
– И что ж, молодая русская синьора – теперь первая красавица Неаполя и наша молодежь у ее ног? – спросил Литта, прищурясь и смотря на Мельцони.
Последний вздрогнул.
Дюк ди Мирамаре махнул рукой.
– Нет, – ответил он, – ее почти никто не видит: она нигде не показывается. Даже у себя на балах она не выходит. Все приемы делает сам русский посланник, а жены его не видно.
Мечтательный юноша, упорно молчавший после того, как Мельцони остановил его, вдруг заговорил теперь поспешно и живо, боясь, что его опять перебьют и не дадут рассказать то, что он знает и хочет рассказать. И он, торопясь и глотая слова, начал рассказывать о том, что сам слышал от знаменитой художницы, француженки Лебрен, у которой его тетушка заказала себе портрет. Эта Лебрен была в числе лиц, живших в гостинице, которую очищали для приезда русского барина, но осталась там жить, познакомилась со Скавронским и говорит теперь, что русский держит свою жену взаперти, по своему северному обычаю, как деспот, и что бедняжка красавица томится в неволе.
Оказалось, что на эту тему юноша написал уже стихи и хотел было прочесть их, но его опять перебили. Кому-то пришла в голову мысль попросить Литту позволения приехать к нему на корвет. Литта сейчас же пригласил всех к себе; все поднялись и, шумно и весело разговаривая, направились к Спиаджии ди Киайя, где стояли лодки.
VII. Гороскоп
Починка «Пелегрино» шла успешно вперед; осталось в нем сделать еще некоторые незначительные исправления да запастись свежею водою и припасами, чтобы при первом попутном ветре поднять паруса и снова пуститься в море искать беспокойных алжирцев-грабителей.
Литта торопился покончить свои дела в Неаполе, не имея обыкновения долго засиживаться на одном месте.
Он добросовестно «отбыл повинность», то есть побывал три раза на Вилла-Реале, принял у себя на корвете неаполитанских гостей и узнал все новости, заграничные и местные. Из первых главный интерес представляли события во Франции, где как раз в это время происходила знаменитая история с «ожерельем королевы».[7] Относительно вторых – вся суть сосредоточивалась на разговорах о новом русском посланнике и на его жене-красавице, которую он запирал.
Все это, впрочем, начинало надоедать Литте, а потому он настойчиво торопил работы на корвете, реже съезжал на берег и раньше возвращался оттуда, когда съезжал.
Был тихий вечер. Солнце, отливая по небу розовато-желтыми и золотыми красками, спускалось в бирюзовую даль моря, подернутую золотистым же отблеском, и бросало свои прощальные лучи на седластую гору Везувия, окрашивая своим телесно-розовым ласковым светом ослепительно-белую днем ленту громоздящихся друг над другом домов раскинувшегося вдоль берега Неаполя. Литта долго смотрел на дивную панораму, облокотясь о борт неподвижно стоявшего «Пелегрино», и дышал этим легким, чудным воздухом.
Энцио, придя за приказаниями для следующего дня, помешал ему, и он ушел с ним в каюту. Энцио подробно требовал всему объяснений и пускался в длинные рассуждения… Совсем стемнело, когда наконец Литта отделался от надоедливого штурмана.
Там, стоя на палубе, он все время думал о своем почти случайном посещении француза Нике и об его предсказании, пришедшем ему в голову почему-то сегодня.
В самом деле оно было странно, невероятно и немыслимо.
«Ну что за вздор! – остановил себя Литта. – Сказал – не хочу думать об этом, и не буду!»
«А вдруг, – сейчас же, однако, пришло ему в голову, – действительно произойдет такая перемена во мне, и вот когда-нибудь я буду вспоминать, как теперь стоял там наверху, смотрел и думал?»
Он вынул огниво, высек огонь и зажег маленькую лампочку. Каюта осветилась.
Литта подошел к двери, запер ее, потом достал из кармана ключ и открыл им один из вделанных в стене каюты потайных ящиков, незаметно скрытых между досок. Перебрав несколько лежавших там свитков, он взял один из них, подошел к столу и, отодвинув лежавшие на нем карты и чертежи с выкладками и исчислениями, развернул свиток.
Там был изображен разделенный на двенадцать частей круг со знаками зодиака в каждой из них, знаками семи планет и римскими цифрами.
Этот свой гороскоп Литта составил уже давно и знал подробное его толкование, но он также давно не прикасался к нему и теперь хотел возобновить в своей памяти. Он разложил свой лист на столе и, подперев у висков голову обеими руками, стал вглядываться в таинственные знаки планет, вспоминая их значение.
Луна в Близнецах предвещала ему частые путешествия (это сбылось или сбывалось), хорошие способности умственные, но недостаток осторожности и увлечение, которое может повлечь за собой серьезные неприятности. Марс в девятом доме вместе с Юпитером ясно указывал, что он достигнет быстрого возвышения на поприще священного воина, и предостерегал от скрытых врагов, которыми явятся для него духовные лица. Чудесная XI аркана, помещенная в вершине гороскопа, говорила: «Иди вперед с верою, всякое препятствие не что иное, как призрак. Для того чтобы мочь, нужно верить, что можешь, для того чтобы стать сильным, нужно утишить слабость сердца, нужно изучить свою обязанность, которая есть начало всякого права, и лелеять справедливость, как единую любовь свою».
Литта помнил, что составлял свой гороскоп, когда был еще недалек в астрологии, и вдруг ему захотелось теперь проверить, все ли было у него вполне точно и нет ли какого-нибудь пропуска. Поэтому он, взяв фатидический круг и сделав снова цифровую выкладку своего имени, принялся внимательно просматривать гороскоп. Он следил дом за домом и тщательно справлялся, какие планеты должны находиться там. Все знаки, казалось, были на своих местах. Но, дойдя до седьмого дома, Литта остановился, посмотрел на круг, потом на чертеж гороскопа, проверил цифры; не было сомнения – в седьмом доме оказывался пропуск: там должна была находиться Венера… Литта проверил еще раз – первоначальная ошибка его была очевидна.
Он невольно вспомнил особенность, издавна замеченную у всех людей, занимавшихся астрологией, а именно: они, как доктор не может лечить себя самого, не могут никогда вполне точно составить свой собственный гороскоп и всегда должны поручать это другому. Но Литта никогда не желал сделать это.
Значение «седьмого дома» ему было, разумеется, известно: это так называемый дом «брака», и при его помощи раскрываются главным образом сердечные привязанности, семейные связи и порывы.
Литта предугадывал уже и значение Венеры в этом доме, но не доверяя своей памяти, взял книгу ключей и отыскивал подходящий нумер; там стояло прямо: «Завидный брак, хотя поздний. Большое приданое. Долговечность. Мирная старость, окруженная заботами». Это было ясным подтверждением предсказания Лагардина-Нике.
Литта задумался.
Он до сих пор не знал женщин и, приучив себя силой воли побеждать и подчинять себе свои страсти и свою человеческую природу, вышел победителем из борьбы с этой природой, одержал победу, которая принесла ему действительные плоды и дала знания, мощь и степень посвящения в ряду мальтийской иерархии. Воспитанный в традициях таинственного ордена, граф с пятнадцатилетнего возраста привык обуздывать себя и презирать все то, что составляет обыкновенную притягательную силу будничной материальной жизни, и за это получил другое наслаждение в области духа, частица сферы которого была открыта теперь для него, и он не только не хотел покинуть ее, но, напротив, желал все более и более углубляться в нее.
Однако предсказания гороскопа и старика француза смутили его. Что они значили и могли ли они что-нибудь значить? Лагардину-Нике с его сибиллическим ответом Литта не доверял как-то, да и себе самому и составленному им гороскопу тоже не доверял теперь.
«Когда я ошибся, – тогда ли или теперь, может быть, что-нибудь не так?» – беспокоился он и снова принялся за проверку цифр.
Совсем уже рассвело, а Литта и не думал еще ложиться спать. Впрочем, ему не в редкость было просиживать целую ночь напролет за чтением или за каким-нибудь занятием. Он мог проводить до двух суток без сна.
С восходом солнца Литта обошел каюту, спрятал книги и, взяв в карман лист с чертежом гороскопа, вышел снова на палубу и велел подать себе шлюпку.
VIII. Больной
Не торопясь доехал Литта по заливу от корвета до берега, любуясь безоблачным небом и синевою ясной воды. Шлюпка причалила к Спиаджин-ди-Киайя, и Литта, выскочив на берег, стал подниматься в гору.
Тихая теперь, безмолвная Вилла-Реале осталась у него в стороне. Он, минуя большие улицы, прямо направился в тот лабиринт переулков, в котором блуждал в первый день своего появления в Неаполе, и старался вспомнить, где именно был домик Лагардина-Нике, чтобы пройти к нему самым коротким путем. Но это оказалось нелегко. Улицы закруглялись неправильными зигзагами и приходилось иногда чуть не совсем назад круто поворачивать, Литта пожалел уже, что не пошел прямо по Толедской улице.
Наконец он нашел низенький белый домик с дубовою дверью и ударил в нее молотком три раза, то есть нарочно так называемым «треугольным» ударом: сначала один раз и потом, подождав немного, два другие вместе: раз-раз. Из этого стука Лагардин-Нике должен был понять, что не простой гость стучится к нему.
Литта опустил молоток, уверенный, что сейчас отворят ему, но прошло довольно много времени, а дверь оставалась по-прежнему запертою и никакого движения не слышалось за нею.
Литта ударил еще раз. Опять никого и никакого ответа. Он стал опять ждать, прошел вдоль стены; квадратное оконце было высоко над землею: потом тянулась та же высокая каменная толстая ограда, и затем начинались другие дома, такие же тихие, как и домик Нике.
«Умерли они, что ли, все», – подумал Литта и, снова подойдя к двери, ударил по ней молотком.
Эхо послушно, как и первый раз, повторило и этот стук, и все опять смолкло.
«Нет, не достучаться!» – решил Литта и, с неудовольствием уже покосившись на дверь, пошел от нее прочь.
Отойдя несколько шагов, он все-таки оглянулся еще раз, на всякий случай, но, убедившись наконец, что всякое ожидание тут напрасно, решительно двинулся вперед с таким видом, что, отворись теперь дверь, он и тогда, кажется, не вернулся бы.
Он шел, опустив голову, смотря себе под ноги, но не обращая внимания, куда идет, и машинально поворачивая из переулка в переулок. Пустынные и днем, эти переулки теперь были совсем безлюдны, и просыпавшаяся в окружавших их домиках жизнь начиналась пока еще внутри их стен и на дворах, не выходя наружу. Литта мягко ступал по толстому слою отяжелевшей от ночного тумана пыли, густо покрывавшей неровную мозаику лавы, сквозь щели которой и сквозь пыль пробивалась кое-где зеленая травка.
Вдруг он остановился и прислушался. До него ясно долетел протяжный, жалобный стон.
Литта огляделся. С правой стороны от него возвышалась отвесная, гладкая, неказистая, с неправильно расположенными кое-где окошками стена. По ее величине сразу было видно, что это – задняя сторона какого-нибудь палаццо, выходящего своим противоположным разукрашенным фасадом на Толедскую улицу.
Стон повторился еще явственнее, и на этот раз послышался он откуда-то снизу, словно из-под земли.
Литта нагнулся. Почти у самых его ног, внизу цоколя большой стены виднелось несколько окон подвального этажа, обыкновенно отдаваемого в Неаполе купцам под склады или под кофейни и съестные лавки.
Заглянув в окошко (в нем была одна только железная решетка без рамы), Литта увидел в полумраке совсем пустого подвала, нежилого, в углу, под каменным сводом кучу соломы, на которой слабо копошилось что-то живое. Это «живое» был человек. Он лежал, кажется, на спине, придерживая рукою живот, и стеная говорил что-то, словно звал на совсем непонятном для Литты языке.
Литта поднялся от окна и огляделся, не было ли входа где-нибудь. Большие ворота вели, очевидно, во двор. Литта подошел к ним. Они не были заперты. Он вошел. На огромном дворе, у открытого сарая, были экипажи. Какая-то женщина в другом углу вешала белье на веревку. Но на Литту, кажется, никто не обратил внимания, и он, осмотревшись, сам нашел то, что ему было нужно: дверь в подвал с вырытою в земле и обложенною лавою, с забитыми колышками лестницею была налево, почти у самых ворот.
Литта направился к ней и, отодвинув засов, на котором не было замка, спустился в сырой и темный коридор подвала.
Стоны слышались все сильнее. Он шел на них.
Человек лежал все в том же положении, в каком Литта увидел его в окно. На нем была синяя рубашка, и его голые ноги были прикрыты овчиной. Лицо у него сильно распухло, отекло, вокруг глаз виднелись черные круги, особенно казавшиеся страшными. Он испуганно, недоверчиво, но вместе с тем умоляюще-жалостливо смотрел на неожиданного посетителя, низко нагнувшегося над ним, и продолжал что-то говорить на своем непонятном языке. Толстый нос его распухшего лица и в особенности русая борода резко отличались от типа, который привык видеть Литта у себя в Италии.
– Расстегни рубашку, я осмотрю тебя, – приказал Литта больному.
Тот зашевелил чего-то губами и не двинулся, очевидно, не поняв того, что ему говорили.
Литта повторил свои слова по-немецки. Больной опять не понял.
Тогда Литта сам открыл ворот его рубашки, нашел пульс и приложил руку к голове. На груди больного чернели зловещие большие пятна. Он все прижимал рукой живот, показывая, что тут у него болит больше всего.
Литта опустился на одно колено, положив ему опять на голову руку, и, не двигаясь, стал смотреть ему прямо в зрачки. Его черные, блестящие глаза вдруг получили совсем стальной оттенок; рука, которую он держал на голове больного, слегка затряслась, но глаза смотрели еще живее, и еще ярче стал блеск их.
– Водицы бы испить! – проговорил больной.
Литта опять не понял этих слов, произнесенных на чуждом ему языке. Он оглядел больного еще раз и быстро вышел в коридор, направляясь к двери.
Не успел он дойти еще до нее, как сзади, из темного угла, проскользнул в подвал, где лежал больной, другой человек.
– Слышь, Митрий! – шепотом заговорил он. – Ты жив, что ли?
– Жив! – ответил больной.
– Кто ж это был у тебя?
– Добрый человек был.
– Ишь, ведь иностранец, а тоже жалеет… душу имеет человеческую!..
– И что он сделал со мной… и вовсе не знаю, – заговорил опять больной, – но только теперь мне вдруг, братец ты мой, так полегчало, так полегчало!.. – и больной с улыбкой закрыл глаза и замолк. – Кузьма, а Кузьма! Ты здесь? – спросил он, не открывая глаз, через некоторое время.
– Здесь.
– Водицы бы испить мне!.. А ты-то как попал? Встретились вы, что ли?
Кузьма поднес больному кружку и заговорил:
– Иду я к тебе крадучись и вдруг вижу – тальянец; я и притаился в уголку… А може, он и дохтур.
Дмитрий опять вздохнул.
Когда Литта вышел из подвала на лесенку, на дворе его уже ждал толстый, бритый неаполитанец в красном жилете и обшитом галунами камзоле. Очевидно, приход Литты был замечен, и о нем сообщили кому следует.
Литта с неудовольствием, почти враждебно взглянул на этого толстого человека, тоже весьма неласково смотревшего на него, и, отбросив слегка плащ, показал ему свой мальтийский крест на груди.
Выражение у обладателя красного жилета сейчас же изменилось.
– Эчеленца, – заговорил он, потирая руки, приятно улыбаясь и кланяясь, – я пришел, собственно, узнать, что угодно эчеленце?
– Я вижу, мой любезный подеста, что вы очень любопытны, – перебил его Литта, сдвигая брови.
– Но я же должен буду доложить графу, что эчеленца посетили его палаццо, – продолжал подеста, пожимая плечами и весь дергаясь от желания казаться очень учтивым.
– Какому графу? – спросил Литта.
– Графу Скавронскому.
– А! Этот палаццо принадлежит графу Скавронскому?
– Да, эчеленца, послу Ее Величества государыни Русской империи, – с важностью произнес подеста.
– Так, значит, этот несчастный больной – русский, – спросил опять Литта, показывая головою на погреб, откуда только что вышел.
Подеста, как мячик, отпрянул от него и, с ужасом отступая еще дальше, проговорил:
– Эчеленца были у больного?
Литта кивнул головою.
– Но ведь у него оспа, черная оспа! – сильно вытягивая губы и чуть выговаривая слова, как бы боясь, что болезнь пристанет к нему от одного ее названия, произнес подеста, сжимая руки и подгибая колена.
– Я это знаю лучше вас, – спокойно ответил Литта и, запахнув свой плащ, направился к воротам. – Я вернусь сейчас с лекарствами, – добавил он, оборачиваясь, – может быть, можно еще сделать что-нибудь. Да не бойтесь заразы, я приму нужные меры.
IX. Графиня Скавронская
Изо всех многочисленных комнат своего палаццо графиня Екатерина Васильевна Скавронская выбрала одну только небольшую гостиную, выходившую окнами в тенистый сад. Здесь стояла ее любимая кушетка, на которой она проводила полулежа целые дни, одетая в легкий, свободный батистовый шлюмпер и прикрытая собольей шубкой.
Старушка няня со своим чулком сидела обыкновенно в ногах у нее и по целым часам рассказывала те самые сказки, которыми тешила ее в далеком детстве.
Другою собеседницею молодой Скавронской бывала госпожа Лебрен, знаменитая портретистка, познакомившаяся с нею в Неаполе и подружившаяся.
– Так вот, Катюша, – рассказывала няня, – проходит это он мимо нашего дома и слышит, как Дмитрий стонет в подвале. Остановился это он и прислушался… зашел… На Дмитрия-то все рукой махнули, и совсем «собрали» уж его… Тогда у нас переполох было начался, от тебя-то скрыли, а граф хотел уже из дворца-то вашего уезжать. Неровен час, заразища-то, знаешь, как хватит, так ведь беда – ты понять это не можешь. В Питербурхе навидалась я раз, как и выздоровел один, да глаза у него лопнули.
– Ну да! А что ж он-то? – перебила графиня, потягиваясь и закидывая свои красивые, тонкие руки за голову.
– Да что! Посмотрел, говорит: «Может, бог даст, помочь можно», – так и сказал «бог даст»… «Я, – говорит, – приду с лекарствами», – и пришел… А к Дмитрию-то тайком конюх Кузьма бегал; так Кузьму-то он научил, что делать. Своего платка не пожалел, намочил и велел к голове прикладывать… это Дмитрию-то.
– Да уж если себя не пожалел, – улыбнулась Скавронская, – так что ж платок…
– Ну, как же! – протянула няня. – Все-таки батистовый, почитай… И представь ты себе, Дмитрий-то оправляться стал… Он говорит, что мы, может, его тем-то и спасли, что в подвал прохладный положили. «Бог помог, – говорит, – а не я». Дмитрий-то теперь опять человеком стал… «И заразы, – говорит, – вы не бойтесь, потому что я все окурю», – и окурил, а что следовало – уничтожил.
Няня замолчала, застучав своими спицами, а графиня задумалась, все продолжая держать за головою руки и остановившись глазами пред собою, видимо, не глядя на то, на что смотрела. Ее спокойное, с тонким, мягко очерченным профилем личико, на которое она, вопреки моде, никогда не клала румян и белил, было действительно нежно, отливая слегка бледным молочным матом, оттенявшим робкий, мягкий румянец на щеках. Золотистые, белокурые волосы, которые тоже никогда не касалась пудра, вьющимися волнами лежали назад. Полуоткрытые маленькие губы, когда она улыбалась, показывали два ряда ровных белых зубов.[8]
– Посмотрю я на тебя, Катюша, – начала опять няня, взглядывая на графиню и выправляя нитку, – такая ты у меня красавица, и так твоя красота пропадом пропадает – даром совсем… Ну что это – и наряды есть, вот и посейчас не разобраны стоят, и драгоценности разные, ожерелья, браслеты… все есть. Хоть бы в Вилыврали,[9] что ли, пошла – там, говорят, так хорошо… и народ, и все… А то что ж сидеть-то так!
Графиня, по-прежнему улыбаясь, смотрела на старуху, слушая ее вечные сетования.
– Полно, няня, ну что я туда пойду? Зачем? – повторила она всегдашний свой ответ и, повернувшись на бок, потянула на плечо свою шубку, а затем спросила: – Что, граф еще не вернулся?
– Вернулся, вернулся, мой друг, – послышалось в ответ в дверях, и граф Павел Мартынович плавною, балансирующею походкой, на цыпочках, подлетел к жене, нагнулся и поцеловал ее розовый локоть.
– Ты где был?
– На Вилла-Реале, – заговорил граф, жестикулируя (он перенял эту привычку от итальянцев). – Ах, как там хорошо! Все новости, все сейчас узнаешь… Послушай, Катрин, когда я наконец добьюсь того, что мы поедем вместе… куда-нибудь?..
– Ты – точно вот няня, – перебила Скавронская и показала на старуху.
– Ах, няня!.. здравствуй! – обратился к ней граф.
- О, donna amata! О, tu che fui dura
- E la speme, cacciai di mianatura![10] —
пропел он речитативом стихи собственного сочинения для либретто одной из своих опер.
Няня при слове «dura» сердито покосилась на него и проворчала:
– Ну, уж вы всегда, ваше сиятельство!..
– Нет, кроме шуток, Катрин, – снова обратился граф к жене, – ты знаешь, я из верного источника узнал, что говорят, будто я держу взаперти… Представь себе!.. Это я-то, я!.. Ну, скажи, разве я похож на северного варвара, а? – и Скавронский рассмеялся.
Графиня продолжала лежать серьезною.
– Ах, не все ли мне равно, что говорят! – сказала она и отвернулась.
– Да, но согласись сама, что положение посла наконец обязывает, – начал было Павел Мартынович, но запутался, щелкнул языком и снова пропел фальшиво: – О, donna ama-ata…
– А петь так положение посла позволяет? – спросила Скавронская.
Граф прищурился и поджал губы.
– Ну, ничего, дома можно, а? Ведь можно?.. И к тому же я потихо-о-оньку…
– Полно… при няне! – остановила его жена по-французски.
– Ах! То при няне, то без няни! – полураздраженно заговорил он. – Ну, что ж это, и спеть нельзя! Нет, знать, это у тебя от «капризов», как называют это французы… Просто оттого, что ты одна постоянно… Вот и все. Послушай, Катрин, голубушка, – вдруг приступил он к жене, складывая руки и почти на колена сползая с маленького кресла. – Послушай, ну, познакомься ты хоть с кем-нибудь… Ну, позови кого хочешь… Я со дна морского достану, кажется.
Графиня долго молчала, а потом вдруг обернулась к мужу и тихо проговорила:
– Познакомь меня с графом Литтою!
X. Граф Павел Мартынович
Граф Скавронский вышел от жены задумчивый и серьезный.
– Позовите ко мне Гурьева, Дмитрия Александровича, – приказал он мимоходом лакею, попавшемуся ему на дороге, и, миновав длинный ряд роскошно разукрашенных комнат и зал великолепного палаццо, направился в свой кабинет.
Этот кабинет – просторная комната, обставленная кругом дорогими шкафами с книгами, – носил характер тех кабинетов, какие обыкновенно бывают только у очень богатых людей и в которых, несмотря на то что там кажется все придуманным и приспособленным – каждый столик, даже винтик – для занятий, менее всего занимаются серьезным делом. Тут было все: и фигурные бронзовые чернильницы, из которых неловко писать при настоящей деловой работе; и покойные большие кресла с выдвинутыми столиками, очень удобные для дремоты после обеда, но никак не для чтения; и столы, заваленные планами, бумагами и картами, значение которых смутно понимал сам хозяин; и книги в слишком красивых и тяжелых переплетах, чтобы пользоваться ими часто.
Скавронский сел к широкому круглому письменному столу и начал было бегло просматривать попавшиеся ему под руку бумаги, но вскоре оставил это занятие.
Было очень жарко. Павел Мартынович несколько раз вытер себе лоб платком. Он попробовал потом снова и с усилием приняться за бумаги, но махнул рукою, широко зевнул и стал задумчиво смотреть в окно, подперев голову рукою и опершись на локоть.
Маленькая дверь за шкафом скрипнула, и в комнату тихо и скромно вошел средних лет человек с умными, строгими чертами лица и, потирая руки, не спеша, словно отлично зная себе цену, приблизился к столу.
– Дмитрий Александрович, – заговорил Скавронский, – что же вы! Я вас жду, жду… у меня дело к вам есть, а вы не приходите.
Гурьев равнодушно улыбался и, по-прежнему не спеша, опустился на стул по другую сторону стола.
– Дело, так дело… посмотрим, в чем оно! – ответил он.
Скавронский несколько раз повернулся на своем месте, собираясь говорить:
– Вот видите ли… я сейчас от графини…
Дмитрий Александрович кивнул головою.
– Она ужасно скучает, – продолжал Скавронский. – Согласитесь, что не может же она оставаться так навсегда без общества… это немыслимо, и притом такое ее одиночество создает мне репутацию северного варвара, дает почву слухам о том, что будто я ее держу взаперти… Согласитесь, это невозможно… Мое положение посла…
Гурьев закивал головою с выражением, что он-де совсем согласен с графом, тем более, что знает уже заранее все то, что тот хочет сейчас сказать ему.
– Ну да, и что же вы хотите сделать? – спросил он Скавронского.
Тот пожал плечами.
– Я думаю, если у нее нет общества, то нужно познакомить ее с кем-нибудь… Ведь нельзя же оставлять ее постоянно с няней да с этой француженкой Лебрен. Положим, мадам Лебрен – вполне достойная женщина, но положение мое как посла…
– Ну и прекрасно! – снова перебил Гурьев. – Значит, представьте графине сначала часть неаполитанского общества, потом еще, и так перезнакомьте ее со всеми.
Скавронский, хитро прищурясь, как будто вот тут-то он и поймал Дмитрия Александровича, закачал головою и помахал пальцем:
– Нет-с, этого-то она и не желает. Если бы дело только в этом заключалось!.. Нет, Дмитрий Александрович, тут вот и вопрос.
– Какой же вопрос? Что же угодно графине?
– Я думаю, что графиня не знает сама, что ей угодно; все это – капризы, происходящие от уединения. У нас тут был больной конюх Дмитрий. Его вылечил командир мальтийского корвета Литта…
– Знаю, – опять кивнул головою Гурьев.
– Ну, так вот ей хочется познакомиться с этим Литтою. А сам я не знаком с ним… как нарочно, мы не встретились нигде, да в последнее время его, кстати, совсем нигде и не видно… и кроме того, насколько я знаю, корвет не сегодня завтра уйдет в море…
– Да просто поезжайте к нему на корвет поблагодарить за то, что он вылечил вашего слугу. Он должен будет тогда приехать к вам.
– Ах, Дмитрий Александрович, – снова перебил Скавронский, как бы обрадовавшись, что имеет уже готовое возражение теперь против слов Гурьева, что вообще редко случалось с ним. – Вы говорите – поехать. Но как же я поеду, когда граф Литта не заблагорассудил пожаловать ко мне на мой зов? Когда он случайно, как мне рассказывали, вошел в подвал к Дмитрию, подеста встретил его и узнал, кто он; потом, когда Дмитрий выздоровел, я велел подеста пригласить графа Литту ко мне, и он велел благодарить, но не показывался ни разу в моем палаццо. Как же теперь я поеду? Согласитесь, что мое положение посла…
И Скавронский заговорил про свое положение посла пространно и подробно, потому что сидевший теперь молча Гурьев смотрел, поджав губы, мимо графа в окно и, медленно покачивая ногою, не перебивал его.
– Ну, так, значит, пусть этот граф Литта уезжает – и вы представьте кого-нибудь другого на его место… мало ли народа в Неаполе? – проговорил наконец Дмитрий Александрович, вспомнив, что нужно же было ответить Скавронскому.
Он в эту минуту думал совсем о другом и совсем было забыл о тех пустяках, о которых беспокоился теперь Скавронский, воображавший, что это – серьезное дело.
– И не думайте! – воскликнул тот. – Нет, графиня желает познакомиться именно с Литтою. К тому же я дал слово… я дал слово достать ей кого она пожелает, хоть со дна моря, а теперь, как видите, не могу получить Литту с поверхности залива, где качается его «Пелегрино»! – и довольный своим «jeu de mots»,[11] граф откинулся на спинку кресла и рассмеялся. – Так вот видите, – заговорил он опять, снова становясь серьезным, – я дал слово и должен сдержать его, понимаете, должен… во что бы то ни стало…
Гурьев отмахнулся рукою, как от неотвязчивой мухи.
– Ну хорошо, – сказал он наконец, – если вы непременно хотите, я проеду к этому Литте. У России есть сношения с Мальтийским орденом. Я к нему поеду будто по делу. Еще в шестьдесят четвертом году, если не ошибаюсь, государыня писала нашему посланнику в Вене Голицыну о вызове охотников из мальтийских рыцарей на службу в русском флоте; можно хоть к этому придраться.
– Ну, вот видите ли, как это хорошо! – радостно заговорил Скавронский. – Так, голубчик Дмитрий Александрович, поезжайте сегодня же… поскорее… Ведь вы понимаете, не дай я слово…
И граф Скавронский долго еще уговаривал Гурьева непременно поехать поскорее, хотя тот и без того сам же первый выразил свою готовность и, видимо, весьма желал сделать графу приятное.
XI. Берег или море
Поездка Гурьева к Литте увенчалась полным успехом. Дмитрий Александрович сумел поговорить с мальтийским рыцарем и действительно нашел уважительную причину для начала сношений его с русским посольством в Неаполе. Литта на другой же день обещал приехать к Скавронскому.
«Пелегрино» был совсем готов к плаванию; провизия, вода взяты, исправления все окончены, оставалось лишь ждать попутного ветра, и Энцио, придя к командиру, получил приказание быть каждую минуту готовому со всем экипажем, чтобы пуститься в путь.
Отплывая на шлюпке на берег, чтобы отправиться, как было условлено с Гурьевым, в палаццо русского посланника, Литта был в полной уверенности, что он в последний раз в этот приезд в Неаполь сходит со своего корвета. И только благодаря этой уверенности он снова надел свой узкий парадный кафтан и тяжелую шляпу с перьями.
На Спиаджии-ди-Кияйя, куда пристала шлюпочка Литты, его ждали золоченые носилки русского посольства, которые скоро и покойно доставили его до палаццо графа Скавронского.
Сам граф Павел Мартынович встретил мальтийского рыцаря на лестнице и провел его в свой кабинет, где дожидался их Гурьев. Но они делом не занялись.
– По русскому обычаю, граф, – заговорил Скавронский, – прежде дела позвольте пригласить вас прямо в столовую, запросто, как дорогого гостя.
– Мне некогда, – попробовал было возразить Литта, – я с минуты на минуту жду поднять паруса и потому должен вернуться на корвет как можно скорее.
Но Скавронский замахал на него руками, заговорил, запросил и, снова сославшись на обычай, сказал, что ни за что не отпустит гостя и не станет вступать с ним в деловой разговор, не покормив его предварительно.
Толстый, знакомый уже Литте подеста появился в это время у двери и с важным поклоном заявил, что «кушать подано», Скавронский схватил Литту под руку и почти насильно повел его в столовую.
Они проходили комнату за комнатой, одну лучше другой, то обитую штофом, то покрытую белоснежным мрамором с бронзовыми украшениями, то сплошь увешанную дорогими венецианскими зеркалами или картинами лучших мастеров. У каждой притолоки стояло по два напудренных лакея в богатых ливреях, расшитых галунами. Они методично, как автоматы, широко распахивали двери, с поклоном пропуская господ.
Литта, по первому взгляду на Скавронского пожалевший было, что приехал сюда, теперь невольно ощущал некоторое неудовольствие от впечатления окружавшей его роскоши. Эта роскошь, в которой жил русский вельможа, не могла не поразить даже его, выросшего на паркете богатейших дворцов Милана.
Столовая, куда ввел Скавронский своего гостя, была вся заставлена цветами и растениями, и все стены ее были покрыты полками с массивною золотою и серебряною посудой. Круглый стол, тесно уставленный серебром, фарфором и хрусталем, был накрыт на четыре прибора.
Почти в то же самое время, как граф Павел Мартынович, Литта и Гурьев входили в столовую с одной стороны, дверь на противоположном конце отворилась, и в ней показалась графиня Скавронская, против своего обыкновения пышно разодетая, такая, какою муж уже давно не видел ее.
При первом же взгляде на графиню Литта должен был сам себе сознаться, что все слышанное им про красоту Скавронской было не только истинною правдой, но что графиня на самом деле была еще лучше, чем говорили про нее.
Граф Павел Мартынович с самодовольною, торжествующею улыбкой познакомил своего гостя с женою, как бы говоря ей этою улыбкой: «Вот видишь, мой друг, я обещал и исполнил свое обещание».
Странное дело: граф Литта, сколько раз уже на своем веку видавший близко опасность и на море, и в перестрелке, и в рукопашной схватке с алжирцами и никогда не робевший пред смертью, с которою судьба часто ставила его лицом к лицу, почувствовал с первой же минуты какое-то особенное, похожее на смущение, чувство пред этою красавицей далекого, холодного севера. Он ощущал совершенно особенную неловкость и когда здоровался с нею, и когда сел за стол и, расправив салфетку, заложил ее конец за верхнюю пуговицу своего камзола… Его глаза опустились, он потупился и, сердясь на самого себя, готов был в один миг даже покраснеть, как мальчик, но сделал над собою усилие и пришел в себя.
Он не мог знать, что в это время лицо его как раз выражало совсем противоположное, и он казался не только спокойным, но даже равнодушным, холодным, и эта холодность его заставила слегка, в свою очередь, робеть и хозяев, и Гурьева.
Заговорил первым Скавронский:
– Вы слышали, граф, что делается во Франции? Представьте себе, кардинал де Роган…
– Графу, по всей вероятности, известна история с ожерельем, – подхватил перебивая Гурьев, видимо, из боязни, чтобы Скавронский не рассказал чего-нибудь лишнего.
Литта ответил, что знает об этой истории.
– Я, собственно, виню до некоторой степени королеву Марию Антуанетту, – продолжал Скавронский. – Знаете, я бы так, разумеется, не сказал этого… но между своими – ничего, можно.
Он снова хотел пуститься в рассуждения, и снова Гурьев перебил его и замял разговор.
Графиня несколько раз взглядывала на мужа и тоже заметно была готова прийти на помощь ему, если бы один Гурьев не управился. Но тот, впрочем, очень ловко выводил каждый раз графа на настоящую дорогу.
Скавронский не замечал этого, ел очень много, разговаривал больше всех, часто смеялся и большею частью невпопад.
Литте вдруг стали ясны с первого же знакомства со Скавронскими все их семейное положение и роль, которую играет тут сам богач граф, и почему его жена никуда с ним не показывается. Он не мог не видеть, как она страдала при каждом неловком слове мужа, как силилась скрыть свою досаду и как старалась загладить впечатление, производимое им. Литта понял, что она не только красива, но и умна, и еще внимательнее взглянул на нее.
Графиня случайно поймала этот устремленный на нее взгляд его и внезапно потупилась, и легкая краска покрыла ее лицо.
Первую женщину встретил теперь Литта, в присутствии которой казался себе совсем другим человеком, и она словно была совсем не похожа на других.
«Нет, решено, – думал он, глядя на графиню, – вздор, пустяки… Завтра, если только будет попутный ветер, мы выходим в море».
Завтрак продолжался очень долго. Павел Мартынович был радушный хозяин и угощал и потчевал Литту как умел и чем мог. Тот ел немного, но время для него прошло очень скоро, и, когда наконец они встали из-за стола, он не только уже не жалел, что сдался на приглашение Скавронского, но, напротив, ему было жаль, что завтрак кончился и он должен уйти и оставить общество молодой графини.
Вернувшись на корвет, Литта был весел и счастлив, точно его наградили или обрадовали чем-нибудь.
«Что за вздор! – решил он было, однако тут же мысленно прибавил: – А ведь очень хороша… очень… И досталось же этакое счастье этому русскому синьору… Ну, впрочем, и дай бог ему!»
Литта прошел прямо к себе в каюту, чтобы переодеться.
Через полчаса к двери его каюты подошел Энцио и постучался.
– Кто там? – послышался голос Литты из-за двери.
– Эчеленца, все готово и удобный Tramontane[12] начинает ласкать наши паруса, – веселым голосом проговорил Энцио. – Прикажете сниматься?
Энцио замолк в ожидании ответа, но Литта ответил не скоро. Слышно было, как он сделал несколько шагов к двери, потом назад, потом снова все стихло, наконец его звучный голос проговорил:
– Закрепите якорь – мы не идем сегодня в море.
XII. Карнавал
Прошло две недели. Время веселого карнавала уже наступило, а «Пелегрино» все еще стоял на месте и не развевал своих парусов, хотя попутный ветер несколько раз подымался, и Энцио приходил к командиру спрашивать его приказаний; но Литта откладывал со дня на день отплытие и, каждый день съезжая на берег в шлюпке, проводил там большую часть времени.
Этой неожиданной перемены в своем командире не мог не заметить и экипаж судна; среди матросов пошли тихие разговоры и догадки, почему и зачем граф Литта вдруг пристрастился так к берегу.
Энцио своим старческим опытом уже предугадывал причину этого; он несколько раз тоже побывал на берегу и, не встретив нигде Литты – ни на Вилла-Реале, ни в театре, ни в другом каком-нибудь общественном месте, – еще более убедился в справедливости своего предположения. Теперь, казалось ему, командир был в его руках – оставалось лишь проследить, чьи прекрасные глаза обладают такою магнитною силой, которая способна парализовать движение целого корвета.
Карнавал гремел всем своим шумом, песнями и гамом по улицам Неаполя. Веселые импровизаторы, взобравшись на возвышение – на какую-нибудь бочку, стол и опрокинутый ящик, – потешали публику своими рассказами; чарлатани[13] громче обыкновенного кричали на рынках, простой народ забавлялся играми, бросал шары и тешился несложною ла-морра.[14] Тамбурины и гитары звучали своею однообразною, но веселою музыкой, и под эту музыку вертелась и прыгала традиционная тарантелла, в которой в минуту разгула вдруг неистово отводит душу ленивый итальянец. Смешные и забавные маски, арлекины, пьеро мелькали по улицам, заговаривали друг с другом и пели игривые песни карнавалу, то есть прощанию с мясом.
Энцио с утра отпросился на берег под предлогом поглазеть на праздник.
Явившись в город, он в первой попавшейся лавчонке взял себе напрокат белый костюм пьеро и длинноносую маску и, нарядившись в этот костюм, так что узнать его не было возможности, направился снова к Спиаджи-ди-Киайя, куда обыкновенно приставали все моряки. Он знал, что и сегодня Литта по обыкновению причалит к берегу; и сегодня можно будет под прикрытием проследить, куда это ходит он и кто держит молодого графа в Неаполе.
Энцио сел в тени раскидистого дерева на берегу, чтобы издали следить за приближением шлюпки с «Пелегрино».
Литта действительно не заставил себя долго ждать. Энцио сейчас же узнал небольшую шлюпку командира, спины двух налегавших на весла гребцов и самого Литту, задумчиво сидевшего на руле. Граф, разумеется, не был замаскирован. На нем было его обыкновенное одеяние рыцаря с белым крестом.
Шлюпка причалила к берегу. Литта легко выпрыгнул из нее и скорыми, свободными шагами, напевая себе под нос и почему-то улыбаясь, пошел в город.
Энцио выждал некоторое время и направился за ним.
Они скоро вошли в гудевшую толпу, но Энцио не отвечал на шутки и задиранья масок, сейчас же начавших приставать к пьеро, и внимательно следил за пробиравшимся пред ним сквозь толпу Литтою.
Граф шел, видимо, привычною, давно знакомою дорогою и не глядел по сторонам. На Толедской улице, несмотря на то что здесь толпа была теснее, он ускорил шаг. Энцио следовал за ним по пятам.
Вдруг небольшая толпа масок загородила Литте дорогу. Маски отличались своими костюмами от остальных, и по этим костюмам можно было догадаться, что они принадлежат к высшему обществу.
Один из этой толпы, в фантастическом костюме турка, прямо остановился пред Литтою и, видимо, стараясь изменить свой природный голос на густой бас, проговорил:
– Граф Джулио Литта, остановись, ибо мы знаем, куда ты идешь.
– Синьоры Скавронской дома нет, – добавил кто-то сзади.
Энцио насторожил уши.
– Напрасно обивать пороги русского палаццо, когда у нас и своих красавиц довольно, – заметил со смехом еще один голос из толпы.
– Граф Джулио Литта, вылечи меня – у меня оспа! – пробасил снова турок.
Литта сразу догадался, с кем имеет дело. Очевидно, это были те самые молодые люди, которые давно воображали себя достойными внимания русской синьоры, и теперь, под прикрытием маски, желали почему-то сделать ему дебош. Он видел уже и понимал настроение этих господ, так и ждавших теперь случая пристать к нему, и старался лишь угадать, кто бы это мог быть.
И вдруг ему показалось, что Мельцони должен быть непременно среди них. Он скрестил руки на груди и, подняв голову, проговорил:
– Немудрено, что вы узнаете меня с непокрытым лицом; но если вы искали случая оскорбить меня, то по крайней мере откройте и свое лицо, чтобы я мог видеть, с кем имею дело. Синьор Мельцони, я вам говорю это, – добавил вдруг Литта, ни к кому, впрочем, не обращаясь особенно из толпы, которая остановила его.
Рука турка слегка дрогнула. По тому возбуждению, которым была охвачена эта толпа, и по тому, как вдруг вспыхнул Литта, Энцио не мог не заметить, что дело тут выходило гораздо серьезнее обыкновенного столкновения масок во время карнавала.
– Тут нет синьора Мельцони, – проговорили опять сзади, но движение руки турка не ускользнуло от Литты.
– Синьор Мельцони, если вы скрываетесь, то вы – трус, – проговорил он ему.
Турок двинулся слегка вперед.
– Что? – запальчиво проговорил он, выдавая себя теперь и своим движением, и голосом.
Кругом заметили, что шутка начинает принимать размеры, переходящие границы благоразумия, и сейчас же заговорили в примирительном духе.
– Ну, что это! Ну, полноте! Ведь никто не хотел оскорбить вас, граф, – раздался из-под одной маски успокоительный голос дюка ди Мирамаре. – Ну, что же вы?..
Мельцони снял маску и сказал Литте:
– Если вы считаете себя оскорбленным, то я к вашим услугам, когда угодно.
Граф холодно поклонился.
– Да полноте же, господа! – проговорил опять ди Мирамаре, но Литта спокойно раздвинул толпу и, сказав Мельцони, что об условиях пришлет переговорить с ним своих секундантов, направился к палаццо русского посланника.
Толпа замаскированных молодых людей осталась как бы в недоумении. Они вовсе не ожидали, что выйдет такая история. Они просто, случайно встретив Литту почти у самого дворца Скавронского, хотели пошутить, посмеяться, вовсе не думая, что заденут слишком за живое графа и что тот сделает вызов.
Один только Мельцони, казалось, был очень доволен всем случившимся и нисколько не сожалел, что все так вышло.
Впрочем, дуэль и для него, и для остальных молодых людей была слишком обыкновенным эпизодом, чтобы чересчур волноваться из-за нее; но все-таки в данном случае нельзя было не сознаться, что почти не было никакой видимой причины для поединка. Правда, многие знали, что Мельцони всегда охотно заговаривает о красивой русской синьоре и много раз искал даже случая познакомиться с нею, хотя безуспешно, и что, с тех пор как Литта стал бывать у Скавронских, он начал относиться к графу с недружелюбною завистью. А этого было слишком достаточно, чтобы малейшее столкновение перешло в открытую вражду… И ввиду этой, понятной теперь всем, скрытой причины никто не пытался заводить речь о примирении.
Энцио слышал все от слова до слова и понял, из-за кого состоится дуэль. Он видел также, куда теперь отправился Литта.
Мельцони, как ни в чем не бывало, надел свою маску и, стараясь казаться особенно оживленным, чтобы показать, что только что случившееся маленькое происшествие отнюдь не должно смущать его спутников или нарушать общее веселье, пригласил их идти вперед, указав на какую-то маску, ласково поглядывавшую на них.
Энцио пошел за ними.
В конце Толедской улицы он ближе протерся к молодым людям и незаметно для других тронул за руку Мельцони. Тот невольно обернулся.
– Синьор, – шепотом проговорил Энцио, стараясь изменить свой голос, – на два слова.
Мельцони удивленно посмотрел на этого большого белого пьеро в носатой маске, остановившего его довольно бесцеремонно, и спросил:
– Что тебе нужно?
– На два слова, синьор… вы не будете раскаиваться в том, что поговорите со мною, – и, шепнув затем: – Паперть Сан-Дженарро – я буду ждать. – Энцио, боясь быть замеченным остальными молодыми людьми, смешался с толпою…
Этот таинственный шепот носастого пьеро заинтересовал Мельцони. Не разбирая и не силясь разгадать, кто бы это мог быть – посланный ли по какому-нибудь любовному приключению, или мазурик, рассчитывавший завлечь его в западню (в Неаполе это бывало не в редкость), или же просто шутник, пожелавший заставить его прогуляться понапрасну до собора Сан-Дженарро, – он, сказав остальным, что встретится с ними в их обычном казино, отправился-таки на паперть Сан-Дженарро.
Там ждал его Энцио, одетый по-прежнему в свой костюм и замаскированный.
– Ну, говори!.. Только скорее, мне некогда, – сказал ему Мельцони. – В чем дело?
– Одна секунда, синьор, все очень просто… У синьора будет поединок.
Мельцони поморщился. Ему неприятно было, что этот человек из толпы, вероятно, видел его столкновение с Литтою.
– Синьор, конечно, очень ненавидит графа Литту, – продолжал между тем Энцио.
– Почему ты это знаешь и что тебе за дело? – перебил его Мельцони.
– О, синьора русская очень хороша собою!
Энцио видел, как блеснули при этих его словах глаза Мельцони под маскою.
– Ну, так что ж тебе нужно? – снова спросил тот, помолчав.
– Того же, что и вам: я был бы очень рад, если бы граф Литта… – и Энцио щелкнул языком и мотнул головою.
– Ну, и желаю тебе удачи! – произнес Мельцони.
– Черт возьми, синьор, у вас под чалмою есть же голова и в ней мозги – пошевелите ими, – повторил Энцио старую итальянскую поговорку. – Дело в том, что граф Литта отлично дерется на шпагах… Против его удара никто не устоит…
Мельцони слушал теперь не перебивая.
– Я бы желал сообщить синьору средство, – продолжал Энцио, – верное средство… как оградиться «навсегда» от этого удара графа Литты.
– Та-ак! – протянул Мельцони. – Ну, теперь я знаю, зачем ты меня позвал… Это, брат, – старая штука…
И, решив, что имеет дело с ловким проходимцем, случайно присутствовавшим в толпе при сделанном Литтою вызове и желающим получить теперь несколько золотых за сообщение какого-нибудь вздорного талисмана или магического слова, Мельцони повернулся и хотел спуститься с паперти.
Энцио схватил его за рукав и торопливым шепотом заговорил над самым его ухом:
– Синьор, синьор, мне не надо денег, мне никаких денег не надо… Что вы, клянусь вам Мадонной… вы только выслушайте меня… пусть святая Лучия будет свидетельницей.
Мельцони остановился.
– Слушайте, синьор, – зашептал опять Энцио, – вы мне только сообщите час, когда будет ваша дуэль, – мы после условимся, как, – и графу Литте будут даны хорошие капли; эти капли не смертельны, но они произведут хорошее действие. Как только кровь его разгорячится борьбою, так они подействуют – он ослабнет… Вы только ждите этой минуты и все старание употребите на защиту, а как только увидите его слабость – делайте выпад. А чтобы удар был верный и достаточно было малейшей царапины – для вашей шпаги мы достанем несколько капель настоящего индийского кураре… Вы, конечно, знаете силу этого яда? Нет?
И Энцио стал рассказывать о замечательных свойствах индийского яда, в котором достаточно помочить кончик иглы, чтобы она в течение пяти лет сохранила смертельное действие яда в случае укола.
Мельцони слушал пьеро, наклонив голову. А вокруг по-прежнему шумела пестрая, неугомонная, непрестанно двигавшаяся, веселая толпа карнавала.
XIII. Поединок
Место дуэли было назначено за городом, в роще у подножия Везувия, рано утром. В случае неблагополучного исхода решено было, как это, впрочем, обыкновенно водилось, свалить все дело на разбойников, проделки которых были далеко не в редкость и борьба с которыми оказывалась для власти далеко не равною. Сплошь и рядом находили в горах печальные последствия их промысла.
Литта приехал верхом со своими секундантами на место поединка раньше своего противника. Он казался совсем спокоен и даже весел – как будто ему не предстояло ничего особенного сегодня и все, что должно было произойти сейчас на небольшой полянке, которую они выбрали в стороне от дороги, вовсе не касалось его.
Утро было прекрасное, теплое. Литта отлично выспался сегодня ночью, лошадь ему попалась покойная, и он с большим удовольствием проехался от города до рощи, ощущая то особенное, бодрящее чувство, которое всегда испытывает сильный и здоровый человек свежим, ранним утром.
Соскочив с седла, он невольно заметил, что отвык, должно быть, от верховой езды и ноги его не то что устали, но он продолжал чувствовать ими, будто все еще сидит на лошади. Он рад был, что приехал первым и что у него есть время пройтись немного и размять слегка свои ноги.
– Утро-то какое, граф! – весело сказал ему один из секундантов, тоже слезая с лошади и привязывая ее к дереву. – Ну, однако, синьор Мельцони не торопится, – добавил он, подходя к Литте.
Тот весело взглянул на него и улыбнулся, открыв ряд своих ровных и белых зубов, как бы невольно спрашивая: «А, вы об этом?..» – и, ничего не ответив, прошел вперед.
Литта был так равнодушен теперь и к Мельцони, и к своему столкновению с ним, что даже вечером ни разу не подумал серьезно о дуэли и не полюбопытствовал справиться в своем гороскопе о вероятном исходе ее.
Он все последнее время находился в каком-то особенном настроении веселости и необычайного подъема духа, молодцеватости и удали. Сегодня, вероятно, под влиянием свежего утра, приятной поездки и шутливого разговора, который он поддерживал всю дорогу с секундантом, настроение это усилилось еще заметнее. Птицы весело чирикали, яркая зелень ласкала глаз, и воздух, чистый и здоровий, заставлял дышать полною грудью.
Второй секундант Литты остался у дороги и, наморщив лоб и приставляя ко лбу руку, силился разглядеть, когда покажется наконец Мельцони со своими секундантами.
– Едут, едут! – наконец проговорил он и махнул шляпой Литте, который продолжал ходить по полянке, опустив голову и внимательно смотря себе под ноги.
Мельцони подскакал широким галопом с дюком ди Мирамаре и с гвардейским офицером, которого Литта встречал на Вилла-Реале. Они, видимо, торопились. Мельцони был слегка взволнован. Лицо его отдавало непривычною желтизной и глаза светились немного странным, несвойственным им блеском. Они поспешно соскочили с лошадей и быстрыми шагами, ведя их в поводу, приблизились к полянке. Дюк ди Мирамаре учтиво, как к даме во время танцев, подошел к секундантам Литты. Гвардейский офицер стал привязывать лошадей.
Литта стоял на середине полянки, и в эту минуту ему хотелось лишь одного: хорошенько вытянуться, выправить свои руки; но он невольно сдержал себя, потому что дюк слишком уж священнодействовал и, церемонно переговорив с его секундантами, направился, плавно и бережно ступая своими тонкими ножками, к Мельцони и стал, поклонившись, что-то объяснять ему.
Мельцони выслушал, кивнул головою и несколько неестественно, по-театральному, вышел на полянку и стал против Литты. Граф взглянул ему прямо в лицо. Мельцони скосил глаза на сторону и опустил веки, как бы избегая встретить взгляд противника. Он вынул свою шпагу и, отдав салют, встал «en garde».[15] Мельцони сейчас же приложил, стукнув свой клинок по клинку противника. Дуэль началась.
Как только Литта увидел у себя пред глазами острый конец шпаги противника и двинул кистью руки, чтобы защититься от тьерса (Мельцони взял с этой стороны), он забыл и утро, и полянку, и секундантов, и самого Мельцони и весь сосредоточился на том, направленном на него, острие, не соображая, впрочем, что оно может быть опасно или смертельно, но единственно заботясь, как бы не сделать промаха, противного искусству, которым (он знал это) он владеет в совершенстве. Это чувство знатока своего дела и увлечения им всецело охватило Литту, и он, как художник в минуту вдохновения, почти бессознательно повел поединок, чисто отделывая удары, словно вырисовывая их.
Шпаги скрещивались и мелькали, как молния. Литта пробовал два раза сделать выпад, но Мельцони, видимо, тоже был внимателен и парировал каждый раз удар. Сам он не выпадал. Литта заметил, что он все свое старание направляет на то, чтобы защищаться.
«Утомить меня хочет, – мелькнуло у него, – ну что ж, пускай!»
И, по привычке угадывать инстинктивно намерения противника, он перестал выпадать и начал играть шпагою спокойно, чтобы как можно дольше сохранить свои силы и не дать застигнуть себя врасплох. По кисти своей руки и по звуку шпаг он чувствовал, что Мельцони тоже сберегает силы и оттягивает окончательный удар.
Эта манера, самая, впрочем, выгодная для более слабого бойца, но выдержанного, была знакома Литте, и он внутренне одобрил Мельцони, потому что видел, что тот слабее его самого и что самым лучшим для него было именно то, что он делал.
Секунданты, не двигаясь, словно застыли на своих местах, следя за боем. Они видели, как Литта два раза сделал выпад и Мельцони отпарировал удар и затем стал защищаться. Они видели тоже, что Литта понял тактику врага и перестал выпадать. Теперь дело шло о том, кто раньше устанет.
Но вдруг Литта, точно не выдержав, быстро ударив скользящим ударом по шпаге Мельцони и притопнув ногой, вынес ее далеко вперед и вытянул руку.
Дюк ди Мирамаре закрыл глаза – ему показалось, что все кончено. Но шпаги застучали снова, и дюк, открыв глаза, увидел, что Мельцони вовремя отскочил и опять поймал на свою шпагу оружие противника.
Дюка в это время поразило вдруг изменившееся лицо Литты. Он как будто побледнел и его сильные, мускулистые ноги не так твердо уже держали его плечистое, огромное тело. Он стал нервно дышать и делать заметные усилия, чтобы удержаться на ногах.
Мельцони, все время избегавший глядеть ему в лицо, теперь тоже вдруг начал быстро взглядывать прямо ему в глаза, особенно усиленно и оживленно зашевелив шпагою и выбирая удобный момент для удара.
Литта (его колена уже подгибались и слегка дрожали) все-таки еще парировал; но вдруг, широко размахнув шпагою, он откинул руку в сторону и как сноп повалился навзничь, ударившись головою о землю.
Шпага Мельцони мелькнула в воздухе.
Секунданты бросились к Литте.
XIV. Во власти дум
Графиня Екатерина Васильевна не спала почти всю ночь. Страдание бессонницей, мучительное и докучливое, заставляло ее иногда по целым суткам не смыкать глаз, несмотря на лекарства докторов и ухаживания старой няни. Няня говорила, что ее графинюшку сглазили, а доктора уверяли, что Скавронской необходимо больше движения и развлечения, но она не хотела слушаться их. Она лежала, закинув по привычке за голову руки, и большими, широко открытыми глазами смотрела пред собою на мягкие складки шелкового полога. Ночник тускло освещал ее розовую спальню.
Лежать было неловко на мягком пуховике. В течение бессонной ночи тело успело привыкнуть к нему, и все положения, какие можно принять, были испробованы и казались утомительными.
«Вот еще одна ночь прошла, – думала графиня, – потом проснутся все… Настанет день – и все то же самое, и все то же самое!..»
Она, благодаря несметному богатству своего мужа, не знала ни в чем отказа, но ей ничего не хотелось из того, что могло дать ей богатство. Драгоценности, дорогие наряды, роскошный дом, толпа прислуги – все это было у нее, но не имело никакой цены, потому что доставалось слишком легко. К тому же, кроме скуки, однообразия и надоедливого, не в меру угодливого внимания в пустяках и равнодушия ко всему серьезному своего мужа, она ничего не видела в этом огромном дворце, в который забросила ее судьба на чужбине, вдали от родных и всего, что она любила с детства.
Ей невольно припомнилась барская усадьба их Смоленского, более чем скромного, именьица, где она с сестрами звонко, бывало, смеялась и где ей жилось весело и привольно в счастливые годы детства!
Третий час дня. Солнце палит своими жаркими, неумолимыми лучами. В воздухе так тихо, что слышно, как муха жужжит, ударясь в частый переплет оконной рамы, приподнятой на подстав.
В доме все спят послеобеденным крепким сном. Только она с сестрой Аней осторожно, боясь нарушить эту царящую кругом тишину, пробирается в сад, и им кажется, что они теперь не в том доме, где живут отец и мать, все домашние и они сами и в который они вернутся, как только пройдет час послеобеденного отдыха, но что они в каком-то заколдованном царстве, где все таинственно и страшно, нарочно пугая себя всякими страхами и воображая, что с ними с минуты на минуту должно случиться что-нибудь волшебное, они идут, чуть дыша, и кругом так жутко и тихо, но вместе с тем совсем не страшно, потому что светло.
И вот непременно в тени кустов, не прямо по дорожке, они пробираются во фруктовый сад, в малину (им запрещено это), и к вымышленным страхам присоединился уже действительный страх, что их могут застать тут, и это составляет новую прелесть.
От жирной, темной земли так и парит кругом, пахнет листом черной смородины, малиной. Мельница, к которой и с большими страшно идти, шумит вдалеке, и сквозь кружево листвы далеко и загадочно сверху синеет, точно подернутое синей дымкой, безоблачное небо. Они рвут теплые, сочные ягоды, сердце бьется сильно и часто, и ягоды кажутся особенно вкусными и спелыми.
«А рыбная ловля, – вспоминает графиня, – а жатва, а сено!»
И ей кажутся невыносимо тесными ее розовый шелковый полог и покойная мягкая кровать, на которой она не может сомкнуть глаз.
И вдруг этот счастливый мир детства и грез отлетает от нее; ее отправляют с сестрами в Петербург. Там нанимают им француженку, затягивают в корсет, надевают платье на фижмах, которое топорщится во все стороны, подолгу пред зеркалом до боли дерут волосы щипцами и везут к дяде – важному и, должно быть, сердитому и строгому Потемкину, имя которого всеми произносится с каким-то подобострастным трепетом.
Ей приятно это, приятно, что человек, которого ее мать называет «братцем», живет в одном из таких дворцов, какие она воображала себе только в сказках, и она робеет пред дядей и не замечает его ласково устремленных на нее глаз.
Но вот она мало-помалу сближается с ним и, чем больше узнает его, тем больше любит, и тем яснее ей становится, что этот человек, несмотря на свое могущество и славу, несчастнее, чем она была, когда жила незаметною девочкой в деревне.
Когда они бывают одни, ей случается подметить у него улыбку грусти, такая тоска в его глазах тогда, что ей страшно, страшно жаль становится его.
Но все-таки ей не позволяют снять неловкие фижмы, тесный корсет и распустить волосы. Она выезжает на балы; ее представили ко двору, она два раза говорила с государыней, и все кругом завидуют ей и льстят, и, кажется, любят, и ласкают. Она теряет голову, ее точно увлекает та жизнь, в которую бросили ее.
И вот появляется из Италии молодой граф Скавронский, завидный, богатый жених. Они встречаются чаще и чаще; как-то делают так или само выходит, что они почти всегда вместе, и наконец ей говорят, что этот богатый молодой человек будет ее мужем и что она должна радоваться этому и быть счастливою.
Ей шьют больше нарядов, больше прежнего покупают драгоценностей, празднуют великолепную свадьбу, на которую ее будущий муж, этот граф Скавронский, приезжает в золотой карете, отделанной стразами на огромную сумму, и все этому почему-то очень рады и говорят про это и поздравляют ее. Они все так уверены, что она рада и счастлива, что даже не спрашивают ее об этом, и она сама невольно начинает верить, что она в самом деле рада и счастлива.
Она очнулась только здесь, в Неаполе, после долгого путешествия, сделанного один на один с мужем, и, очнувшись, поняла, что все это – тоска, ненужная, лишняя и тяжелая. И ей захотелось остаться одной, чтобы только не мешали и не приставали к ней…
На нее иногда стали находить минуты такого отчаяния, такого невыразимого душевного угнетения, что порою жизнь становилась просто невмоготу и она проводила бессонные ночи, как сегодня, и мучилась, и ждала исхода, но напрасно.
И вдруг среди этой тоски и однообразия явился свежий, живой человек, сильный, с которым познакомилась она недавно и который теперь, как живой, стоял пред ее глазами. Она будто видела пред собою красивую, мощную фигуру Литты, его быстрые, умные глаза, черные, вьющиеся локонами волосы и ровную, добродушную улыбку. И невольно ей пришла в голову разница между ним и ее тщедушным мужем, то и дело вертевшимся возле нее и беспрестанно лезшим со своими ласками и поцелуями.
Вспомнив про Литту, графиня Екатерина Васильевна вдруг быстро приподнялась на кровати и схватилась рукою за грудь. Сердце ее защемило, и беспричинная, как казалось, боязнь – та боязнь, которая является у человека, когда ему дышать нечем, – охватила ее. Ей показалось, что она недаром вспомнила теперь, именно в эту минуту, про него, точно с ним или с нею должно случиться что-то недоброе, ужасное.
Она осенила себя крестным знамением и испуганно осмотрелась кругом. Фарфоровый ночник по-прежнему освещал комнату, тяжелые, непроницаемые гардины плотно закрывали окна.
Графиня спустила ноги с кровати, отыскала ими туфли и, накинув широкий шелковый балахон, подошла к окну. Она откинула гардину, и розовое, ясное утро глянуло ей в лицо, ворвавшись в комнату целым снопом матовых лучей своих.
«Одна, одна… и на всю жизнь так! – снова подумала Скавронская, вглядываясь усталыми от бессонной ночи глазами в открывшуюся пред нею в окне, поверх плоских крыш, даль. – Одна!» – повторила она себе, и вместе с этою грустною мыслью неожиданно ей пришло в голову, что там, вдали, где-то в этом, казавшемся бесконечным пространстве был человек, о котором она только что вспоминала, и новая боязнь за него опять безотчетно охватила ее. «Да что же это со мной и что с ним может быть, наконец?» – спросила она себя и, приложив ладонь к левой стороне груди и чувствуя, как бьется ее сердце, приблизилась к большой сиявшей в углу божнице, сплошь увешанной иконами в богатых золотых окладах, и, опустившись пред нею на колена, закрыла лицо обеими руками.
XV. Старый штурман
Энцио был почти уверен в безошибочности своего расчета. Он надеялся, что Литта не вернется теперь с берега и что удар Мельцони будет верен и достигнет своей цели.
Во всем, по его мнению, был виноват сам Литта, который, как казалось Энцио, слишком заносчиво относился к нему и стал на его дороге неустранимою помехой. Энцио думал, что, не будь этого молодого командира над ним, получившего власть благодаря своему знатному происхождению, он давно-давно достиг бы командования судном. Это было заветною целью всей его жизни.
Теперь он ясно представлял себе, как он приведет «Пелегрино» на Мальту и как, по всем вероятиям, командование так и останется за ним. Он считал себя старым и опытным моряком, и, по его мнению, его заслуги Мальтийскому ордену были неисчислимы. Ввиду этих неисчислимых заслуг все казалось возможно. К тому же бывали примеры, что командование судном поручалось в исключительных случаях старым, испытанным и опытным слугам ордена даже более низкого происхождения, чем Энцио. Последний же претендовал на старинное дворянство, доказательства которого были только утеряны, как он рассказывал, но имелись основания найти их вновь, о чем он не раз уже хлопотал, и ему было кое-что даже обещано. Он и теперь был облечен известною степенью доверия, правда, не от великого магистра, но от некоторых членов капитула, которые поручили ему на скромном месте штурмана следить за действиями Литты и доносить о них подробно. Повиновение было в числе необходимых условий на Мальте, и Энцио принял покорно место штурмана, надеясь в будущем на большее.
Однако, несмотря на весь соблазн своей мечты, он чувствовал себя далеко не удовлетворенным, не успокоенным, и, стоя на палубе, беспрестанно взглядывал по направлению берега, откуда должна была прийти весть о командире. Сам Литта, разумеется, не вернется, это было почти невозможно. Все, казалось, обдумано и предвидено, и сегодня ему не избегнуть «заслуженного», как старался себя уверит Энцио.
«Наконец, ведь не я нанесу удар, – думал он. – Кто же может сказать, что я этому причиной? Вольно же ему было влюбляться, вольно же вызывать на дуэль, ведь, значит, он сам желал смерти, сам подставил свою грудь под удар».
Но Энцио сейчас же почувствовал, что это рассуждение было далеко не тем, что могло успокоить его.
Он попробовал пройтись по палубе, осмотрел пушки, хотя знал, что они в полной исправности, снова подошел к борту и облокотился, опять уставившись на берег.
«Неизвестность тут хуже всего, – решил он наконец, – если бы наверное узнать, что случилось там, тогда бы все было хорошо».
Но какой-то внутренний голос говорил ему, что ничего иного, как то, чего он ожидал, не могло случиться, и, несмотря на это, все-таки он не мог успокоиться.
«Ничего не может произойти здесь на земле помимо воли, которая выше нас, – продолжал думать Энцио, – тут ни он, ни я – мы не зависим от себя, и, следовательно, если ему суждено, то это произойдет вовсе не по чьей-либо вине, а исключительно потому, что так должно быть… Ясно… да, это ясно».
Кусая себе нижнюю губу и беспокойно теребя росший под нею в виде эспаньолки клок волос, Энцио жадно, упорно вглядывался в мелькавшие у берега лодки – не покажется ли наконец между ними шлюпка с «Пелегрино».
Чтобы лучше разобрать и увидеть, он хотел посмотреть в подзорную трубу и пошел было за нею, но вспомнил, что она в каюте командира и что последняя заперта. Новый прилив досады и злобы обуял его, и сомнения его рассеялись. К тому же у него были давнишние счеты с Литтой. Он помнил, как командир за какое-то упущение (теперь Энцио казалось, что это были ничего не значащие пустяки) велел вывести его пред экипажем и сделал ему выговор при всех, не пощадив «его седин, его pello blanhissimo» (хотя на самом деле курчавая голова Энцио была покрыта лишь проседью, но ему казалось лучше воображать себя именно «седым» в этот момент). Эту-то обиду и насмешки, которые пришлось ему услыхать потом за спиной у себя, он никогда не мог простить молодому графу.
Солнце поднялось довольно высоко, когда наконец Энцио ясно различил спины тех самых гребцов, которые ездили обыкновенно с Литтой и за которыми он следил так же вот вчера, когда сидел на берегу под деревом в одеянии пьеро, ожидая Литту на берег.
Гребцы были одни в шлюпке. Впрочем, Энцио так и ожидал этого. Матросы гребли, налегая на весла, но Энцио казалось, что они ползут так медленно, как будто в шлюпке у них невыразимая тяжесть.
– А где же граф? – крикнул он им, когда они подплыли на такое расстояние, что можно было разговаривать.
– Эчеленца… – послышалось со шлюпки, но налетевший ветерок отнес следующие слова и ничего нельзя было разобрать.
– А? Что? – кричал Энцио. Он старался по лицам матросов, обернувшихся к нему, угадать о том, что случилось: но эти лица были совершенно спокойны и равнодушны. – Где же граф, граф где? – повторил он свой вопрос, сильно жестикулируя.
– Эчеленца приказал нам ехать на корвет, – послышался ответ на этот раз.
– Как приказал? – удивился Энцио. – Вы его видели?
Шлюпка в это время приставала уже к борту, и матрос быстро и ловко взобрался на палубу и стал пред Энцио.
– Ты говоришь, что граф приказал? – продолжал спрашивать тот.
– Эчеленца сам был на Спиаджии-ди-Киайя, – несколько робким голосом произнес матрос, воображая, что штурман не верит, что не самовольно они вернулись на корвет, а по приказанию командира. – Эчеленца приказал так, пусть меня в первой же схватке застрелит неприятель!.. Эчеленца сейчас был на берегу и велел ехать; он, наверно, боялся, что мы сойдем на берег посмотреть на карнавал, – добавил матрос, желая окончательна убедить штурмана последним соображением.
Но Энцио, казалось, не слушал его или не понимал.
– Да ты видел графа своими глазами? Он здоров? – опять спросил он.
Матрос стал снова клясться и божиться, что видел Литту собственными глазами и что он велел им приехать вечером за ним, а теперь отправляться на корвет.
Энцио почувствовал, что мысли его путаются и что он не может понять, как это все могло случиться и каким образом Литта остался цел и невредим.
XVI. Счастливый случай
Случилось же это все очень просто.
Когда Литта упал во время поединка и секунданты кинулись к нему, он казался без движения, словно в обмороке.
Испуганный Мельцони, с исказившимся, взволнованным лицом, первый стал осматривать его, нет ли где-нибудь царапины. Он чувствовал, что Литта упал слишком для него неожиданно, и он, не успев направить удара как следует, промахнулся, но, может быть, как-нибудь случайно шпага все-таки задела его. Однако ни раны, ни даже царапины не было заметно у Литты. Но он лежал на земле неподвижно, беспомощно раскинув руки в стороны, и, казалось, грудь его не двигалась.
Ему расстегнули камзол, освободили ворот, распустили застежки – ничего не помогало.
Дюк ди Мирамаре попытался пощупать ему пульс, попробовал сердце и решительно не мог разобрать – бьется оно или нет. Он, стоя на коленах возле Литты, пожал плечами и покачал головою.
Мельцони вложил свою шпагу в ножны и отошел в сторону.
– Дуэль кончена? – спросил он, стараясь оправиться и казаться, спокойным.
Один из секундантов Литты, тоже опустившийся возле него на одно колено, нетерпеливо махнул рукою в сторону Мельцони.
Общее ощущение неловкости, растерянности и полного сознания бессилия сделать что-нибудь охватило этих людей при виде неподвижно лежавшего теперь Литты.
– Что же сделать? Везти в город? – спросил дюк ди Мирамаре.
Решено было, что гвардейский офицер отправится в Неаполь за экипажем, а остальные подождут здесь.
– Нет ли где-нибудь воды поблизости? – спросил опять дюк и пошел искать воду.
Офицер уехал.
Мельцони чувствовал себя неловко. Положение его действительно было странно, и он не знал, как выйти из него – оставаться ли здесь, или тоже сесть на лошадь и уехать.
Секунданты Литты, присев на землю, тихо переговаривались между собою. Мельцони попробовал было подойти к ним, но из этого ничего не вышло, и он, сделав наконец вид, что интересуется, не покажется ли кто на дороге, направился к ней и стал ходить взад и вперед.
В это время в глубине рощи зашевелились кусты и послышалось, как кто-то пробирается между ними. Секунданты притихли и подняли головы, прислушиваясь. Шаги приближались к ним.
– Это вы, Дюк? – спросил один из них, думая, что Мирамаре вернулся со своих поисков.
Но из чащи вместо дюка вышел на полянку одетый весь в черное, длинноносый, худой человек в широкополой шляпе и с ящиком для растений через плечо. В руках он держал тоже пучок каких-то набранных трав. Он, казалось, был занят усердным рассматриванием их и перебирал их пальцами, близко поднося пучок к своим круглым очкам.
Выйдя на полянку, он оглянулся и, заметив сидевших тут людей, слегка растерянно остановился пред ними, как будто желая показать, что он вовсе не хочет мешать им. Те тоже, при виде постороннего, смущенно взглянули на него, тем более что между делом, за которым они явились сюда, и мирным занятием ботаника ничего не было общего. Ни он, ни они, казалось, в первую минуту не знали, что сделать и как лучше выйти из этой случайной встречи.
Он оглянулся еще раз, как бы ища выхода, и тут только заметил Литту, лежащего на плаще, который подложили под него.
– А это что же? – спросил он удивленно, тихо, на ломаном итальянском языке, а затем, не дожидаясь ответа, подошел к Литте, нагнулся над ним и стал осматривать его.
Он долго возился над ним, покачивая головою, отложив свои травки в сторону и не спрашивая позволения. Ему не мешали, видя ту уверенность, с которою он принялся за свое дело.
Мельцони, вероятно, заметив, что происходило на полянке, подошел от дороги и издали остановился.
– Лагардин-Нике! – окликнул он, узнав старика.
Нике поднял голову и, покачиваясь из стороны в сторону, проговорил:
– А, мсье Мельцони! Мсье Мельцони! Нужно поскорее хоть каплю воды…
Они узнали друг друга.
Собственно говоря, никому ничего не было достоверно известно в Неаполе про Мельцони. Жил он, казалось, хорошо, водил знакомство с высшим обществом и с виду имел все данные, чтобы держаться в нем. Он был на короткой ноге со всею знатною молодежью Неаполя, но откуда он явился, чем занимается и какими способами доставал деньги, которыми, однако, как будто не стеснялся, – никто не знал. Правда, никто также не мог заподозрить его в чем-либо нечестном или предосудительном. Он держал себя безупречно. Молодой, бойкий, некрасивый собой, но не безобразный и с оттенком ума на лице, Мельцони мог понравиться с первого раза. Его слегка развязная манера, беглый разговор, казалось, располагали к себе. Он появился в Неаполе года два тому назад и с тех пор успел ужиться здесь и поставить себя на довольно видное место.
К Лагардину-Нике у него было рекомендательное письмо из Парижа от хорошо известного Лагардину человека. Старик принял Мельцони, и тот бывал у него, выражая склонность к тем занятиям, которым был предан сам Нике.
Мельцони в первое время часто посещал старика, беседовал с ним и выказывал большое любопытство к отысканию «красного льва» и деланию золота. Это, казалось, в особенности интересовало его, хотя Лагардин-Нике очень неохотно разговаривал именно об этих вещах, потому что для него самого этот «красный лев», золото и процесс перерождения простого угля в алмаз вовсе не были важны. Мельцони скоро надоел ему, и он употребил против него, чтобы отделаться, давно испытанное и верное средство – дал ему денег взаймы. С тех пор они действительно не видались.
Но теперь Мельцони ничуть не сконфузился и не смутился их встречею. Он очень предупредительно засуетился из стороны в сторону, как будто желая всем существом своим помочь Литте, но с грустью признавая свое бессилие.
Лагардин-Нике достал из кармана плоский хрустальный флакон с темною маслянистою, густою жидкостью и, капнув еще себе на ладонь, стал растирать левую часть груди Литты.
Дюк ди Мирамаре, не пожалев своего бархатного берета, принес в нем воды, которую отыскал-таки не без усилия.
Лагардин-Нике спрыснул лицо Литты, достал другой флакон, капнул из него на язык больного, и Литта медленно и тяжело вздохнул, видимо, приходя в себя. Старик велел намочить ему еще голову и, когда грудь Литты вторично приподнялась от глубокого вздоха, быстро встал с колен, собрал свои травки и, сказав, что теперь только пусть дадут спокойно Литте отдышаться и что он сейчас окончательно придет в себя, ушел, поспешно кивнув головою в сторону Мельцони, как человек, которому дорога каждая минута времени.
Его длинная, сухая, черная фигура была видна еще сквозь чащу дерев на дороге, когда Литта открыл глаза и шевельнулся. Грудь его дышала теперь совсем ровно, и бледные щеки начали розоветь. Он поднес руку к голове, крепко провел ею по лбу и, сожмурив глаза, снова открыл их, затем, поднявшись корпусом, сел, опершись о землю рукою.
– Ну, слава святым угодникам! – проговорил ди Мирамаре.
Литта оглянулся кругом, как бы припоминая, где он, и силясь понять, что с ним. Наконец полное сознание окружающего блеснуло в его глазах; он заметил Мельцони, удалившегося к лошадям, узнал своих секундантов и, быстро оправив свою одежду, поднялся на ноги, схватив снова в руки шпагу.
– Что это со мною? Обморок, кажется, был? – проговорил он.
– Вы разве хотите продолжать, граф? – подошел к нему секундант, указывая кивком головы на шпагу, которую держал Литта.
– Если синьору Мельцони угодно, – ответил тот. – Я не признаю себя побежденным.
– Но выдержите ли вы? Вы нездоровы сегодня, – попробовал возразить секундант, внимательно вглядываясь в лицо Литты.
Однако граф весело рассмеялся и произнес:
– Я, кажется, чувствую себя здоровее, чем прежде. Я не могу понять, что это было со мною; прежде никогда этого не случалось, это в первый раз.
– Не лучше ли отложить, граф? – заявил со своей стороны дюк, но далеко не так уже официально, как пред началом дуэли; тем более что был лишен теперь бархатного берета, висевшего на суку для просушки.
– Нет, что ж откладывать? – как-то рассеянно ответил Литта, выгибая о землю свой клинок и ища глазами противника.
Мельцони подошел не сразу, но все-таки подошел и обнажил шпагу. Он казался очень усталым. Движения его были рассчитано медленны, и лицо отражало тихую грусть.
Литта чувствовал себя превосходно. Прежнее настроение, какое было в нем пред началом поединка, снова вернулось к нему, несмотря на обморок, и, как ни в чем не бывало, он, будто после отдыха, поймал шпагу Мельцони и заиграл ею, точно фехтуя на уроке со слабым учеником.
Тут только он заметил, насколько Мельцони дрался слабее его. И, не давая уже себе труда, он совсем спокойно повел бой, изредка пытаясь кончить его легким ударом, чтобы дать почувствовать противнику свою силу.
«А может быть, он обманывает меня, хочет развлечь?» – сообразил Литта, и, почти непроизвольно нажав клинок Мельцони ближе к рукоятке, сделал быстрый поворот кистью своей руки.
Шпага вырвалась у Мельцони из рук и, задрожав, отскочила в сторону. Литта приостановился и по обычаю дуэли подал противнику свое оружие, а сам спокойно и неторопливо сделал два шага, нагнулся, поднял выроненную шпагу Мельцони и снова стал на место, опять готовый продолжать бой.
Но, как только Мельцони увидел свою шпагу в руках у Литты, он прикусил губу и нервно заговорил что-то, медля стать снова «en garde».
– Я жду, синьор Мельцони, – проговорил Литта.
Его противник сделал неопределенное движение рукою, точно хотел обратно получить свою шпагу, но, видя, что Литта уже поднял ее, морщась, отстранился от вытянутого острия ее и через силу проговорил наконец:
– Довольно… верните мою шпагу… так нельзя… я не могу продолжать дуэль… Будет… довольно…
XVII. У Скавронских
Если мы не можем объяснить себе какое-нибудь явление, не можем понять его, уловить его причинную связь с предыдущими, то называем его «случаем», случайным явлением и, махнув рукою, успокаиваемся, то есть, мол, и рассуждать о нем не стоит. Но, как только то же самое явление поддастся анализу, тотчас же является на сцену закон, и мы начинаем понимать истинную суть его.
Есть, однако, люди, которые думают, что ничего в мире, а в особенности в жизни человека, не может произойти случайно. Путем долгих, начавшихся еще за несколько веков до Рождества Христова наблюдений, подмечены и выяснены многие законы, изучение которых прямо указывает на те влияния, которым подвержен человек. На основании этого-то изучения можно иногда простыми выкладками предвидеть последующее, которое будет всегда простым результатом предшедшего, так как все в мире, до мельчайшего движения атома, представляет собою удивительную цельность и гармонию.
Литта знал, что случайно встретился с молодою русскою графиней, знал, что не мог не идти тогда по узкой улице, не услышать стонов больного, не вылечить его и затем, несмотря на полное свое нежелание возобновить знакомство со Скавронским, должен был это сделать, потому что Гурьев не мог не приехать к нему, не мог не представить самых убедительных доводов для сношения Мальтийского рыцарства с Россией, и Литта не мог не поехать в палаццо русского посланника.
Но Литта знал также, что если существует последовательная цепь явлений, в которой люди независимо от себя должны принимать участие своими действиями, то вместе с тем человеку дана свободная воля, чтобы выбрать между двумя сторонами каждого явления, которое всегда и везде двусторонне, то есть между злом и добром.
Не разбирая еще пока, хорошо или дурно он делает, Литта бывал у Скавронских, желал видеть красавицу графиню, говорить с ней и стремиться к ней так же естественно и неудержимо, как растение тянется к свету, человек – из духоты к воздуху, вода течет туда, где глубже.
Скавронская, полагавшая сначала, что она ограничится мимолетным знакомством с мальтийским моряком, заинтересовавшим ее среди той тоски, однообразия и скуки, которые она испытывала в Неаполе, – увидав Литту, невольно пожелала увидеться с ним еще раз, и он, как бы послушный этому ее желанию, явился к ним на другой день.
Со дня на день граф откладывал отплытие «Пелегрино» и бывал у Скавронских, надеясь на себя и на свои силы, благодаря которым всегда, как думалось ему, он сумеет совладать с собою, если бы это понадобилось.
Когда в день дуэли, кончившейся тем, что Мельцони, испуганный обменом шпаг с противником, извинился пред ним, Литта пришел к Скавронским, графиня встретила его долгим, испытующим взглядом, как бы желая понять без слов, что случилось с ним сегодня.
За обедом по обыкновению граф Павел Мартынович болтал без умолку, и Гурьев сдерживал его, сколько мог. После обеда они уехали в театр (там шла новая опера), и Литта остался вдвоем с Екатериной Васильевной. Она опять подняла свои глаза и остановила их взор на нем с тем же самым выражением, которое было в них, когда она его встретила.
– Что с вами, графиня? – спросил Литта. – Что вы смотрите на меня так?
Она ответила не сразу.
– Послушайте, – наконец тихо произнесла она, – с вами что-то сегодня случилось… Должно было случиться! – поправилась она.
Литта знал, что ни по его лицу, ни по глазам, ни вообще по его виду графиня ни о чем не могла догадаться, так как он чувствовал себя бодрым, совершенно здоровым и веселым, и ее замечание удивило его.
– Почему вы так думаете? – спросил он, делая, однако, усилие, чтобы казаться совсем спокойным.
– Я не спала сегодня всю ночь, – проговорила Скавронская. – Это бывает со мною. Под утро мне вдруг показалось, что я вижу вас – так ясно, как живого… Вы были очень бледны… я страшно испугалась…
Теперь, когда она рассказывала Литте, она была вполне уверена, что видела его сегодня бледного на самом деле, и испугалась этого. Ей казалось, что все было именно так, как она рассказывает, и, рассказывая, она убеждалась еще больше в справедливости своих слов.
– Я невольно вскочила, – продолжала Скавронская. – Это был, правда, один миг, но я вас видела, положительно видела! – повторила она.
Литта предчувствовал, что сегодняшний день, начавшийся для него так странно, необыкновенно, не мог кончиться просто, как обыкновенный день, но что его должно ожидать сегодня еще что-то. Внутреннее его настроение требовало этого. Нервы его были взвинчены с утра. Не мог же он в самом деле после всего сегодняшнего, после поездки за город, поединка, обморока и извинений оскорбившего его человека – так спокойно вернуться, сесть отобедать и вести приятный разговор, как это описывают в романах. Еще он мог сдерживать себя сначала, пока тут были граф и Гурьев, но тут он почувствовал себя первый раз в жизни наедине с хорошенькою женщиной.
Они сидели на веранде, обитой узорною зеленью винограда и выходившей в сад, в котором благоухал вечерний аромат цветов; Литта, за минуту пред тем отнюдь не желавший говорить о том, что было утром, помимо себя, сейчас же рассказал все подробности поединка, кроме, разумеется, причины, вызвавшей его.
Скавронская слушала, не перебивая, слушала, но вместе с тем заставляла невольно понимать себя. Это взаимное понимание, этот разговор без слов, этот непостижимый обмен мыслей при помощи взгляда, улыбки начались у них сами собою, чуть ли не со второго дня их знакомства. Им же казалось, что они давным-давно понимали так друг друга.
Литта заметил это в первый раз, когда сказал как-то случайно в разговоре, что он – рыцарь монашеского ордена и осужден на всю жизнь на безбрачие.
Графиня очень удивилась этому, но он видел, что ей почему-то это приятно, что она обрадовалась этому.
Рассказав о дуэли, Литта заговорил о Лагардине-Нике, потом об Энцио, о своем «Пелегрино», обо всем, что приходило ему на ум, не обращая собственно внимания на предмет разговора, потому что их разговор заключался главным образом не в произносимых словах, но в том, как они произносились; и вот эти вариации голоса, взгляды и улыбки сказали им сегодня гораздо больше всяких слов и объяснений.
Литта очнулся лишь на улице и тут только вспомнил, что его давно ждет шлюпка с корвета.
– Что ж это со мной? – спросил он себя, отойдя несколько шагов от дома Скавронских и останавливаясь. – Боже мой, но как хороша, как хороша! – прошептал он и, завернувшись в плащ, большими, неровными шагами направился к набережной.
XVIII. Письмо
Графиня Екатерина Васильевна долго еще сидела по уходе графа Литты на веранде. Наконец она услыхала, как пришел муж из театра и прошел с Гурьевым в столовую ужинать, думая по всей вероятности найти ее там. Она знала, что он сейчас пришлет за нею или придет сам ее отыскивать, и поспешно, скользя, как тень, пробралась к себе в спальню. Ей хотелось быть одной, и в особенности в эту минуту мужа она желала увидеть менее всех.
Она отпустила своих камеристок, явившихся было к ней, и, открыв окно, высунулась в него как можно дальше.
Так у окна застала ее няня, пришедшая к ней по сохранившейся с ее детства привычке благословлять ее на ночь.
– Что ты, Катюша, бог с тобой! – проговорила она, вглядываясь с беспокойством в блестящие глаза графини и чувствуя, как горячи ее щеки и руки. – Что это ты? Прошлую ночь не спала и теперь полуношничаешь, да еще в темноте, у открытого окна. Ты хоть бы огонь зажгла.
– Ах, няня!.. Нет, не надо огня! Нянечка, мне так хорошо сегодня! – протянула графиня и, положив свои руки на плечи старухи, прижалась к ней головою. – Няня, ты знаешь, – зашептала она, – мне и плакать, и смеяться хочется, право… и так хорошо… так хорошо…
Няня прижала ее к своей груди и, медленно проведя своею сморщенной, старческой рукой по ее волосам, старалась ласкою успокоить ее. Она понимала, в каком состоянии находится ее питомица.
– Вот что, Катюша, – заговорила она не спеша. – Богу помолись… это он тебе посылает испытание. Ты соблюдай себя, – обдумать тебя ведь некому… Не поддавайся, матушка!.. Мало ли что, да ведь уж как кому жить суждено.
Скавронская быстро отстранилась от нее и испуганными глазами старалась сквозь сумрак рассмотреть ее лицо.
– Что ты, няня?.. Что это ты говоришь? Откуда ты взяла? Разве заметно так, разве ты заметила что-нибудь?
– Я-то, мой дружок, вижу!.. Не первый десяток живу. Не бойсь: пока еще другие-то увидят, а от меня тебе не скрыться, – знаю, сама была молода… вижу тебя насквозь. Слушай, Катя, береги себя!
Как это ты хорошо сказала, что обдумать меня некому! – произнесла Скавронская. – Да, именно так… я словно одна всегда, иногда не знаешь, что делать, и спросить не у кого.
– А ты Богу молись, дружок… Он, Господь, – тебе заступник и покровитель, и гневить тебе Его нечего. Все у тебя есть, слава Создателю: дом полная чаша, – почитай герцогиня любая позавидует: одних брильянтов сколько!
– Ах, ничего мне не нужно, ничего! Все бы сейчас отдала…
– А ты вот что послушай, Катя! – перебила ее старуха, усаживая на кресло и закрывая окно. – Слушай, родная: как родилась матушка твоя, взяли меня к ней. Мне двадцатый год шел, молода я была, но все ж привыкать стала к должности своей. Только уж пятый год пошел матушке-то твоей, я при ней безотлучно – и в это время сильно приглянулся мне Иван дворовый, он у твоего дяди в лакеях состоял. Ну вот, долго не решалась я, наконец прихожу к старой барыне, так и так, мол, говорю, – бросилась в ноги. Барыня поморщилась. «Что ж, – говорит, – замуж хочешь?» – «Воля ваша, – говорю, – господская, а только не жить мне без Ивана-то». Рассказала барыня барину. Тот как призовет меня, – страшен он бывал во гневе, – да начнет костить, как сейчас помню все… «Какая же ты клуша после этого, если у тебя дурь такая в голове сидит! Как же ты за ребенком-то смотреть будешь, если замуж смотришь?» – и пошел, и пошел. Одели меня в затрапезник и отправили на птичий двор. Только матушка твоя привыкла ко мне очень, стала скучать, и вернули меня. Ну, что ж делать, тяжело было, а про Ивана-то и я думать боюсь уж! Прошло так еще годочка три… да матушке твоей седьмой годок пошел… Заболела она, долго горела вся и по ночам металась. Я день и ночь не отходила семь суток, не спала – и выходили мы матушку-то твою, Господь помог. Старый барин – она его любимицей была – обрадовался и на радостях призывает меня и говорит: «Проси, чего хочешь, все сделаю». А я сдуру-то, вижу – он ласков очень, ударилась оземь: «Отдайте, – говорю, – меня за Ивана». Как ни был в расположении барин – нахмурился. «Что же, ты перехитрить меня хочешь? – спрашивает. – Ну, будь по-твоему, от своего слова не откажусь». Как шальная, ходила я с радости две недели и себя не помнила, думала, никогда этому не быть, и вдруг на вот. Сыграли свадьбу. Но только, милая моя, вышли мы это из церкви, глядь – телега стоит; взяли моего Ванюшу и увезли, в рекруты сдали сейчас из-под венца. Крут твой дедушка был нравом; слово свое исполнил – повенчал нас, а затем не погневись: волю свою тоже изменить не пожелал. И что ж, прожила же ничего, да и как еще прожила-то: матушку и тебя, мою красавицу, выходила. Так-то, родная, – всякому свое испытание.
Графиня слушала старуху, беспомощно опустив руки. Она дышала тяжело, и подбородок ее вздрагивал.
За дверью послышались шаги.
Екатерина Васильевна сейчас же узнала их. Дрожь пробежала но всему ее телу, от макушки до пят; она вскочила с кресла и бросилась за полог кровати.
– Няня, милая, не пускай! Скажи, что хочешь, сделай как знаешь, только не пускай!.. Не могу я видеть его сегодня! – беспокоилась она.
Павел Мартынович постучал в дверь.
– Можно войти? – спросил он по-французски.
Няня на цыпочках подошла к двери, отворила ее и замахала руками.
– Ш-ш… ваше сиятельство, – шепотом проговорила она, – графинюшка всю ночь не спала ведь и теперь едва лишь глазки завела… Не будите… нездоровится ей.
Павел Мартынович вытянул губы, покачал головою и деловито спросил:
– Что ж, серьезно нездоровится ей?
– Не знаю, батюшка, – ответила няня, сама не соображая того, что говорит, – только не беспокойте ее…
Скавронский пожал плечами и, повернувшись на каблуках, зашагал назад, напевая себе под нос, – он всегда пел, казалось.
Как только шаги его затихли, Екатерина Васильевна высунулась из-за полога.
– Ушел? – спросила она.
Няня кивнула головою, затем зажгла свечи, задернула окна и начала помогать графине распутывать взбитую прическу и снимать тяжелое платье.
– Что же, не ляжешь еще? – спросила она, когда Скавронская была уже в чепчике и ночной кофточке.
– Нет, няня, дай мне балахон, – ответила та.
– И-и, Катюша, ложись-ка спать лучше!
Екатерина Васильевна не ответила. Она сосредоточенно думала о чем-то, уставившись на пестрый узор ковра и почти не моргая.
– Вот что, няня, – наконец сказала она, – оставь меня одну, мне хочется быть совсем одной. Ступай спать!
Старушка нехотя простилась с нею и медля, не остановит ли ее графиня, вышла из комнаты.
Скавронская дала ей уйти, прислушалась, потом быстро подошла к дверям, заперла их и, пройдя несколько раз скорыми шагами по комнате, села к письменному столику.
«С первой же минуты, как я увидела Вас, – стала она писать по-французски, и слова у ней быстро шли одно за другим, не останавливаясь, потому что мысль бежала слишком скоро: и рука едва поспевала за нею, – как только мы встретились (я помню живо этот день и час), я почувствовала, что в Вас в первый раз в жизни встретила человека, который для меня слишком выдавался среди людей, был более чем заметен… Вы приехали на другой день, потом опять. Мы сблизились, как только, узнав друг друга, поняли, что мы давно знакомы… Я не знаю, но я по крайней мере думала так…
Ваши рассказы, которых я не могла не слушать с живым вниманием, Ваш смелый разговор, манера, вечная Ваша борьба и деятельность невольно притягивали к себе.
Сначала я думала, что это – простое любопытство, простой интерес ко мне, потом я ничего не думала, только ждала Вашего прихода и невольно оживлялась, когда Вы были тут. Наконец сегодняшний вечер уяснил мне многое… Я поняла, что мы оба – я, замужняя женщина, обязанная сохранить честь имени, которое ношу, и связанная навсегда с человеком, которого пред Богом и людьми назвала моим мужем, Вы – связанный тоже обетом, вы, честный человек, неспособный на ложь и обман, – мы оба, повторяю, были на скользком пути…
В настоящую минуту я как-то безжизненно спокойна и, мне кажется, могу рассуждать, по крайней мере, хочу делать это; но пройдет еще немного времени, и, я чувствую, всякое благоразумие оставит меня.
Может быть, уже то, что я сейчас сказала, выходит за пределы этого благоразумия, но я не вольна над собою. Я решилась написать Вам, потому что мы не должны видеться; я знаю, что Вы, как честный человек (другим Вы и быть не можете), поймете меня и поступите именно так, как Вас заставят поступить Ваша Честь и просьба женщины, которая доверилась Вам.
Я пишу Вам, потому что верю в Вас и люблю… Да, я люблю Вас… пусть это будет Вам известно, но молю Вас именно этой любовью: уезжайте, уезжайте как можно скорее и не ищите встречи со мною! Согласитесь, что после этого письма она невозможна и немыслима.
Прощайте навсегда… уничтожьте это письмо. Я не ошибаюсь в себе и твердо уверена, что не ошибусь и в Вас».
Кончив писать, Скавронская, не перечитывая (она боялась сделать это), сложила лист и стала запечатывать его.
На другой день она по-прежнему лежала, покрывшись своей шубкой, на кушетке в маленькой гостиной и, закинув за голову руки, смотрела неподвижным, скучающим взглядом пред собою, слушая тихую болтовню старой няни. А на широком заливе поднявшийся ветерок рябил лазуревые волны, и стройный, красивый корвет «Пелегрино», распустив свою красную хоругвь и поставив паруса, горделиво отплывал из неаполитанской гавани.
XIX. Поединок
Литта стоял на высоком юте своего корвета, опираясь о борт, и смотрел, не спуская глаз, на белеющий амфитеатр Неаполя, постепенно убегавший вдаль.
Сегодня утром, когда он подошел на шлюпке к берегу, у пристани ждал его конюх Дмитрий, которого он вылечил и теперь узнал сразу. Дмитрий делал ему знаки рукой, и, когда Литта подошел к нему, незаметно сунул ему в руку письмо, а затем, сняв шапку и не сказав ни слова, пустился от него в сторону.
Литта тут же, на набережной, распечатал письмо, думая, что это какая-нибудь просьба; но, взглянув на его первые строки, изменился в лице, оглянулся, словно боясь, не подстерегает ли его кто, быстро, жадно, пробежал письмо до конца и спрятал его в карман.
Он вернулся к своей шлюпке и, только очутившись опять на корвете и запершись в своей каюте, снова принялся за письмо, перечитывая каждую его строчку по нескольку раз.
Он не радовался и не огорчался; он сам не мог дать себе отчет в том, что происходило в нем; он только читал и не имел силы оторваться от милых ему строк. Он чувствовал, что эти строки и милы и дороги ему, что в них была новая жизнь, новая, незнакомая до сих пор радость и вместе с тем страшное, невыразимое мучение.
Что было делать ему? Конечно, прежде всего исполнить волю графини, исполнить то, что требовала она, потому что так, именно так следовало поступить.
Но Литта видел, что те силы, на которые он надеялся, готовы были оставить его. На него минутами находила сумасшедшая решимость кинуться к Скавронской, увидеть ее еще раз теперь, когда она получила для него значение жизни, значение всех радостей и счастия, о котором только может мечтать человек.
Но это были только минуты. Литта помнил, что он – именно человек и должен вынести с твердостью то испытание, которое выпало на его долю.
До сих пор его жизнь происходила гладко, все удавалось ему, и тем чувствительнее, тем резче казался ему удар, который посылала ему теперь судьба. Он понял, что до сих пор не знал еще жизни, что она началась для него только теперь, и началась почти со смертельной раны.
Делать было нечего – нужно было решиться на что-нибудь, и Литта, неспособный на долгие колебания, решился. Он вышел на палубу. Ветер, как нарочно, засвежел в эту минуту; взяв рупор, Литта отдал приказание поднять паруса.
Команда, засидевшаяся на месте, весело бросилась исполнять приказание. Литта смотрел на этих словно проснувшихся и зашевелившихся людей, дружно и весело исполнявших свое дело, – как больной, которому делают страшную операцию, смотрит на своих врачей.
Когда «Пелегрино», качнувшись и тоже словно обрадовавшись, двинулся, напрягая свои снасти, Литта стал на ют и взглядом простился с Неаполем.
«Прощай, Неаполь, – думал он, – прощай все и самая жизнь!.. И как это все произошло вдруг! И неужели я ухожу навсегда и навсегда все потеряно?»
Какой-то тайный голос говорил ему, что да – все потеряно, по крайней мере здесь, на земле, уже невозможно счастье.
Долго смотрел Литта по направлению города, наконец он исчез совсем, и берег скрылся из глаз, а граф все еще стоял на корме, словно прирос к ней.
Никуда не заходя по пути, при неизменно попутном ветре они пришли к Мальте.
Энцио всю дорогу не выходил из своей каюты под предлогом болезни. Литта не мешал ему.
Приведя свой корвет в гавань, граф подал рапорт, составил краткий отчет и пошел к приору своего языка, однако не застал его на Мальте. Все это он сделал машинально, совсем бессознательно, по привычке к дисциплине, которая с детских лет укоренилась в нем.
Мальтийские рыцари, когда бывали на своем острове, должны были жить в общем конвенте. По статутам ордена они были обязаны пробить здесь хотя бы в разное время, но в общей сложности не менее пяти лет.
Давно знакомая, размеренная по часам, строго определенная жизнь, охватившая теперь Литту, произвела на него совсем особенное впечатление… Несмотря на свое душевное состояние, он все-таки почувствовал себя «дома», в родной семье, среди товарищей, сейчас же окруживших его и начавших свои расспросы и рассказы.
Но все эти новости про последние посвящения, про распоряжения великого магистра, про схватки с алжирцами, прежде живо всегда интересовавшие Литту, теперь показались ему неинтересными, и он сам невольно удивился тому, с каким равнодушием он выслушивал теперь об этом и не находил нужных слов и вопросов, чтобы вызвать новые рассказы.
Сам он, несмотря на довольно продолжительную отлучку с острова, тоже, казалось, не мог ничего рассказать: теперь все было для него слишком просто, слишком буднично, все, кроме его внутреннего страдания, о котором он только и мог бы говорить, но, разумеется, ни за что никому не хотел открывать его.
Этой перемены не могли не заметить, и стало ясно, что с братом Литтою случилось что-нибудь небывалое.
За обедом, к которому подавались традиционные шесть хлебцев, фунт мяса и кружка вина на человека, – Литта сидел молча в стороне, изредка только, и то лишь для вида, прислушиваясь к гудевшему вокруг него говору. Этот говор и постоянная необходимость следить за собою на людях утомили его, и он, встав из-за стола, вышел, чтобы остаться наедине с самим собою, – в сад, и без цели пошел по первой попавшейся дорожке.
«Ну а что ж теперь? – думал он. – Что же делать?.. и как быть?»
Как всякому человеку, которому всегда кажется, что его собственная печаль есть самая большая и настоящая печаль, Литта думал, что никто и никогда не был еще в таком положении, в котором он находился теперь.
Он, разумеется, не мог знать, в особенности в те минуты, которые приходилось ему переживать, что не один рыцарь его ордена не раз сокрушался о данном им обете, когда наступала пора и молодость брала свое, и что это испытание было одною из переходных ступеней к высшему посвящению.
Братья ордена достойно и твердо вынесли испытание любви; не поддавшиеся ей получали новую силу, и им открывались дальнейшие знания. Но Литта был еще в чаду своей страсти и боролся с собою, стараясь превозмочь ее. Он должен был превозмочь если не ради своего орденского повышения, то ради той, которая была навек связана с другим человеком и жизненный путь которой сошелся с его собственным, врезался в его жизнь, пересек ее и снова разошелся, чтобы никогда уже не сойтись, оставаясь прямым, а, напротив, расходиться все больше и больше. Для того чтобы сойтись им вновь, – нужно было именно свернуть и ему, и ей с прямого пути.
Литта продолжал без устали ходить по начинавшим уже темнеть дорожкам. Сумерки спускались, окутывая своею пеленой засыпавший сад. В готических окнах конвента зажигались огни.
«Боже мой, боже мой! – продолжал мучиться Литта. – И как это надвинулось, словно грозовая туча, и заслонило все!.. И как это пережить одному человеку!»
И ему невольно вспомнилась шестая аркана тайной книги, которую он знал наизусть:
«Берегись! Остерегайся своих решений! Пусть препятствия заграждают тебе путь к счастью. Противное течение готово увлечь тебя и воля твоя колеблется между двумя противоположными сторонами. Колебание, однако, будет для тебя так же пагубно, как и плохой выбор. Иди вперед или вернись, но помни, что путы, сплетенные из цветов, трудней разорвать, чем железную цепь!»
Литта остановился и опустил голову. Песок дорожки заскрипел в это время под мерными шагами приближавшихся к нему людей. Это был рыцарь в полном вооружении, с двумя следовавшими за ним солдатами.
«Что это? Дозор или смена стражи?» – подумал Литта и, поморщившись, что ему помешали, стал ждать, пока они пройдут.
Но офицер шел прямо к Литте. Он подошел прямо к нему, как будто именно его и искал.
Рыцарь был товарищем Литты, которого он знал очень хорошо, но теперь от всей его фигуры веяло официальностью, которая доказывала, что он находится при исполнении своего долга.
– По повелению Великого магистра, – сухо произнес рыцарь, приближаясь к Литте и стараясь делать вид, что поворит теперь не с товарищем, но с совершенно посторонним лицом, – позвольте вашу шпагу и следуйте за мною.
Литта и удивился и вместе с тем не мог не ощутить неприятного чувства вследствие этой новой неожиданности, разразившейся над ним.
– Мою шпагу? – переспросил он.
Рыцарь, не повторяя своих слов, терпеливо ждал в строгом молчании.
Литта знал, что в таких случаях не только неповиновение, но всякая лишняя проволочка хуже всего, и, поспешно отстегнув свою шпагу, подал ее рыцарю. Тот сделал, принимая оружие, малый салют и, ловко и отчетливо отбив поворот, направился к замку.
Литта послушно последовал за ним. Он понял, что дело шло о нарушении им каких-нибудь статутов, и для него, хорошо знакомого с жизнью и обычаями конвента, внезапный арест ничуть не показался странным.
В случае надобности арест рыцаря всегда происходил внезапно, и его тотчас же ввели к судейской комиссии, назначенной заранее Великим магистром для данного дела. Дело обыкновенно подготовлялось тайно и формулировалось раньше, арестованного немедленно приводили к судьям, чтобы не дать ему времени одуматься и тут же снять с неприготовленного первый допрос, считавшийся самым важным.
Очевидно, во время отсутствия Литы произошло что-нибудь, касающееся его, и только ждали его возвращения в конвент, чтобы произвести арест и следствие.
Они прошли маленькою железною дверью прямо из сада в длинный каменный коридор и стали подыматься по бесконечным переходам замка.
XX. Суд
Литту ввели в большой, крашенный восьмиконечными мальтийскими крестами зал с высокими готическими окнами, где собирался совет ордена и где заседал обыкновенно капитул.
Посредине, под портретом великого магистра ла Валетта, в честь которого называлась и столица Мальты, основанная им, – стоял широкий стол под красным покрывалом с белыми крестами. На столе было три канделябра с восковыми свечами, освещавшими комнату.
Судьи, которых Литта узнал сейчас же, сидели в высоких дубовых креслах. На месте председателя был почтенный епископ ордена – человек всеми уважаемый. По правую руку от него сидел барон Гомпеш – представитель немецкого языка, по левую – сморщенный старик, постоянно щуривший из-за темных очков свои маленькие глазки. Литта вспомнил, что этот старик принадлежал к числу тех братьев ордена, про которых ходил слух, что они состоят тайными членами общества Иисуса (ордена иезуитов).
Литта вошел совершенно спокойно, как будто дело вовсе не касалось его, уверенный, что все это – не что иное, как недоразумение, которое сейчас же объяснится.
– Граф Джулио Литта, вы желаете себе защитника или будете сами говорить за себя? – вкрадчиво, почти ласково спросил его епископ.
При появлении Литты судьи встали, и он стоял пред ними посреди залы.
– Я не знаю, в чем меня обвиняют, – пожал плечами граф, – и не припомню за собой никакой вины, a потому не думаю, чтобы была надобность в защитнике.
– Тем лучше для вас, – по-прежнему произнес епископ, – вам сейчас скажут, в чем состоит обвинение, – и развернув лежавший пред ним свиток, он прочел от имени великого магистра, что его преосвященнейшее высочество поручает ему, епископу ордена, совместно с двумя членами (он назвал их по именам, поклонившись слегка в сторону каждого), разобрать дело брата Джулио Литты – по обвинению его в нарушении орденских обетов.
Граф с нескрываемым любопытством прослушал чтение, все-таки не понимая, в чем, собственно, будут обвинять его.
Епископ, по обряду, пригласил судей к их обязанности, и они передали ему свои кошельки с пятью золотыми монетами в знак своего полного беспристрастия и отречения от всяких расчетов при произнесении ожидаемого от них приговора. Затем епископ и судьи сели.
– Вас обвиняют, граф Джулио Литта, в нарушении рыцарских обетов. Готовы ли вы защищаться против этого обвинения? – спросил епископ официальным голосом.
Литта почувствовал, что спокойствие, не оставлявшее его до сих пор, было только кажущимся и что на самом деле горечь обиды и несправедливого притеснения давно возмутила его душу, именно только «казавшуюся» спокойною вследствие слишком сильного волнения. Он сделал усилие над собою и заговорил:
– Какое нарушение? Кто, в чем меня обвиняет? Пусть придут и скажут мне прямо.
– Велите ввести обвинителя! – тихо сказал епископ, обращаясь к сидевшему за отдельным столиком секретарю.
Этот тихий, мерный голос подействовал несколько освежающе на Литту, и он с любопытством стал ждать, какой такой обвинитель явится пред ним.
Секретарь, видимо, старавшийся только об одном, как бы не упустить благовидного предлога, чтобы выказать пред начальством свою деятельность, поспешно махнул рукою в сторону двери.
Часовой, стоявший возле нее, распахнул дверь, и в зал вошел смелыми шагами, приблизившись к столу, Энцио. Литта не мог удержать невольную презрительную усмешку.
Епископ, как бы не обращая внимания на вошедшего, не торопясь перебирал лежавшие пред ним, подшитые одна к другой, разноформатные бумаги, перелистывая их. Энцио стоял не смутившись и ждал с уверенностью в правоте своего дела. Наконец епископ поднял голову и взглянул на него.
– Готовы ли вы подтвердить присягой и клятвою донос ваш? – спросил он, и голос его прозвучал торжественно и внушительно.
– Готов, – ответил Энцио.
– Но помните, что, если этот донос окажется несправедливым и если вы возвели на рыцаря ордена ложное обвинение, вас ожидает беспощадное наказание. Подумайте – время еще есть, – готовы ли вы ответить собственною головою за свой донос.
– Готов! – снова ответил Энцио.
Епископ спросил в третий раз:
– Помните, что из этого зала должен выйти кто-нибудь виновный: или вы, или тот, кого вы обвиняете. Готовы ли вы решиться на это?
– Готов! – третий раз ответил Энцио.
– Повторите же ваше обвинение! – предложил ему епископ, откидываясь на спинку кресла и поправляя висевший на его груди крест.
Энцио как будто ничего лучше этого и не ждал: забрав грудью воздух и прямо, по-военному, глядя на епископа, он заговорил ровно, слегка возвысив голос:
– Я утверждаю, что граф Литта – пусть святая Мадонна будет свидетельницей – нарушил данный им обет целомудрия… В Неаполе мы напрасно потеряли много-много времени вследствие того, что командир, граф Литта, проводил открыто свои дни у графини Скавронской, жены русского посланника, и даже по вечерам, то есть, поздним вечером.
– Это – ложь! – воскликнул Литта.
Припадок бешенства душил его.
Гомпеш взял пачку бумаг и, выбрав одну из них, стал читать:
– Восемнадцатого декабря вы первый раз были в доме русского посла и пробыли восемь часов. Правда это? – спросил он Литту.
Тот постарался припомнить и ответил:
– Может быть.
– Девятнадцатого, на другой день, – продолжал Гомпеш, – вы пробыли там пять часов, двадцатого – шесть, двадцать первого – три, – и Гомпеш прочел самый подробный счет времени, которое Литта провел у Скавронских.
Граф, не ожидавший, что за ним следили таким образом, должен был замолкнуть и подтвердил этот счет, удивляясь, однако, теперь, что каждый день действительно бывал у Скавронских и подолгу. В Неаполе это совершенно не было заметно.
Энцио между тем начал рассказывать длинную и запутанную историю мнимых отношений Литты к Скавронской и божбою на каждое почти слово подтверждал свой рассказ. Все это была самая беззастенчивая, самая наглая выдумка.
Литта удивлялся только, откуда у него берется все это, пытался было перебить, но ему не позволили этого сделать.
Когда Энцио кончил, Литта остановился в недоумении, пораженный положительно: не зная, что сказать, что сделать, – до того все это было необычайно, страшно и бессовестно. Он стоял, закрыв лицо рукой, боясь пошевельнуться, и тяжело переводил дух, не зная еще, что скажет сейчас. Он молчал, собираясь с силами. В огромном зале было тихо, и в этой тишине поскрипывало только перо секретаря, который дописывал показание Энцио.
– Теперь вы слышали обвинение, – проговорил епископ, обращаясь к Литте. – Что вы можете сказать против него?
Граф отнял руку от лица и поднял голову.
– Все это – ложь… ложь такая, с которой трудно бороться и гадко, – проговорил он. – Рассказ этого Энцио голословен, ничем не подтвержден, и весь вопрос сводится к тому, чьим словам вы больше дадите веры: моим ли, как рыцаря, или его словам, как моего подчиненного.
При слове «подчиненный» Энцио задергался весь и замахал руками, хотел заговорить, но его остановили.
– Но чем же вы объясните ваши частые посещения русского посла? – спросил опять Гомпеш у Литты.
Графу очень легко было сделать это.
XXI. Дело выясняется
Известный в истории князь Януш Острожский в начале XVII столетия, в 1609 году, учредил родовой майорат под именем «Острожская ординация». Эти имения, расположенные в лучшей части Волыни, давали до 300 000 золотых в год.
По воле завещателя, в случае пресечения рода, майорат должен был перейти в собственность Мальтийского ордена.
Впоследствии Острожская ординация досталась по женской линии Сангушкам. Но и их род пресекся. Последний же из Сангушков – Януш – вел широкую жизнь и, не обращая внимания на закон о майорате, преспокойно продавал и раздаривал его земли, так что когда после его смерти явились за наследством мальтийцы, то оно оказалось в таком виде, что собрать его было весьма затруднительно.
Тогда-то на помощь им пришла императрица Екатерина II, приказавшая своему послу в Варшаве поддерживать права ордена.
Благодаря этому в Польше образовалось новое великое приорство, и польский сейм постановил ежегодно отпускать в пользу Мальтийского ордена 120 000 золотых, сами же земли Острожского остались в ведении Речи Посполитой.
– Все это так, – проговорил Гомпеш, когда Литта напомнил своим судьям эту историю, – но почему же именно вы, граф, затеяли переговоры об Острожской ординации с послом России в Неаполе?
– Чтобы найти верный путь возвратить ордену его земли, – ответил Литта.
– Но почему же, – спросил опять Гомпеш, – вы именно… со Скавронским, – он заглянул в бумаги и оттуда прочел это имя не без труда, – затеяли переговоры?
– Потому что граф Скавронский женат на родной племяннице князя Потемкина, первого вельможи при русском дворе, – снова ответил Литта.
Судьи стали шептаться между собою.
Епископ просматривал пачку бумаг, содержавшую подробное описание пребывания Литты в Неаполе. Тут были и письма Энцио, и его собственные донесения, и донесения других лиц.
– Реверент Мельцони пишет, – тихим шепотом проговорил второй судья на ухо председателю и подсунул ему еще пачку писем.
Епископ стал перебирать их.
Энцио смотрел дерзко, вызывающе, прямо в лицо Литты. Последний, не видавший его в последние дни, в течение которых тот сидел у себя в каюте и не показывался командиру, удивился происшедшей в нем перемене. В особенности глаза Энцио были странны: мутные, с расширенными зрачками, они бегали беспокойно из стороны в сторону с явною тревогой и беспокойством.
«Да не рехнулся ли он?» – подумал Литта и стал приглядываться к штурману, припоминая отдельные фразы, изредка прежде прорывавшиеся у него, его недовольство и вообще все отношения его к себе, на которые он до сих пор не обращал внимания.
Он сделал два больших шага, испытующе уставившись взором в эти бегавшие глаза Энцио, и, приблизившись к нему, шепнул чуть слышно:
– Ну, когда же ты будешь командиром корвета?
Левая щека Энцио быстро задрожала при этих словах, он отмахнулся рукою и, неожиданно осклабясь, обратился к судьям:
– А я еще имею сказать – и это главное, господа судьи. Уж если быть откровенным, так я буду до конца! Вы знаете, благодаря интригам графа Литты, – пишите, господин секретарь, – обратился он к последнему, – это очень важно! Да, так из-за интриг графа Литты я не могу до сих пор получись командование судном… А ведь я имею право, потому что, если старинное мое дворянство еще не доказано, то во всяком случае мои заслуги очень велики, к тому же мне обещано…
Литта попал на конек Энцио, угадав по его глазам и по предшествующему его поведению, с каким человеком он имеет дело, и Энцио, коснувшись своего конька, стал заговариваться. Слова его полились неудержимо, он не мог уже остановиться. Он с такою же уверенностью, как только что рассказывал про мнимые вины Литты, начал уверять, что командование корветом обещано ему самим «Пелегрино», который приходил к нему ночью и сказал, что никто другой не должен распоряжаться корветом, кроме Энцио, и что если граф Литта будет мешать ему, то он изведет его.
Судьи удивленно, не двигаясь, смотрели на Энцио, епископ улыбался, переводя глаза с штурмана на Литту. На лице иезуита было смущение, а Энцио все более и более горячился, махая руками, захлебываясь, глотая слова и не договаривая, продолжал свой рассказ.
Литта, отойдя назад, со спокойной улыбкой скрестил руки на груди.
Секретарь, перестав записывать, вопросительно посмотрел на председателя, но тот кивнул ему головою, и он снова заскрипел пером, подхватывая на лету слова Энцио.
Тот же самый рыцарь, который арестовал Литту, с тем же самым строгим, деловым выражением отвел его опять по длинному коридору в отдельную комнату.
Тут было чисто прибрано. К стене было прикреплено большое Распятие со скамеечкой для молитвы. Стояли стол с бумагой и принадлежностями для письма, два стула и чистая постель.
– Граф Литта, – спросил его рыцарь, и Литта невольно заметил, как он, вероятно, в первый раз исполняя возложенную на него обязанность, старался не ошибиться и не упустить чего-нибудь, – даете вы слово рыцаря, что не выйдете из этой комнаты до тех пор, пока вас не позовут?
– Даю! – ответил Литта, которому вся эта процедура начинала уже надоедать.
Рыцарь поклонился, осмотрелся кругом, как бы ища, не нужно ли еще исполнить чего-нибудь, и ушел, не утерпев, однако, улыбнуться на прощанье Литте, как бы говоря:
«Я отлично понимаю, что мы – товарищи, да не могу же я не выполнить своего долга».
Литта ничем не ответил на эту улыбку.
Дверь осталась не запертою, окно было тоже отворено, комната помещалась в нижнем этаже, но слово рыцаря, обещавшего не выходить из нее, должно было быть крепче всяких замков.
Оставшись один, Литта опустился на кровать и лег, не раздеваясь. Он закрыл глаза и снова увидел себя в Неаполе. Об обвинении, которое висело на нем, он не думал, хотя понимал, что оно основано не исключительно на показании Энцио, но что были и другие доносы. Во всякое другое время он, может быть, постарался бы разобрать их, но теперь ему было решительно безразлично, обвинят его или оправдают.
XXII. Бред Энцио
Из зала суда Энцио был отведен тоже под конвоем в подвальный этаж, где двери запирались на тяжелые замки и в окна были поставлены толстые решетки.
Он беспрекословно подчинялся тому, что делали с ним, как будто уверенность, что, несмотря на все, верх все-таки останется за ним, не покидала его. Когда дверь запирали на большой железный засов снаружи и привешивали к ней замок, он стоял посреди сводчатой своей камеры и чутко прислушивался к постукиванию, с которым все это делалось. Он ничего лучшего и не желал: пусть их, пусть только оставят его одного и, чем крепче запрут, тем лучше.
Вот наконец последний раз стукнул замок, тюремщик загремел ключами, собирая их, по каменным плитам коридора зазвучали удаляющиеся шаги. Наступила полная, мертвая тишина.
Из высокого, так что нельзя было достать его, оконца, проделанного как раз под самым сводом, пробивался лунный свет и, ложась ровным, ясным четырехугольником с точно повторенным узором решетки на каменный пол, серебрил своим задумчивым матом сырые сумерки свода.
Энцио, хитро улыбаясь, оглянулся и подмигнул себе левым глазом. Он подошел к двери, попробовал, крепко ли она заперта, и снова прислушался, действительно ли удалились шаги в коридоре.
Дверь крепко держалась на своих замках и засовах, и все было тихо кругом.
Энцио, оставшись этим очень доволен, размахнул руками и на цыпочках обошел камеру, бормоча и жестикулируя. Время ему терять было некогда. Час наступил лунный – сегодня было благоприятное число, и «действие» должно было оказаться удачным.
Штурман поспешно скинул верхнюю одежду, распорол подкладку и, нащупав кусок сложенного в три раза пергамента, достал его. Из кармана он вынул кусок алебастра, обточенный в трехгранную призму, а потом, забрав эти вещи, вышел на средину камеры, стал спиною к свету и, расстегнув ворот рубашки, раскрыл его. На груди у него вместо креста было надето окаянное изображение человеческого греха. Энцио поправил его не глядя. Руки его начинали дрожать, глаза блестели, и подбородок с клочком волос ходил из стороны в сторону.
Все это штурман проделал совершенно точно, как было указано в черной книге некромантии, которая была тщательно запрятана в его каюте на корвете и которой он не выпускал из рук все последнее время, сидя запершись у себя.
Сегодняшний день и час у него были вычислены заранее. Сегодня, в сфере, на которую Энцио мог распространить свое влияние, должны были находиться два могущественных духа: Эгозеус и Периоли. Он нашел их имена и заклинания, которым они не могли не подчиниться.
Энцио взял в левую руку алебастровую призму, присел слегка, и, по радиусу на высоте человеческого сердца, начал ровным кругом обводить, назад от себя, то место, на котором стоял. Губы его поспешно шептали бессвязные, непонятные слова.
Окончив круг, он приподнялся, взял призму в правую руку и начертил ею внутри круга треугольник около своих ног, так чтобы основание его приходило у пяток, а вершина была обращена вперед, на две ступни расстояния. Потом, продолжая шептать, он быстро поставил между кругом и треугольником несколько черт и знаков и перебросил через левое плечо назад алебастровую призму.
Наконец он выпрямился, развернул пергамент и стал читать нараспев заклинания с определенным ритмом и ударением. В этих заклинаниях он призывал духов на себя, на свою голову, отдавал им свою душу и всего себя, слова были страшны, и клятвы, которые он произносил, богохульны и нечестивы. Этого тоже требовала книга. Нужно было призвать духа на себя, обмануть его, потому что магический треугольник образовывал вокруг заклинателя непроницаемую преграду для духа, о которую все усилия последнего разбивались, и он не мог коснуться человека, стоявшего в треугольнике, если только тот не оборачивался и не выходил за пределы круга. Вызванного таким образом духа нужно было поработить, для чего имелись также особые слова и движения.
Энцио стоял твердо, опираясь на всю ступню, и повторял мерным, певучим голосом свои заклинания.
Мало-помалу воздух вокруг него начал редеть и словно какое-то мелькание показалось в нем. Это мелькание перешло затем в более плавное движение, и со всех сторон потянулись волнистые нити. Энцио увидел, что «началось», но не испугался – он всего этого ждал.
Нити колебались и пухли и шли вверх с тем движением, как лебедь расправляет свою шею. Вместо белого лунного света, все стало окрашиваться в красный цвет, и тогда вместо нитей воздух закишел безобразными и отвратительными существами.
Энцио знал, что это были ларвы – земные полудухи, исчадие человеческой крови. Он не хотел их. Они пытались ринуться на него, но, разлетевшись спереди, ударились об острие треугольника и скользнули по его сторонам, как волны у упоров моста, не причинив вреда Энцио.
Он увидел, что магическая сила треугольника действительна и треугольник составлен правильно. Нужно было лишь все время стоять лицом к его вершине, потому что нападение могло быть произведено только спереди, а отразить его могла лишь вершина треугольника. Он произнес проклятие ларвам, которые не могли быть пригодны ему, и они исчезли.
Сероватая мгла сменила красный цвет, и Энцио, широко раскрыв глаза и подняв брови, продолжал свои заклинания. Однако несколько минут ничего не было. Штурман настойчиво продолжал свое дело. Он желал добиться явления, желал подчинить себе неестественную силу, чтобы получить могущество, которое и отопрет ему двери тюрьмы, и даст силу обвинить ненавистного командира и все, чего пожелает он.
В стороне, не то под сводом, не то в правом углу мозга, пронеслась какая-то тень, мелькнуло вороное крыло, сгорбленный, мохнатый карл прошел из одной стены в другую. Однако все это было не то.
Простые заклинания все были испробованы: Энцио удвоил их.
Сзади послышались какая-то возня, шуршание, шелест. Энцио не оборачивался. Страх скользнул в его сердце. Оно было холодно, точно кусочек льда остановился в груди, на его месте.
Энцио знал, что страх тут опаснее всего, и постарался прогнать его.
Где-то невдалеке раздался звенящий звук, точно лопнувшей струны – и все стихло. В темном углу, налево, заколебалось что-то прозрачное, бесформенное, переливавшееся в воздухе как жидкость. Потом оно стало сгущаться и приняло наконец форму несколько удлиненного шара. Он блестел противным, синевато-золотым отливом, как осадок грязного масла на воде.
Шар медленно стал приближаться, и по мере его приближения устанавливалась какая-то неуловимая связь между ним и Энцио. Они понимали друг друга. Это было то самое, что звал Энцио, – Периоли.
Дух казался принижен: он видел, что заклинатель неуязвим для него.
Периоли задрожал и перестал быть видимым, но Энцио знал, что он здесь и что стоит ему захотеть – он снова увидит его.
Энцио закрыл глаза и начал последнее, самое страшное, заклинание. Дыхание совсем сперло, ему как будто чувствовался кругом удушливый, смердящий запах серы.
Он открыл глаза, и волосы невольно зашевелились у него на голове: прямо на него из темной, зияющей, как пропасть, глубины несся огромный всадник на огненном коне, совершенно такой, каким был изображен в черной книжке Эгозеус. Он с дикою ненавистью, злобой и бешенством кинулся на Энцио и, ударившись о сферу треугольника, отшатнулся, но затем снова стал нападать, звеня своим вооружением.
Этот ужасный вид и морда огромной фыркавшей лошади, в каких-нибудь двух шагах, были невыносимы для Энцио, он боялся пошатнуться; но чем дольше читал он заклятия против Эгозеуса, тем более свирепел ужасный всадник. Наконец Энцио не выдержал и, вытянув вперед, наравне с плечом, правую руку с выпрямленным указательным пальцем, прикоснулся к ней у локтя левою, тоже подняв ее в одну плоскость с плечом: это был последний символ защиты. Дух исчез.
На место его явился снова шар Периоли. Он начал, опять посредством своей связи с Энцио, убеждать его обернуться, внушал ему, что он уже порабощен им и что теперь Энцио нечего опасаться. Но тот, остановившись немного, снова забормотал заклятие, которое нужно было повторить семьдесят три раза. Тогда дух в его власти.
Периоли говорил, что, обернувшись, Энцио увидит то, что ожидает его впереди. Но Энцио не соблазнился.
Тогда вдруг все страхи исчезли, и вместо каменного свода раскинулся сад, зажурчали фонтаны, невиданные цветы закачались на пышной зелени, послышалась невидимая, чарующая музыка и появился роскошный стол, уставленный яствами и питьями. Чудесные плоды, вина в граненых хрустальных графинах манили к себе. Энцио чувствовал голод, ему давно хотелось пить, но он сделал над собою усилие и не вышел из заколдованного круга.
Стол исчез и на его месте явилась дивной красоты женщина. Распустив свои волнистые волосы по плечам, она полулежала на широкой бархатной подушке и звала к себе.
Энцио закрыл глаза, чтобы не глядеть на видение, но и с закрытыми продолжал видеть тот же сад и женщину и слышать ее призыв. Он двинулся невольно вперед. Она протянула к нему руки. Но он все-таки не вышел из круга, и губы его шептали еще магические слова.
Тогда все снова пропало, и вокруг Энцио рассыпались кучи золота. Ровные, блестящие червонцы засверкали и зазвенели, подкатываясь почти к самым ногам штурмана. Руки его затряслись, и глаза разбежались при виде несметного богатства, которым он мог завладеть, и страшная борьба завязалась в его душе. Он мог горстями, лопатой, как хотел, загрести все это золото и при его помощи овладеть целым миром.
Соблазн был слишком велик. Энцио показалось, что он, опьяненный, делает шаг вперед, и участь его была решена.
На другой день, когда Энцио принесли воду и хлеб, его нашли мертвым в углу камеры. Он лежал, ничком на полу со скорченными от судороги руками, вдали от начертанного им на средней плите круга с таинственными знаками.
XXIII. Великий магистр
Литта провел ночь спокойно, если можно только назвать спокойствием полную неподвижность, происходящую оттого, что все нервы так натянуты, так болезненно раздражены, что малейшее движение становится чувствительным.
