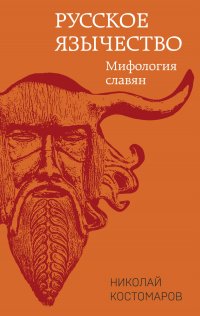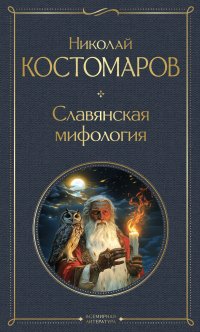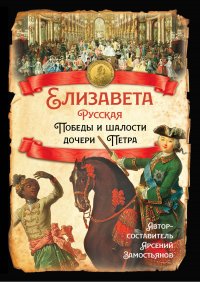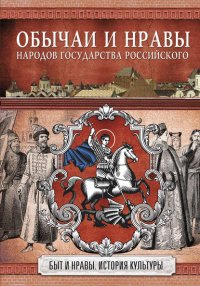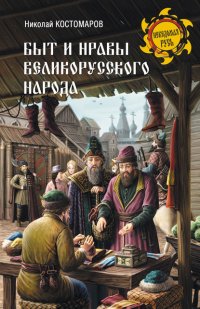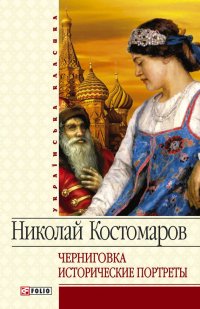
Читать онлайн Черниговка. Исторические портреты бесплатно
- Все книги автора: Николай Костомаров
Черниговка
I
1676 года в июне месяце в город Чернигов воротился черниговский полковник Василий Кашперович Борковский из Батурина, куда ездил по гетманскому зову для войсковых дел. Полковник ехал в колясе, запряженной четырьмя лошадьми, а по бокам его колясы ехало с каждой стороны по верховому казаку из его собственной полковничьей компании. По мосту, построенному через реку Стрижень, коляса въехала в деревянные ворота с башнею наверху, сделанные в земляном валу, окаймлявшем внутренний город, или замок; бревенчатая стена, шедшая поверх всей окраины вала, носила, с первого взгляда на нее, следы недавней постройки. Удар колокола на башне возвестил о возвращении господина полковника. Коляса въехала в один из дворов неподалеку церкви Св. Параскевии, под крыльцо деревянного дома, обсаженного кругом молодыми деревцами, которые были огорожены плетеными круглыми загородками для защиты от скотины. Разом со въездом во двор полковника спешили во двор полковые старшины – обозный, судья и писарь[1], как только услышали звон на башне, возвещавший о приезде полковника. Полковник вышел из своей колясы, взошел на крыльцо и, подбоченясь по-начальнически, ожидал старшин, скоро шедших по направлению к крыльцу и уже на дороге снимавших шапки. Полковник в ответ на их поклоны чуть приподнял свою шапку, ничего им не сказал, а только смотрел на них и повернулся ко входу в свой дом. Старшины последовали за ним, неся в руках шапки. Выбежавшие из дома служители суетились около колясы и вынимали оттуда дорожные вещи. В сенях встречали полковника члены его семьи: жена, сын и две дочери. Не сказавши ни слова семье, полковник обратился к писарю и сказал:
– Пане писарю! Швидше біжи і пиши універсальні листа до всіх сотників: нехай незабаром з’їздяться до Чернігова з виборними козаками[2] із своїх сотень. Поход буде. Припиши ще: которий забариться і не прибуде в термін, той не утече значного військового карання. А вас, панове суддя і обозний, я покличу. Розговор з вами буде. Пан гетьман ординує наш полк в Задніпре на Дорошенка.
Старшины ушли. Полковник вошел из сеней в просторную комнату, уставленную по окраине стены лавками, покрытыми черною кожею, несколькими креслами с высокими спинками и двумя столами, покрытыми цветными коврами. Служитель снял с него верхнее платье. Тогда полковник поцеловался с женою, потом с детьми, которые, подходя к отцу, прежде кланялись ему до земли, а потом целовали ему руку. Полковник приказал служителю подать трубку и расселся в кресле близ стола.
Полковница, матерая женщина лет за сорок, в парчовом кораблике на голове и в зеленой, вышитой серебром сукне, спросила мужа, не прикажет ли он подать что-нибудь поесть и выпить. Полковник поморщился, сказал, что он на дороге поел, а до ужина недалеко, но потом, подумавши, попросил выпить терновки. Ему подала на подносе вошедшая прислужница. Полковник выпил, поставил серебряную чарку на поднос и спросил жену:
– Був хто у нас без мене?
– Новий воевода приїздив, – сказала полковница.
– Який же він з виду? – спросил полковник.
– Так собі чоловічок, – отвечала полковница, – не дуже старий, не дуже молодий; лице йому червоне, трохи дзюбане. А хто його зна, що воно таке єсть! Я спитала його: чи гаразд йому домівка здалася; він одвітив, що добра, і зараз почав сам себе вихваляти. «Зо мною, – каже, – уживетесь, бо я чоловік простий, і правдивий, і з душі, – каже, – полюбив народ ваш малоросійський. Дай Бог, щоб ви мене так полюбили, як я вас». Потім почав говорити по-божественному, про церкви розпитовав, хвалив тебе, що усердствует Божій церкві і храми будуєш.
– Вони, – сказав полковник, – усі такі ласкаві, як до нас приїдуть, а обживуться – так і не такими стануть.
– А я вже, – сказала, переминаясь, полковница, – і про сього прочула не дуже добрую річ.
– Що таке прочула? – спросил напряженно полковник.
– Говорять: через день після того, як сюди приїхав, став допитоваться, які у нас в Чернігові єсть чарівниці, і уже одну, кажуть, приводили до його стрільці москалі із тих, що тут зоставались після прежнього воєводи.
Полковник не отвечал на это ничего, как будто не слыхал того, о чем сообщала ему жена, и завел речь о другом, сообщил, что их полк посылают вместе с другими на Дорошенка понуждать его, чтоб ехал, по данному прежде обещанию, на левый берег Днепра слагать с себя гетманский сан перед князем Ромодановским и гетманом Иваном Самойло́вичем. Полковник изъявил сожаление, что ему не дают времени строить предпринятые здания в Чернигове и беспрестанно отрывают по другим делам. Борковский был большой охотник строиться. Много церковных зданий в Чернигове обязаны ему поправками, прибавками, а иные – появлением на свет. И теперь был он озабочен постройкою братской трапезы в Елецком монастыре, поручал в свое предполагавшееся отсутствие жене наблюдать за начатым делом, вести переговоры с штукатурами и малярами и приказывал ей во всем поступать с совета отца архимандрита Иоанникия Голятовского. Во время этой беседы с женою дети находились здесь же и стояли почтительно у стены: хотя сыну пошел уже двадцатый год, а одной из дочерей – семнадцатый, но они без воли отцовской не смели сесть в присутствии родителя и завести речь с ним, прежде чем он сам за чем-нибудь к ним обратится. С самой женой Борковский хотя был любезен, но постоянно серьезен, и жена, применяясь к его нраву, говорила с ним так, что готова была только исполнять то, что он придумает и ей укажет.
Во время беседы полковника с женою вошел служитель и доложил, что идет новоприбывший в Чернигов воевода. Полковник тотчас встал и пошел к дверям, в которые входил гость. Это был краснощекий, с небольшою круглою русою бородкою, невысокорослый человек, одетый в бархатный кафтан голубого цвета с большим стоячим воротником, вышитым золотом. Кафтан был застегнут на все пуговицы, серебряные, грушевидные, с прорезью. Воевода нес в руке шапку, сделанную наподобие колпака. Его звали Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь, он поклонился полковнику, касаясь пальцами до земли, и сказал:
– Земно и низко кланяюсь высокочтимому господину полковнику! Я новый черниговский воевода, недавно прибыл в ваш город по указу царскому на уряд. Челом бьем и усердно просим любить нас и жаловать и быть к нам во всех делах милостивцем!
И воевода еще раз поклонился, коснувшись пальцами одной руки до помоста.
– И к нам, недостойным царским слугам и подножкам царского престола, просим быть милостивцем и теплым заступником перед царским пресветлым величеством, – сказал полковник, также кланяясь. – Се моя господиня, – прибавил Борковский, подводя к воеводе жену, – а се мої діти, їх же ми даде Бог!
– С боярынею твоею видались мы, – сказал, осклабляясь, воевода. – Как приехал я в Чернигов – первым делом было идти и тебе поклониться, а твоей вельможности тут не было, так я господыню твою милостивую видел и челом ей побил!
Воевода, кланяясь в пояс полковнице и детям, бросил мимоходом на старшую дочь Борковского такой взгляд, в котором опытному наблюдателю можно было отгадать впечатление, какое невольно производит на записного женолюбца вид каждого смазливого женского личика.
Жена и дети вышли. Полковник усадил воеводу в кресло и начал с ним разговор. Немного спустя вышедшая за двери пани Борковская ворочалась снова в сопровождении служанки, которая несла на серебряном подносе графин с водкою и варенье. Полковница просила воеводу отведать ее хозяйственного приготовления, так как она сама наливала водку на ягоды и сама варила варенье.
Воевода, выпивши, по обычаю поцеловался с хозяйкою, потом, обратясь к хозяину, сказал:
– Воистину, видимо, благословение Божие на доме твоей вельможности! Жена твоя яко лоза плодовитая и дети твои яко гроздие вокруг трапезы твоея!
– А у твоей милости, господин воевода, с собою здесь хозяйка? – спросил полковник.
– Нету, – отвечал воевода, – молодым было родители меня женили, да жена, проживши со мною три года, померла.
– Что ж? Господин воевода еще не стар. Может быть, пошлет Бог другую супружницу, – сказал полковник.
– Я тебе доложу, господин вельможный полковник, вот как, – говорил с многозначительным постным выражением лица воевода, – я точно еще не стар, да познал тщету земного жития. О душевном спасении хочу мыслить, а не о телесных сластех.
Полковник бросил жене недоверчивый взгляд и спросил воеводу:
– Твоя милость у нас в гетманщине перво на воеводстве или были прежде еще в каком нашем городе?
– В малороссийских городах пришлось быть в первый раз у вас в Чернигове на воеводстве, а в слободских полкех был воеводою в Харьковском полку в городе Чугуєве; там немного узнал я ваших людей. И скажу твоей вельможности по душе: так полюбил ваш народ, что жалею, зачем не родился вашим человеком! Такие у вас добрые, богоугодные люди, от них же первый и наилучший господин полковник черниговский: об нем далеко слава идет. И в Москве все говорят про то, как он усердствует о благолепии церквей Божиих и как ко всему священному делу навычен и охочен.
– Я последний и найхудейший от многих, – сказал Борковский. – Трудимось в поте лица своего, по Божией воле, да в день судный заступление имамы от Пресвятыя Богородицы.
– Был я, – говорил воевода, – у преосвященного Лазаря, и у отца архимандрита Иоанникия, и у отца игумена Зосимы. Какие это честные особы! Какие умные, сведущие философы! Истинно у нас в московской земле таких не сыщешь, хоть всю землю исходи. И они в един глас про вельможность твою доброе слово говорят да величают честность твою.
– Держимость на свете молитвами оных богоугодных мужей! – сказал Борковский.
Вошел полковой писарь с бумагами.
– Уже написано? – сказал полковник. – То добро – бо к спіху надобно! Всім сотникам?
– Всім, – отвечал писарь.
Полковник закричал, чтоб ему подали каламарь, и подписал один за другим шестнадцать приказов сотникам Черниговского полка. Писарь, забравши бумаги, ушел. Вслед за тем служитель доложил, что у крыльца дожидается сотник черниговской сотни. Борковский приказал позвать его.
Вошел молодой, лет тридцати, мужчина, статный, белолицый, черноусый, с высоким открытым лбом, с большими глазами. Это был тогдашний сотник черниговской полковой сотни Булавка. Поклонившись полковнику, он обвел большими глазами вокруг себя и на мгновение остановил их на госте, как будто желая спросить полковника: можно ли при нем говорить о том, за чем пришел; потом, успокоившись от раздумья, начал полковнику говорить:
– Вашої вельможності прийшов спитать: будеть поход, як зараз прийшов лист от твоєї вельможності; чи можна мені оставить в городі і не брать в поход швагра мого, козака Молявку-Многопеняжного, бо він заручився і йому треба весілля грать?
– Того ніяк не можна! – сказал строго полковник. – Коли твого швагра зоставить задля весілля, то другі козаки почнуть собі просити, аби їх зоставили. Хто задля весілля, хто задля похорон, а хто вигада собі інше що-небудь… Не позволю: не прохай! Нехай твій швагер підожде; вернеться з походу – тоді і весілля справить. Де твій швагер заручився?
– У козака Пилипа Куса, – сказал сотник. – Одиниця дочка у батька. Коли жодною мірою не можна зоставить мого швагра, так чи не можна тепер, у Петрівку, повінчать його, а весілля справлять тоді вже, як Бог дасть з походу вернуться?
– То вже не наше козацьке діло, а церковне, – сказал полковник. – Нехай просить владичного розрішення у преосвященного Лазаря, а я, полковник, од себе противності не маю. Нехай собі вінчаються, коли владика дозволить. Тільки ми в поход виступаєм в неділю, а післязавтра субота. Швагер твій мусить бути в поході.
– Как? Разве это у вас можно? – заметил воєвода. – Вы, кажись, православного закона! Как же это? В Петров пост свадьбу праздновать?
Полковник отвечал:
– Власне, забороняється в постни дні свадебное пиршество – весільна гулянка, по-нашому, – а щоб совершить обряд церковний – на те потрібно тільки розрішення архієрея; аще архієрей знає, що праздника весільного і гулянки в піст не буде, то й розрішить. У нас, господин воєвода, такий єсть обичай од дідів і прадідів, що муж з жоною сожительствують і уважаються перед всім світом у брачному союзі, або, як у нас говориться, в малженстві, тільки з того часу, як справиться весілля у молодої і молодого, по нашому звичаю, як воно ведеться в народі нашім, а до тієї пори молода ходить як дівиця і головою світить, і ніхто її за мужатую невісту не уважає, аж поки на весіллі не покриють. Тим-то у нас архієрей можеть розрішити вінчання у піст, аби тільки знав, що до кінця посту не будуть справовати весілля.
В продолжение этой объяснительной речи сотник Булавка стоял, потупивши голову, но изредка с любопытством бросал взгляды на воеводу, а тот жадно слушал полковника.
– Странные для нас, русских московских людей, дела рассказываешь ты, господин полковник, – сказал воевода. – Такого ничего не делается у нас, в московской земле. Однако и то справедливо говорят добрые люди: что город – то норов, что край – то свой обычай. Греха тут, я думаю, нет. У вас исстари так повелось, а у нас не так, а вера у нас все-таки одна остается, хоть, видишь, вон что у вас архиереи разрешают, а у нас никто к архиерею об этом и просить не посмеет пойти. У вас, – прибавил он, обращаясь не к хозяину, а к сотнику, – и при венчанье, может быть, такое творится, чего у нас нет?
– Не знаю, – отвечал Булавка, – я в Московщині не бував і не бачив, як у вас там діється.
– Непременно пойду в церковь, как будет венчаться казак, шурин этого сотника, – говорил воевода, обращаясь к Борковскому. – Прикажи, господин полковник, меня известить, я пойду!
– Сам с твоею милостию пойду! – сказал Борковский.
Сотник хотел уходить, но полковник приказал ему остаться. Воевода понял, что полковник имеет сказать сотнику нечто наедине, попрощался с хозяином и, провожаемый им в сени, ушел в свой двор, отстоявший от полковничьего саженях во ста.
Воротившись опять в комнату, Борковский сказал:
– Пане сотнику! Узнай ти мені, яку се чарівницю кликав до себе сей воєвода, як кажуть.
– Мені узнавать сього не приходиться, вельможний пане, – сказал Булавка, – бо я вже знаю. Приходила до його Феська Білобочиха, а приводив її стрілець Лозов Якушка. А за чим єї звано, того не знаю.
– Поклич єї зараз до себе, а як прийде – пришли з козаками вартовими до мене, – сказал полковник.
Сотник быстро ушел. Борковский велел позвать обозного, судью и писаря, разговаривал с ними о делах полковых и о походе. Наконец служитель доложил, что казаки привели бабу Белобочиху.
Обозный, судья и писарь при этом имени разом засмеялись.
– Що ви, панове, смієтесь? – сказал со строгим видом полковник.
Судья сказал:
– Вибачай, вельможний пане, либонь, яка справа точиться соромотна. Баба та Білобочиха відома сводниця в Чернігові!
– Еге ж! Добре, панове, що ви лучились, – сказал Борковский. – Увійдіте у другий покой і слухайте там, що стане казать мені ся Білобочиха.
Обозный, судья и писарь вошли по указанию хозяина в другую комнату, следовавшую за тою, где происходила беседа. Ввели казаки бабу Белобочиху. То была низкорослая, с короткою шеею женщина лет пятидесяти, с маленькими, простодушными и вместе лукавыми глазками.
Полковник подошел прямо к ней с очень строгим и суровым видом и сказал:
– Бабо! чаклуєш! чарівничуєш! людям шкоди робиш! Ось я тебе пошлю до владики, щоб на тебе епітем’ю наложив да в монастир на працю заслав років на два або й надовше.
– Я нікому шкоди не діяла! – говорила баба, перекачивая голову и отважно глядя на полковника. – А коли хто покличе пособити в якій болісті, то не одмовляюсь, і твоя милость коли позовеш, то прийду і все подію, що можна і як Бог пособить.
– Брешеш! – сказал полковник. – Чого ти ходила до воєводи?
– А прислав звать, тим і ходила, – сказала Белобочиха.
– А по віщо прислав за тобою? Чого од тебе хотів? – спрашивал полковник.
– Та, – запинаясь, говорила баба, – казав про свою якусь хворобу, а я таки гаразд не второпала, що він там по-московськи мені казав; я йому одвітила: «Нічого не знаю». Да й пішла од його.
– Брешеш, бабо! – сказал полковник. – Не за тим тебе звано, не те воєвода казав тобі, не такий ти йому одвіт дала. Ей, козаки! – обратился полковник к тем казакам, которые привели Белобочиху. – Виведіть сю бабу на двір да й сполосуйте їй спину дротянкою-нагайкою.
– Пане вельможний! – вскричала Феська. – Я не стану доводить себе до нагайки. Скажу й без неї. Воєвода питав мене, чи не можна добуть йому дівчину красовиту: «Бо, – каже, – одинокий я чоловік, скушно спати». Таку, каже, дівку, щоб до його уніч ходила.
– А ти йому що на те сказала? – спросил полковник.
– Я сказала, не знаю… За таке діло ніколи не бралась! – отвечала Белобочиха.
– Брехня! Не те йому ти одвітила! – сказал Белобочихе полковник, потом, обращаясь к казакам, присовокупил: – Покропить їй нагайками плечі!
– Пане вельможний! – закричала Белобочиха. – Змилуйся! Всю правду скажу, тільки не виказуйте мене воєводі; він мене тоді з світа зжене, бо він звелів нікому того не виявляти, що мені казав.
– Моє полковницьке слово, що не скажу, – отвечал полковник, – і бити не буду, аби тільки правду сказала. Говори, да не тайся! Що одвітила? На яку дівку указала?
– Отже, всю правду повідаю, – сказала Феська. – Питав мене воєвода: яка тут у Чернігові красовитіша дівка? А я йому сказала, що як на моє око, так нема кращої над Ганну Кусівну, що отеє, як кажуть, просватана за козака Молявку. А воєвода каже: «Где би мені її увидить?» А я йому кажу: «А де ж? У церкві». А він казав, щоб я узнала, у якій церкві буде та дівчина, так він туди піде, щоб її повидати. От і все. Більш розмови у мене з воєводою не було. От вам хрест святий! – и Феська перекрестилась.
Полковник, разговаривая с кем бы то ни было, по выражению глаз и звуку речи отлично умел узнавать, правду ли ему говорят или ложь. На этот раз он заметил, что Белобочиха не лжет, и от ней он более ничего не добивался, а потому и отпустил. Феська убежала во всю старческую прыть, довольная тем, что избавилась от грозившей ее плечам дротянки.
– Чули, панове? – спросил полковник вышедших из другого покоя старшин.
– Чули, все чули! – был ответ.
– Так мовчіть поки до часу, а як час прийде, тоді ми заговорим, і, може, пригодиться те, що тепер чули!
II
Много цветов в садах зажиточных казаков, а между цветами нет ни одного такого, как роза. Ни крещатый барвинок, ни пахучий василек – ничто не сравнится, как говорит народная песня, с этой розою, превосходною, прекраснейшею розою. Вот так же: много красных девиц в городе Чернигове, и ни одна из них не сравнится с Ганною Курсивною – дочерью казака Пилипа Куса. Много писателей восхваляло в своих описаниях красоту женскую, так много, что если бы собрать все, что написано было в разных краях и на разных языках о женской красоте, то никакого царского дворца недостало бы для помещения всего, написанного по этой части. Но, правду сказать, если б стало возможности прочитать все написанное о женской красоте, то едва ли много оказалось бы там такого, что было бы выше одной истинной красавицы, существующей не в книгах, а в природе.
По этой-то причине мы не станем изображать красоты Ганны Кусивны, а скажем только, что в течение трех лет оного времени в Чернигове кого бы ни спросили, кто из девиц черниговских всех красивее, все водно сказали бы, что нет красивее Ганны Кусивны; не сказал бы разве тот, кто уже полюбил другую девицу, так как всегда для влюбленного никакая особа женского пола не кажется прекраснее предмета его любви. Само собою разумеется, много было желавших получить ее себе в подруги жизни, – и как же должен был казаться счастливым тот, кому обещала красавица свое сердце! Эта завидная для многих доля выпала казаку Яцьку Феськовичу Молявке-Многопеняжному.
Ходит красавица в своем рутяном садочку, молодец подстилается к ней пахучим васильком, крещатым барвинком, ясным соколом пробирается молодец сквозь калиновые ветви, поймать хочет пташку-певунью, унести ее в свое теплое гнездышко. Вот сквозь ветви зеленых дерев блестит полуночное небо с бесчисленными звездами, всходит ясный месяц, и полюбилась ему одна звездочка паче прочих, – и месяц гоняется за нею, хочет схватить звездочку в свои объятия. А молодец Яцько Молявка-Многопеняжный посреди многих девиц черниговских полюбил паче всех прекрасную Ганну Кусивну и хочет ввести ее хозяйкою под свой домашний кров.
А в хате казака Пилипа Куса при свете лампады сидит пожилая Кусиха со свахою и с молодою дочерью Ганною. Они дожидаются старого хозяина казака Куса с его молодым нареченным зятем; вместе отправились они к владыке Лазарю Барановичу и воротятся с приговором судьбе Ганны Кусивны. С нетерпением мать и дочь прислушиваются к каждому звуку за окнами, за стенами хаты, на дворе и на улице, мало говорят между собою – все только слушают. Вот, наконец, заскрипели ворота, кто-то въехал во двор. Ганна бросается к окну, вглядывается во двор, озаренный лунным светом, и в тревоге восклицает:
– Матінко, се наші!
Вошли в хату казак Пилип Кус и казак Яцько Молявка-Многопеняжный.
Познакомимся теперь с обоими поодиночке.
Пилип Кус был казак лет сорока с лишком, плечистый, белокурый, с лысиной на передней части лба; в его волосах чуть пробивалась седина. По отсутствию морщин на лице и по веселым, спокойным глазам проницательный наблюдатель мог понять, что жизнь этого человека проходила без больших потрясений и без крупных несчастий. В самом деле, за исключением немногих неприятностей, без которых вообще не обойдется земное бытие, этому человеку выпала такая доля, какую в тогдашней казацкой Украине мог иметь далеко не всякий казак. Родился Кус в Чернигове, где и теперь проживал, родился в семье не очень богатой и не очень бедной: у Кусова отца, как и у Кусова деда, всегда было что съесть, и выпить, и во что одеться, и нищему подать Христа ради. И у нашего Куса жизнь повелась точно так же. Раза три приходилось ему ходить в поход с прочими казаками своего полка, но ранен он не был ни разу; только навела было на него скорбь смерть его тестя, казака Мурмыла, убитого в схватке с поляками. Но ведь это что за несчастье в казацком быту, когда каждый казак с детства привыкает к мысли потерять в бою кого-нибудь из близких или самому положить голову! Пилип женился лет двадцати от роду, взял в приданое за женою кусок земли в седневской сотне дней[3] в тридцать и жил с женою в полном согласии. У него, кроме жениной земли, был в верстах в осьми от Чернигова еще и отцовский участок с рощею, где стояла его пасека, и было у Куса довольно земли, так что Кус землю свою отдавал другим с половины. У Кусов было четверо детей, но трое умерли в младенчестве; уцелело четвертое дитя, дочка Ганна, которую теперь собирались родители отдавать замуж.
Жених Ганны Кусивны происходил от предков не из казацкого рода и был захожим человеком в Чернигове. Дед его, Федор Молявка, жил в Браславе и отдавал деньги в рост; за это какой-то дьячок приложил ему кличку Многопеняжный, и такая кличка привилась к его роду. Сыновья Федора наследовали, вместе с этой кличкой, любовь к отцовскому промыслу и возбуждали своею алчностию слух о несметном своем богатстве. Казацкий гетман Павло Тетеря, нуждаясь в деньгах, прицепился к одному из них, Феську Федоренку, требовал от него денег; Фесько, расставшись поневоле с тем, чего нельзя было укрыть, клялся всеми святыми, что у него более ничего нет, но Тетеря подверг его пытке, от которой Фесько и умер. Скоро, однако, Тетеря был разбит Дроздом и выгнан из Украины. Но Дрозду нужны были деньги, так же как и Тетере, и Дрозд принялся за вдову Феська, взмылил ей спину нагайками, допрашивая, куда запрятаны у ней мужнины деньги, не добился признания и посадил ее в тюрьму.
Через месяц после того Дрозд был разбит Дорошенком, отведен в Чигирин и там расстрелян. Вдова Феська освободилась из тюрьмы, но опасалась, чтоб и Дорошенко не стал делать с нею того же, что делали Дрозд и Тетеря; она поспешила выкопать из-под земли зарытые мужем червонцы и вместе с сыном и дочерью ушла на левую сторону Днепра. Два брата Феська еще прежде перебрались туда с женами и где-то поселились в слободских полках, куда, как в обетованную землю, стремились тогда переселенцы с правого берега Днепра. Вдова Феська Молявки-Многопеняжного не пошла слишком далеко искать новоселья, а по совету родных своих приютилась в Чернигове, выпросила себе место для двора и там построилась, как следовало. Дочь ее вышла замуж за Булавку, который потом сделан был сотником черниговской полковой сотни, а сын, который был моложе сестры своей несколькими годами, отдан был в обучение чтению и письму, а потом записан в казаки.
Грамотность была далеко не повсеместна между казаками, однако уже уважалась, и Молявка-Многопеняжный через то уже, что умел читать и писать, мог надеяться повышений в казацкой службе. Ему был двадцать второй год от роду, когда он увидал Ганну Кусивну и задумал на ней жениться. Яцько был под пару Ганне – чернобровый, кудрявый, становитый, писаный красавец и не беден, как говорили; кроме двора, у него никакой недвижимости в Чернигове не значилось, но слухи носились, что у его матери были деньги, а сколько было денег примерно, того не говорил никто, и сам сын не в состоянии был сказать. Несчастия, перенесенные его матерью из-за денег, сделали ее скупою и скрытною. Кто бы с нею не заводил разговор, она первым делом хныкала и жаловалась на сиротство, беспомощность и бедность и каждому рассказывала, как у ее мужа отнял деньги и самого замучил Тетеря.
Когда сын объявил матери, что замыслил жениться, мать сперва не слишком желательно приняла эту новость, но не стала сыну перечить, когда узнала, что Кус – казак не бедный и дочь у него единственная. Мать Молявки-Многопеняжного отправилась в гости к Кусихе и скоро сошлись с нею; всегда веселая, спокойная, добродушная Кусиха хоть кого могла привязать к себе. Обе старухи были вместе, когда Кус и Молявка-Многопеняжный вошли в хату.
– Ану, що? – спрашивала бойкая, словоохотливая и привередливая Кусиха. – Чи з перцем, чи з маком?
– По-нашому сталось. Чого ходили, те і добули! – сказал торжествующим тоном Кус. – А чи з усім по душі те буде нашому коханому зятеві, про те його вже спитайте.
– Не оставляють весілля грать? – спрашивала Молявчиха-Многопеняжная.
– Нізащо! – сказал Яцько. – Полковник аж розсердився, грізно глянув на мене і проговорив: «Коли станете докучать, то не дозволю тобі і ожениться».
– Ну як-таки він не дозволить? Де такий закон єсть, щоб не дозволив жениться полковник козакові? – говорила мать.
– З панством не зволодаєш, – сказал Молявка. – Що каже панство, нам те й робити, бо як не послухаєш, то що з того буде? Тоді хоч зарані п’ятами накивати треба, а коли на місті зостанешся під панським региментом, то пан коли не тим, то другим тебе дошкуля! От і мені так: «Ти, – каже, – в виборі стоїш записаний!» А я кажу: «Се коли твоей милості ласка буде, так вельможний пан може…» – і не договорюю, тільки кланяюсь низько. А він зупинив мене та й каже: «Що може вельможний пан, про те не тобі розважати, бо єси ще молодий, а вельможному панові те не подобається, щоб ти зоставався тут, а хоче пан, щоб ти з іншими вибірними йшов у поход!» А що ж? Має свою рацію. Скачи, враже, як пан каже!
– Правда то правда, сину! – подхватил Кус. – Подначаліне діло наше. Повинні-сьмо слухати владзи. От, прикладом, хоч би і я! Мене вже давно не вписують у вибори, а здумалось би так панству, сказали б: «Йди, Кусе», – і Кус чи хоче, чи не хоче, а мусить йти.
Молявка подсел к невесте и начал с нею говорить почти шепотом, так что другим не слышно было речей его. Невеста, слушая его речи, то улыбалась, то кивала одобрительно головою. Впрочем, если б и можно было слышать их разговор между собою, то передавать на бумагу разговоры между женихом и невестою довольно трудно. Бывает в таких разговорах бессвязица, а они все-таки бывают кстати и доставляют приятность тем, которые их ведут. Кусиха вышла из хаты, потом воротилась уже в сопровождении наймички; обе несли скатерть, оловянные тарелки, ножи, ложки, хлеб и водку в склянице. Послали скатерть, поставили на ней пляшку с водкой и положили хлеб. Тогда наймичка вышла в другую хату, находившуюся через сени, в которой обыкновенно топилась печь и готовилась єства, а хозяйка просила всех садиться за ужин, сама же из шкафа, стоявшего направо от порога, вынула серебряные чарки и поставила на столе.
Выпили по чарке настойки, заели хлебом и оселедцем. Наймичка внесла большую оловянную мису с рыбною ухою, потом ушла снова и воротилась с оловянным блюдом, на котором лежали жареные караси, а молодая Кусивна, пошедши в чулан, находившийся в сенях, принесла оттуда деревянный складень с сотовым медом. Затем наймичка внесла на оловянной мисе целую гору оладий и ушла. Наймичка сама не садилась за стол: работники прежде вечеряли сами, потому что хозяева в этот день собрались ужинать позже обыкновенного.
– Коли ж їх вінчатимуть? – спрашивала Молявчиха.
– Післязавтра в неділю, – сказал Кус. – Як одійде рання служба у святого Спаса. Владика проказав нам науку, як треба жити, да вже так дуже письменно й ладно, що ми не дуже-то і второпали; не знаю, як зятенко, а я, грішний чоловік, нічого до пуття не зрозумів з того, що він казав. Чув тільки про якийсь виноград, да про лозу, да про якогось там жениха і дів мудрих і буїх: хто його зна, до чого воно там у них приходиться! А от що, так уже ми добре зрозуміли, так добре: щоб, казав, молоді, повінчавшись, зараз, вийшовши з церкви, розійшлись і не сходились одно з другим, аж поки піст сей не скончиться. Піде, каже, молодець у поход на царську службу: коли, Бог дасть, живий і здоровий вернеться, тоді нехай уступає в сожитіє і весілля по вашому обичаю собі отправите. А тепер, говорить, не можна, і щоб не було у вас ні музики, ні танців, ні пісень.
– Се все ченці видумали, – заметила Кусиха, – щоб і у Петрівку гріх був навіть співати! Але ж дівчата на улицях коли ж і співають, як не у Петрівку. Преосвященний сам чує, сидячи в своєму монастирі, як вони співають. Чому ж не увійме їх? Хіба на улиці менш гріха співати, ніж весілля справлять?
– На все свій час положено законом, – сказал Кус. – Вони люди розумні і вченії: усе знають – за що од Бога гріх, а за що нема гріха. Нам тільки слухать їх і чинить, як вони велять.
– Істинно розумно і премудро говорить сват! – сказала мать жениха. – Що воно єсть весілля, так се тільки люди повидумували, щоб гуляти да тратитись. Настоящого пуття з того немає. Повінчались – і всьому кінець. То Божий закон, а що весілля – то витребеньки!
– Як можна, свашенько! – сказала Кусиха. – Од дідів і прадідів бог зна з якого часу то повелось, і того змінять не можна. Да і що б то за життя наше було, якби весілля не було! Один раз молоді поберуться між собою, у їх тоді як би весна! От як по весні вся твар заворушиться і так стане хороше і весело, що і старі неначе помолодшають; от так же як молода людина з другою молодою зійдуться і спаруються, тоді і нам, старим, стане якось весело, аж дух радується, коли на їх дивишся, і старі наші кості розімнуться, і спом’янемо свої літа молодії.
– Аже ж і владика не казав, що веселиться не треба о́всі, а казав тільки, щоб у Петрівки весілля не справляти, бо єсть піст, – заметил Кус, – а владика тут же прибавив: «Коли минуть Петрівки, тоді, – каже, – справляйте собі весілля по вашому звичаю». А до мене владика так промовив: «Повінчаються діти, ти, старий, бери дочку за руку, веди з церкви додому й держи за приглядом, аж поки зять твій з походу не вернеться, щоб часом не звонпила і дівоцтва свого не втеряла».
– Наша Ганна не таківська, – сказала Кусиха, – і преже ніхто про неї не смів недоброго слова промовить, худої слави боялась, – а тепер, коли жених є, то вона буде його дожидати і об нім тільки думатиме, а більш ні об чім.
– А вже, – сказала Молявчиха, – коли б тільки Яцько вернувся з того походу щасливо, то ліпшої пари йому би і не найти. Тільки – всі ми під Богом. Буває часом і так: повінчались, побрались, тільки б жити, да поживати, да добра наживати, а тут…
– А тут, – перебил ее охмелевший Кус, – вернеться молодець, учистимо весілля на славу. Я, старий, покину свою стару, бо огидла, ухоплю за руку другу стару, свою любу сваху, да з нею в танець піду. От так!
И с этими словами он схватил за руку Молявчиху и потащил ее с лавки на середину хаты.
– А своя стара тебе за полу смикне і не пустить, – сказала Кусиха, удерживая мужа за полы его кунтуша.
Молявчиха упиралась и говорила:
– Змолоду я не була охоча до сих танців, а тепер на старощах об могилі помислити, а не об танцях!
– Батько-тесть шуткує, – сказал Молявка, – аже ж не все трощиться да журиться, і пошутковать можна трохи. Чи так, моя ясочко? – прибавил он, обращаясь к Ганне.
Ганна, улыбаясь, отвечала наклонением головы.
– Поживемо з тобою вкупі, скільки Бог велить, – продолжал Яцько, обращая речь к невесте, – поживемо, і по-старіємось, і дітей наживемо, і станем їх паровати, тоді спом’янемо, як чудно ми самі спаровались! Прийшлось нам повінчатись, да зараз і розійтись, як дві хмарки, тільки ненадовго.
– Мені здається, – сказал Кус, – се вже останній поход буде на сього пройдисвіта Дорошенка: от уже третій год манить наших, обіцяє приїхать і своє гетьманство здать, а потім знову збирається бусурман вести на руїну християнську. Тепер уже, мабуть, прийде йому кінець.
– А може, й так станеться, як сталось торік і позаторік, що ходили, походили да назад вернулись, нічого не вдіявши, – сказала Молявчиха.
– А що б ти, свахо, здорова була: навіщо ти нещастя пророкуєш? – сказал порывисто Кус. – Бог єсть милостив: на його уповають царі і владики: Бог – утіха християнству й смирить бусурманську гординю. На його надіємось!
– Вибачайте мені, дурній, свати! – сказала Молявчиха. – Бо я дуже вже з лихом спізналась за своє життя. Се непереливки! Мій добрий чоловік – царство йому небесне, не нажилась я з ним: погубили його прокляті недбляшки! А мене саму хіба мало мучили і катовали! На плечах досі шрами видко, як Дрозденко, собачий син, отполосовав нагайкою-дротянкою! По правді йому, бісовому, сталось: пізнав, мабуть, лютий катюга, як-то боляче людям буває, як йому заліпили кулі у груди! Тим оце я, дурна, як згадаю, що було колись зо мною, так і думаю: як би не стряслось знову якого лиха! Вибачайте мене, панство свати!
Молявчиха встала с места и поклонилась Кусу и Кусихе.
– Знаємо, свахо, знаємо добре, що тобі немало Господь посилав лиха, та все те вже минуло і не вернеться. Як з нами ти поріднилась, так з тієї пори все лихо минуло. Поцілуємось да вип’ємо добру чарку! – сказал Кус, выпивая и подавая Молявчихе чарку с горелкою.
– Дай, Боже, нашим любим діткам проміж себе кохатись і довго жити в щасті і здоров’ї! – произнесла Молявчиха, выпивая чарку и передавая Кусихе.
– Дай, Боже, – сказала Кусиха, – вмісті з нами глядіть і не наглядіться на їх коханнячко і не налюбоватись їх щастям!
– А нашим любим і шановним родителям велика і нескончаема до нашої смерті дяка за те, що нас вигод овали, і до розуму довели, і нас спаровали! – сказал Молявка, выпивая горелку из чарки и передавая чарку невесте.
– Вам, тату й мамо, нехай Бог воздасть за мене, що мене згодовали, викохали, до розуму довели і за любого Яцька заміж оддаєте! Дай, Боже, вам обом довгого віку й здоров’я! – провозгласила Ганна, поклонилась родителям и выпила.
– Дай, Боже, щастя, здоров’я на многая літа усім! – провозглашали все и разом наливали горелки в чарки и выпивали.
– Ходім, сину, час уже додому, – сказала Молявчиха. – Як вернешся з походу, зберемось тоді знову до панства сватів да заберемо молоду княгиню: буде вона моїм старощам підмога.
– Буде вона, – сказала Ганна, – веселити матінку свого любого Яця ласкавими словами, буде слухняна й шановлива.
– Яка ти добра, яка ти гарна!.. Моя ясочко! – сказал с чувством Молявка.
Кус с женою и дочерью проводили старуху и сына ее за ворота.
Месяц обливал серебристо-зеленым светом крыши черниговских домов, вершины деревьев в садах и рощах, лучи его играли по ярко вызолоченным крестам недавно обновленных церквей.
III
В субботу, на другой день после того, когда происходило описанное выше, съезжались в Чернигов из ближних сотен сотники со своими выбранными в поход казаками: белоусовский – Товстолис, выбельский – Лобко, любецкий – Посуденко, седневский – Петличный, киселевский – Бутович, слобинский – Тризна, сосницкий – Литовчик; другие, которых сотни лежали далее, выезжали прямо, чтобы на дороге присоединиться к той части полка, которая выступит из Чернигова. У кого из казаков в Чернигове были родные или приятели, тот приставал в их дворы, другие располагались за городом в поле при возах и лошадях. Некоторые казаки не везли с собою воза, а вели навьюченную своими пожитками лошадь, привязавши к той, на которой казак сидел сам. Каждый сотник, приезжая в Чернигов, являлся к полковнику и не с пустыми руками: один нес ему «на ралець» зверину или птицу, застреленную у себя, другой – рыбу, пойманную в реке или озере своей сотни, кто приводил вола, кто лошадь, кто овцу. Борковский приказывал служителям принять принесенное, объявлял каждому сотнику, что надобно будет идти в поход в воскресенье после литургии, и приглашал всех сходиться к нему на хлеб, на соль перед выступлением.
В воскресенье зазвонили к обедне. Прибывшие казаки пошли по церквам, но не все; иные оставались беречь возы и лошадей своих и товарищеских. Зазвонили и в церкви Всемилостивого Спаса. Это древнейший из русских храмов. Всегда мог и до сих пор может гордиться Чернигов перед другими русскими городами этим почтенным памятником седой старины. Построенный князем Мстиславом Володимировичем еще ранее киевской Софии, после разорения Чернигова, случившегося во время Батыя, этот храм оставался в развалинах до самого полковника Василия Кашперовича Борковского, который недавно оправил его на собственный счет, а Лазарь Баранович только в текущем году освятил новопоставленный в нем престол и назначил к возобновленному храму протоиерея и причт церковный. Кафедральным соборным храмом была тогда церковь Бориса и Глеба; впрочем, архиепископ Лазарь до того времени хотя и считался черниговским архиепископом, но проживал постоянно в Новгороде-Сиверском; он только недавно полюбил Чернигов и стал в нем жить, именно после того, как оправили старую Спасскую церковь.
Спасская церковь, уже в конце XVIII века несколько переделанная и вновь расписанная, в описываемое нами время носила в себе еще живучие признаки прежней старины. Тогда еще существовали на трех внутренних стенах хоры, куда вела лестница не изнутри храма, а с улицы через башню, пристроенную к левой стороне храма: теперь от этих хоров осталась только одна сторона. Вход в трапезу с западной стороны был широкий, и направо от него был пристроен к церковным стенам притвор, ныне разобранный. Внутри трапезы по стенам и по столбам виднелась еще стенная иконопись, до того старая, что с трудом уже разобрать можно было, что за фигуры там изображались; это казалось безобразным, и требовалась замена старого новым, но средств на такую замену недоставало, и, благодаря такому недостатку, стены церкви оставались в более древнем виде, чем остаются они в наше время.
Звон благовестного колокола раздавался с вершины башни, пристроенной с левой стороны храма. Валила толпа благочестивого народа в этот древний храм чрез главный вход. Вошла туда и бранившаяся чета: казак Яцько Фесенко Молявка-Многопеняжный и невеста его, казачка Ганна Кусивна. Толпа казаков и мещан, входившая в церковь, расступалась перед ними и с благоговением пропустила их. Голова невесты красовалась венком из цветов и обилием разноцветных лент, вплетенных в длинные шелковистые косы, спадавшие по спине; на Ганне надета была вышитая золотом сукня, из-под которой внизу виднелись две стороны плахты, вытканной в четвероугольники, черные попеременно с красными; на груди невесты сверкали позолоченные кресты и коралловые монисты; ноги обуты были в красные полусапожки с гремящими подковками. Рядом с нею с правой стороны шел жених, статный казак с подбритою головою и черными усами, одетый в синий жупан, подпоясанный цветным поясом; к поясу привешена была сабля в кожаных ножнах, разукрашенных серебряными бляхами; обут он был в высокие черные сапоги на подборах с подковками. Вошедши в церковь, жених стал у правого из столбов, поддерживающих свод трапезы, невеста стала у левого столба. Взоры всех жадно впивались в невесту и жениха, и слышались замечания: «Ах, какая пара! ах, что за красавица!»
Вслед за ними скоро вошли в церковь наши знакомые господа, полковник Борковский и воевода Чоглоков. Воевода раза два бросил взгляд на невесту и потом уже, казалось, не хотел замечать ее; во все время литургии не поворачивал даже и головы в ту сторону, где стояла Ганна Кусивна, хотя полковник не раз, поглядывая на невесту, нагибался к нему и шептал ему что-то. Перед начатием литургии дьякон с амвона провозгласил, что, с разрешения преосвященнейшего Лазаря, архиепископа черниговского и новгород-сиверского и блюстителя Киевского митрополичьего престола, по случаю отправления черниговского полка в поход, будет совершено венчание черниговской сотни казака Якова Молявки-Многопеняжного с девицею Анною, дочерью казака той же сотни Филиппа Куса, с тем, однако, что супружеское сожитие их должно наступить не ранее праздника св. апостолов Петра и Павла, и самое венчание хотя и будет совершено ранее, но будет значиться якобы свершенным в день св[ятых] апостолов Петра и Павла. По окончании литургии поставили среди церкви аналой, протоиерей подозвал жениха и невесту, связал им руки рушником и начал последование бракосочетания. Над головою жениха держал венец его зять, сотник Булавка, над говолою невесты – сестра жениха, жена Булавки. По окончании обряда протоиерей велел новобрачным поцеловаться. Тут скоро подошел к невесте родитель ее Кус, взял дочь за руку и, не обращая внимания на жениха, ни на кого из окружавших, потащил ее из церкви: он буквально исполнял приказание преосвященного. Жених остался один. Подошел к нему полковник и промолвил:
– Будь здоров, козаче, з молодою жоною, дай Бог тобі щастя і во всім благопоспішення, добра наживать, дітей породить і згодовать і до розуму довести. Тепер до мене йди хліба-солі покуштовать да од мене разом зо всіма в поход, а я Булавці розказав твій віз і все, що тобі на дорогу треба, випроводить, поки ти у мене гостюватимеш.
Нельзя было ничем отделаться Молявке. Он рядовой казак, а полковник приглашал его к себе за стол наравне с начальными особами: слишком великая честь! Не сказавши ни слова, Молявка пошел за полковником.
– Що, пане воєвода! – говорил полковник воеводе, выходя из церкви. – Яку кралю добув собі сей козарлюга? А!
– Мне не пристало на женскую красоту прельщаться, – отвечал понуро воевода, – не по летам то мне и не по званию. Притом она чужая жена, а Господь сказал: «Аже кто воззрит на жену во еже вожделети ю, уже любодействова с нею в сердце своем!»
Народ расходился из церкви. Полковник с воеводою сел в колясу, и оба поехали в дом полковника. На крыльце дома стояли полковые старшины, обозный, судья и писарь. Они были в другой церкви и ранее прибыли к полковнику. Все вошли в дом, за полковником явились сотники. Кушанье было уже готово, все сели за стол. Недолго тянулась эта дорожная трапеза; ели немного, но пить надобно было немало, и притом заздравные чаши. Полковник провозгласил чашу здравия великого государя, потом чашу за гетмана и все войско Запорожское, а наконец – за успех предпринимаемого похода. Тогда полковник объявил, что время двинуться в путь. Полковница позвала детей. Борковский благословил их, дал обычное наставление во всем слушаться матери, потом, обратясь к обозному, сказал, что вместо себя ему поручает управление оставшимися казаками, приказывал жить в согласии и дружбе с воеводою и совет с ним держать во всех делах, касающихся города.
– Счастливо оставайтесь и нас дожидайтесь! – было последнее слово полковника, обращенное ко всем остававшимся.
У крыльца стоял оседланный конь полковника. Борковский вскочил на него с такою быстротою, как будто ему было двадцать лет от роду. Приподнявши шапку, он последний раз обратился к стоявшей на крыльце семье и произнес: «Прощавайте! 3 Богом!» – и хлестнул он слегка коня своего. За ним сели на своих коней, заранее подведенных в полковничий двор, старшины и сотники и двинулись. Загремели литавры. Заколоколили по всем церквям. По этому знаку сотни двинулись со своих становищ, и сотники спешили соединиться со своими подначальными. Булавка поехал впереди своей сотни, а ближе всех к нему следовал его шурин, Молявка.
IV
День, когда совершилось венчание Молявки-Многопеняжного, был ясный и жаркий. В хате Куса собрались две старухи – Кусиха и Молявчиха – ожидать своих детей из церкви. С Молявчихою пришла дочь ее, жена сотника Булавки, женщина лет двадцати пяти, недурная, но худощавая. Все три были одеты в праздничные сукни, вышитые шелками и золотом, в парчовых очниках, покрытых намитками, такими тонкими, что сквозь них просвечивало золотое шитье. Скрипнули двери, и, вместо ожидаемой новобрачной четы, вошел Кус с одною только дочерью.
– Слава Богу! – воскликнул Кус. – Покінчали! От тобі, свахо, нова дочка, нова робітниця в твоїм домі. Люби да жалій, за діло погримай, да легенько, по-материнськи.
– Моя голубочко, моя ластівочко! – произносила Молявчиха, обнимая и обцеловывая Ганну. – А Яцька мого чи вже ж таки не пустили попрощаться з матір’ю та з жінкою?
– Полковник покликав до себе обідать, – сказал Кус. – Не можна було йому відмовитись, бо єсть регіментар. Мабуть, нарочно покликав, щоб не дати йому мизгатись коло молодої подружжя, щоб так сталось, як владика велів, – не зіходитись йому з жінкою, поки піст не пройде. Авжеж, свахо, прийдеться нам попоститься і на діток наших не утішаться, аж поки не вернеться військо з походу!
– Еге! коли б то вернувся! – сказала Молявчиха со вздохом.
– Всі в Божій волі! – сказала Булавчиха. – Таке наше життя, що козаки, наші чоловіки, частіш без нас, як з нами. І мій, бач, поїхав, мушу одиницею чекати повороту його. На Бога треба вповати, милостив буде, коли його воля!
– Мудре слово сказано! – произнес Кус. – І моя Ганна, дівка розумна, те ж скаже. Так, Ганно?
– Так, тату! – сказала Ганна. – Що Бог дасть, нехай так і буде! – Но в это время у ней невольно показались слезы.
– А буде таке, – сказал Кус, – що як вернеться зять, тоді накличемо гостей да справимо таке бучне весілля, щоб років зо три об ним говорили. А тепер поки в своїй сем’ї, без гостей, даваймо обідать. Дочко! Зніми з себе празникове одіння да порайся з наймичкою, щоб обід налагодили. Сходи сама до пивниці да наточи тернівки і вишнівки, що у чималих барилах стоять у куточку: уже десять літ, як наливали, берегли для слушного часу. А тепер такий час прийшов, що кращого не було. Уточи два джбани да сама неси, а наймичці не давай і наймита до пивниці не пущай, бо вони наточать да не те що самі нишком питимуть, а ще людей частоватимуть. А воно у нас таке… клейнот!
Ганна вошла в комнату, расположенную рядом с передней избой той же хаты, и вышла оттуда в другом одеянии, какое носила повсякдень. На ней была черная с цветами исподница и зеленая суконная сукня. Она, гремя ключами, вышла из хаты в сени.
Кусова хата двумя окнами выходила во двор, а одним окном на улицу. Оставшись одни, старики заметили, что из улицы кто-то заглянул к ним в окно.
– Хто се там? – с беспокойством сказал Кус и вышел из хаты. – Чого там вам? – слышался его голос. – Чого виспинаєтесь на призьбу да зазираєте в чужу хату! Ідіть, ідіть собі, відкіля прийшли!
Он воротился в хату.
– Хто там? – спрашивали его Кусиха и Молявчиха.
– Якіїсь москалі, – отвечал Кус, – із воєводських ратних, запевне: двоє їх коло вікон стояли. Я протурив їх. Се, бачу, дізнались, що з сього двора сьогодні вінчались у церкві, так думали, тут весілля справлятимуть. Прийшли баньки витріщать. На чужий коровай у їх очі пориваються. Хотілось би їм, щоб їх позвали поїсти да попити. Нав’язливі люди, сі москалі. Цур їм, од їх поли вріж да втікай наш братчик.
Вошла Ганна, а за нею наймичка. Ганна держала два джбана с наливкою, наймичка – посуду. Накрыли скатертью стол, поставили посуду, положили ножи и ложки. Кусиха из шкапа достала серебряные чарки. Когда на столе все было установлено, наймичка стала приносить ествы: сначала борщ с рыбой, потом жареную рыбу, пирог с рыбой, ягоды и мед в сотах. Поставивши кушанья на стол, сама наймичка взяла ложку и села за стол с хозяевами. Затем вошел наймит, мужчина лет сорока, годовой работник, обедавший всегда с хозяевами. По приглашению Куса и наймит и наймичка выпили водки и пожелали счастия, здоровья и благополучия новоповенчанной паре. Обед шел как-то торжественно и как бы священнодейственно; все были молчаливы, прониклись важностью совершившегося события. Вдруг раздался колокольный звон.
– Козаки в поход йдуть! – сказал Кус и встал. – I наш козак-молодець виходить. Дай, Боже, всім їм щасливу дорогу і в своїй і в царській справі доброго й помисного повоження!
Он перекрестился.
– І щасливо додому повернутись! – произнесла Булавчиха.
У Ганны снова на глаза навернулись слезы, и она прикладывала к глазам рукав своей вышитой сорочки, хотя и желала пересилить себя, казаться спокойною.
– Скільки у сій чарці крапель, стільки літ жити б твоєму синові, а нашому зятеві в добрім здоров’ї, ніякого лиха не зазнаючи! – сказала Кусиха, обращаясь с чаркою к Молявчихе.
– А нам би все служити таким добрим да милостивим господарям! – произнес наймит.
После обеда все стали развязнее и веселее. Кусиха так расходилась, что пощелкивала пальцами, да подскакивала, да несколько раз повторяла, что ей ради такого радостного случая хочется танцевать. Кус тотчас начал было ей вторить. Увлеклась даже понурая Варка Молявчиха и уже не стала, как делала прежде, упираться, когда Кус схватил ее за руку и приглашал танцевать с ним в паре. Кусиха, хлопая в ладоши и подпрыгивая, пела:
- Кукуріку, півнику, на току,
- Чекай мене, дівочко, до року!
- Хіба ж би я розуму не мала,
- Щоб я тебе цілий рік чекала.
- Хіба ж би я з розуму ізійшла,
- Щоб я собі кращого не знайшла!
Остановившись, она закричала:
– Да що се ми танцюєм без музики! – Потом, обратившись к наймиту, проговорила: – Явтуху! Серденько! Іди поклич Василя-скрипника да, коли можна, ще кого-небудь, хоч того дударя, як, пак, його…
– Юрка? – сказал наймит и хотел уходить. Но Кус остановил рукою его, дернувши за полу свитки, и говорил, обратившись к жене:
– Ні, ні, жінко Параско! Сього не можна.
– Чому не можна? – порывисто спрашивала Кусиха.
– А тому не можна, – сказал Кус, – що владика не велів. Нам треба його слухати. Не можна, не можна, не дозволю!
– Не дозволиш, так нехай по-твоєму буде, – сказала Кусиха, – ти на те господар, пан в своїм домі.
Успокоившись от внезапного порыва к веселости, вся семья уселась снова на лавках, немного поболтали, потом Молявчиха с дочерью встали, помолились к образам, поблагодарили хозяев за хлеб-соль и собрались домой. Молявчиха, кланяясь в пояс, просила Куса и Кусиху с дочкою к ней на обед на другой день. Кусы обещали. После ухода Молявчихи и Булавчихи Кус, чувствуя, что голова его от винных паров отяжелела, отправился в садик, подостлал под голову свою свиту, залег спать в курене, сложенном из ветвей под двумя яблонями. Пчелы, вылетая из расставленных по садику ульев, наводили на него сладкую дремоту своим жужжанием. Кусиха забралась отдыхать в чулане, откуда окно выходило только в сени: там летом было прохладно и безопасно от надоедливых мух. Ганна с наймичкою перемыли посуду после обеда, уставили ее на место, подмели хату. Окончивши работу, Ганна ушла в сад и, чтоб не мешать отцу, забилась в противоположный угол садика, села под развесистою липою и там предалась раздумью.
Недалеко от ней был тын, огораживавший садик с улицы, и чрез прогалину в этом тыне смотрели в сад четыре злые глаза, но Ганна их не замечала. Долго сидела таким образом Ганна. Пробегало в ее памяти все ее детство с той минуты, как она стала сознавать свое бытие на свете, ласки и приголубления родителей и близких, игры с девочками и мальчиками одного с нею возраста; приходили на память песни, которые она слышала и мимо своей воли перенимала; вспомнились первые, неясные ощущения потребности любви, выражавшиеся тем, что ей все вокруг становилось как-то грустным; вспомнила первую встречу с Молявкою, первый разговор с молодцем, о котором она и своим родителям не показала ни малейшего намека, первое его объяснение и ее взаимное признание, которое тогда бросило ее в краску, его сватовство, согласие родителей, беспредельную радость и довольство, охватившие ее душу, приготовление семьи к свадьбе… Все это вспоминать было так сладко и весело! Затем – ее венчание, тотчас за ним – разлука! Пришли ей на память ровестницы, уже вышедшие замуж, – на одной свадьбе она сама была в дружках, на другой в светилках; ее подруги, повенчавшись, были покрыты и стали жить с мужьями. А она? Обвенчалась – и Бог знает, покуда будет ходить девкою: не ее воля и не ее жениха! С нею не так, как с другими! Вдруг ей становилось страшно за свою будущность. Что-то темное, тесное, что-то не то колючее, не то жгучее ей представлялось. Ух! И она, пересиливая себя, вскочила и перекрестилась.
Солнце на западе стало склоняться к горе, и тени от строений и деревьев удлинялись; в разных местах Чернигова начал показываться над крышами хат дымок, дававший знать, что уже люди начинают топить печи для вечери. Ганна вспомнила, что надобно полить цветы в саду, повянувшие от дневного зноя, вышла из сада, вошла в сени, где увидала мать; она только что вышла из чулана и умывала себе заспанное лицо. Ганна отворила дверь в противоположную сторону через сени в рабочую избу, или поварню, взяла ведра, сказала, что пойдет по воду к Стрижню, и вышла со двора.
Ряд дворов, между которыми был двор Куса, выходил прямо к высокому берегу реки Стрижня. Против Кусова двора сход к реке был крут, но влево, двора через три, шел из города к реке подземный ход, прорытый в горе. Этот тайник устроен был для того, чтобы, на случай неприятельского нашествия, в городе не было недостатка в воде. Главный вход его находился далеко в средине города, но и близко от Кусова двора входила в него боковая лестница ступеней на десять вниз: ею можно было очутиться в тайнике. Этим путем обыкновенно ходили за водою девчата, жившие неподалеку в конце города: можно было таким образом подойти прямо к воде, не таскаясь с ведрами на гору. Туда направилась Ганна с своими ведрами. Но, идя со двора к тайнику, встретила она двух москалей и остановилась; она заметила, что это были те головы, что заглядывали в окно, когда она возвратилась из церкви; их тогда удалил от окна ее родитель. Ганну взяло раздумье. «Зачем они тут слоняются?» – думала она. Но москали, бросивши на нее взгляды, по-видимому равнодушные, пошли в противоположную сторону от тайника, мимо Кусова двора, нимало не оглядываясь на нее. «Нет, – подумала Ганна, – я испугалась напрасно. Это люди совестливые; они меня не зацепляют!»
Она смело пошла к спуску в тайник, сошла по лестнице и очутилась в темноте: только слабый свет проникал туда с той стороны, куда ей нужно было идти за водою. Вдруг послышались сзади торопливые шаги. Не успела Ганна решить, бежать ли ей вперед или назад, четыре сильные руки схватили Ганну сзади, коромысло с ведрами упало, она крикнула, но ее крик потерялся в тайнике. Ей завязали рот и глаза, она не в силах была более ни крикнуть, ни распознать, где она очутится. Ее потащили или, лучше сказать, понесли. Сама она с испугу не могла уже двигаться. Похитители унесли добычу свою к главному выходу из тайника, находящемуся, как сказано выше, в средине города.
V
– Где Ганна? – спрашивал Кус у своей жены уже в сумерках. – Где вона?
Кусиха не видала дочери и не знала, где она. Кусиха пошла в черную хату и спрашивала наймичку. Та сказала, что Ганна пошла за водою.
– Давно? – спросила Кусиха.
– Давненько уже, – сказала наймичка.
– Пора б уже їй вернуться, бо вже темніє надворі.
Кусиха стала недовольна дочерью. Никогда с нею подобного прежде не бывало. Как можно так запаздывать! Верно, думала, встретилась с подругами-девчатами и заболталась с ними, а может быть, какая из подруг к себе зазвала. Так подумала Кусиха, так сообщила и мужу. Но время шло, Ганна не возвращалась. Наступила уже совершенная темнота, ночь была темная, месяц был уже на ущербе, всходил поздно и тогда еще не показывался на небе. Родители тревожились не на шутку. Вышедши за ворота, отец и мать пошли в разные стороны, и оба кричали: «Ганно, Ганно!» Но их крик только повторялся какими-то насмешниками, собравшимися на игрище. Шалуны стали передразнивать кричавших: «Ганно, Ганно!», подделываясь под слышанные голоса, и себе кричали: «Ганно, Ганно!», хотя их не занимало, какую там это Ганну ищут.
Воротились родители домой. Кус бил себя руками о полы и машинально твердил: «Нема, нема!» Кусиха терзалась и вопила: «Доненько моя! Любонько моя! Де ти ділась? Де ти єси? Чи ти жива ще, чи, може, тебе уже на світі немає?»
Наймит и наймичка, из участия к заботе своих хозяев, взяли фонари и пошли к тайнику. Через несколько минут наймичка прибежала оттуда в испуге и, вбежавши в хату, завопила:
– Лишенько! Відра лежать в пролазі!
Вслед за нею наймит принес ведра и коромысло. Увидавши эти вещи, Кусиха испустила пронзительный крик, металась из стороны в сторону, не знала, бедная, куда бежать ей, что делать, схватилась за голову, сбила с себя очипок, начала рвать на себе волосы и кричала: «Доненько, доненько! пропала ти, пропала!»
– Утопла! – сказал Кус, но потом приложил палец ко лбу, что с ним случалось всегда, когда он о чем-нибудь трудном размышлял. – Ні, не утопла! – продолжал он. – Якби утопла, то відра й коромисло не лежали б далеко від води. Не утопла вона. Лихі люди її зайняли в тайнику. Може, убили! А за що? Кому вона що недобре удіяла?! Сказать би, звір її розірвав. Так як же звір туди забереться? Хіба які лиходії вхопили її та зґвалтовали, залестившись на те, що дуже хороша. Учинють над нею, що захочуть, а потім у воду вкинуть!
От таких догадок приходила Кусиха все больше и больше в ярость. Ей казалось, что именно так и есть, как говорит муж: злодеи сгубили ее дочь. И принялась она сыпать ругательства и проклятия на злодеев.
Наймичка, по приказанию хозяйки, известила Молявчиху о внезапной пропаже нареченной невестки. Молявчиха тотчас явилась к Кусихе. Обе старухи завели вопль, а Кус то корил баб за их крики и вопли, то вторил им сам и раздражал их скорбь своими жалобами и дурными догадками. Так провела ночь злополучная семья. Иногда, на мгновение, надежда сменяла отчаяние: услышат за двором шум, скрипнут где-нибудь ворота, залает собака… подступит к сердцу радость, слушают, не она ли… дожидаются. Ее нет! Мимолетная надежда опять сменяется отчаянием, а оно, после короткого и напрасного перерыва, делается еще более жгучим и гнетучим.
Стало наконец рассветать.
– Будем кричати да голосити, – з сього нічого не буде! – сказал Кус. – Піду до городового атамана, заявлю.
Нехай шукають Ганни; коли її нема на світі, то нехай хоч слід її знайдуть.
И, оставивши баб продолжать свои вопли, Кус пришел к городовому атаману.
Атаман, по прозвищу Беззубый, с удивлением узнал о внезапном исчезновении той новобрачной, красотою которой любовался вчера в церкви Св[ятого] Спаса со всем бывшим там народом. Первое, что предпринял атаман, был расспрос Кусу: не было ли у него с кем вражды и ссоры. Кус уверял, что не было. Тогда атаман, немного подумавши, решил послать десятских обходить все казацкие дворы и в городе и в пригородных селах и везде спрашивать, не видали ли где Ганны Кусивны и не сообщит ли кто догадки о том, кто бы мог ее схватить.
– Чи не вхопили її москалі? – заметил Кус. – Вчора, як повернулись з вінчання, примітив я, що коло мого двора все ходили якісь москалі й у вікна зазирали.
– Сходи до воєводи! – сказал городовой атаман. – Попрохай, щоб велів учинить розиск проміж своїми да й войтові написав, щоби по міщанських дворах те ж учинено було, а то ми тільки над козацькими дворами регіментуємо.
Кус отправился к воеводе.
– Что тебе, добрый человек? – сказал ласково Тимофей Васильевич, когда вошел в его дом Кус и низко поклонился.
Кус рассказал ему, что дочь его пропала без вести.
– Эх, добрый человек, добрый человек, – сказал Тимофей Васильевич. – Видно, что отец нежный! Всего один день, а он уж горячку запорол. Подожди, найдется! Да вот что, добрый ты человек, скажи по правде: она, может быть, у тебя гулящая и своевольная. Вестимо, коли одна дочь у отца, у матери, так избалована.
– Ні, пане воєводо, – сказал Кус, – вона у нас не те що не гуляща і не своєвільна, а така, що її ніколи не треба ні спинять, ні учить, вона і на улицю ніколи не ходила, де бува ігрище. Така слухняна, соромлива, ґречна… Спитайте усіх сусідів, усі в один голос нічого не вимовлять про неї, тільки хороше.
– Так, может быть, встретилась с какою-нибудь подругою, а та ее зазвала к себе в гости, пошли у них промеж себя тары да бары, ночь захватила, она побоялась идти домой и осталась ночевать в гостях, – говорил воевода.
– Я і сам так спершу думав, – сказал Кус, – тільки вже б їй пора була вернуться давно. Ніколи такого случаю не було з нею, пане воєводо.
– Так что же, что не бывало! Теперь в первый раз такой случай пришел! Я рад тебе, добрый человек, во всем помочь, написать велю войту, чтоб учинил розыск о ней по всем мещанским дворам, а сам я пошлю своих стрельцов по тем дворам, где есть становища наших царских ратных людей. Только я уверен, добрый человек, что не успеют произвести розыск по мещанским дворам, как твоя дочь к тебе явится. А я твою дочь вчера в церкви видал мельком, как она венчалась. Я с паном полковником там был. Славный молодец твой зять. И она красавица. Парочка нарядная. Полковник мне сказал, что жених тотчас после венца пойдет с казаками в поход. Мне так стало жалко, что я просил полковника, нельзя ли ради новоженного дела оставить его. Что же, мое дело сторона! Нам, воеводам, от великого государя не велено вступаться в казацкие дела. Будь покоен, добрый человек! Дочь твоя найдется, сама к тебе воротится, а не придет сама, так мы ее найдем, и я сам, самолично, приведу ее к тебе. На том даю тебе мое крепкое слово.
Кус поблагодарил воеводу за доброе слово и ушел.
Прошел день, прошел другой, третий, – Ганна не возвращалась. Мать до того заметалась, что стала как безумная, и в речах ее мало было склада. От тоски напало на нее такое истомление, что пройдет несколько саженей и садится либо совсем упадет на землю. Молявчиха первые дни очень сердечно принимала участие в беде, постигшей мать ее невестки, но на четвертый между двумя бабами начались пререкания. Кусиха в своих сетованиях о дочери высказалась, между прочим, что «на лиху годину» повенчалась она с Молявкою, а Молявчиха оскорбилась такою выходкою и, с своей стороны, ядовито заметила, что Бог знает, где она делась, может быть, у ней на уме заранее что-нибудь затеяно было, а может быть, ее родители знают, где их дочь теперь, знают, да не скажут!
– Не такого зятя нам було б добути, а другого кого-небудь, то, може б, дочка наша ціла була! – сказала Кусиха.
– Не такого подружжя треба б моєму синові, а мені невістки! – произнесла Молявчиха.
Мать Молявки-Многопеняжного ставила Кусихе на вид, что Молявка родом значительнее каких-нибудь Кусов и Кусы должны бы себе за честь считать, что роднятся с Молявками.
Кусиха упрекала, что Молявки хотят загарбать Кусово достояние и для этого входят с ним в свойство: Кусы и Молявки хоть и одинаково казаки, но Кусы старинные от прадедов и прапрадедов черниговские казаки, а Молявки так себе – какие-то прибыши.
С таких едких замечаний начались взаимные ругательства, а наконец и проклятия.
– А щоб твоя дочка не знайшлася, а так би скрізь землю пішла! Негодниця вона! – сказала Молявчиха.
– А щоб твій син з войни не вернувся! – крикнула Кусиха.
Спор дошел до того, что Молявчиха плюнула на Кусиху, а Кусиха плюнула на Молявчиху. Молявчиха сказала, что с этих пор нога ее не будет в Кусихиной хате, а Кусиха сказала, что было бы лучше всего, когда бы и прежде ни Молявчиха, ни сын ее не переступали их порога.
Добродушный Кус хотел было умиротворить разъярившихся баб, но потом рукою махнул и произнес:
– Баби яко баби: волос довгий, а розум короткий.
С той поры Молявчиха не посещала Кусихи, а Кусиха не приходила к Молявчихе. Но приходили к Кусихе разные соседки; им рассказывала Кусиха о своей размолвке с Молявчихою, а соседки, слушая это, с своей стороны подстрекали их к ссоре: нашлись такие, что начали переносить Кусихе, что говорит о ней Молявчиха, а Молявчихе – что говорит о ней Кусиха.
Окончился Петров пост. Ганна не возвращалась. Несколько раз еще ходил Кус и к городовому атаману, и к войту, и к воеводе. Никто не порадовал его открытием следов пропавшей дочери. Атаман даже заметил, что Кус в своем нетерпении начинает надоедать своими жалобами на свою долю, что у него, атамана, без его дела много других дел. Войт сказал, что употребил уже все меры, какие у него были в распоряжении, и не его вина, что ничего не открыл. При этом войт заметил Кусу: «Было б не пущать дочки, то б и не пропала!» Любезнее всех принимал Куса воевода, всегда жалел о нем, делая вместе с ним разные предположения насчет пропажи его дочери, и утешал всеми возможными способами, даже говорил, что если бы случилось так, что его дочери уже не было на этом свете, то все-таки доброму человеку остается то утешение, что он увидится с нею на том свете. При этом Тимофей Васильевич благочестиво вздохнул.
Между тем по поводу исчезновения Кусивны стали расходиться выдумки, самые нелепые, безобразные, отчасти легендарного свойства, но оскорбительные для семейства Кусов. Все это вымышлялось бабами из тех дворов, которые были небогаты: там был повод завидовать состоянию Кусов. Таким образом болтали, что Кус нажил свое состояние (которое завистникам представлялось в преувеличенном размере) тем, что знался с бесами: еще будучи парубком, при помощи бесов нашел он заклятый клад; никто не мог добыть этого клада, и за то, чтоб его вырыть, обещал Кус бесу дитя свое, как у него будут дети. После того Кус женился, пошли у него дети, но все умирали в малом возрасте, одна только дочь доросла до совершенных лет, и в тот самый день, как она вышла замуж и повенчалась, бесы потребовали исполнения обещания, данного отцом в то время, как они ему помогли вырыть клад. Ганну Кусивну схватили не люди, а бесы, и уж теперь найти ее никак нельзя, потому что она – в пекле, и дорого, рассуждали, обошелся Кусу добытый клад; теперь бы он рад был в десять раз дать против того, сколько тогда получил, да уж нельзя! Другие говорили, что Кусиха – ведьма, умеет перевертываться то свиньею, то клубком, то копною, то жабою, то летучею мышью и научила такой же ведьмовской науке свою дочь, но этой дочери не следовало принимать святого закона, а она, как повенчалась, и святой закон приняла, вот за то, рассердившись, бесы ее ухватили. Были еще и такие толки: полюбила Кусивна Молявку и причаровала его к себе с бесовскою помощью. Молявка без ней жить на свете не мог, только ей не следовало вступать с ним в закон, а как она повенчалась – бесы ее за то ухватили: живи с ним по-нашему, а не по-божьему! Сочинили еще и вот что: продал Кус свою дочку монаху, а для вида выдал ее замуж за Молявку затем, чтоб, как Молявка уйдет на войну, он дочку свою передаст монаху в пользование, а слух пустит в народе, будто его дочку утащил кто-то неведомо куда! И еще было немало подобных вымыслов, один другого безобразнее. Кумушки обо всех ходивших толках сообщали Кусихе, уверяли ее, что это все выдумала Молявчиха, и тем раздражили Кусиху. Она так увлеклась злобою против Молявчихи, что даже печаль о погибшей без вести дочери уступала в ее сердце место этой злобе. Молявчиха, со своей стороны, поджигаемая такими же кумушками, выражала благодарение небу, что сын ее нежданным путем избавился от недостойной связи, и молила Бога о благополучном его возвращении с войны для того, чтобы он поскорее мог сыскать себе другую подругу жизни.
Прошел июль. Прошли Спасовки. Вот уж и люди сельские отработались в поле. Уже осенние утренние холода стали предвещать наступление осенней слякоти, а за нею стужи и снегов. Ганны все не было, и никто не мог сказать, где она: и след ее простыл.
VI
Под городом Чигирином, на широкой равнине, по которой змеится извилистая река Тясмин, раскинулся стан казацкий, разбросались купы полотняных шатров по полкам, высланным гетманом. Между этими шатрами пестреют палатки начальных лиц, их пологи из цветной ткани, а на верхах их пуки павлиньих перьев. Далее от казацкого стана над рекою Янчаркою расположен стан царских великорусских войск под начальством Григория Ивановича Косагова.
Это отряды, которые выслали к Чигирину гетман Самойлович и боярин Ромодановский, удержавши остальные войска свои в стане под Вороновкою.
Начальником или наказным гетманом над высланными казаками назначен генеральный бунчужный Леонтий Полуботок, тогда временно занимавший уряд переяславского полковника. Собрались у него в шатре полковники: черниговский, гадяцкий и миргородский. Наказной гетман объявил, что Григорий Иванович Косагов посылает к Дорошенку увещательную грамоту; и казаки должны послать такую ж от своего гетмана.
Полуботок громко прочитал составленную генеральным писарем грамоту и, передавая ее Борковскому, сказал:
– Василій Кашперович! Вибери кого-небудь послати з сим листом. Значного урядового не посилай. Годі чествовати сього пройдисвіта! Пошли до його якого-небудь рядовика, такого тільки, щоб потрапив придивиться, що там діється у Чигирині.
– У мене якраз такий знайдеться, – отвечал Борковский и ушел с грамотою в свою ставку, отстоявшую от Полуботковой сажен на пятьдесят.
Оставшиеся в шатре у Полуботка стали пить и закусывать, а Борковский, пришедши в свой шатер, велел позвать Булавку и сказал:
– Пане сотнику! Посилай швагра свого Молявку з оцим листом до Дорошенка і скажи, щоб він, будучи у Чигирині, що можна там виглядів і вислухав. Він не дурень, зрозуміє.
Булавка, передавая шурину эту грамоту, говорил:
– Оце тобі, мій голубе, значне полєценє. Тепер час тобі і случай показати себе усім людям і панству. Клич з собою суремщика.
Молявка вместе с трубачом отправился к окраине нижнего города Чигирина, отстоявшего на добрую версту от казацкого стана. Собственно, это и был город в смысле людского поселения, так как то, что называлось верхним городом, был только замок, или цитадель. Нижний город был обведен земляным валом, по верху которого шла толстая бревенчатая стена, а под валом, на наружной стороне, прокопан был ров в три сажени в ширину и глубину. Молявка обвязал себе голову белым платком, трубач изо всей силы затрубил. Караульные казаки с башни, построенной над воротами, окликали подходивших к городу, а Молявка, вместо ответа, наткнул на саблю свою шапку с повязанным на ней платком и махал ею. Караульные спустили поднятый вверх цепями у ворот мост через ров и отворили калитку, проделанную в тяжелых воротах. Молявка вместе с трубачом вошел в город. Его сразу окружила толпа. Спрашивали – зачем, к кому, с чем. Молявка сказал, что с «листом» к гетману.
– А хоч би він швидше сам зрікся од того нещасливого гетьмановання! – послышалось в толпе.
– Чого-то вже йому тепер упираться? Сам же, збираючи громаду, каже, що вірним царським слугівцем хоче зоставатись, так чого ж коли цар велить їхать і здавать своє гетьманство, так уже б і робив, як цар йому каже. Так ні! Каже: підождемо. Турок нехай, каже, москаля ще полякає, так москаль здатніш буде на умову. А щоб його! Чого там ще дожидати? Вже уся Україна до вас на слободи утекла, а в Чигирині тільки що тижнів на два стане чим жить. Тоді всі так юрбою і сипнуть до вас. Не пухнуть же всім з голоду!
Такие речи услышал тогда Молявка от народа, едва только вошел.
– Де він? – спрашивал Молявка. – Либонь, там, на горі? Ведіть мене до його.
Он указал на гору, откуда белелись стены недавно оштукатуренного дома гетманского, стоявшего посреди замка.
– Ні, там його нема, – был ответ. – Он чуєш: музи́ка гра. Се він розважує своє горе, чуючи, що приходить кінець. Накликав музик: скрипки, кобзи, бандури, сопілки, сурми, бубни, ходить по городу із шинка в шинок, удаючи, ніби він уже не гетьман, а простий козарлюга-запорожець. І старшини з ним, і тесть його Яненко й інші. Ідуть да співають і скачуть.
– Еге! – заметил кто-то. – Як чує, що над шиєю гостре залізо висить, так який став до всіх доступний, простий да приязний, а перше пишався!
– Тепер що хоч йому кажи, так не сердиться, хоч і не послухає ради, а не сердитиметься за неї; перше, скажи лишень йому таке, що проти шерсті, – так опісля сам стережися: присікається, неначе за що інше, да у дибу заб’є, а то і голову стяти розкаже, – заметил Чигиринский сотник Блоха, стоявший здесь же, между прочими.
До ушей Молявки долетали звуки музыки и все становились ближе и ближе. Прошедши несколько десятков шагов далее, до поворота в другую улицу, он наткнулся на шествие, выступавшее из этой поперечной улицы. Бежала пестрая толпа народа обоего пола и разных возрастов, начиная от седобородых дедов и сгорбленных баб и кончая детишками в одних рубашонках; в бархатном, малинового цвета кунтуше, в красных сапогах и в заломленной набекрень шапке с бриллиантовым пером, гетман Дорошенко отплясывал тропака; обок его то же делали писарь Вуехович, обозный Бережецкий, судья Уласенко, гетманский тесть Павло Яненко – все одетые в праздничные кунтуши разных цветов – кто в коричневом, кто в ярко-красном, кто в зеленом. Если бы внимательно вглядеться в их лица и движения, то можно было сразу уразуметь, что они более по принуждению, чем по добровольному влечению делали это. За плясунами шли музыканты. Вельможные гуляки, притопывая ногами, хором пели:
- Паутина по дорозі повилась, повилась,
- А дівчина з козаком понялась, понялась.
– Не сю! – крикнул вдруг Дорошенко. – А тую, що грали, як з замку виходили.
Музыканты остановились и потом заиграли на другой голос. Дорошенко затянул:
- Нікому я не дивуюсь, як сам я собі,
- Пройшли мої літа з світа, як лист по воді,
- А вже мої стежки-дорожки позаростали,
- А вже мої вороні коні поіз’їжджали,
- А вже моє золоте сідельце поламалося,
- А вже моя родинонька одцуралася.
При звуках этой песни приостановилась пляска. Молявка думал: не подойти ли и подать «лист» Дорошенку, но не решился, соображая, что, чего доброго, он рассердится и почтет за издевку над собою. Но гетман со старшинами, сделавши несколько шагов и припевая песню, пошли прямо к шинку, где на крыльце стоял шинкарь, празднично одетый: видно было, что и шинкарь приготовился к посещению его шинка высокими гостями.
– Шинкарю! Що стоїш, йолопе! – кричал что было силы Дорошенко. – Свому панові, батькові гетьманові, горілки піднось!
«О, – подумал про себя Молявка, – він не соромиться і тут же сам себе гетьманом величає. Так і на мене він не розсердиться, коли я йому як гетьманові подам належний до його лист».
Шинкарь подносил Дорошенку с поклоном большую стопу, налитую до края горилкою. В это время протеснился Молявка и, ставши лицом к лицу перед Дорошенком, поклонился, подал грамоту и произнес:
– Ясновельможний пане! Лист од його милості ясновельможного пана гетьмана Івана Самойловича.
– А! – сказал Дорошенко, быстро взглянувши на подателя. – Ти не кажи просто: «Од гетьмана лист», а кажи: «Од гетьмана обох сторон Дніпра». Бо він так себе іменує, хоча по сю сторону тоді хіба осяде, як мене тут не буде. Подай лист! Хто ти такий?
– Я, – отвечал Молявка, – Черніговського полку черніговської сотні козак-рядовик. Послав мене полковник Василь Борковський, а він взяв сей лист од наказного гетьманського Левона Полуботка.
– Гетьман обох сторон Дніпра, мабуть, мене вже і за чоловіка не ставить. Посилає до мене такого простака! А чому значного урядового не прислав? Було б тому полковникові, що тебе до мене виправив, було б йому самому сюди приїхать да в ноги мені поклониться, – сказал Дорошенко.
– Того я не знаю, пане ясновельможний гетьмане! – сказал Молявка. – Бо я чоловік підначальний. Регіментар мій мене позвав і дав сей лист до твоєї милості. Мушу слухати!
– Правда, чоловіче, – сказал Дорошенко, – бачу, що у тебе голова не сіном напхана. Ти хоч простак, а вже коли до мене прийшов, так став мій гість. Пий з нами горілку. Шинкарю, налий йому.
Шинкарь налил стопу горилки и подал Молявке. Казак поднял ее вверх и крикнул:
– Доброго здоров’я і в усім щасливого повоження, пане ясновельможний гетьмане!
С этими словами он выхилил всю стопу.
– Як тебе звуть, козаче? – спросил Дорошенко.
– Яцько Молявка-Многопіняжний, – проговорил посланец.
– Грошей, видать, багато було у батьків, що так продражнили! Але хоч би і у тебе самого було грошей много, а все-таки не слід було посилати простого рядовика до мене. Вуєхович! – сказал он, обратившись к своєму писарю. – Читай усій громаді! Я гетьманом не сам собою став і сам собою без громадської ради нічого не чиню.
Вуехович, человек невысокого роста, с красноватыми хитрыми глазами, взявши принесенный «лист», стал читать его, произнося тонким, почти женским голосом:
– «Мой велце шановный, ласкавый добродию, пане а пане гетьмане чигиринський! По указу царского пресветлого величества послали-сьмо с купной порады его милости боярина князя Григория Григорьевича Ромодановского, стольника Григория Ивановича Косагова с выборными царскими ратными людьми генерального бунчужного Левона Полуботка с четырьмя казацкими полками и с нашею конною надворною кампаниею ку Чигирину, понеже многократне и многообразие твоя милость ему, боярину, и мне, гетману обеих сторон Днепра, обещал еси своею особою прибыти до нас в обоз для принесения присяги его царскому пресветлому величеству, обаче тое твоей милости обещане доселе не совершено делом».
– Стривай! – прервал чтение Дорошенко. – Як «не совершено ділом»! Свідки мені усі чигиринці і панове запорожці, що приїздили до мене того минулого року в місяці октябрі, з котрих деякі й нині тепер притомні суть, як я тоді виконав присягу царському пресвітлому величеству перед паном кошовим отаманом Іваном Сірком і перед донським отаманом Фролом Минаєнком в притомності многих товарищей війська низового січового і донського, а напотім і санжаки турецькі одослав на столицю в Москву. А попович-гетьман пише, буцім обітниця моя не совершена ділом! Батько Яненко, чи ти возив санжаки в Москву?
– Я, пане гетьмане! – отвечал Яненко.
– А гетьману-поповичу хочеться, щоб я йому поклонився? – продолжал Дорошенко. – Інше діло – вірою-правдою цареві-государеві служить і добра хотіть, а інше – царським підданим кланятись. Я вірний підданий і слугбвець царському пресвітлому величеству, як присягав йому, а поповичеві кланятись не хочу. – Он поднял вверх налитый горилкою кубок и громогласно проговорил: – П’ю, на тім п’ю, що мені гетьманові-поповичеві клейнодів не оддавать. Панове запорожці і ви всі, панове чигиринці, громадо! Заступіться за мене! На що се навкруги Чигирин оступило московське і барабашівське військо? Я цареві не ворог, не супостат, а такий же вірний підданий, як вони всі. Вони мусять отойти од нашого города. Молявко-Многопіняжний! Перескажи те, що ти од мене чув. Не хочу Самойловичеві-поповичеві кланятися, а сам пощу в Москву, поб’ю чолом царському пресвітлому величеству самому, а не його царському бояринові і не гетьманові – барабашському поповичеві[4]. А коли не одійдуть і мене не пропустять, так я сяду на кухву з порохом і спалюсь, і всі чигиринці разом зо мною пропадуть. Нехай гріх на тих буде, що не хотять святого покою і братернюю війну зачинають. Я до їх з щирим серцем, а вони на мене з ножем. Я покою хочу, а вони йдуть на мене війною на втіху бусурманам, хреста святого ворогам. Да ще мене перед царським пресвітлим величеством і перед усім християнством оговорюють. Запорожці і ви всі, чигиринці! Не видавайте мене, як донці колись Стеньку свого видали!
– Не видамо, не видамо! – кричали запорожцы, стоявшие кучкою в красных жупанах.
– Не видамо, всі один на одному головою наложим! – произносили чигиринцы вслед за сечевыми гостями; многие хотели бы выразиться иначе, да не смели: каждый не ручался, чтобы все поддержали голос, противный гетманской воле.
– «Ще козацька не вмерла мати!» – казав колись вічнославної пам’яті батько Зіновій-Богдан Хмельницький! – продолжал Дорошенко с увеличивающимся задором. – Коли наше не в лад, то ми з нашим і назад. Коли так, то ми опять бусурмана в поміч покличем. А що ж робить! Коли свої браття-християни так нам немилостиві, – з неволі приходиться у бусурмана ласки прохати. Не бійтесь, братці чигиринці, моя люба громадо! Подасть Бог нам рятунок проти сих немилостивців, що хотіли б нас в ложці води втопити. Прийдуть на од січ нам бусурмани, і тоді москалі і барабаші будуть, як зайці, утікати од Чигирина. Уже то було з ними. Пам’ятаєте, як четвертого року приходили під самий Чигирин гетьман-попович і боярин Ромодан з великими силами, одначе, почувши, що хан, його милость, йде з своїми ордами, мусили одступиться, а хан перерізав їм шлях до Черкас. Ледве-ледве, утративши многих, добігли до Дніпра і срамотно утекли в свою сторону. І тепер з ними те ж станеться. Ось підождать прийдеться кілька день, прийде салтан Нураддин з ордою, у нас на кілька день стане харчу. А коли Бог так дасть, що прийдеться нам пропадать, так і пропадем всі до одного! Чуєш се ти, Молявка Многопіняжна? Уторопав, що тут казано? Оце все і розкажи, кому там слід, да скажи, щоб наперед не присилали до мене простого рядового, а нехай розмову зо мною ведуть через значних людей, войскових товаришів. Бо я ще своєї гетьманської булави не здавав, і ще я єсть гетьман, і мене треба їм поважати, як належить гетьмана. І ляхи пишуть до мене латиною і величають мене: «Zux zaporovien is».
После этой речи Дорошенко обратился к народу и кричал: – Не вмерла ще козацька мати! Козак п’є, на лихо не потурає і самого чорта не боїться, не те що московської да барабашської душі!
И он начал снова плясать, припевая:
- Не тепер, не тепер
- По гриби ходити,
- Восени, восени,
- Як будуть родити.
Вуехович отстал от гетмана и подозвал к себе кого-то из толпы, говорил что-то на ухо, поглядывая в то же время на Молявку, а последний продолжал стоять на одном месте, провожая глазами удалявшегося с приплясом гетмана; человек, с которым говорил писарь, кивнул головою, давая знать, что все разумеет; тогда сам Вуехович подошел к Молявке и сказал:
– Ти сказав, що ти козак Черніговського полку. Поклонись Василю Кашперовичу, полковнику свому. Скажи: писар Вуєхович шле йому свій братерній поклон, щирому приятелеві!
Сказавши это, Вуехович пошел за гетманом, куда также двигалась густая толпа народа. Молявка повернул назад, уже исполнивши свое поручение, как он думал. Вдруг догоняет его тот самый человек, которому Вуехович говорил что-то на ухо.
Он сказал Молявке:
– Товаришу земляче, я виведу тебе! – Он шел с ним рука об руку к городским воротам и говорил: – Посилає гетьман козака Мотовила в образі старця, ніби ялмужни просячого, з листом до кримського салтана, уверчен у його в личаках. Він от зараз за тобою з города вийде. Всі люди в Чигирині об тім тільки Бога молять, щоб гетьмани швидше замирились між собою, – огидла война; до того, коли довго стоятиме військо, голод настане. Уже і так дітей много умирає. Всі хотіли б йти за Дніпр на слободи.
Эти слова проговорил он без всяких движений, потупя вниз голову и не глядя на Молявку, и никто из шедших около него не мог ни расслышать его слов, ни даже догадаться, что он передает посланцу какой-то секрет. Не дожидаясь никакого ответа, неизвестный оставил Молявку.
По выходе из ворот Молявка стал раздумывать, что лучше делать ему: идти ли в стан и объявить о посланном в образе нищего или подождать, пока этот нищий выйдет из города. Он рассчитывал: если он теперь заявит о том, что услыхал, то нищего могут как-нибудь проглядеть или даже если поймают, то другие, а не он сам; напротив, если он сам лично этого нищего схватит и приведет к начальству, то дело оценится как важный и очень полезный для всего войска подвиг. И выбрал он последнее и нарочно пошел медленно, беспрестанно оглядываясь назад, как вдруг своими быстрыми глазами увидел, что из рва, окружавшего город, высунулась человеческая фигура и пошла по направлению вправо, в сторону, противоположную той, куда следовал Молявка. Молявка тотчас понял, что в городском укреплении есть где-нибудь тайный выход и виденный им человек прошел им так, что очутился во рву, а потом, при пособии какого-нибудь средства, выкарабкался изо рва. Молявка быстро и круто повернул вбок, наперерез пути выползшего из рва человека.
Скоро был Молявка лицом к лицу с этим человеком. Это был на вид оборванный донельзя нищий. Ноги у него были в лаптях, без онуч. На плечах и вдоль тела болтались грязные отрепья – остатки существовавшей когда-то свитки, из-под них виднелось заплатанное грязное белье. Нищий снял дырявую шапку и низко кланялся, увидя подходящего хорошо одетого казака.
– Боже! Який гультіпака! Який бідолага! – говорил тоном сострадания Молявка. – Відкіля ти, чи не з Чигирина?
– Еге! милостивий добродію! – отвечал нищий. – Утік, да вони й самі, правду сказать, пустили, не стали задержувать, бо скоро нічого буде всім їсти і всі підуть так, як я.
– Ходи зо мною, старче божий! – сказал Молявка. – Мені от як стало жаль тебе! Я тебе нагодую, і одягну, і через стан проведу, бо сам не проберешся. Затримають і в полон заберуть.
– Мені, добродію, все рівно. Нехай беруть. Я не мовчатиму, все повідаю, що знаю; до того – не до татар піду, а своїм же християнам оддамся, – говорил нищий.
Он пошел вместе с Молявкою. Доходили до стана. Уже виднелись палатки начальных людей. Сторожа перекликались.
Дойдя до караула, Молявка воткнул на саблю свою шапку, обвязанную белым платком.
– Гасло! – крикнули караульные.
– Свята п’ятниця! – отвечал Молявка. То был дневной лозунг. Его пропустили.
– А се хто з тобою йде? – спрашивали караульные, показывая на нищего.
– Се старець, милостині просить. Бідний, я його з Чигирина з собою взяв, хоче до нас перейти. Я йому милостиню подам. – Потом, обратившись к нищему, Молявка сказал: – Бач, які у тебе погані личаки, скидай їх к злидню, обуй мої сап’янці. Мені тебе дуже жалко стало. Я сам з себе все поскидаю да тебе одягну, бо в мене, дяковать Богу, все є. От і кирея тобі. Скидай свої ганчірки!
Молявка снял с себя коричневого цвета суконную кирею и хотел набросить на плечи нищему. Нищий, словно кто на него кипятком брызнул, отскочил в сторону, потом, приняв вид смиренника, говорил:
– Ох, паночку! Добродію мій! Чи варт я того? Боже, Боже! От Господь послав якого милостивого доброчинця. Далебі се півсвіта сходи, другого такого доброчинця не надибаєш!
Он кланялся в ноги.
– Скидай, кажу, свої личаки, обувай мої сап’янці! – говорил Молявка.
Нищий повертывался туда-сюда и, видимо, не знал, что ему делать.
Молявка крикнул к сторожевым казакам:
– Скидайте, братці, з мене сап’янці і обувайте сього старця, а я в його личаках доплентаюсь як-небудь до Черніговського полку!
– Пане ласкавий, пане милостивий! Не треба! Не треба! – говорил нищий и порывался идти в сторону.
– Ні, треба, старче! – сказал Молявка. – Чуєш, що тобі кажуть: давай мені свої личаки, а сам обувай мої сап’янці!
– Паночку, добродію! – говорил совершенно растерявшийся нищий. – Не хочу, далебі – не хочу! – и с этими словами пустился было скорым шагом уходить.
– Доженіть його, козаки! – сказал караульным Молявка. – Візьміть у його личаки, а йому дайте обутися в мої сап’янці!
Казаки бросились на нищего. Тот, сам не зная, как избавиться от беды, начал уже бежать во всю прыть; казаки догнали его, повалили, сняли с ног его лапти, надели на него «сап’янці» и привели к Молявке.
Молявка достал из кармана нож, разрезал лапти и вынул из них свернутое в тонкую трубочку письмо, засунутое в складки лык, из которых были сплетены лапти.
– Се не про нас писано, – сказал Молявка, развернувши письмо, – сього ми не розберемо! Се, мабуть, по-татарськи або по-турецьки. Да у нас в полку знайдеться і такий, що прочита. Іди лиш, старче, за мною, до нашого полковника!
– Пане добродію, пане добродію! – возопил нищий. – Я не старець. Мушу всю правду повідати. Я козак Дорошенків. Гетьман чигиринський послав мене в образі старцевому пробратись через ваш стан в степ і подать звістку салтану, що стоїть за Ташликом, щоб швидше приходив з ордою на одсіч.
Се Дорошенко свій лист мені заложив у личаки, а я не хотів йти до салтана, а хотів перейти до вас на цареву службу.
– Як тебе зовуть? – спрашивал Молявка.
– Козак Мотовило, – был ответ.
– Добре, що не брешеш, – сказал Молявка, – не бійсь нічого. Іди до мого полковника за мною.
Они пошли. Караульные казаки проводили их несколько саженей, потом воротились назад и смеялись виденному ими событию. Молявка пустил Мотовила вперед себя. Прошедши версты две, они проходили мимо заросли, и Мотовило затеял было броситься в кусты, но Молявка догнал его, схватил за руку и, сняв с себя пояс, крепко завязал ему назад руки.
– Ти, бачу, прудкий, козаче, – сказал Молявка, – да я, мабуть, модніший од тебе.
И он погнал Мотовила далее, а сам постоянно держался за край пояса, которым были связаны руки Мотовила.
Казаки Черниговского полка, стоявшие на карауле у своей полковой ставки, окликали его, потом, когда он произнес лозунг, пропустили.
– Я, – сказал Молявка, – веду до пана полковника таке дивне звіря, що він зрадіє, скоро побачить!
Молявка привел Мотовила к шатру Борковского.
– Пане полковнику! – кричал он. – Виходь, твоя милость, глядіть на диво дивне!
Борковский тогда только что воротился в свой шатер после осмотра своего полка; услышав голос Молявки, он вышел со своим обычным серьезным видом. Молявка рассказал ему все, что видал в Чигирине, и представил пойманного казака, но не сказал, однако, что ему незнакомый человек в Чигирине заранее сказал про Мотовила, а изобразил дело так, как будто он, Молявка, сам, по собственной смекалке, задержал нищего и вынул у него из лаптей таинственное письмо, написанное на неизвестном для него языке.
Борковский сказал:
– За сю послугу, що ти вчинив всьому війську Запорозькому, наставляю тебе хоружим твоєї черніговської сотні. Зовіть швидше Галана Козиря.
Галан Козырь был родом татарин; в детстве достался он в полон казакам, принял св[ятое] крещение и был записан в казацкий реестр в Черниговском полку. Был он дорогой человек, знал татарское письмо и гордился всегда, когда происходило какое-нибудь сношение с бусурманами.
– Прочитай і переложи! – сказал Борковский этому Галану, когда его привели к полковнику.
Галан прочитал и сказал:
– Дорошенко пише до салтана Нураддина: просить приспішати на одсіч до Чигирина, бо його москалі і барабаші навкруг оступили.
Полковник приказал написать перевод этой грамоты для представления наказному гетману.
Пришел Булавка. Борковский похвалил его шурина и объявил, что повышает его за заслугу войску Запорожскому.
Обрадованный Булавка поклонился, нагнувшись до земли, а Борковский отвечал ему легким начальническим киванием головою.
Принесли перевод перехваченного письма. Борковский понес его Полуботку и прочитал в собрании всех полковников.
– От гарно! гарно! – воскликнули все полковники в один голос.
– Тепер, – заметил гадяцкий полковник Михайло Василевич, – Дорошенко у нас в руках!
– Він здасться! – заметил миргородский.
– Нізвідки йому більш немає надії, – прибавил лубенский.
Полуботок заливался добродушным смехом, потешаясь над промахом Дорошенка.
– Тепер, – сказал он, – послати сказати Дорошенкові, що лист його у нас. Нехай більш не сподівається на бусурманську поміч, а швидше здається, не проливаючи крові, а то як візьмемо його з бою, то вже не буде йому шани!
– Нехай же сей козак, що піймав Мотовила, понесе Дорошенкові знову лист наш, нехай Дорошенко не бариться, а виїздить до нас і од нас їде до пана гетьмана, коли не хоче, щоб ми його взяли, як собаки вовка. Сей козак уже тепер не рядовик, а хоружий. Дорошенко заспесивився, що рядовика до його посилано, і велів через його наказати, щоб ми йому рядовиків не посилали, а посилали б урядових значних. От тепер ми йому з полкової старшини урядового шлем! – говорил Борковский.
– Нехай, нехай! – все в один голос сказали.
Написали грамоту и отправили в Чигирин того же Молявку-Многопеняжного.
VII
Опять, как в первый раз, Молявка вместе с трубачом подошел к воротам нижнего города. Опять Молявка выставил на сабле свою шапку, обвитую белым платком, а трубач протрубил. Отворили калитку в воротах. Объявивши себя полковым сотенным хоружим, Молявка сказал, что у него есть письмо к гетману.
У Дорошенка в Чигирине было два двора: один – новый, им не так давно построенный на горе в верхнем городе, или в замке, другой – в нижнем городе, в так называемом «місті». Последний был его родовой двор. Его строил еще дед Петра Дорошенка, Михайло, бывший потом гетманом, и двор этот переходил из поколения в поколение по наследству. При этом дворе, очень обширном, был также обширный сад, расположенный на берегу Тясмина, за садом – водяная мельница, принадлежавшая Дорошенкам. К этому двору направили тогда чигиринцы посланца. Молявка взошел на крыльцо, поднялся по лестнице вверх и, отворивши дверь, вступил в просторную комнату, уставленную лавками и двумя столами. За каждым из этих столов сидело по канцеляристу; они что-то писали. Писарь Вуехович расхаживал по комнате. Молявка почтительно поклонился и сказал, что пришел от наказного гетмана к гетману Петру Дорофеевичу с «листом».
Вуехович узнал его сразу и сказал:
– Аже гетьман тобі наказовав, щоб рядовика до його не посилали, а слали би якого урядового!
– Я тепер уже не рядовик, – сказал Молявка. – Я сотенний хоружий.
– За немалі, певне, послуги тебе так зразу піднесли! – сказал Вуехович, догадавшийся, что повышение этого казака связано как-нибудь с отправлением Мотовила, о котором Вуехович приказал тайно сообщить этому казаку.
– Про те владза знає! – сказал Молявка.
Вуехович с «листом» вышел. Молявка несколько времени стоял, оглядывая покой, куда вошел. Канцеляристы продолжали сидеть и строчить какие-то бумаги. Один из них как-то приподнялся, и Молявка узнал в нем того самого, который в первый его приход, поговоривши с Вуеховичем, подбежал к нему и сообщил о Мотовиле.
Молявка не смел начать с ним разговора, как вдруг тот сам, улучив минуту, когда Молявка, расхаживая по покою, приблизился к столу, за которым канцелярист писал, и спросил его:
– Вашець прошу, чи не знаєш, вашець, нашого товариша Кочубея, що наш гетьман посилав до Царгорода, а у його челядник покрав папери, то він побоявся нашого гетьмана і втік до вашого. Кажуть, йому добре у пана гетьмана Самойло́вича?
– Я його особисто не знаю, – отвечал Молявка, – а чув, що йому коло ясновельможного добре поводиться.
– І Мазепа, наш прежній писар, кажуть, великий чоловік у Івана Самойло́вича. Усім добре тим, що од нас до його перейшли. Хороший дуже ваш гетьман. І наш Вуєхович-писар того тільки і бажа, аби наш ясновельможний свою булаву зложив і гетьманство здав. І ми всі об тім тільки Бога молим, щоб те швидше сталось.
Вошел Вуехович с озабоченным видом.
– Пан гетьман, – сказал он Молявке, – велить тебе, мій голубе, до мене взяти на господу, поки одповідь дасться.
Вуехович отвел Молявку в свой дом, находившийся рядом с двором Дорошенка, и на дороге спросил Молявку:
– Поклонився від мене Борковському?
– Поклонився, – отвечал Молявка, – і по сьому поклонові мене піднесли в хоружі.
– Тепер, – сказал Вуехович, – нашому гетьманові той найщиріший приятель і правдивий добродій, хто його доведе до того, щоб він поклонився Самойло́вичеві і гетьманство своє з себе скинув. Бо нікуди, нікуди нам діться!
Оставив в своем доме Молявку под опеку матери своей, Вуехович воротился во двор Дорошенка.
Дорошенко, узнав из письма Полуботка, что Мотовило схвачен и последняя попытка упрямиться не удается, пришел в большую досаду и более всего сердился на Яненченка, своего шурина, и на других, которые вместе с гетманским шурином уговорили его сделать последнее усилие и послать еще раз к татарам просьбу о помощи. Действительно, гетман не хотел этого делать, но поддался советам и настойчивости других, как и прежде бывало с ним такое нередко: не хочет, противится, а потом поддается и снова сердится на тех, которых послушался. Таким выработало его ужасное положение Украйны, когда глава этой страны сам не знал, за что ему схватиться и что избрать за лучшее. Но никогда не поступил Дорошенко так опрометчиво, как теперь, послушавшись совета своего шурина и других, не расположенных покоряться левобережному гетману, а этого-то именно, во что бы то ни стало, требовало московское правительство. Долго уже водил Чигиринский гетман Самойло́вича и Ромодановского обещаниями исполнить царскую волю и только обманывал их, а сам между тем все-таки продолжал сноситься с турками и татарами. Теперь, когда вся область, управляемая Дорошенком, почти опустела и взять его самого в Чигирине было нетрудно, последнее спасение зависело от того, чтобы его покорность царю, хотя напоследок, могла представиться сколько-нибудь искреннею, – и в это-то время новое сношение с татарами должно было окончательно раздражить тех, от которых зависела его будущая судьба.
Коварство его было открыто. Дорошенку более чем когда-нибудь приходилось отдаться, и теперь думал он только о том, как бы сдаться с тем условием, чтоб ему была прощена вместе с прежними винами и эта последняя выходка. Он, получивши «лист» Полуботка, принесенный новопоставленным сотенным хоружим, приказал созвать к себе свою немалочисленную родню и тех старшин, которые еще оставались ему верными. Место сбора указано было не у него, а у его матери, которая жила в том же дворе, но в особом доме, построенном в саду. Дорошенко очень уважал свою мать, хотя часто досаждал ей своим вспыльчивым нравом, а потом просил у нее прощения и мирился с нею. Это была высокорослая сгорбленная старуха с трясучею головою; на ее лице, искаженном летами, виднелись еще следы былой красоты, а когда-то эта старуха считалась первою красавицею между Чигиринскими девчатами и потому в оное время досталась в замужество первому молодцу в Чигирине, Дорошу Михайловичу, сыну когда-то бывшего гетманом Михайла Дорошенка, статному, богатому, умному, как о нем все говорили. Этот Дорош, посланный Богданом Хмельницким в Варшаву, так умел там блеснуть своим природным умом, что поляки, несмотря на изуверную свою тогдашнюю ненависть ко всему русскому, наградили его шляхетским достоинством, хотя он не показал им ни малейшей охоты изменить казацкому делу и еще менее православной вере. С ним, с этим Дорошем, прожила она двадцать один год и народила ему сыновей и дочерей.
По смерти его она осталась полновластною хозяйкою и главою семьи. Возникавшая нередко между этой старухой и старшим сыном Петром безладица происходила из-за жены Петровой, Ефросинии Павловны, из рода Хмельницких, с которою Петро, однако, соединился браком по совету матери, находившей полезным для своего сына посвоиться с родом, считавшим в числе своих членов знаменитого Богдана. Это была, впрочем, вторая жена Петрова: с первою жил он недолго, имевши от нее одну дочь, которую потом выдал за Лизогуба. Отец второй жены Петровой – Павло Яненко-Хмельницкий, приходившийся троюродным братом Богдану, отдал за Петра Дорошенка дочь свою против ее воли: Прись-ка любила уже другого, плакала, умоляла отца не губить ее, не отдавать за нелюба, но отец не послушал ее, увлекся тем, что будет считать гетмана своим зятем, и насильно повел ее к венцу. Зато с первых же дней супружества молодая Дорошенчиха объявляла своему мужу, что любить его никогда не будет, и особенно возненавидела свою свекровь, так как знала, что последняя настаивала, чтоб ее сын женился на Хмельницкой. Невестка во всем перечила старухе, а старуха ни в чем ей не смалчивала. Петро думал всеми способами угождать жене, чтобы через то приобресть ее любовь, и в спорах ее с его матерью постоянно принимал сторону жены. От этого происходили между сыном и матерью возмутительно бурные сцены, только и возможные в таком обществе, каким было тогда казацкое, где вспыльчивые натуры не умели себя сдерживать.
Вскоре, однако, гетманша вывела из терпения и своего мужа. Было это в то время, когда гетман Дорошенко отправился в поход на левый берег Днепра, где свергнул с гетманства и отдал народу на расправу Бруховецкого. Оставшись без мужа, Дорошенчиха сошлась с прежним своим возлюбленным, но свекровь, проведавши об этом, тотчас дала знать сыну, – и это, как известно из истории, было поводом того, что Дорошенко поспешил воротиться в Чигирин и не окончил затеянного им дела. После того он вместе со своим тестем засадил жену в монастырь. Успел ли ускользнуть от его расправы возлюбленный Дорошенчихи – мы не знаем. Она просидела в монастыре несколько лет и научилась там пить. Дочь ее, оставленная в младенчестве, вырастала без матери, тосковала об ней, беспрестанно надоедала отцу расспросами о матери, и гетману стало жаль жены. Он поехал с дочерью в монастырь простить жену за прежнее, взял с нее присягу, что она будет ему верна, и позвал снова к себе в дом. Недолго Дорошенчиха жила покойно: начались у ней опять ссоры со свекровью, а привычка напиваться, усвоенная в монастыре, не только не оставляла ее, но еще усиливалась. Петру то и дело приходилось мирить жену с матерью, читать жене нравоучения и от нее выслушивать упреки, что он загубил ее молодость. Она и теперь, как ранее, смело и искренно высказывала ему и постоянно твердила, что не любит его и любить никогда не будет.
Но не только из-за жены происходил разлад у Дорошенка с матерью; не ладила мать с ним и за его дружбу с бусурманами. У Дорошенка с детских лет до старости жива была глубокая детская вера в силу материнского благословения, и он не мог никогда относиться к матери так, как большая часть казаков относилась тогда вообще к женщине, под каким бы видом ни было женское естество для них; не мог он сказать: «Ты мать, но ты баба, я тебя уважаю, но ты знай свои бабьи дела, а в наши казацкие не мешайся!» Напротив, у Дорошенка не было тайн от своей матери, и никакого дела, никакого похода или союза не предпринимал он, не испросив у матери совета и благословения. Когда задумал он отдаваться под протекцию турецкого падишаха, мать не дала ему благословения, но он тогда матери не послушал и потом сваливал все на старшин и на казацкую раду, извиняя себя тем, что гетман не самовластный государь и должен поступать так, как приговорит все войско Запорожское. Когда турецкая протекция начала оказывать неизбежные последствия и падишах потребовал от своего нового «голдовника» набора детей в янычары[5], а Петро хотел было уже исполнить повеление властителя, старуха до такой степени пришла в негодование, что начала проклинать сына, а вспыльчивый Петро пришел в такую ярость, что запер мать под замок и держал несколько часов, как невольницу, но потом одумался, просил у ней прощения за свою горячность, поклялся ей, что будет стараться отрешиться от бусурманской власти и поддаться православному государю. И с этой поры, действительно, Петро Дорошенко охладился к союзу с бусурманами и пытался сойтись с Москвою. То было желание как его матери, так разом с нею и всего народа, который, спасаясь от бусурманского господства, бежал громадами за Днепр искать новоселья в областях православного монарха. И Петро не прочь был от подданства царю московскому, но все-таки хотелось ему учинить это подданство на таких условиях, которые бы ему и всей Украйне давали наибольшую степень самобытности и независимости, и немало хитрил и вилял он. Потерял он все подвластное себе население, остался только с одним Чигирином, и то сильно обезлюденным; приперли его, как говорится, к стене московские и казацкие силы. Не удалась ему и последняя попытка пригласить крымского салтана и заставить Самойловичевых казаков отступить от Чигирина. Петро Дорошенко, собрав всю родню, приходит к матери, склоняет перед нею колени и говорит:
– Мати! Востаннє благослови на добре діло: вийти з усіма чигиринцями і положити бунчук і булаву на волю царського величества!
– Кільки років чула я від тебе про сеє, і скільки разів давав ти обітниці, а напотім опять бусурмана до себе на поміч кликав! – сказала с чувством скорби мать.
– Не раз! – сказал Дорошенко. – Говорив я тобі, мати, що діялось те ради віри християнської і народу благочестивого, щоб вольності його зберегти.
– Хороші вольності придбав ти йому, народові сьому! – сказала мать. – Загонять православних християн в кримську неволю, як череду, – от славні вольності!
– Твоє діло, мати, благословити, а ми вже самі знатимемо, як нам поступовати, – сказал Петро.
– О Господи, Господи, за що ти покарав мене, грішну, що я породила таку потвару! – вопила старуха. – Проклинатимуть, Петре, тебе многі душі християнські, і внуки і правнуки на тебе жалітимуться і плакатимуться. Що ти думаєш? Чи ти над собою Страшного суда Божого не чаєш?
– От і пішла, і пішла мати прежній молебень правити! – сказал с досадою Петро. – Авжеж, не вернеться те, що пройшло! Батько Богдан Хмельницький недурно казав: при сухому дереві і живе запалюється!
– Се треба занехати, – отозвался Павло Яненко, тесть Петров, – не про те річ: чи добре, чи недобре ми перше учиняли. Він кається. Він, свахо, у тебе благословенія прохає на добро, так що вже його колишнім дорікати!
– Схаменулись ви, да чи не пізно! – сказала старуха. – Що то цар тобі тепер скаже? Скільки років його дурили! На Сибір тебе зашле. Туди б тобі і слід, аби мого бідного, коханого Гриця вернули!
– Ти, свахо, за Грицем зажурилась; Гриця тобі жалко, бо Гриця при тобі немає, – сказал Яненко. – А коли б Гриць повернувся, а замість Гриця Петра заковали в заліза, то б і за Петром убивалась ти, як за Грицем тепер убиваєшся. Хіба Гриць того не робив, що Петро? А вже ми всі одним миром помировані! Всі погрішили проти царя православного і проти усього миру християнського. І я з вами теж. Ударимо ж самі себе у груди і покаємось. Може, милосердий цар простить!
– Здається, уже часу не маєш! – сказал сын Яненка. – Мотовило, що посланий був до салтана, попався барабашцям у неволю, і лист гетьманський у його взяли. Знають уже, що посилали-сьмо знову звати кримців. Сього нам не пробачать. Тепер якраз, як говорить стара, на Сибір гетьмана зашлють.
– А який чорт нагадав того Мотовила посилати, коли не ти, Яцько, з своїми приятелями? – говорил с чувством огорчения Яненко. – Я казав: не треба, і гетьман не хотів, так ви його збили з путі!
– Недобре зробили, що Мотовила послали, – произнес Петро, – а ще гірше нам те, що Мотовило попався. Тільки тепер мені Полуботок пише, коли я не стану бариться і вийду до їх зараз, то вони Мотовила випустять і про лист наш, до салтана писаний, московському гетьманові не об’являть.
– Потурай! – сказал Яненченко. – Тільки вийдеш, так усіх нас у кайдани заб’ють да у Москву зашлють.
– Обіцяє Полуботок і лист наш до нас вернути, – сказал Петро. – Ось читай, що вони написали нам.
– Одначе не прислали! – возразил Яненченко.
– Пришлють, – сказал, с решимостью выступивши, Вуехович. – Присягаюсь на тім, що пришлють і гетьманові московському не скажуть. Люди наші.
– А ти почім знаєш? – сказал Яненченко. – Хіба вже з ними змовився: соболів московських захотів!
– Ти мене, Якове, соболями не урікай, – сказал с видом достоинства Вуехович. – Молодий ти ще, щоб мені таке завдавати. Я над твого батька старший літами, а не те що над тебе, хлопця!
– Мій писар вірний мені чоловік, – сказал Петро. – Я не дозволю на його порікати.
– Не дозволиш, то й добре йому, – возразил Яненченко. – На те гетьман єси. І про Мазепу казав ти колись, що вірний тобі. А Мазепа тепер перший чоловік у гетьмана-поповича став.
– А що ж робити, коли так склалось, – произнес Петро. – І Мазепу не виновачу я. Не класти було йому шиї під обух. Я б і сам так зробив, як Мазепа, якби на його місці був. Ті полковники, що від мене відцурались, більш виноваті. А всьому початок положив зять Лизогуб, що перший з них підлизався. Ті всі гірш мені зашкодили, ніж Мазепа. Да я тепер нікого не виновачу, бо їм нічого було більш робити. Бачили вони заздалегідь, що з сього усього нічого не виникне, окромя лиха. Я один винен, що не послухав їх доброї ради і на бусурманів понадіявся!
– Мазепа мені великий приятель був, – сказал Вуехович. – І тепер, сподіваюсь, таким зостався. Пошлемо до Самойловича посланців, а я лист до Мазепи напишу і прохатиму, щоб за нас заступився перед гетьманом. А Мазепа у Самойловича велику силу має. Да він такий розумний, що і з Москвою знатиме, як повестись. Він усе поробить нам як слід і улагодить.
– Так, так! – говорил Яненченко.
– Се такий шельмованець, що кого схоче поведе і проведе і в провалля заведе. Він підлестився до нашого гетьмана, а як побачив, що сонце йому вже не так світить, як перше світило, так зараз ізрадив свого добродія, тепер підлестився до поповича, а коли прийде час, і того зрадить. Отакий-то ваш Мазепа.
– Кого ж пошлемо у посланцях до Самойловича? – спрашивал Петро.
– Мене, пане гетьмане, посилай! – отозвался Кондрат Тарасенко, племянник старой Дорошенчихи, быстроглазый, черноволосый молодец, вскочив со своего места.
– Добре! – сказал гетман. – Ти, козаче, не дурень єси і на річі мастак. А другого кого ж пошлемо? Другий нехай їде сам Вуєхович, коли він сподівається урештовать усе через Мазепу, свого давнього приятеля. Я прийду до Самойловича і до Ромодана, нехай тільки перед вами вони заприсягнуться, що мені нічого не буде, і всіх наших зоставлять на своїх прежніх мешканнях жити, і всі мої вини, що я проти царя учинив, простяться і на пришлий час не споминатимуться. А я заприсягну не втручатись у жадні козацькі справи і стану жити вцалє приватною особою. Ви з Тарасенком дайте за мене таку обітницю, а від них привезіть мені в листу таку, як я кажу і бажаю.
– Не повірять вони сьому, – сказал судья Уласенко, – скажуть: не перший раз обіцялись, а не виконали своїх обіцянок.
– Що ж нам діяти? – сказал Дорошенко. – Бач, Воронівка, Черкаси, навіть Жаботин і Медведівка – усі відчахнулись од моєї владзи. Уже тільки чигиринці да охоче військо тримаються ще за мене, да й ті незабаром одійдуть, бо вже охотникам показав дорогу Мовчан. Нехай так робиться, як Вуєхович казав. Благослови, мати!
– Як до царя подаваться, так тоді матчиного благословення треба, а як з бусурманами водитись, так тоді матчиної ради не слухаєш. Інші порадники єсть на те! – говорила с выражением горечи и озлобления старуха.
– Хіба я, мати, не прохав твого благословення, як турка під Каменець звав і як Мазепу посилав? – говорил с выражением укора Дорошенко.
– Не благословляла я тебе. Перший раз що моє благословення чи неблагословення варто було, коли найперший владика митрополит благословив тебе на приязнь із турком. А в другий раз я не те що не благословила тебе, а ще кляла, а ти так розлютовавсь, що аж руками на мене замірявся і замкнув мене, ніби яку злодіюку!
– Мати! – жалобно произнес Дорошенко. – Аже ж я каявся перед тобою і вік свій каятимусь. Сам Бог прощає покутуючих грішників.
– Тільки не таких, що, як собака, на блюваки свої обертаються, як кажуть святі отці. Твоя покута – шкілювання з Бога, а не щира покута, – говорила старуха, более и более раздражаясь.
– Пішла, пішла, стара! – с досадою вскрикнул Дорошенко.
– Еге! – продолжала раздраженная старуха. – Стара вона стала, тая, що тебе породила і вигодувала! Розум через старощі утратила. Що ж? Молодої слухай! Що вона тобі в гречку скаче – се нічого. Було Хомі, буде ще й тобі!
– Ти, стара, на кого се натякаєш? – обозвалась жена Петрова, все время сидевшая молчаливо и как бы дремавшая после порядочного, как видно было, излияния в себя винного пития. – Нічого мене їсти і попрікати! Який зо мною гріх не стався, я його спокутовала не за один рік!
– Спокутовала! – возразила старуха со злобным смехом. – 3 черницями, а може, і з ченцями розпилась. Бач, і тепер очі залиті.
– Через кого я така стала, як не через тебе, стара! – говорила, порываясь с места, Петрова жена. – Все через тебе!
Як я заміж вийшла за твого сина, так з першого дня як почала ти мене клювати да гризти да чоловікові на мене наговорювати, аж поки не засадили мене в монастир. А тепер досадно тобі, що опять мене взяли до себе жити.
– Прісько, буде! – грозно заметил ей отец ее, Павло Яненко.
– Прісько, годі тобі! Утихомирся, – таким же тоном проговорил ей Петро.
– Чого там «буде та годі»! – говорила раздражившаяся Приська. – Чого ви на мене гуртом нападаєтесь? Самі у гріх увели та й гризете!
– Як ми тебе у гріх увели? – повышая голос, говорила старуха. – Хіба з нас хто направив тебе… Пам’ятаєш, як тебе уловили з молодцем та написали твому чоловікові. О негідниця! Сама ти в гріх ускочила, не боячись Бога і людей не стидячись.
– Хто мене у гріх увів, питаєте ви? – говорила Приська. – Батько, рідний батько, що оддав мене силоміць за нелюбого. От хто мене у гріх увів спочатку. Я не хотіла йти за Петра, а мене гвалтом узяли і повезли у церкву вінчатись. Петро знав, кого брав. Хіба він кохав мене? Якби я не Хмельницького роду була, то він би і не здумав мене брати, а якби взяв, то давно б мене зарубав.
– І давно було б треба! – с гневом сказал Петро. – Зробить би з тобою, як зробив Богдан з своєю другою жінкою! Ми ж, бач, з батьком твоїм посадили тебе в монастир, щоб ти одумалась і спокутовала. Ти ж, бачу, все ж така ж, яка й була.
– Атож! Олії з мене не виб’єте. І до смерті буду все така, – говорила крикливим голосом все более и более раздражавшаяся Приська. – У гречку скакала та ще скакатиму. От що! Ось поїдь, Петре, відсіля місяців на два або на три. Побачиш тоді, чого я тут нароблю!
– Цить, навіжена! – крикнул на нее Петро. – Хіба схотілось знову під чорний каптур? Добре, мабуть, випила!
– А що ж? – говорила с жаром Приська. – Випила! Тобі можна, а мені так ні! Ти, гетьман, позавчора накликав музики та пішов по шинках танцювати, а я, гетьманша, зберу жінок та козаків і піду по улиці. Отак! – При этом она сделала круговорот своим телом. – Що мені зробиш? – продолжала она, доходя до исступления. – В монастир засадиш? Садовй! Заріжеш, може? Ріж! Я тебе не любила, не люблю і ніколи не любитиму!
– Нехай тобі лихо! – сказал Дорошенко. – Хіба я тебе люблю? Держу тебе того ради, що дочка мала єсть. Да і те: яка ти ні єси, а все ж таки ти мені жінка вінчана. Тим і держу, хоч не хочу.
– І держиш, і держатимеш, мій голубе! Хоч хочеш, хоч не хочеш; взяв, так і терпи всі мої вибрики! – говорила, заливаясь ироническим смехом, Приська.
– Дочко! угомонись! – наставительно говорил ей отец.
– Не гримай на мене, батечку! – отвечала ему Приська. – Навіщо оддав мене за нелюба, а не за того, хто був мені милий!
– Чорт тебе знав, хто у тебе милий був! – заметил Дорошенко.
– Нема вже його, нема! – говорила Приська. – Тепер кого наги́баю на дорозі да сподобаю, той мені й милий. Багато милих буде! Що день, то один милий, а на другий день – інший милий. От яка я. Петро се добре зна.
Мать соскочила с места и закричала:
– Петре, сину, забий їй рот, щоб не верзла такого. Боже! Якого сорому довелось наслухатись від невістки!
– Прісько! – закричал, топнувши ногою, Петро, – не роздратуй мене. Не вдержусь, битиму!
– А я тобі дам дулю під ніс, – сказала Дорошенчиха. – Ось глянь, яка дуля! На! Покуштуй, мій голубе.
– Дочко! – громко крикнул отец, бросившись на дочь.
– Прісько! – крикнул Дорошенко и схватил ее за руку.
Приська посмотрела на него с видом, вызывающим к себе сожаление.
– Прісько! – продолжал Дорошенко. – Йди собі в свою комірку та виспись. Бо ти, бачу, вже чимало випила. Хто се їй горілки приніс?
– Сама узяла у тебе в шкапчику. Найшла та й напилась, – сказала Приська.
– Йди, йди! – говорил Дорошенко, улыбаясь и стараясь показать, как будто все обращает в шутку. – Йди, серце, коханко!
Приська пошла в двери, подскакивая и припевая:
- I бив мене муж, волочив мене муж,
- Ой бив і рублем, ще й качалкою,
- А і к світу назвав ще й коханкою!
Она скрылась.
– Нехай іде собі та виспиться, – сказал Петро. – Лихо з такою малоумною жінкою! А подумаєш: чим винна вона, що їй Бог розуму не дав! От тепер, здихавшись її, почнемо знову про діло наше!
– Зятю! – говорил Яненко. – Сі москалі далебі не такі страшні і люті, якими тут у нас здаються. Я пригледівсь до них, як був у Москві. Прийняли мене ласкаво, до самого царя водили до руки… І церкви у їх такі ж, як у нас, християнські, тільки багатше і краще наших. З Москвою в братерстві жити нам згодніше, ніж з бусурманами. Бо вже ми досвідчили, що то єсть побратимство з кримцями і з турком. Що нам бусурмани вчинили? Тільки Украйну спустошили! Яких не побили, ті повтікали. Куди нам тепер подітись? Не шукать милості у тих же бусурман, да й те, бач: ми вже прохали, так не дають більш, тільки нас манять. Один раз помогли, у ляхів собі Подолля забрали, та й годі. Уже ж не до ляхів нам тулитись.
– А чому ж не до ляхів? – сказал Шульга, полковник охочих казаков. – Отепер би з ними краще було поєднатись. Якби вони побачили, що ми тепер лєпше до них, як до Москви, привертаємось, то б їм прийшлось дуже по душі.
– їм би, може, прийшлось по душі, та нам не по нашій шкурі! – сказал Дорошенко. – Ні, Шульго! Сього вже удруге і втретє не повторяй. Ніколи, поки світ сонця, козак з ляхом не зійдуться.
– Сто чортів їх батькові і матері, тим ляхам-бісам! – воскликнул обозный Бережецкий. – Тільки моя така щира думка, що, відцуравшись від ляхів, не приставати до Москви, на її підмову не піддаватись, а славне військо Запорозьке низовеє – от наша надія! О, якби ми тримались всі вкупі: не те, що ляхи, – і москалі не побороли б нашої козацької сили.
– Добра твоя річ, – сказал судья Уласенко, – тільки якби років хоч десять попереду була проказана. Бо вже тепер Україна через нутряні свої розрухи ні на віщо звелася.
– Ми з військом низовим єднали-сьмо, – сказал Дорошенко. – І перед кошовим присягу цареві виконали. Так Москва тієї присяги не поважає, і бояре її не хочуть, кажуть, щоб виконали ми присягу перед Самойловичем і перед Ромоданом, а не інак. Що робити! Не хотілось нам коритись перед поповичем, да нічого не вдієм. Не поповичеві поклонимось, а цареві, що його наставив і посилає. Учиню так, як цар велить, а опісля не маю кновать нічого. Житиму в приваті тихо-мирно. Що там робитиметься – мені все байдуже! Нехай тільки мене вже не займають і всю родню мою, і при нашій худобі нас нехай зоставлять. З нас і буде! І поповичеві годитиму. Що захочуть, нехай витворяють надо мною: сількісь! Все терпітиму! Багато я погордував над людьми на своєму віку. Покаятись при кінці віку хочу. Аже кажеться: в терпінні стяжите ваші душі! Мати, благослови!
– Аби тільки за перші злі учинки не взявся, – сказала старуха. – А на добрі я благословляю.
Мать со слезами на глазах встала со своего места, сняла со стены висевший образ Спасителя в терновом венце и, осенив им склонившего перед нею голову сына, произнесла:
– Сину мій любий, сину первородний! За все, чим проти мене погрішив єси, я тебе прощаю і благословляю на життя нове. Пошли тобі, Господи, здоров’я і щастя!
После этой семейной сцены Дорошенко велел позвать привезшего Полуботков «лист» посланца. Привели Молявку.
– Скажи мені правду, козаче, да тільки щиру правду, як перед Богом. Не відбріхуйся, – говорил ему Дорошенко. – А я тобі даю справедливе слово гетьманське: не буде тобі нічого злого. Ти піймав мого Мотовилу? Не бійсь, кажи просто.
– Я, пане гетьмане! – отвечал Молявка.
– Я так і думав, – сказал Дорошенко. – Бо за віщось велике тебе зразу так піднесли, що з простого рядовика хоружим сотенним учинили. Як же ти його піймав? Чи дав тобі хто про його зарані звістку?
– Вийшовши з Чигирина, угледів я, що якийсь бідолашний старець виліза крадькома з города. Підзорно мені те здалось. Я догнав його. Подаровав спершу йому своє одіння і сап’янці, а у його взяти хотів, що на йому було. Він не дався. Тоді я догадався, що тут щось є, позвав козаків, роззули його, і я з личаків вийняв лист.
– Кажи правду, – заговорил Дорошенко. – Мотовила не посилано до московського гетьмана?
– Ні. Сидить у Борковського за сторожею, – сказал Молявка.
– І листа мого не посилано до московського стану? – спрашивал Дорошенко.
– І листа не посилано, – отвечал Молявка.
– Я, – сказал Дорошенко, – пошлю Вуєховича і Тарасенка до обозу пана Самойловича і Ромодана: нехай умову підпишуть і присягнуть обопільно. Тоді я до їх приїду гетьманство своє здавати. А тим часом, поки мої вернуться, ти зостанешся аманатом. А Полуботок нехай мого Мотовила пришле до мене і лист той мій, що перейнято. Я тоді разом з тобою до їх виїду!
VIII
В казацком стане в шатре наказного гетмана Полуботка собрались все пришедшие под Чигирин полковники. Перед этим собранием, сидевшим за столом, стояли Дорошенковы посланцы Вуехович и Тарасенко. Они объясняли полковникам, что отправка Мотовила учинена была Яненченком мимо воли и ведома гетмана, уверяли, что с Яненченком в соумышлении немного неопытной молодежи, которая сама не знает, что делает, а большинство чигиринцев заодно с гетманом стоит твердо на том, чтобы искренне, без обмана покориться. Вуехович умолял полковников поступить в этом случае по-товарищески, не сообщать о перехваченном «листе» Косагову, простить неразумную молодежь и не думать, чтоб Дорошенко участвовал в таком коварном замысле, а Дорошенку отослать и Мотовила, и взятый у него в лаптях «лист». Тогда Дорошенко немедленно приедет к ним в стан. Полуботок отвечал, что все сделается так, как желает Дорошенко, только пусть Дорошенко немедленно после отправки к нему Мотовила, с «листом» приезжает в московский стан на речку Янчарку и там пред всеми положит свои клейноды, а потом поедет в главный обоз к Ромодановскому и Самойловичу. Полковники тотчас приказали возвратить Дорошенку «лист» перехваченный и препроводить Мотовила в Чигирин, а Вуеховича и Тарасенка отправили к Косагову, от которого те уехали в главный обоз к Самойловичу и Ромодановскому.
Между тем новый хоружий черниговской полковой сотни сидел в доме Вуеховича, которого мать, по приказанию сына, угощала со всевозможным хлебосольством. К концу дня сказали Молявке, что его зовет гетман. Он вышел за ворота двора Вуеховича, но там ожидали его Яненченко и приятель последнего, бывший медведовский сотник Губарь.
Яненченко сказал Молявке:
– Ти піймав Мотовила?
– Я, – ответил Молявка. – Я вже повідав самому ясновельможному.
– Чи ти козак правдивий, чи, може, московський шпиг? – спрашивали его.
– Я – козак правдивий! – отвечал Молявка.
– Так слухай, – сказал Яненченко, – не всі у нас такі ледащі, як наш гетьман, що старого бабського черевика не варт. Не над козаками йому гетьмановати, а свині пасти. Без Дорошенка знайдемо собі іншого гетьмана. Чутка у нас права, що турський цар, довідавшись про Дорошенкову зраду, нарік гетьманом сина славної пам’яті Богдана Хмельницького Юрася, пожаловав його князем Малоросійської України, і велів одягнуть його у каптан і берет йому дати. Ми до його пристанем, коли з’явиться з турським незвитяжоним військом. Людей хоробрих, розумних і сталих нам треба. Відпокутуй вину свою, що вхопив нашого чоловіка в неволю. Приставай до нас. Зоставайся з нами, відступись од московського царя і присягни служить Богданову сину. А коли не захочеш так учинити – світу божого більш не побачиш! Тут зараз тебе і смерть постигне.
– Не те, що до вас пристану, – отвечал Молявка, – а намагаюсь наших полчан черніговських і других, як прилучиться, відвернуть од регіменту Самойловичевого.
– А брешеш, сучий сину! – сказал Губарь. – 3 ляку за свою душу нам се ти кажеш! Відкіля се воно так сталось, що позавчора, слугуючи вірно гетьманові-поповичеві, ти полонив нашого чоловіка, а сьогодні вже єдної думки з нами став. Брехня, брехня, не піддуриш нас! Думаєш як-небудь вишмигнуть від нас, а потім доведеш про нас!
– Ні, панове, – отвечал Молявка, – не хочу вас піддурювать, з щирого серця вам кажу. Хіба, ви думаєте, у нас на лівому боці забули про батька нашого Богдана? Хіба тоді про його забудуть, як уже ні одного козака там не зостанеться! Поки світ сонця – пам’ятатимуть і згадуватимуть його, і синові його слуговати раді будуть мало не всі. У нас якби просто ректи: отступіться од царя да приставайте до турка або до ляха, то правда – мало б знайшлось охітних. Або так сказати: відречіться од регіменту Самойловичевого, нехай буде вашим гетьманом Дорошенко, або Ханенко, або хто інший, хоч би хто з ваших мостей, то ледве би на те пристало багато. А Хмельницького імено – велике то слово! Тим і я, панове, як тільки сказали ви, що турецький цар наставляє Хмельниченка не тільки що гетьманом, а ще князем, зараз бог зна як зрадів і з першого слова сказав, що хочу йому вірно слуговати! У нас, панове, давно така гадка між народом ходить, що коли-небудь прийде Юрко Хмельниченко відбирати свою батьківщину, і тоді всі до його пристануть, і вся Украйна поєднається, і не буде над нами ніякого чужого пановання, ні московського, ні лядського, а своє власне буде, і усім лихам кінець прийде, і щастя Бог дасть людям своїм.
– Якби ми про Хмельниченка тобі не сказали, то б таки ти усе згодився мальованим способом на всяку нашу думку, аби тільки від нас вирваться. Бо ми тобі сказали, що смерть постигне тебе, коли не згодишся, – заметил Губарь.
– Ми тебе тільки так дражнимо, а ми тебе зараз поведем та розкажемо тебе розстріляти як московського шпига.
– Не злякався я, бо на те я козак, – говорил Молявка. – Чи можна козакові смерті боятись? На тім козацьке життя стоїть, що видюща смерть у його на кожнім кроку. Не вірите мені – ведіть розстріляйте. Коли-небудь умирати треба. Хоч десять літ, хоч двадцять – а все-таки коли-небудь смерть прийде. Вічно не житиму. Розстріляйте мене, коли не вірите, а я вам правду сказав: як ви мене питали, так я вам і казав, як думаю. Я перед вами на святім хресті і на Євангелії присягнусь, що вірно слугуватиму Богданову синові. А не вірите, розстріляйте мене.
– Губарю! – сказал Яненченко, – поклич Остаматенка. Нехай перед нами трьома присягу виконає. Люди нам потрібні.
Губарь быстро побежал. Молявка стоял молча в раздумье, ожидая своей судьбы.
Яненченко первый прервал молчание и начал бранить Дорошенка. Молявка только слушал. Скоро воротился Губарь с новым лицом, в котором Молявка узнал того самого канцеляриста, который в первый приход в Чигирин сообщил ему, по приказанию Вуеховича, о Мотовиле. Молявка тотчас смекнул, что у этих господ, от которых теперь зависела его участь, что-то между собою не ладно и один под другим роет яму.
– Сей козак до нашої думки пристає і хоче нам в пригоді стати, – сказал Яненченко. Затем он рассказал предложение подговаривать левобережных казаков в пользу Хмельниченка. – Чи приймати його до нашого гурту, чи, може, розстріляти як московського шпига? Як думаєте, пане Остапе? – спрашивал он далее.
– Я так думаю, що приймати його до гурту. Нам людей треба, – отвечал новоприбывший.
– А Дорошенко, скурвий син, нехай віється ік дідьку! – начал снова Яненченко. – Нехай покуштує московського кнута, як Демко Многогрішний, що одібрав добру нагороду за свою вірную службу цареві.
– Хіба один тільки Демко! – заметил Молявка. – А Яким Сомко, а Васюта Золотаренко, а Оника Силич? А Мефодій архирей? Уже хто Москви прихильнішим був, як той архирей. А як йому за те Москва оддячила! Що казати? Мало хіба нашого люду запропастила проклятуща Москва! У нас така чутка досі ходить, що і самого батька Богдана Москва завчасу з світа білого звела: отрути, кажуть, йому поддали за те, що боярам не хотів годити. Московський цар тільки що зоветься і пишеться самодержець, а править не він. Всім заправляють і роблять, що хочуть, бояре, а цар тільки спить да їсть і п’є всласть.
– Правду говориш, товаришу! – сказал одобрительным голосом Яненченко. – Ходім же у церкву, там заприсягнешся. У нас єсть і піп такий, що з нами єдиної згоди.
Заговор о приглашении Юраска Хмельницкого уже зрел в Чигирине, хотя и не слишком еще распространился. Соумышленников у Яненченка было, может, каких-нибудь десятка три. В числе их был один из Чигиринских священников. Это был прежде казак-запорожец, учился он когда-то в бурсе, а потом воевал несколько лет с запорожцами по степям и рекам; за какое-то преступление в коше хотели было его заколотить палками; он впору убежал из Сечи, явился к митрополиту Тукальскому и просил посвятить его в попы. Случаи были в те времена не редкие, что казаки, прежде отличавшиеся достоинствами войсковых людей своего века, поступали в духовное звание. Митрополит посвятил и этого казака и назначил вторым священником при одной из Чигиринских церквей. Его-то сманил на свою сторону Яненченко. Все четверо пришли к этому попу и просили привести к присяге новобранца. Поп вышел из своего дома; он, остерегаясь, чтоб не заметил и не узнал о происходящем главный священник того храма, где этот поп числился только вторым, провел казаков в церковь, приказавши им идти не вместе, а врозь. Когда сошлись в церкви, Молявка перед крестом и Евангелием произнес присягу со слов Яненченка и в этой присяге давал пред лицом вездесущего Бога обещание отступиться от московского царя и служить верою и правдою Георгию Гедеону Венжику Хмельницкому, гетману и князю Малороссийской Украины.
Между тем привезли к Дорошенке Мотовила с перехваченным «листом» и вместе с тем письмо от Полуботка: наказной гетман приглашал Дорошенка нимало не медля ехать по своему обещанию в стан. Уже было поздно.
– Завтра вранці поїду, – отвечал Дорошенко.
Настало утро. Когда обвиднело, Дорошенко приказал во всех Чигиринских церквях благовестить на сбор народа и приказал позвать к себе Молявку, который, после данной им присяги на верность князю Малороссийской Украины, радовался, что избежал опасности, и ласкал себя сладкими грезами о предстоявшей возможности новыми услугами царю приобресть еще повышение по службе. Явился он к Дорошенку по зову гетмана. У крыльца его дома уже стояла оседланная и подведенная гетману лошадь.
– Тепер ти вільний! – сказал ему Дорошенко. – Поїдемо разом зо мною до вашого табору!
Вышедши из дома, Дорошенко сел верхом на подведенного ему коня и выехал со двора. На крыльце стояла его семья. Старшины были уже на улице, дожидаясь там гетмана. Весь город уже обегали сердюки, скликая народ на раду. И близ гетманского дома набралась такая толпа, что Дорошенку не без труда можно было проехать, чтоб стать на таком месте, откуда бы долетавшая речь его могла быть удобно слышана на далекое расстояние.
Сидел Дорошенко верхом на сером породистом арабском коне, подаренном ему когда-то великим турецким визирем, и громогласно говорил:
– Православні християне! Добрий народе україно-малоросійський! Приходить нам наш останній час! Не можна уже нам стояти за свою вольность. Самі відаєте, скільки літ стояв я за неї і чого не робив: і турків, і татар закликав, але бусурмане, ім’я наше християнське ненавидячи, нещиро нам давали поміч, думаючи об тім єдине, як би наш край у вічну неволю під себе загорнути. Куди не повернемось, усюди нам боляче і гаряче. Україна сьогобочна спустіла. Народ, який зоставсь не побитий від чужого меча, розбігся, покинувши батьківські оселі. Ні з ким стояти. Зосталось просить милості і ласки у білого православного царя. Відомо то усім, що моя думка була здавна така, що нема нам ліпшої долі, як зоставатися під високою рукою царського пресвітлого величества, єдиного православного монархи на світі. Тільки тому перешкодою було те, що православний цар не приймав нас, а розказовав нам, щоб ми покорні були ляхам. А ми під ляхами буть не хотіли, і згодиться з ними нам ніяк не можна було, бо ляхи велце зрадливі люде і на змові своїй не стоять. До того ж старшина наша не вся змовлялась на тім, щоб одностайно цареві слуговать і покірними буть, боячись за свої вольності. Торік, як самі знаєте, присягали ми на віру православному цареві перед кошовим запорозьким Сірком, але царському пресвітлому величеству тая наша присяга не приймовна, і тепер посилає православний цар свою військову силу, щоб ми присягли перед гетьманом Іваном Самойловичем і царським боярином князем Григорієм Ромодановським і перед ними з себе гетьманство своє зложили. Биться нам не годиться, да і ні з ким до бою стати. Покладаймось цалє на ласку царського пресвітлого величества з тим єдине варунком, щоб нас при нашім бідолашнім житії і при нашій щуплій худобі зоставили. Така моя думка, панове громадо!
– Згода, згода! – раздалось множество голосов.
– Нема згоди! – раздался в толпе один резкий голос, а за ним голосов двадцать, как эхо, повторили: – Нема згоди!
– Хто кричить «нема згоди», нехай вийде і скаже: що ж нам діяти і куди обернутись? – сказал Дорошенко.
– Під турком лєш буде! – закричал кто-то.
– А чому до ляхів не послати? – раздался голос Шульги.
– К чортовому батькові ляхів! – крикнул брацлавский полковник Булюбаш. – Хто ще скаже, щоб нам коритись ляхам, того ми каменюками поб’ємо!
– Ляхи наші прирожденні вороги! – кричали другие.
– Краще чортові коритись, ніж ляхові! – повторяли иные. – Нема з ляхами згоди й довіку, до суду не буде!
– Я бачу, – сказал Дорошенко, – що все велике множество чигиринського люду хоче покоритися волі православного монархи, царського пресвітлого величества. Так я поїду до гетьмана Самойловича, поклонюсь йому і здам своє гетьманство, випрохавши тільки, щоб вас з осель ваших ґвалтом не виводили. А сам куди розкажуть мені їхать, туди й поїду. Простіть мене, братія, аще в чім яко чоловік прогрішився проти вас всіх в ббець і проти кожного особно; і я всіх тих прощаю, аще хто проти мене зло мислив!
– Нехай Бог тебе покриває своїми святими крилами! – провозгласила толпа.
Священники в ризах вышли со крестами в руках. Понесли вперед Евангелия, образа, хоругви. Дорошенко сошел со своего коня и сел в поданную колясу. Многие видели, что у него на глазах сверкали выступившие слезы.
Коляса Дорошенка медленно ехала за крестным ходом. Позади колясы и по бокам ее ехало, шло и бежало множество народа обоего пола: те следовали верхом, другие – в повозках, большая часть – пешком. Были тут седовласые старцы, были и недорослые хлопцы. Под звуки колоколов шествие это вышло из ворот города и потянулось к югу. При переезде через казацкий стан караульные окликали шествие. Был ответ: гетман Петр Дорошенко едет в войско царского величества сдавать свое гетманство! Дорога, окаймляясь рядами курганов, памятников глубокой старины, которых такое множество вокруг Чигирина, привела в яр, посреди которого протекала речка Янчарка. По берегу ее белели полотняные шатры великорусского отряда. Перед шатром предводителя Григория Ивановича Косагова стоял стол, на котором лежали крест и Евангелие. Косагов уже дожидался Дорошенка, стоял в малиновом кафтане, расшитом золотными травами, с козырем, украшенным жемчугом; на голове у него была остроконечная, подбитая соболем шапка. Около Косагова стояли великорусские начальные люди и малороссийские полковники, присланные к Чигирину. Крестный ход уже достиг своей цели; хоругви и образа блистали под лучами яркого солнца.
Подъехала наконец к шатру коляса гетмана.
Дорошенко сошел на землю. За ним вынесли из этой колясы бунчук и булаву во влагалищах; бунчук поставили близ стола, булаву положили на столе.
Дорошенко, приблизясь к Косагову, поклонился, прикоснувшись пальцами до земли, и сказал:
– Стольник великого государя Григорий Иванович! По воле великого государя моего царя и великого князя Федора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца, приехал я поновить пред тобою присягу на верность царскому пресветлому величеству, которую дал прежде перед кошевым запорожским Иваном Сирком и донским атаманом Фролом Минаевым.
Косагов сказал ему:
– Гетман Петр Дорофеевич! То учинил ты зело добре. Великий государь тебя за то жалует и приказывает похвалять и спросить тебя и всех Чигиринских казаков и все посольство о здоровье. Вот крест и Евангелие. Присягни пред ними, что ты поедешь к гетману Ивану Самойловичу и к боярину князю Григорию Григорьевичу Ромодановскому в обоз под Вороновку сложить свое гетманство и дать присягу на верное и вечное подданство его царскому величеству!
Дорошенко, подошедши к столу, произнес присягу, повторяя слова священника, приехавшего вместе с Косаговым.
После присяги Дорошенко повидался с Полуботком и другими казацкими полковниками и, указывая на Молявку, стоявшего сзади, сказал:
– От ваш атаман, живий і здоровий. Поможи вам, Боже, за те, що обійшлись як слід братам і товаришам. Тепер уже все скінчилось. Воювати між собою не будем. Прийміть мене до свого гурту, бідного вигнанця, не пам’ятайте, що діялось перед сим. Самі ви люди розумні, зрозумієте, що я мусив зберігати, що мені полєцано було, а тепер нехай Божа воля станеться.
– Ти, пане, свою справу чинив, а ми свою чинили, – сказал Борковский. – Не пам’ятуй і ти, що ми на тебе войною ходили. Як перед сим щиро вороговали, так тепер, замирившися, станем тебе поважати і кохати як брата і товарища!
– Вернуться мої посланці, тоді я з вами до головного обозу поїду, – сказал Дорошенко.
Полуботок пригласил Дорошенка в шатер на чарку горилки. Подали Дорошенку налитьій вином серебряный кубок. Взявши его в руки, он поднял его вверх и провозгласил здоровье гетмана и всего войска Запорожского.
За шатром раздался гул. Послышались крики: «Повернулись! Повернулись!» Дорошенко поставил на стол кубок, еще не успевши допить его, отступил и отвернул полу шатра. Он увидел Вуеховича и Тарасенка, которые вставали из колясы и держали в руках по листу бумаги. Их колясу кругом обступила толпа чигиринцев, прибывших в стан вместе с Дорошенком.
– Що, братці? – с видом вопроса крикнул к ним Дорошенко, еще не допуская их к себе приблизиться.
– Все як належить! – отвечал Кондрат.
– Дяковать милосердому Богові! – громко произнес Вуехович. – На все згодились і твою милость якнайскоріш до себе чекають. От листа від пана гетьмана і від боярина Ромодана… А се, пане, лист до твоєї милості особистий від пана Мазепи, – прибавил Вуехович.
Дорошенко прежде всего схватил в руки письмо от Мазепы, так как его занимало желание укрыть от великорусского начальства последнюю отправку Мотовила к салтану Нуреддину. В этом письме от Мазепы Дорошенко нашел только неясное и короткое уверение, что со стороны гетмана и старшин будет сделано все по желанию Дорошенка, сообщенному Вуеховичем.
IX
Освободившись из Чигирина, Молявка рассказал прежде всего обо всем, что с ним происходило, своему полковнику Борковскому. Немедленно Борковский сообщил об этом наказному, а Полуботок нашел, что принесенные Молявкою известия до того важны, что следует отправить самого этого Молявку к гетману, пусть Молявка сам лично расскажет ясновельможному все, и тогда главные регіментари царских войск могут в пору сообразить, что им делать и какие меры предпринять в ожидании вновь затеваемой смуты. Полуботок приказал составить об этом «лист» к Самойловичу, вручил его Молявке для передачи и приказал последнему, в дополнение к написанному, словесно обстоятельнее изложить все, что найдут нужным узнать от него.
В тот же день отправился Молявка и прибыл в главный обоз под Вороновкою. Его, как посланца от наказного, провели к ставке гетмана. В оное время походы совершались не с такою быстротою и не так налегке, как теперь. Военачальники останавливались с войском иногда надолго и должны были иметь с собою все удобства, какими пользовались в постоянных местах своего пребывания. Об удобствах подначальных и рядовых воинов и даже их продовольствии заботились тогда мало, но зато уже те, которые ими начальствовали, всегда брали с собою всего много. У малороссийского гетмана в походе была и своя походная церковь с духовенством, и своя походная кухня, и буфет, и канцелярия, и прислуга, иногда очень многочисленная. Гетман Самойлович, совершая походы разом с великороссийским боярином, начальствовавшим царскою ратью, посылаемою в Малороссийский край, устраивал пиршества, приглашал на них и своих и великороссийских начальных людей, отправлял в столицу посланцев с вестями, принимал московских и других послов и гонцов, творил на походе суд и расправу со старшиною. При таких обычаях необходимо было брать с собою и возить множество вещей и людей, тем более что при малолюдстве края и при бедности культуры не везде можно было добыть всего, что окажется нужным. Таким образом, где только останавливалось войско на продолжительное время, в обозе возникал вдруг многолюдный и шумный город. Так было и под Вороновкою.
Гетманская ставка была в средине обоза; она состояла из купы шатров, между которыми отличался нарядностью и обширностью шатер самого гетмана Самойловича, разбитый на три части, отделенные одна от другой холщовыми выкрашенными занавесами. Переднее отделение имело вид обширной залы и было установлено полками со множеством серебряной посуды. Посреди стояли столы и при них складные стулья. Туда ввели Молявку. Самойлович находился тогда в другом отделении шатра, в своей спальне, и сидел там на своей походной постели перед столом, на котором лежали бумаги. С ним было двое из особ уже близких к нему, но не занимавших еще старшинских мест: один был Иван Степанович Мазепа, другой – Василий Леонтьевич Кочубей; оба они состояли в неопределенном звании значных войсковых товарищей; все, однако, в войске уже знали, что это самые приближенные к гетману люди. Прочитавши переданный Самойловичу через служителя «лист» Полуботка, привезенный Молявкою, гетман дал этот «лист» прочитать Мазепе и Кочубею, потом велел Мазепе поговорить с тем хоружим, который прислан с «листом».
Впущенный в переднее отделение гетманского шатра, Молявка был поражен множеством серебряной посуды. Ничего подобного не мог он видеть в своей жизни, до сих пор протекавшей в скромной обстановке быта рядовиков, где какая-нибудь полдюжина серебряных чарок да серебряная солонка в шкапчике считались уже признаком бог знает какого довольства. А тут – в поставцах, расставленных во все стороны, горели, как жар, в таком множестве позолоченные и серебряные под чернью роструханы, достаканы, кубки, солоницы, ложки, черенки ножей и вилок, – и все это сработано с вычурами, «штучне», как говорили тогда малороссияне.
Молявка уже приучил себя к почтительности перед высшими лицами и притом слышал от Булавки, что у гетмана Самойловича старшины генеральные сами сесть не решаются, прежде чем он не пригласит, а потому Молявка не смел сесть, хоть и немало стульев там было расставлено. Молявка стоя глазел на посуду, не дерзая подойти к ней поближе. Вот, наконец, развернулась пола занавеса, отделявшего переднее отделение шатра от другого, внутреннего, и из-за нее вышел худощавый, среднего роста человек с чрезвычайно добродушным выражением лица и с осклабляющимися губами, но с проницательными черными глазами. То был Мазепа.
– А де черніговської сотні хоружий, що привіз від Полуботка лист до ясновельможного пана? – спросил он, поводя глазами.
Молявка тотчас подошел к нему и поклонился в пояс.
Мазепа сказал:
– Розкажи мені, серденько козаче, як ти ходив до Дорошенка в Чигирин, що там бачив і що чув. Усе розкажи по ряду; ясновельможний гетьман велів тебе розпитати.
Молявка принялся рассказывать подробно о всех своих приключениях, и когда пришлось говорить о собственных подвигах, Мазепа телодвижениями показывал ему одобрение. Но Молявка и на этот раз, как при передаче того же Борковскому, не сказал Мазепе, что насчет Мотовила предупредили его заранее в Чигирине. Мазепа, вглядываясь ему пристально в глаза, перебил его вопросом:
– А Вуєхович тобі нічого про се не сказав? Він не говорив з тобою? Може, він коли не сам, то через кого іншого звістив тебе?
Не решился Молявка отрицать этого, видя, что господин, который его спрашивает, как будто еще и не слыша его слов, читает, что у него на уме. Он сказал, что было именно так.
– А не знаєш, як зовуть того, що тебе звістив? – спрашивал Мазепа.
– Його зовуть Остаматенко. Я узнав про те опісля, як мене Яненченко підмовляв; тоді й сей був з Яненченком, – сказал Молявка.
– Кажи дальш, – сказал Мазепа.
Молявка говорил, как Дорошенко оставил его аманатом.
Мазепа сказал:
– Дорошенкові хотілось, щоб московські гетьмани не знали, що він хотів бусурмана знов закликать. Нехай не турбується. Хоч нічого не утаїться од нас перед царським величеством, єднак Дорошенкові з того лиха не буде.
Молявка рассказал, как Яненченко с товарищами принудили его дать присягу на верность Хмельниченку.
– А як же, козаченьку, не стидно було тобі давать мальовану присягу? – сказал тоном укора Мазепа. – Хто ж після сього віру іматиме і другій твоїй присязі?
Не допустивши ответа, Мазепа вышел. Молявка стоял, словно кто его холодной водой окатил. Он почувствовал, что Мазепа выворотил ему сразу душу наизнанку и заглянул в нее так глубоко, как он сам ни за что не хотел, чтоб кто-нибудь заглядывал туда.
Мазепа передал гетману все, что слышал от Молявки.
– Я думаю, – сказал гетман, – тепер, як ми вже знаємо, що в Чигирині складається факція за Хмельниченка і його навіть чекають з турецькою силою, то уже Дорошенка жодною мірою не можна зоставляти в Чигирині. Бо Дорошенко через свою жінку свій чоловік Хмельниченкові. І Павло Яненко, тесть його, і діти Павлові того ж роду. Як Дорошенко приїде до нас, сказати йому зараз, що по царській волі мусить він незабаром перебиратись по наш бік Дніпра. Я йому покажу мешкання. Ти що на се повідаєш, Іване Степановичу?
– Ясновельможний пане! – сказал Мазепа. – Ти нашого зданя питаєш, ніби шкілюючи з нас. Бо нам зостається тільки, як дурням, лупать очима і ніби твоїй милості похлібствовати. Хоч який справедливий слуговець своїй отчизні – не здолає тобі власної ради дати, бо як скаже щиру правду, то правда та мусить походити не від його, а від тебе, бо скаже те, що ти перш сам вимовиш. Твоя милость завше дасть сам таку мудру резолюцію, що нам не зостанеться нічого, як тільки згодиться з тобою. Бо хоч би ми три дні, п’ять день мірковали, то не додумались би ні до чого найліпшого. Якби у царя, великого государя нашого, на Москві коло його пресвітлого престола були такі особи мудрі, як наш гетьман, – не діялось би того, що діється часом.
– Я думаю, – продолжал Самойлович, – Дорошенкові дать мешкання в Сосниці, бо то буде недалеко від Батурина. А в Сосниці сотником наставити козака такого, щоб можна було на його покластися, щоб він за Дорошенком пильно назирав.
– Істинно розумно! – сказал Мазепа. Повторил то же выражение и Кочубей.
– А сотником наставить того хоружого, що привіз нам сей лист, – сказал гетман. – Що ви на се речете, панове?
– Ясновельможний пане! – сказал Кочубей. – Сей хоружий, будучи в Чигирині, заприсягнувсь Хмельниченкові слуговати. Чи не зрадить він і нас, як тепер уже зрадив Хмельниченка, заприсягнувши йому віру?
– А ти що на се повідаєш, Іване Степановичу? – спросил Самойлович Мазепу.
– Я, – сказал Мазепа, – своїм малим розумом уважаю так, що нема нічого мудрішого, як того хоружого наставить сотником там, де мешкатиме Дорошенко. Видко уже, що то за голова, коли так хитромудро, невеликим коштом і нам корисно справив своє полєценя в Чигирині. А що пан Кочубей промовив, то з назбит чулої гордливості ку добру сполному, але несправедливе. Коли ворог приставить ніж до горла да стане казати: присягайся мені, а то я тебе заріжу, – то прийдеться хоч кому згодиться з ним і штучне присягнути, а потім усе те на добро своїм повернути, то буде розумніш, ніж голову положити і дарма пропасти. Не гани, а шани варт сей козак за свій поступок.
– І я так думаю, – сказал Самойлович. – Нехай сей хоружий буде сотником в Сосниці. Хто тепер там сотник?
– Стецько Литовчик, – отвечал Кочубей.
– Я тому Литовчику подарую маєтку і універсальний лист на неї дам. Нехай зостається поки значним войськовим товари́шем! А сього сотником наставити. Іване, поклич його до мене, а ти, Василю, дай мені список маєткам до роздавання в Черніговському полку, – говорил гетман.
Мазепа вышел. Кочубей нашел и подал гетману рукописный перечень имениям, определенным в раздачу. Гетман углубился в него. Между тем Мазепа позвал Молявку, и тот, ступая на цыпочках осторожно и почтительно за Мазепою, вошел в отделение гетманской спальни. Самойлович, не отрывая глаз от списка и не повертывая головы к вошедшему, стал говорить к нему таким тоном, как будто уже целый час с ним ведет беседу:
– Відсіля поїдеш у Сосницю. Я тебе туди наставляю сотником. Там житиме Дорошенко. Приглядуй за ним. В обидва ока гляди. Коли що від його затіється недобре, а ти не доглянеш, то не утечеш жорстокого карання і конечного розорення. Але не дражни його ніяк. Доглядай за ним так, щоб він не знав і не помічав, що ти за їм назираєш. Ґречне, уштиве і поважливо з ним поводись. Часто одвідуй його, але так, щоб він ні разу тобі не сказав: «Чого ти мене турбуєш?» Ходи до його ніби для услуги йому, підмічуй, в чім йому потреба, і, не дожидаючись, поки він тебе попросить, сам для його все достарчай, а чого сам не здолаєш, про те зараз до мене давай звість. Щоб ти знав, коли хто до його в гості прибуде і коли він кого з своїх домових куди посилатиме. Усе щоб ти провідав і знав. І про все таке мені просто до власних рук моїх гетьманських пиши. Нікому про се не кажи, що ти за Дорошенком назираєш, тільки я да ти про себе щоб відали. їдь собі з Богом до своєї нової сотні. З моєї канцелярії оцей пан (он указал на Кочубея) дасть тобі універсальний лист на сотництво за моїм власним підписом.
Проговоривши все это, гетман, до того времени все устремлявший глаза в лежащий перед ним список, в первый раз взглянул на того, кому говорил, окинул его взором своим с головы до ног и опять стал рассматривать свои бумаги.
Молявка поклонился низко уже более не глядевшему на него верховному своему начальнику и вышел в большой радости. Слова гетмана о том, чтоб он писал прямо к нему, приятно отдавались у него в ушах. Он понимал, что дозволение сотнику сноситься непосредственно с гетманом, помимо полковничьего уряда, было большое к нему внимание, и он чувствовал, что высоко поднимается на своем служебном поприще.
Мы не станем описывать, как Дорошенко, забравши толпу выборных из чигиринцев и скрывавшихся в Чигирине жителей других правобережных городков, в сопровождении Полуботка и его казаков ездил в обоз под Вороновкою, сложил с себя гетманское достоинство, передал гетману Самойловичу свой бунчук, булаву, знамена, грамоты, полученные прежде от турецкого падишаха, двенадцать пушек, как принес в присутствии царского боярина Ромодановского и гетмана Самойловича присягу на вечное и непоколебимое подданство великому государю, как потом, возвратившись в Чигирин, сдал Самойловичу этот город со всеми боевыми запасами и получил от Самойловича, сообразно царской воле, приказание переехать с семьею на житье на левый берег Днепра, где гетман указал ему местопребывание в Соснице. Все эти важные исторические события не относятся непосредственно к нашему рассказу.
X
Схватившие Ганну Кусивну, обезумевшую от внезапного похищения, притащили ее в дом воеводы, где был устроен чердак в качестве отдельной горницы; там стояла кровать с постелью, несколько скамей и стол. Туда встащили Ганну по крутой узкой лестнице и заперли за нею дверь. Несколько времени не могла Ганна опомниться и прийти в себя: ей все это казалось каким-то страшным сновидением; ей хотелось скорее проснуться.
В горницу, где она была заперта, вошел наконец Тимофей Васильевич Чоглоков. Осклабляясь и приосаниваясь, сел он на скамью и говорил:
– Здорово, красавица, хорошая моя, чудесная, ненаглядная, несравненная! Здорово!
Ганна, не придя еще в себя, стояла перед ним растерянная и смотрела бессмысленными глазами.
– Увидал я вперво тебя в жизни, – продолжал Чоглоков, – и пришлась ты мне по сердцу вот как!
При этом он рукою повел себя по горлу. Ганна продолжала стоять как вкопанная.
– Лучше и краше тебя не видал на свити! – говорил Чоглоков. – Вот ей же богу не видал краше тебя!
Ганна продолжала стоять перед ним, выпучивши глаза.
Воевода продолжал:
– Ты не знаешь девка, кто таков я. Так знай: я тут у вас самый первый человек. Знатнее и выше меня здесь из ваших никого нет. Ваш полковник подошвы моего сапога не стоит, сам ваш гетман мне не под стать. Вот кто я такой! Я от самого царя-батюшки великого государя сюда прислан: я царское око, я царское ухо. Сам великий государь меня знает и жалует. А ты, дурочка-хохлушечка, знаешь ли, что такое наш царь, великий государь? Он все едино, что Бог на небе, так он, царь, на земле со всеми властен сделать, что захочет! А я его ближний человек, воевода над вами! Так я для вашей братии все равно что царь сам. Вот и смекни, девка!
Ганна Кусивна начинала понемногу приходить в себя, но еще не вполне понимала свое положение и не в силах была давать ни ответов, ни вопросов.
– Теперь слыхала, – продолжал свою речь воевода, немного помолчавши, – что я за человек такой? Вот какому человеку полюбилась ты, девка, пуще всех. Таково уж твое счастье, девка. Я хочу, чтоб ты стала моею душенькою, моею лапушкою!
– Я чужая жона! – пробормотала Ганна.
– Какая такая чужая жена? – сказал, захохотавши, воевода. – Что ты, девка, шутки строишь? Нешто жены чужие, замужние бабы ходят с открытою головою, в лентах с косами, как ты?
– Я повінчаная! – произнесла Ганна.
– Когда? – произнес воевода.
– Сьогодня, – отвечала Ганна.
– Сегодня? – говорил воевода, продолжая хохотать. – Что ты меня дурачишь? Сегодня? Разве я турок или католик, что не знаю своей веры? Какое сегодня время? Теперь пост Петров. В такие дни венчать не положено.
– Я не знаю, – произнесла Ганна. – Владика розрішив. Нас вінчали, я повінчаная!
– Неправда твоя, девка! – сказал Чоглоков. – Того быть не может. У вас все одна вера, как у нас. А коли у вас такие дураки владыки, что в посты венчать позволяют, так твое венчанье не в венчанье, потому что противно закону святому. Ну, коли говоришь, венчалась, так где же твой муж и зачем же ты, повенчавшись с ним, ходишь по-девочьи, с открытыми волосами?
– Мужа мого угнали з козаками в поход, – сказала Ганна, мало-помалу приходя в себя, – а я буду ходить по-дівоцьки, поки вернеться з походу; тоді весілля справлять і мене покриють.
– Как это веселье? – спрашивал воєвода, не вполне понимая чуждый ему способ выражения. – По-вашему, значит, в церкви венец не всему делу конец! Нужно еще какое-то веселье отправлять! Значит, венчанье свое ты сама за большое дело не почитаешь, коли еще надобно тебе какого-то веселья? Стало быть, на мое выходит, что твое венчанье – не в венчанье. И выходит, девка, что ты затеваешь, будто венчалась. Стало быть, он тебе не муж, а только еще жених. А для такого важного человека, как я, можно всякого вашего жениха побоку.
– Ні, він мені не жених, а муж став, як я повінчалась! Я чужая жона! – говорила Ганна.
– Не муж он тебе, красавица моя, поверь моему слову. Я закон лучше тебя знаю. Можно тебе его послать к херам для такого большого человека, как я, – произнес Чоглоков.
– Ні на кого я не проміняю свого мужа! – сказала решительным голосом Ганна. – Не піду я на гріх нізащо на світі. Я Бога боюсь. Ти, хто тебе зна, що за чоловік: говориш, буцім присланий від самого царя. Як же ти, царський чоловік, таке діло твориш: чужу жінку зманюєш? Хіба цар тебе до нас на худе послав? Коли ти від царя посланий, так ти нас на добре наставляй, а не на погане!
– Я на доброе дело тебя и наставляю. За кого такого ты замуж выходишь? – спрашивал воевода.
– За того, кого полюбила і за кого отець і мати оддають! – отвечала Ганна.
– Слушай, девка! – говорил воевода. – Я очень богат, денег у меня много-много, и вотчины есть: озолочу!
– Не треба мені твоїх деньог і вотчин! Шукай собі з своїми деньгами й вотчинами іншу, а мене пусти до батенька і до матінки! – проговорила Ганна и зарыдала.
– Не упрямься, душенька. Слышишь, не упрямься! – сказал воевода и, вставши, хотел обнять ее.
– Геть! – крикнула Ганна не своим голосом. – Ліпше убий мене на сім місці, а я на гріх з тобою не піду! Я чесного роду дитина, дівкою ходивши, дівоцтва свого не втеряла і, ставши замужем, своєї доброї слави не покаляю!.. Геть! Нехай тобі лихо!
– Что ты говоришь о доброй славе да о грехе! – сказал воевода, более и более воспламеняясь страстью. – Какая тут недобрая слава? Какой тут грех? Ты мне так по сердцу пришлась, что я тебя за себя замуж хочу взять!
– Неправда! Замуж ти мене не візьмеш, а тільки дуриш, хочеш, як би улестить мене. Як таки тобі, такому значному царському чоловікові, да просту дівку за себе взяти, да ще не з свого московського роду? А хоч би ти і вправді се говорив, так сьому статись не можна, бо я вже казала тобі: я чужа жона вінчана, і замуж іншому не можна мене вже брати!
– А я говорю тебе, что твое венчанье не в венчанье. Не по закону венчать тебя разрешил владыка. Над вашим владыкою есть другой владыка постарше, патриарх. Он твоего венчанья не вменит в венчанье и разрешит тебе выйти за меня замуж!
– Я, – говорила с более смелым и решительным видом Ганна, – вже тобі сказала, що я чужа жона, мене повінчали. Да хоч би і ваш патріарха, як ти кажеш, розрішив, то я би за тебе не пішла. Люблю я свого Яцька і ні на кого в світі його не проміняю.
– А меня, стало быть, не любишь! – сказал воєвода с зверской яростью.
Ганна молчала, переминаясь.
Воєвода еще раз спросил:
– А меня, стало быть, не любишь? Не хорош я для тебя?
– Не люблю! – сказала смело Ганна. – Як я любитиму такого, що його вперше бачу?
– Я сказал тебе, кто я такой, – промолвил воєвода. – Коли не веришь, спроси у кого хочешь: все тебе скажут, что я царский воєвода, в Чернигов прислан!
– Да будь ти не те що воєвода, будь ти самий найперший, як там у вас зоветься, князь, чи що, хоч самого царя син, – я за тебе не піду, а гріха творить не стану ні з ким!
– Так-таки не пойдешь за меня? – спрашивал воєвода, которого черга лица принимали все более и более зверское выражение.
– Так-таки не піду! – отвечала Ганна.
– И не любишь меня? – спрашивал дико воевода.
Ганна остановилась ответом. Воевода повторил вопрос.
– А сам знаєш! – отвечала она; потом, разразившись рыданием, бросилась к ногам его и говорила: – Відпусти мене, боярине, Христа ради відпусти до батенька і до матінки!
– Ну нет, девка! – сказал воевода. – Не на то я тебя сюда велел привести, чтоб, ничего с тобой не сделавши, да отпустить. У нас говорят: кто бабе спустит, тот баба сам. Хоть плачь, хоть кричи – ничего не пособишь. Тут, окромя меня, никто тебя не услышит. Ты теперь в моих руках и от меня не вырвешься. Коли не хочешь добром, ласкою, так будет по-моему силою!
– Боярину! – вопила Ганна. – Відпусти мене! Батечку! Голубчику! Пожалій мене, сироту бідну! Я нікому не скажу, що зо мною діялось, ні батькові, ні матері, нікому! Відпусти! Бог тобі за те нагородить усяким добром. Голубчику! Пошануй! Відпусти!
– Нет, девка-красавица! Не отпущу! – говорил воевода. – Больно ты мне приглянулась, к сердцу мне пришлась!
– Пане воєводо! – промолвила Ганна, поднявшись и ставши с выражением собственного достоинства. – У мене єсть чоловік. Він узнає і заступиться за мене. Він до самого царя дійде і суд на тебе знайде!
– Ого, девка! – сказал воєвода со злобною усмешкою. – Ты еще пугать меня своим казаком! Он до царя самого дойдет! Э! Далеко ему до великого государя, как кулику до Петрова дня! Что твой казак? Наплевать на него! Что он мне сделает? Я царев воевода. Мне больше поверят, чем какому-нибудь хохлачу-казачишке. Не боюсь я его, дурака. Что хочу, то вот с тобой и учиню. Полюбилась ты мне зело, девка! – Он схватил ее поперек стана.
– Я розіб’ю вікно, кинусь, уб’юсь! На тобі гріх буде! – кричала Ганна.
– Окно узко! Не пролезешь! – сказал воєвода…
Ганна барахталась. Напрасно!..
……………………………………………………………………………
Утром другого дня сидел воевода в своем доме. Перед ним стоял холоп его Васька, один из ухвативших в тайнике Ганну, парень лет двадцати с лишком, с нахальными глазами, постоянно державший голову то на правую, то на левую сторону, часто потряхивая русыми кудрями. Воевода говорил:
– Васька, хочешь жениться?
– Коли твоя боярская воля будет, – отвечал Васька.
– У тебя зазнобушки нет? – спросил воевода. – Правду отвечай мне.
– Нету, боярин! – ухмыляясь, ответил Васька.
– Найти невесту тебе? Хочешь, найду, красавицу… ух! – говорил воевода.
Васька только поклонился.
– Вон ту девку, что вы с Макаркою подхватили. Хочешь? – сказал воевода.
– Помилуй, государь, – сказал Васька. – Моему ли холопскому рылу такие калачи есть! Она просто краля писаная!
– Так вот на этой крале я хочу женить тебя, – продолжал воевода. – Хочешь али нет?
– Ведь она повенчанная, боярин, – сказал Васька.
– Это не в строку, – перебил воевода. – Развенчаем. В пост их венчали; такое венчанье не крепко!
– Венчать в другой раз, пожалуй, не станут! – заметил Васька.
– Вы повезете ее в мою подмосковную вотчину, – там вас отец Харитоний обвенчает. Он все так сделает, как я захочу. А я напишу ему с вами; вот он вас и обвенчает. Только вот с чем, Вася, – как меня из Чернигова выведут, тогда я тебя с женою в Москву вызову: ты будешь пускать жену свою ко мне на постелю?
– Не то что пускать, сам ее к тебе приведу, – отвечал Васька. – За большое счастье поставлю себе.
– А я тебя, Васька, за то озолочу, – говорил Чоглоков. – Первый у меня человек станешь. Коли захочешь – и приказчиком тебя над всею вотчиною сделаю. И платье с моего плеча носить будешь, и есть-пить будешь то, что я ем-пью!
– Как, твоя милость, захочешь, так и будет! – отвечал Васька, кланяясь. – Мы все рабы твои и покорны тебе во всем должны быть. Ты нам пуще отца родного, кормилец наш, милостивец!
Чоглоков говорил:
– Запряжете тройку в кибитку, посадите в нее хохлушку, закроете кожами и рогожами и повезете из города тайно в полночь. Держите ее крепко, чтоб не выскочила и не кричала, пока уж далеченько от города уедете. Ничего с ней не говорите о том, что с нею станется и куда ее везете. А привезете в нашу вотчину – тотчас отцу Харитонию мое письмо подадите: он вас обвенчает. Будешь с женою жить у меня во дворе в особой избе, а я напишу приказчику, чтоб выдавал вам помесячно корм во всяком довольстве.
В полночь выехала из черниговского замка воеводская кибитка, вся закрытая кожами и рогожами. Внутри ее сидела связанная толстыми веревками по ногам Ганна Кусивна, а по бокам ее – Васька и Макарка. Она силилась было вырваться, но Васька держал ее крепко, ухвативши за стан, а Макарка затыкал ей платком рот, как только она показывала намерение крикнуть. Правили лошадьми двое сидевших напереди стрельцов. Переехали на пароме Десну. Проехали еще верст пять. Васька тогда открыл кожу кибитки.
– Не бойся, девка, не мечись, не рвись! – говорил он. – Не улизнешь. Будешь сидеть и молчать – оставлю кибитку незакрытою и держать тебя не буду, а станешь шалить – опять закрою и сдавлю тебя так, что будет больно.
Проехали еще верст двадцать. Ганна молчала. Тогда Васька и Макарка сняли с ее ног веревки, но обвязали ей стан и попеременно держали в своих руках конец веревки, так что не выпускали ее из своих рук ни на шаг даже и тогда, когда вставали из кибитки. Но в самой Ганне произошла тогда такая перемена, какой она бы сама не предвидела за собою. Она внутренне рассудила так: «Горе меня постигло великое, такое, что уж хуже и тяжелее быть не может. Надобно терпеть. Богу, видно, так угодно. Коли Бог сжалится надо мною, то пошлет по мою душу и приберет меня с сего света либо из этой тяжкой горькой беды меня вызволит, а не угодно то будет Богу, а воля его святая станется такова, чтоб я на этом свете долго мучилась, – буду мучиться и терпеть. Все, что со мною станут делать, пусть их делают, пусть поругаются, издеваются надо мною, как хотят: все это, значит, Богу так угодно!» И с этой твердой думой впала она в какое-то деревянное отупение, не покушалась уходить, во всем повиновалась своим тиранам; дадут ей обед и скажут: ешь и пей, – она ест и пьет; скажут: ложись и спи, – и она ложится и даже засыпает, потому что горе ее притомливает.