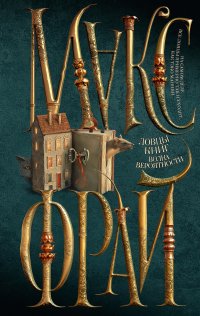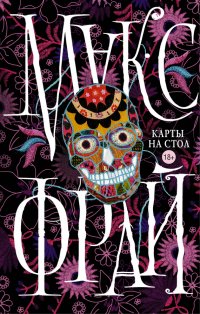
Читать онлайн Карты на стол (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Макс Фрай
Книга публикуется в авторской редакции.
© Макс Фрай, текст
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
Карты на стол
Из сборника «Сказки старого Вильнюса»
Стефан всегда узнает первым. И сразу звонит мне. И говорит: «Надо бы нам с тобой выпить пива». А когда дозвониться до меня невозможно, Стефан берется за бубен. И ритм его ударов передает ровно то же самое.
Стефан знает, что пиво я не люблю. И что я приду так быстро, как смогу, он тоже знает.
Стефан всегда приходит раньше назначенного времени. Когда я появляюсь на улице Этмону, он уже сидит в баре на углу, и кружка его наполовину пуста.
Я усаживаюсь напротив и спрашиваю:
– Опять?
Стефан делает такое неуловимое движение бровями, как будто они – плечи, которыми он пожал. Дескать, сам знаешь, что толку болтать.
Знаю, конечно. Но всегда есть надежда, что на этот раз Стефан просто захотел выпить со мной пива. Как нормальный живой человек с нормальным живым человеком, елки, почему нет. Потому что давно не виделись, настроение ни к черту, куча новостей и, например, зима на носу. Всего через каких-то жалких четыре месяца.
Но достаточно посмотреть на его лицо, чтобы расстаться с иллюзиями. Причем не только с текущими, а вообще со всеми. Раз и навсегда.
Вот и сейчас.
… – Как-то часто в последнее время, – говорю я. И достаю кисет с табаком.
Когда я человек, я курю. Особенно когда я человек, который нервничает, да так сильно, что желает немедленно развеяться по ветру. То есть перейти в свое естественное состояние. Почти непреодолимый соблазн. А табак помогает сохранять нужную форму. Собственно, именно для удобства таких, как мы, он и растет на этой планете. Когда курят нормальные люди, которым от своей человеческой формы при всем желании никуда не деться, это выглядит ужасно смешно, нелепо и даже мило. Как если бы рыба установила у себя на дне ванну и регулярно ее принимала.
– Часто, – соглашается Стефан. – За этот год уже второй раз. Раньше было полегче. Пиво будешь?
Мое человеческое тело отрицательно мотает головой. Оно, как уже было сказано, пиво не любит. Однако мой мятежный дух говорит:
– Ладно, давай.
Он к этому моменту уже настолько мятежный, что искренне считает: чем хуже, тем лучше. И до известной степени прав.
– Мне очень жаль, – говорит Стефан.
Правду говорит. Еще бы ему не жаль. Стефану было бы гораздо легче, если бы он мог справиться сам. Но он не может. И вообще никто.
Я на самом деле тоже не могу. Но кроме меня – некому.
– Да ладно тебе, – говорю я, отхлебывая пиво.
Оно довольно противное, как и положено пиву. Ничего, потерплю.
– Нечестно получается, – говорит Стефан. – Как жить, так все вместе, а как умирать – так всегда ты один.
Поскольку искусство хитроумного движения бровями мне недоступно, приходится просто с досадой поднимать одну из них. И кривить рот. И разводить руками. Дескать, с радостью уступил бы эту обязанность кому угодно другому, но ничего не поделаешь, такой уж дурацкий расклад, ладно, как-нибудь справлюсь.
Очень много бессмысленной суеты. Но не могу же я оставить его без ответа.
Какое-то время мы со Стефаном молчим. Просто пьем пиво и курим. Потому что все уже было сказано столько раз, что добавить нам нечего. Только и можем – немного продлить счастливый момент, пока мы живы и вместе, сидим за одним столом.
Потом Стефан поднимается и уходит. А я остаюсь в баре на Этмону с почти полной кружкой пива и ярким белым солнечным ужасом, обступающим меня со всех сторон. Не потому что я так уж напуган – хотя, конечно, напуган. Однако в данном случае белый солнечный ужас – не чувство, охватившее меня, а объективно существующий внешний фактор, что-то вроде дневного света или, наоборот, темноты.
Для меня объективно существующий. И еще для Стефана. А больше, пожалуй, ни для кого. Пока.
Нёхиси об этом рассказывать нельзя ни в коем случае. Даже не потому, что от таких новостей у него испортится настроение – то есть не как обычно, до трещин в свежеокрашенных стенах и градин величиной с дикую желтую сливу, а по-настоящему, всерьез, надолго испортится, и это само по себе может стать катастрофой, последствия которой потом за год не расхлебаешь, даже если расхлебывать, то есть, исправлять будет он сам.
Но гораздо хуже другое. Нёхиси все-таки слишком могущественный. Что само по себе, с учетом его характера, склонностей и намерений просто отлично. Но именно поэтому все, на что обращает внимание Нёхиси, сразу же обретает дополнительную силу, значение и смысл. Когда-то я испытал это на собственной шкуре, знаю, о чем говорю.
А ведь был человек как человек. Ну или почти.
В общем, о сияющем солнечном ужасе, который сейчас подступает ко мне со всех сторон, Нёхиси ничего знать не должен. Пока с его точки зрения вообще никакого ужаса нет, ни «белого», ни «солнечного», ни «ночного», ни «серо-буро-малинового», справиться с этой напастью гораздо легче.
Хотя все равно невозможно.
Поэтому я забываю о Нёхиси. Совсем, как будто его никогда не было. А если ослабну духом настолько, что не смогу не вспомнить – ладно, что делать, вспомню. Как, например, вспоминают однажды в детстве приснившийся сон.
Очень не люблю его забывать. Но ничего не поделаешь, надо. Пока я не помню, что Нёхиси есть на свете, он не сможет узнать, что я в беде, и прийти на помощь; это всегда так работает с духами, божествами и просто друзьями, не только с ним. Это чертовски печально, но сейчас – именно то, что надо. С белым солнечным ужасом следует оставаться наедине и справляться своими силами.
На самом деле, никакой это, конечно, не «ужас». И «белым», «солнечным» он стал для меня только по причине нынешней ясной погоды. Сегодня, вот прямо сейчас я называю это явление так. А раньше называл как-то иначе. А потом придумаю что-нибудь еще. Главное – никогда не повторяться, даже в мыслях. Не то чтобы имя действительно настолько важная штука, что непременно придает поименованному объекту какую-то дополнительную силу. Но все равно лучше не рисковать.
Стефан оставил на столе деньги за пиво. Прибавляю к ним какую-то мелочь на чай и поднимаюсь из-за стола. Пока я помню, кто я такой и чем собираюсь заняться, надо успеть забраться на крышу.
Это не так просто, как кажется, наши горожане любят запирать двери, ворота, калитки и чердаки, но мне повезло, в соседнем доме живет моя старинная подружка Эгле. Вернее, работает, у нее там маленький косметический кабинет в мансарде на самом верху; впрочем, неважно. Важно, что она сделала для меня копию ключа от подъезда. Я объяснил, что иногда мне бывает совершенно необходимо посидеть на крыше где-нибудь в самом сердце Старого Города, а не у себя на берегу реки, где с крыши не видно ничего, кроме обступающих дом деревьев и пестрых соседских простыней, трепещущих на ветру. Нужно, и точка. Для вдохновения, например.
Вдохновение, с точки зрения Эгле, достаточно серьезная причина, чтобы пустить человека на крышу. Она думает, я художник. Впрочем, я и правда когда-то им был. Или просто сочинил, будто был, но поскольку сам в это верю, все честно.
В общем, теперь у меня есть ключ от подъезда. И отвертка в кармане, чтобы справиться с крышкой потолочного люка, ведущего на чердак. И воля, чтобы, дрогнув в самый последний момент, уже на пороге, не сбежать на край света, а спокойно войти и подняться наверх, одолев пятьдесят семь ступенек – все, сколько есть.
Я сижу на крыше трехэтажного дома на улице Этмону и забываю себя.
На самом деле, после того, как я забыл Нёхиси, забыть еще и себя проще простого. Без него меня так сокрушительно мало, что не о чем говорить.
Трудно другое – продолжать жить после того, как забуду.
Собственно, именно в этом и состоит так называемый «белый солнечный ужас». Жизнь без памяти о себе. Вернее, о смысле – своем. И о смысле всего остального. И о том, что оно – мое все остальное – хоть где-нибудь есть.
Невозможно объяснить, что это такое. Но я все равно попробую. За невозможным – это ко мне.
Штука в том, что наш город – наваждение. Очень достоверное наваждение, всех вокруг, включая себя самого, убедившее, или почти, будто оно, как все прочие города, создано человеческими руками из обычных строительных материалов – кирпича, камня, стекла, досок, черепицы, бетона и из чего там еще положено строить.
Вот из всего этого.
Но такое лукавство, конечно, совершенно не мешает городу оставаться живым, текучим и переменчивым, как и положено всякому нормальному наваждению. Напротив, помогает. Достоверность – наиважнейшая часть затеянной им игры.
Мост между существующим и невозможным, восторжествовавший над тем и другим, соединив их в нерасторжимое целое – вот что такое наш город. Именно поэтому здесь так легко дышится. Поэтому здесь сходятся границы разных реальностей, времен, судеб и возможностей. Поэтому здесь обычная человеческая речь, птичий щебет и завывания ветра порой превращаются в магические заклинания, реки могут течь во все стороны сразу, оживают вымышленные существа, овеществляются сновидения, свершаются немыслимые дела, а духи, ангелы, чудовища и другие заплутавшие странники приходят сюда, когда хотят поиграть в простую веселую жизнь – выпить кофе, поболтать друг с другом, погулять по улицам, обжечься обычным огнем, замерзнуть на зимнем ветру, проголодаться, хохотать так, что ноги не держат, влюбиться, надраться до чертиков и горланить песни ночь напролет, если приспичит, почему бы и нет.
Этот город любит казаться – сам себе и всем остальным – воплощенной мечтой, сбывшимся кошмаром, осуществленной надеждой или просто новой возможностью – чего угодно, кому какая нужна. Он гнется и мнется в руках, как скульптурный пластилин, легко принимает форму нашего сердца, меняется стремительно, как настроение, всегда вдохновенно летит неведомо куда, опережая собственный ветер. В этом его великая сила, но иногда она оборачивается слабостью. Потому что город прислушивается не только к избранным зачарованным странникам, хрупким слонам, на которых держится подлинный мир, а ко всем подряд, включая своих горожан и досужих туристов, которые ежедневно выходят на наши улицы в твердой уверенности, что дома вокруг – это просто дома, камни – всего лишь камни, реки – водотоки значительных размеров с естественным течением по руслу от истока до устья, деревья – обычные многолетние растения с твердым прямостоячим главным стеблем-стволом, ветер – воздушный поток, бессмысленный и бездумный, и хватит, и все, мы разумные взрослые люди, мы знаем: ничего, кроме реального мира, данного нам в фактах и ощущениях, в обстоятельствах непреодолимой силы, видимого глазу, слышимого уху, обоняемого и осязаемого, худо-бедно изученного и описанного в учебниках, конечно же, нет.
И нас, получается, нет. И условно чудесных, хоть сколько-нибудь выходящих за рамки обыденности событий. И иных, даже самых ближних приграничных миров. И неизреченного высшего смысла. А значит вообще ничего.
Люди не то чтобы виноваты в таком положении дел. Это, скорей, их беда: слишком мало видят и слышат, почти ничего не чувствуют, слишком много думают о себе, слишком сильно тревожатся о своей безопасности, для них и правда невыносимо даже на миг допустить, что в мире есть явления и процессы, недоступные их восприятию. Все равно что добровольно признать существование вечного остро заточенного ножа всего в миллиметре от твоей сонной артерии – слишком похоже на правду, поэтому невыносимо, уберите, заткнитесь, исчезните, не возвращайтесь, я подумаю об этом потом, например, за секунду до смерти, когда терять будет нечего, а пока проваливайте со своим немыслимым неизреченным, не поддающимся объяснениям, ко всем чертям, в никуда.
Подобный подход – обычное дело, но именно здесь, у нас, он может привести к подлинной катастрофе. Потому что время от времени наш город, привыкший внимательно прислушиваться ко всем своим обитателям и гостям, начинает им верить, тут же сходит с ума от горя, совсем слетает с катушек, впадает в тоску, становится самоубийцей: нет так нет, договорились, прощайте, живите как знаете, я больше так не могу.
И в отчаянии отменяет всех нас, а вместе с нами – себя. Остается лишь видимость города, его лишенное жизни тело – недолговечное, тяжкое, яркое, шумное, когда его называют «реальностью», мне обычно делается смешно, но только потому, что чувство комического – самая надежная защита от невыносимого ужаса небытия, ничего лучше пока не придумали, так говорят.
…Хорошо, что Стефан всякий раз заранее чует беду и набирает мой номер, или берется за бубен из кожи нарисованной рыбы, звук которого я слышу даже если сплю или счастлив. Где бы мы все уже были без этих нарисованных рыб.
Стефан считает, что никто, кроме меня, не справится с этой работой. И он совершенно прав. Потому что я рожден человеком и всегда им останусь, во что бы ни превращался. Потому что однажды я стал неведомо чем, но сразу же вспомнил, что был им на самом деле всегда.
Потому что я – тоже мост между существующим и невозможным. Между неумолимой реальностью и исчезающим смыслом. Между собой и собой. Я, по сути, примерно такой же, как город. И в его отсутствие, после его скоропостижной смерти могу сыграть за него.
И одновременно – могу, не могу, а все равно придется – играть за его невольных, невинных, ни о чем не подозревающих, неумелых, но удачливых горе-убийц. Я – плоть от их плоти, такой же твердолобый невежда, такой же слепец, такой же несчастный дурак, просто не «есть», а «был». Но изменение глагольного времени не является смягчающим обстоятельством и не снимает ответственности. Таковы правила этой вечной игры.
И вот я сижу на крыше трехэтажного дома на улице Этмону. Как я сюда попал, отдельный интересный вопрос; впрочем, смутно припоминаю: подружка дала ключи, когда-то очень давно, практически в прошлой жизни, где теперь те подружки. Удивительно, кстати, что замок с тех пор не сменили, хоть в чем-то мне, значит, везет.
Сижу и думаю: «Хватит себя обманывать». Думаю: «Сколько можно жить в вымышленном мире, дружить со своими фантазиями, закрывать глаза на подлинное положение дел, прозябать в старом дедовском доме под прохудившейся крышей, среди облупленных стен и пыльных надтреснутых стекол, затянутых паутиной давно передохших от скуки и голода пауков». Думаю: «Теперь я готов смотреть правде в глаза». Думаю: «Боже, как жаль».
Впрочем, ничего такого я, конечно, не думаю. То есть, думаю, но не я.
Небытие всегда говорит со мной моим собственным голосом. Оно со всеми так говорит. И вот прямо сейчас шепчет мне, столь убедительно притворяясь моими мыслями, что я ему верю.
«Это был просто кризис, – вкрадчиво шепчет оно. – С каждым может случиться. После того, как тебя выперли из той рекламной конторы и не взяли в десяток других, а любительская мазня, которую ты считал по-настоящему вдохновенной, от этого лучше не стала, ты всерьез обиделся на весь белый свет, заперся в одиночестве и принялся фантазировать, как славно могло бы сложиться, если бы тот странный соседский подросток, с которым ты подружился летом после четвертого, что ли, класса, оказался не просто бездомным сиротой-шизофреником, ютившемся в старом заброшенном особняке, а настоящим духом здешних холмов, веселым городским божеством, тогда вместо всей этой смурной взрослой жизни, требующей постоянных усилий, можно было бы сразу взлететь на вершину мира, где все легко, как в сказке, которых ты, будем честны, читал несколько больше, чем следует, но ничего, теперь…»
Я говорю вслух:
– Заткнись. Пошло вон.
И уж это, будьте уверены, говорю я сам. Хоть и не знаю толком сейчас, кто именно говорит моим голосом. Кто так сердит, что руки его начинают светиться от гнева, а голова пылает словно большой костер, первыми сгорают волосы, за ними глаза, только что смотревшие на крыши и храмы Старого Города, теперь они ничего не видят, кроме ослепительной солнечной тьмы, но игра стоит свеч, потому что потом приходит черед так называемых «трезвых разумных мыслей», они сгорают бесследно, южный ветер, старый преданный друг, уносит их пепел, а я остаюсь. Я всегда остаюсь, я очень упрямый. Ненавижу, когда мне перечат. Ненавижу, когда говорят, будто я выдумал все, что люблю. Ненавижу, когда тычут в рожу здравым смыслом, как грязной тряпкой, в надежде, что затхлая вонь произведет на меня столь неизгладимое впечатление, что я сразу же, не сходя с места, признаю свое поражение и откажусь от борьбы.
И как же кстати порой оказывается такой скверный тяжелый характер – вот, например, сейчас.
Небытие питается жизнью, оно всегда голодно, эту ненасытную утробу ничем не заполнить; впрочем, у меня и нет цели успокоить его, накормив. Мне надо, чтобы оно убралось отсюда. Вон. Навсегда.
Ярость моя так велика, что оно и правда уходит. Не то чтобы навсегда, даже не особенно далеко, просто делает шаг в сторону и оставляет меня наедине с собой.
И это самый разумный тактический ход в сложившихся обстоятельствах. Потому что себя – того, кто, обливаясь потом, сидит на раскаленной крыше, в невыносимо ярком и честном послеполуденном солнечном свете – я гнать, конечно, не стану. Я – это все-таки я.
Я – это все-таки я, даже когда ни черта о себе не помню, не знаю, не чувствую привычной веселой силы, не имею опоры, ни внутренней, ни хотя бы внешней, потому что не понимаю, на что опереться, реальность, частью которой я только что был, рассыпается, катится в стороны, как бисер, нанизанный на нитку, порвавшуюся сразу в нескольких местах. Теперь представим, что эта чертова нитка была подвешена в полной пустоте, и получаем более-менее точную картину происходящего.
А посреди этой картины, ровнехонько в центре, оскорбляя все мыслимые законы композиции, помещаюсь я сам. Такой усталый и опустошенный недавним приступом гнева, безадресным и скорее всего бесполезным, что мне уже почти не больно, все-таки горе – слишком тяжелый труд, он мне не по плечу.
Единственное, на что я сейчас способен – уныло прикидывать, сколько шагов отделяет меня от края крыши, прыжок с которой мог бы поставить точку в нелепой внутренней драме великовозрастного мечтателя, завравшегося уже до полной утраты не только памяти, но и желания ее вернуть. И приходить к выводу, что вставать, делать эти шаги, прыгать, падать на землю и умирать мне попросту лень. Может быть, позже. А пока посижу, покурю.
Чем мне еще заниматься вот прямо сейчас, когда не только ум, но и сердце, и веселый огненный зверь, спящий под ним, как под камнем, и алчная пропасть, служащая ему подстилкой, и живая ясная тьма, вход в которую скрывается где-то между бровями, – все мое смертное вечное существо твердо знает, что Нёхиси – это сон, в самом лучшем случае, морок, одолевший меня и долго не отпускавший, спасибо ему за это, прекрасная вышла жизнь. А дружище Стефан, призвавший меня сегодня на самую бессмысленную и бесполезную битву, какую можно вообразить, если и жил когда-то, то умер, как полагается, сотни четыре лет назад, люди не вечны, эй, отстань уже от него, не тревожь мертвецов, ты, бедный придурок, вообразивший себя любимцем богов, тайным распорядителем праздника вечной жизни, королем веселого бала сошедших на землю звезд.
По-настоящему плохо, что все это думаю я сам. Действительно сам, без услужливых подсказок небытия. И спорить мне, стало быть, не с кем. Да и сил затевать новый спор уже нет.
Но я все равно встаю на дыбы. И говорю так твердо, что слова, сорвавшись с соленых от солнца губ, падают на черепицу с грохотом, как железные гайки; одна надежда, что жильцы верхнего этажа сейчас на работе и не станут лезть проверять, что творится у них на крыше.
Я говорю:
– Мы все равно есть.
Говорю и, конечно, не верю. Кому, скажите на милость, верить? Вот этому дураку, который даже с ума не может сойти тихо, запершись дома, как все приличные люди, никого не беспокоя навязчивым бредом, а полез ради этого выдающегося деяния на чужую крышу в самом центре Старого Города, видимо, в тайной надежде поднять напоследок изрядный переполох.
Я повторяю:
– Мы все равно есть.
Я скажу это столько раз, сколько понадобится, хоть и знаю сейчас, что мои слова, моя твердость, упрямство и воля ничего не изменят. Так и буду сидеть на этой горячей крыше в знойный июльский день, твердить одну и ту же фразу, как попугай, пока не упаду в обморок от солнечного удара, давно, на самом деле, пора. Но пока губы повинуются мне, ни за что не умолкну, потому что когда я произношу: «Мы есть», – всякий раз в течение короткой секунды мы действительно, по-настоящему есть. Имеет смысл продолжать, потому что секунда – это во столько крат больше, чем вообще ничего, никого, никогда, что я чисел таких не знаю. Да и не надо их знать, достаточно просто быть.
– Мы все равно есть, – говорю я в трехсотый или трехтысячный, кто же считает, раз и вдруг наконец понимаю, что надо делать теперь.
Что делать, что делать. Да просто стоять на своем, пока не умру. И тогда, в самый последний миг, окажется, что все мои наспех выдуманные чудеса, все эти подвижные перекрестки миров, текущие с неба реки, живые туманы и одухотворенные ветры, невидимые глазу дворцы, где отдыхают заигравшиеся в нашу жизнь божества, все эти веселые демоны, драконы и василиски, говорящие тучи, закрывающие небеса в те дни, когда они уподобляются зеркалам, мечтательные деревья, улицы, с хохотом разбегающиеся из-под ног – все, что казалось мне живым воплощением и ежесекундным подтверждением тайного смысла, действительно есть. А что больше не для меня – подумаешь, ладно, не на мне свет клином сошелся. Если я единственный, кто должен исчезнуть, чтобы все стало как должно, исчезну. Договорились. Да будет так.
– Штука в том, – говорю я вслух, сам не зная, кому, но чувствуя, что меня внимательно слушают, – что живой я без всякого смысла – это все же гораздо меньше, чем смысл без живого меня. Штука еще и в том, – повторяю, – что для меня жизнь без смысла – просто разновидность смерти, и если уж приходится выбирать между двумя смертями, разумно остановиться на той, которая заберет только меня одного. Потому что мир, исполненный смысла, это такая опора, что пригодится и после смерти – не мне, так всем остальным. И если одной-единственной жизни – моей – действительно хватит на то, чтобы воскресить этот город, или ладно, выстроить его заново, таким, как мне примерещился, немедленно забирайте и начинайте работу. Сразу надо было назвать цену, еще когда я пил это дурацкое горькое пиво, я бы не торговался, зачем было тянуть.
Мне сейчас очень страшно, но я ни черта не боюсь, потому что на самом пороге смерти все живые вспоминают себя, вот и я сразу вспомнил. А быть настоящим мной – это и означает ни черта не бояться, как бы ни было страшно. Такое свойство характера – делать все вопреки.
И когда исчезает все, кроме невыносимого послеполуденного июльского жаркого света, я только радуюсь, что это случилось так быстро. Я даже не успел подумать: «Как же теперь без меня?» – и дрогнуть в последний момент. Вообще ничего не успел, только услышать, как где-то далеко, даже не в соседнем дворе, а, пожалуй, аж на другой улице играет труба.
Хорошо, надо сказать, играет. Только разобрать и узнать мелодию уже некому.
– Ни фига это не труба, а кларнет, – говорит Стефан.
Он, получается, тоже умер, как последний дурак, если сидит тут рядом. Зачем?! Кто его просил лезть? Мы же договорились, что одного меня совершенно достаточно, а он…
Погоди. Или нет? Что вообще происходит? Какой, к чертям собачьим, кларнет?!
Не успеваю спросить, потому что уже сам понимаю, речь о Мессиановской «Бездне птиц»[1], или просто очень похожей на нее мелодии, которая доносится откуда-то издалека, наверное с соседней улицы; впрочем, хрен его разберет, может, вообще из-за реки, в Старом Городе такая причудливая акустика, что я никогда не угадываю, откуда что здесь звучит, а Нёхиси этим пользуется, вечно заключает со мной пари и, конечно, выигрывает – внеочередную грозу или, хуже того, октябрьский снегопад.
Он вообще тот еще пройдоха.
– Йошка всегда начинает играть удивительно вовремя, – говорит Стефан. – Как только мне приспичит кого-нибудь быстро поднять из могилы, он сразу тут как тут со своим кларнетом – привет, я твой Страшный Суд! Такой молодец, пришел мне на помощь. Если бы ты не воскрес в ближайшие полчаса, даже не знаю, как бы я стал выкручиваться. На том свете я, конечно, бывал, и не раз, но не факт, что смог бы притащить оттуда тебя. Ты же упрямый, как прародитель всех избалованных кошек, встал бы небось в позу: «Ну уж нет, умер, так умер, ничего не знаю, проваливай, мальчика нашли бегать туда-сюда».
На самом деле Стефан изрядно преувеличивает. Я не настолько склочный. По крайней мере, когда зовут воскресать. Жить я все-таки очень люблю.
– Клеветать и злословить, – говорю я ему, – будешь потом. А сейчас скажи человеческим голосом, чем дело кончилось? Я пока ни хрена не помню, кроме того, что сперва все забыл, потом решил, будто спятил – впрочем, это как раз вполне похоже на правду – а потом отчаянно торговался, пытаясь дорого продать свою прекрасную жизнь.
– Все как всегда, – кивает Стефан. – Выбирая между жизнью и смыслом, ты опять выбрал смысл. То есть нас. Это твой вечный козырный туз, ты всегда так истово веришь, что небытию и правда нужен подобный обмен, и так искренне соглашаешься принести себя в жертву, что ни у какого небытия нервы не выдержат, и оно убегает с воплями: «Уберите кто-нибудь этого придурка, или он, или я!» Выбор, кто бы его ни делал, по-моему, очевиден. С тобой гораздо веселее, чем с каким-то небытием.
– То есть, все получилось?
Я его потом еще раз двести переспрошу. Скептический ум достался мне по наследству от человека, которым я когда-то действительно был. До сих пор не придумал, кому бы его передарить; впрочем, ладно, пусть будет при мне. С ним, пожалуй, даже смешнее.
– Еще как получилось! – говорит Стефан. И добавляет: – Жизнь продолжается, ты снова прогнал жирную черную вдову младшего сына Ктулху, который, как водится в сказках, был главным дураком в этом милом семействе, не мог даже правильно выговорить слово «фхтагн», представляешь?
Зря он так, потому что от смеха я вполне могу сверзиться с крыши; впрочем, Стефан крепко держит меня за шиворот, он знает силу своих слов и привык страховать окружающих от убийственных последствий своих идиотских шуток.
Стефан вообще молодец. Что бы я, интересно, делал, если бы он раз за разом не приходил сюда меня воскрешать.
* * *
– Ты куда подевался? – спрашивает Нёхиси. – Что творил? – Критически оглядев меня с ног до головы, он сочувственно добавляет: – Извини, если лезу не в свое дело, но кто тебя при этом ел? Почему не доел, даже не спрашиваю, это и так понятно, я бы и сам не доел: на тебя смотреть больно. Обнять и плакать, какая это еда.
– Да ладно тебе, – ухмыляюсь я. – Считай, что я просто скитался по притонам. Надо же когда-то начинать.
– По притонам? – оживляется Нёхиси. – Правда, что ли? А ну-ка выкладывай все подробности.
– На подробности даже не надейся, – твердо говорю я. – Есть вещи, о которых детям и богам лучше не знать.
Какого цвета ваши танцы
Из сборника «Сказки старого Вильнюса»
– Танцуем синий, – говорит Фрида. – Сейчас танцуем синий. Пожалуйста, все вместе, сосредоточились, да-да-да, совершенно верно… Эй, Дайва, девочка, синий, а не голубой. Темнее, еще темнее. И еще. Вот так.
Девочке Дайве пятьдесят четыре года. У девочки Дайвы тонкие щиколотки, прямая спина, зеленые глаза, глубокие морщины у рта, неудачная завивка, маленький вздернутый нос, под корень остриженные ногти и ни одного лишнего килограмма. У девочки Дайвы есть работа в школьной библиотеке, для души, и еще одна, о которой она не расскажет ни за что, никому, хоть режьте, ей кажется, что пожилой женщине с высшим педагогическим образованием стыдно зарабатывать на жизнь уборкой чужих квартир, но деньги очень нужны, а сил пока, слава Богу, хватает, да и умения не занимать. У девочки Дайвы деревянный дом на Жверинасе, ветхий, зато свой, с маленьким палисадником, где летом цветов больше, чем во всем остальном квартале. У девочки Дайвы есть еще две девочки – внучки, а третьей девочки, дочки, нет уже пять лет, царствие ей небесное. Муж девочки Дайвы умер еще раньше, не дожил до смерти любимой дочери, можно сказать, повезло; сын девочки Дайвы жив-здоров и счастливо женат, только поселился очень уж далеко, аж в Канаде, в гости особо не поездишь, а что делать. Девочка Дайва отлично танцует, потому что в юности немного занималась бальными танцами, но цвета она путает чаще других, вернее, не путает, просто представляет что-то свое. Знает, что так нельзя, но вечно как черт под локоть толкает, никакого сладу.
Но у Фриды особо не забалуешь. Фрида говорит:
– Голубой будет когда-нибудь потом, девочка, это я тебе твердо обещаю. А сейчас танцуем синий, вместе со всеми. Давай, моя хорошая, давай.
На темной, освещенной лишь окрестными окнами улице стоит человек в дорогом кашемировом пальто. И, затаив дыхание, глядит на танцующих. Даже рот приоткрыл, как ребенок, впервые попавший на представление фокусника.
* * *
Никогда в жизни не танцевал. И не собирался этому учиться. То есть просто не думал о танцах, как и о великом множестве других, теоретически, хороших, но совершенно неинтересных лично ему вещей.
Но когда проходил вечером по улице Раугиклос мимо больших ярко освещенных окон танцевальной студии, занимавшей весь первый этаж невысокого серого дома, невольно замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. Стоял, смотрел. Глаз отвести не мог. И не потому что люди там, внутри, так уж хорошо танцевали. То есть, вполне может быть, что хорошо, но его зацепило другое. Все лица светились такой радостью. Никогда не видел столько радостных людей сразу. Собственно, даже одного не видел – радостного настолько.
Хотя одного-то как раз видел. Когда-то – практически каждый день. Но Лиса нет уже так давно, что – не считается.
Добрую четверть часа стоял как завороженный, глазел на танцоров. И простоял бы еще дольше, да ноги замерзли. И снег опять пошел.
Уже сворачивая на Швенто Стяпано, зачем-то обернулся. И увидел, как теплый желтый электрический свет в окнах мигнул, погас и тут же снова вспыхнул – синим. Но миг спустя все стало как прежде. Решил – наверное, померещилось. Или это светомузыка такая у них? Как на дискотеке?
Впрочем, какая разница.
На следующий день специально пошел домой этой дорогой. И даже в пятницу, хотя из бара, где сидел с приятелями после работы, логично было бы проложить другой маршрут. Гораздо короче.
В субботу было так холодно, что весь день просидел дома. Но в воскресенье собрал волю в кулак и выгнал себя на улицу. Официальная версия – в супермаркет за продуктами; на самом деле, куда и зачем угодно, любой предлог хорош, лишь бы не киснуть в четырех стенах.
Когда понял, что вместо супермаркета идет в направлении улицы Раугиклос, совершенно не удивился. Даже обрадовался. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы жопу от дивана отрывало. Хоть изредка. А то невозможно же.
На зрелища особо не рассчитывал. Полдень едва миновал, вряд ли в помещении горит свет. А без него хрен что разглядишь. Но все равно пошел – просто так, почему нет. Погода хорошая, и температура наконец поднялась до вполне терпимой. Когда еще гулять.
Окна танцевальной студии были не просто темны, но и завешены шторами. Этого следовало ожидать. Все-таки воскресенье. Все вокруг закрыто, все отдыхают, и танцоры тоже. Имеют право.
– Извините меня пожалуйста, – произнес женский голос за его спиной. Звонкий, теплый, глубокий, отлично поставленный голос. Слушать его было приятно, как пить на морозе горячий вишневый пунш. И, наверное, так же легко захмелеть, переусердствовав.
Обернулся. И увидел женщину столь ослепительную, что застыл перед ней, открыв рот. Даже не спросил, за что она просит прощения. Какая разница.
Потрясшей его красавице было никак не меньше шестидесяти. («Семьдесят восемь, – однажды признается Фрида и, после небольшой паузы, с нескрываемой гордостью добавит: – Уже пятый год кряду семьдесят восемь; мне-то все равно, но люди почему-то шарахаются от больших чисел». Однако этот разговор состоится еще нескоро, сперва им придется подружиться, а дружба – дело далеко не одного дня.)
У нее были совершенно белоснежные волосы, золотое от загара лицо, высокие скулы, породистый тонкий нос, аккуратный, но резко очерченный подбородок и огромные глаза невозможного фиалкового цвета. В левом углу длинного чувственного рта притаилась улыбка, правый же трагически изогнулся вниз – поди разбери, что получается в сумме.
– Внешность обманчива, – усмехнулась она в ответ на его немое восхищение. – Всю мою жизнь люди думали, будто я создана для любви. А это не так. Я – только для танцев.
Зачем-то повторил за ней вслух:
– Для танцев.
И наконец очнулся. Спросил:
– А почему вы извинились?
– Ну как же, – она удивленно приподняла тонкую бровь – За опоздание. Должна была явиться в полдень, а уже четверть первого. Вы же записываться пришли? В танцевальную студию? Долго ждете?
Покачал головой.
– Нет, что вы. Не записываться. Просто мимо шел… То есть, положа руку на сердце, не совсем просто. Уже несколько раз проходил мимо ваших окон по вечерам, смотрел, как танцуют. И подумал: а вдруг сегодня тоже. Не сообразил, что еще слишком рано. И вообще воскресенье.
– Ясно, – кивнула она. Но вместо того, чтобы отвернуться и уйти, протянула ему руку в лиловой бархатной митенке. Сказала: – Меня зовут Фрида. И мне почему-то кажется, что вы с удовольствием выпьете со мной чаю. А я редко ошибаюсь в людях.
Рука оказалась маленькой, но очень сильной. И такой горячей, словно только что держала кружку с чаем, который ей еще только предстояло заварить.
Ужасно смутился. Но обрадовался гораздо сильнее.
– Вы совершенно правы. Выпью с удовольствием, сколько нальете. И, чего доброго, добавки попрошу.
– Да, – серьезно подтвердила Фрида. – Такое развитие событий вполне возможно.
Отперла дверь, трижды повернув ключ. В огромный зал с паркетными полами не пошли, сразу свернули в кухню. Фрида сняла тяжелое, подбитое каракулевым мехом пальто, осталась в сиреневом, под цвет глаз, платье. Переобулась в серебристые босоножки с закрытой пяткой, на невысоком устойчивом каблучке. Налила воду из бутылки в электрический чайник, щелкнула кнопкой, поднявшись на цыпочки, взяла с полки две керамические кружки, синюю и лиловую. А он стоял на пороге и зачарованно следил за этими нехитрыми действиями. Движения Фриды были похожи на танец; строго говоря, они и были танцем. И даже подходящая музыка начала звучать в его сознании, простенький медленный вальс. Впервые за черт знает сколько лет.
– Вы услышали мою музыку, да? – Усмехнулась Фрида. – Ничего-ничего, не переживайте, мелкие безобидные галлюцинации на этой кухне в порядке вещей. – И, не дожидаясь ответа, спросила: – Вам нравится смотреть, как танцуют? Поэтому ходили в наши окна заглядывать?
Вежливо сказал:
– Да.
Но тут же исправился:
– Хотя, вообще-то, нет.
И, наконец, дал самый честный ответ:
– Сам не знаю. Я, наверное, все-таки не столько танцы смотрел, сколько лица разглядывал. Такие счастливые были все… Нет, даже не так. Не просто счастливые, радостные. А это совсем большая редкость.
– Ваша правда, – кивнула Фрида. – Вы молодец.
И принялась разливать чай.
– И еще свет этот синий, – зачем-то добавил он. – Я сперва подумал, у вас что-то вроде цветомузыки. Что нормально для дискотеки и довольно странно для бальных танцев. Но он один раз мигнул, и все. Так что я еще из-за этого ходил. Хотел понять, есть ли у вас цветомузыка, и зачем она. Но уже ясно, что просто померещилось.
– Ну надо же, – изумилась Фрида. – В жизни не думала, что это можно увидеть с улицы… Ну, будем надеяться, все дело в вас. Тем более, что так оно и есть.
Сказал:
– Я не понимаю.
– Ну, а чего вы хотели, – рассудительно заметила Фрида. – Если уж вызвались пить чай с незнакомой эксцентричной старухой, приготовьтесь к тому, что речи ее будут вздорны и туманны. Согласны ли вы продолжать беседу на таких условиях?
– Да, я на любых условиях согласен, – признался он. – Лишь бы подольше тут с вами посидеть.
– Вот это разговор! – Рассмеялась Фрида. – Вот это по-нашему! Осторожно, молодой человек, если продолжите в том же духе, я буду вынуждена признаться, что обожаю вас.
Чай пах мятой и малиной, и он старался пить как можно медленней. Чтобы отсрочить неизбежный момент, когда придется прощаться и уходить.
– Мне кажется, – вдруг сказала Фрида, – что вам очень нужен хороший друг. И еще мне кажется, что я могла бы им стать – теоретически. Но на практике, скорее всего, ничего не выйдет. Чтобы дружить со мной, надо танцевать. Вот если бы вы пришли записываться…
– Вы бы меня все равно не взяли. Я не умею танцевать. Мало кто умеет, я знаю, но я в этом смысле вообще уникум. Даже хороводы в детском саду не водил. Обижался, уходил в дальний угол и сидел там, дуясь на всех, ждал, когда прекратится безобразие, и можно будет снова поиграть в прятки или салочки. С тех пор так и пошло.
– Конечно, вы не умеете танцевать, – кивнула Фрида. – Это совершенно нормально. Собственно, затем ко мне и приходят, чтобы научиться; в большинстве случаев, как и вы, с нуля. У нас иное ограничение: я не беру профессиональных танцоров. Но вас это, к счастью, не касается. Поэтому вы можете попробовать. Первое занятие бесплатно. Не понравится – никто вас неволить не станет. Понравится – платите десять литов в месяц, и добро пожаловать.
Хотел наотрез отказаться. Какое занятие, вы что?! Но вместо этого почему-то спросил:
– Всего десять литов? По-моему, это благотворительность.
– Она и есть, – кивнула Фрида. – Благотворительность в чистом виде. Но не моя. Помещение нам одолжил один из моих учеников, так что скидываемся, считайте, только на коммунальные платежи. Что остается, тратим на чай и печенье. Если бы нам приходилось платить за аренду полностью, десятью литами в месяц, конечно, не обошлось бы… Кстати о расходах. У вас есть туфли на тонкой кожаной подошве? Если нет, придется купить.
– На кожаной – точно есть. Не знаю только, можно ли считать ее тонкой. Никогда об этом не думал.
– Ладно, посмотрим. А костюм? У вас есть костюм?
– У меня их шесть штук.
Сказал и почему-то смутился. Как будто некстати похвастался.
– Отлично. Если не сможете выбрать, в каком приходить, надевайте самый старый и удобный, вот вам мой совет. И без туфель не приходите.
Опешил.
– Куда не приходить без туфель?
– Сюда, конечно же. Если не возражаете, в среду, в семь вечера. Мне бы хотелось включить вас в группу, которая занимается по средам и субботам, там как раз не хватает мальчиков. Но если вам неудобно, есть группы и в другие дни.
Пожал плечами:
– На самом деле, абсолютно все равно. У меня все вечера более-менее свободны.
– В вашем возрасте это совершенно ужасное признание, – серьезно сказала Фрида. В фиалковых глазах светилось неподдельное сочувствие.
Спросила:
– Как вас записать? Скажите имя, фамилия мне ни к чему.
Понял, что пора решительно отказаться, а потом встать и уйти. Чай отличный, и кухня такая уютная, что сидел бы тут вечно, но зачем морочить голову этой чудесной женщине. Она, похоже, уже уверена, что заполучила нового ученика. И чем раньше будет разочарована, тем меньше, в итоге, огорчится.
Но вместо этого почему-то сказал:
– Лис.
И дважды соврал. Во-первых, это было не имя, а прозвище. А во-вторых, чужое.
Подумал: «Господи, что на меня нашло. Зачем записал в танцевальную студию мертвого друга? Сходил, называется, за хлебом, вот молодец».
Подумал: «С другой стороны, так даже лучше. Я не умею и не люблю танцевать, а Лис любил. Ему, в отличие от меня, здесь самое место. Наверное, он был бы только рад».
Подумал: «Теперь придется прийти, не могу же я подвести Лиса».
* * *
– Танцуем серый, – говорит, Фрида. – Анна, принцесса, не хмурься, что за предрассудки, серый – прекрасный цвет, особенно когда он цвет шелка, струится и переливается, ты только представь.
Принцесса Анна – самая младшая в группе. Принцессе Анне тридцать два года. Принцесса Анна – не самая удобная партнерша, рост ее равен одной греческой оргии[2], и слава богу, что не египетской[3]. Но это, полагает принцесса Анна, вовсе не повод сутулиться и отказывать себе в удовольствии носить каблуки. Принцесса Анна феноменально рассеяна, она может внезапно остановиться посреди танца, просто забыв, где находится, и что сейчас следует делать. Принцесса Анна – математик, программист и переводчик с полудюжины славянских языков; она привыкла думать на всех сразу, включая Си и Паскаль. В этом, смеется Фрида, и состоит проблема.
Зато иных проблем у принцессы Анны нет. У принцессы Анны темные брови вразлет, пепельные волосы до лопаток и глаза цвета зимних сумерек. Она прекрасна, как элитное модельное агентство в полном составе, беззаботна, как еще не усевшаяся на яйца птичка, и ни в кого не влюблена. Обниматься с принцессой Анной – почти такое же счастье, как танцевать с Фридой. Это счастье нельзя заслужить, оно всегда достается даром – тому, кто нуждается больше прочих.
– Фрида, – говорит принцесса Анна, – ты была совершенно права, серый шелк – это действительно очень красиво. Но теперь он так громко шуршит у меня в голове! Я даже музыку почти не слышу.
– Ничего, ничего, – смеется Фрида, – пусть себе шуршит. Это тоже музыка. Танцуем серый, принцесса. Сейчас танцуем серый.
– Это была худшая посадка в моей жизни, – говорит коллегам пилот самолета польских авиалиний, только что прилетевшего из Варшавы. – Или наоборот, лучшая, это как поглядеть. Потому что, в итоге, все целы, по-моему, даже испугаться толком не успел никто – кроме меня. Я, кстати, не представлял, что столько молитв знаю. Откуда? У нас в семье только мамина бабка в церковь ходила. И тут вдруг из меня как полилось.
– В последний момент, – говорит он, устало опустив голову на руки. – В самый последний момент вдруг все стало хорошо. И мы сели прямо как в учебном фильме – и-де-аль-но. Если это не чудо, то… То все равно чудо. Иного объяснения нет.
* * *
– Ну надо же, – восхитилась Фрида. – Пришел! А я-то, глупая, волновалась. Дети мои, это Лис. Он к нам пришел, счастливчик. Любите его отныне, как меня и друг друга.
И, не желая обуздывать бурю охвативших ее чувств, закружила по залу, вальсируя с невидимым партнером, тихонько напевая себе под нос: «Лис пришел, Лиспри шел, Лиспришел».
Ноги ее не касались пола. «Дети» (в возрасте примерно от тридцати до семидесяти), видимо, и не к такому привыкли, а он смотрел, распахнув рот. Наконец смущенно переспросил:
– Вы волновались? Но почему?
– Как – «почему»?! – Фрида даже плясать перестала. – Да потому что ты мне позарез нужен, счастливчик, вот и все. – И, чтобы снизить градус признания, поспешно добавила: – В этой группе не хватает мальчиков, я тебе уже говорила. Собственно, ровно одного и не хватало. Теперь полный комплект. И кстати. Как ты уже, наверное, заметил, я перешла на «ты». Не вздумай обижаться. Я говорю «ты» всем, кто здесь со мной танцует. И ожидаю в этом смысле взаимности. Друг к другу тоже лучше обращаться на «ты», по крайней мере, в стенах этого зала. Не то чтобы это было принципиально важно, но я предпочитаю сразу и недвусмысленно обозначить степень близости, неизбежной для всех, кто приходит сюда танцевать.
Подумал: «Неизбежной – ишь ты». А вслух сказал:
– Вы погодите, может еще выгоните меня взашей после первых же па. Я двигаюсь как мешок с песком.
– Это вряд ли, походка у тебя легкая. И жестикуляция не разболтанная. И спину держишь неплохо. Не предвижу особых проблем. Впрочем, если даже я ошибаюсь, не беда. Мешков с песком я за свою жизнь перетаскала – не сосчитать. И все остались довольны.
* * *
Фрида говорит:
– Мы занимаемся бальными танцами. Классическая программа: вальс, танго, фокстрот. И еще, конечно, самба, румба, джайв, ча-ча-ча, пасодобль, но все это будет потом, латинскую программу мы танцуем только летом, а до лета еще надо дожить. Кстати имей в виду, дожить – это домашнее задание. Обязательное для всех.
Фрида говорит:
– У нас нет специальной группы для новичков. Занимаемся вместе, это, как ни странно, идет всем только на пользу. С новичками я танцую сама, и это хорошая для тебя новость, у меня все быстро учатся, и ты научишься, никуда не денешься, поэтому иди-ка сюда, дорогой.
Фрида говорит:
– Ни о чем не беспокойся, просто слушай музыку и слушайся меня. Делай все, что мы с ней велим. Это гораздо проще, чем кажется.
Фрида говорит:
– Положись на меня, счастливчик. Я не подведу.
Полчаса пролетают как сон; наверное, они и есть сон. Потому что только во сне так легко и просто получается то, чего никогда не умел наяву: мчаться на мотоцикле, превращаться в зверя, летать, танцевать.
А вот десять минут перерыва более-менее похожи на явь. Можно сесть на паркетный пол, прислониться спиной к стене, беспомощно улыбаться женщинам, наперебой поздравляющим тебя с отличным дебютом, пожимать руки специально ради знакомства присевших рядом мужчин, смотреть в окно, в отчаянную темноту безлунной декабрьской ночи, где то вспыхивает, то гаснет огонек Фридиной сигареты, медленно-медленно выдыхать.
Боже, что это было вообще? Я – танцевал?
Фрида появляется на пороге, на ходу сбрасывает шубку. Фрида говорит:
– Продолжим.
Фрида говорит:
– Иди сюда, мой драгоценный мешок с золотым песком. Я скучала по тебе, пока курила. Мне понравилось с тобой танцевать.
Фрида говорит:
– Только не зазнавайся, счастливчик.
* * *
В следующий перерыв Фрида пошла на кухню заваривать чай. И его за собой поманила.
– Пока мы будем танцевать, как раз настоится, – сказала она, заливая кипятком дивный натюрморт из цветов, листьев и пряностей. – Теперь самое главное. Даже не стану спрашивать, будешь ли ты ходить на занятия. И так ясно, что будешь. Следовательно, с тебя десять литов. Если захочешь дать больше, не стесняйся, тогда на следующей неделе к чаю у нас будет не только дешевое печенье, но и, к примеру, бельгийский шоколад. И наши девицы станут молиться за тебя денно и нощно. А это серьезный профит.
– Ты меня поймала. Если мои взносы – единственный шанс накормить девочек шоколадом, никуда не денусь, придется ходить.
– Ай, не прикидывайся, – отмахнулась Фрида. – Тебе же понравилось со мной танцевать. Готова спорить, ты уже заранее не знаешь, как дотерпеть до субботы.
– Не знаю, – согласился он. – Но все равно как-нибудь дотерплю.
– Такое мужество заслуживает награды, – объявила Фрида. – Пошли, счастливчик. Нас ждут райские наслаждения: еще один вальс, а потом, ты не поверишь, фокстрот!
– Учти, я пока даже не знаю, что это такое.
– Фокстрот – это почти как вальс, только совершенно иначе, – рассмеялась Фрида. – Гораздо веселей. И при этом труднее, чем все, что было до сих пор, но мы с тобой как-нибудь справимся, я в нас верю.
– Если я отдавлю тебе ноги, ты меня все равно не выгонишь?
– Не тревожься, счастливчик, ты в полной безопасности. Если я выгоню тебя, кто купит девочкам шоколад?
Уже на пороге остановилась, картинно хлопнула себя по лбу.
– А главное-то и забыла! Я же заманила тебя в кухню, чтобы проинструктировать. Всякий раз в конце занятия мы танцуем какой-нибудь цвет. Танец может быть любой, сегодня будет фокстрот, но это не принципиально. Цвет выбираю я. Говорю: «Танцуем красный». Или, к примеру, синий. Какой цвет скажу, такой и танцуем. В этом смысле у нас, конечно, страшная тоталитарная диктатура. Но тут уж ничего не поделаешь.
– Но как можно танцевать красный или синий? Это какие-то особенные движения? Притормози, Фрида, я пока даже фокстрот от румбы не отличу.
– Не беспокойся, никаких особенных движений. Просто представь себе этот цвет. Как будто весь мир в него окрасился – у тебя в голове. Тебе понадобятся воображение и внимание. И, конечно, концентрация – на первом этапе. Потом привыкнешь.
Озадаченно покачал головой:
– Вряд ли у меня получится.
– Всего час назад ты грозился, что будешь танцевать, как мешок с песком. Обещал и не выполнил, ай, как не стыдно! Не переживай, счастливчик. Все у тебя получится. Со мной вообще все очень легко. Особенно на первых порах.
* * *
– Танцуем оранжевый, – говорит Фрида. – Зима только началась, всем нам нужны витамины, поэтому будем танцевать оранжевый. Ян, детка, если уж ты все равно забываешь выключить телефон на время занятий, будь добр, хотя бы поменяй мелодию. Потому что лично мне очень трудно продолжать танцевать вальс, когда в ушах звучит такой чумовой рок-н-ролл. Вот как начну скакать тут драной козой – что тогда с вами станет, мои дорогие?
Детке Яну сорок два года, а выглядит он гораздо моложе. У детки Яна светло-рыжие волосы, ярко-голубые круглые глаза и белоснежная кожа, усыпанная мелкими золотыми веснушками. Родись он женщиной, был бы доволен своей моложавостью, но бизнесмену его уровня следует выглядеть солиднее; впрочем, не так уж часто внешность действительно мешает в делах, и для таких случаев у детки Яна имеется чрезвычайно полезный генеральный директор, такой солидный, что хоть на пол ложись и плачь.
Иногда, представляясь новым знакомым: «Да-да, совершенно верно, тот самый», – детка Ян чувствует себя примерно как герои Ремарковских «Трех товарищей», когда обгоняли на своем Карле новые дорогие автомобили, общее недоумение и смешит его, и, чего греха таить, льстит. Меж тем дела у детки Яна идут так хорошо, что самому иногда не верится; впрочем, бизнес в этом смысле похож на танец: лучше особо не задумываться, а главное – не останавливаться, пусть земля крутится от толчков твоих ног, а не сама по себе, остальное приложится.
Детка Ян заметно прихрамывает при ходьбе, одна его нога короче другой. Но пока он танцует, это не имеет значения. Какая хромота, вы что. Детка Ян танцует как бог. Даже Фрида однажды сказала, что если вдруг за ней придет смерть, она непременно позовет на выручку детку Яна, потому что танцевать с таким партнером и не воскреснуть решительно невозможно. Детка Ян дал ей слово, что обязательно примчится по первому же зову. Потому что шутки шутками, но – а вдруг это действительно поможет? Он с радостью вернул бы ей долг.
Шесть лет назад детка Ян был уверен, что не доживет до своего следующего дня рождения. Во всяком случае, так уверяли его лечащие врачи. «А вот хрен им», – решительно сказала на это Фрида, с которой он познакомился в больничной курилке; она не лечилась, а приходила навещать кого-то из своих.
«Хрен им, – говорила Фрида, – ты будешь жить, детка. Я знаю, какое лекарство тебе нужно. Еще ни один по-настоящему счастливый человек ни разу не умирал от какой-то дурацкой болезни. Правда, иногда они внезапно гибнут в катастрофах, но это, поверь мне, гораздо веселее больниц. Осталось понять, что может сделать счастливым тебя. Ты когда-нибудь пробовал танцевать? Да плевать на твою ногу, она нам с тобой не начальник. А ну бросай сигарету, пошли в коридор. Конечно прямо сейчас. В моем возрасте и твоем положении глупо хоть что-то откладывать на завтра».
Детка Ян до сих пор жив. В глубине души он считает себя бессмертным.
– Ян, детка, мы танцуем оранжевый, – говорит Фрида. – И учти, если тебе снова кто-то станет трезвонить посреди танца, я за себя не ручаюсь.
– Я уже выключил звук. Прости.
– Ничего, детка. Человеку, который так танцует, я бы охотно простила даже убийство президента. А не только какой-то жалкий телефонный звонок.
Из индийского ресторана на Одминю выходит немолодая пара.
– О боже, – говорит женщина. – Смотри, что творится!
– Что? Где? – Ее спутник вертит головой, пытаясь понять, о чем речь.
– Да вот же, вот, прямо тут! Смотри, сколачивают помосты, ставят киоски и развешивают фонари. Похоже, у нас наконец-то будет настоящая Рождественская ярмарка. Как в Бремене и Кельне, как в Праге, как в Варшаве, Барселоне и Риге. Как во всех нормальных европейских городах. С елочными игрушками, вязаными носками, жареной ветчиной и глинтвейном на площади. Я уже думала, не доживу. И вот!
– То есть, до сих пор у вас не было Рождественских ярмарок? – Изумленно спрашивает мужчина. – Надо же! Даже не верится. Да, тогда понятно, почему ты так разволновалась. Я рад за тебя, дорогая. И за весь город, конечно.
* * *
Танцевали до девяти, потом долго, никуда не торопясь, пили чай. Потом провожали Анну и Фриду, остальные девочки жили далеко, и их повез по домам Ян, обладатель огромного белоснежного джипа, больше похожего на игрушку великаньего ребенка, чем на взаправдашний автомобиль.
Шли, не торопясь, болтали о пустяках, лепили снежки, замерзли, в итоге, до изумления, даже невозмутимая принцесса Анна под конец лязгала зубами, как выброшенная на улицу сирота.
Домой пришел за полночь, лег навзничь на диван и заплакал. Не то от боли, не то от облегчения. Наверное, от того и другого сразу. А выплакавшись как следует, заснул, так и не сняв пальто и ботинки. Такого с ним не случалось даже в юности, после самых лихих вечеринок.
Проснулся на рассвете. И не почувствовал себя счастливым. Но твердо знал, что сделал шаг в этом направлении. Самый первый верный шаг с тех пор, как…
С тех пор, как.
* * *
– Танец бескорыстен, – говорит Фрида. – Нельзя танцевать «зачем-то», или «для чего-то». Танец – ради танца. Не он для нас, а мы для него. Пока есть танец, того, кто танцует, нет. И это – самое главное. Единственная наша корысть состоит в том, что когда танец закончится, мы можем быть совершенно уверены, что рано или поздно начнется новый. И это такое счастье, что я каждый день готова плакать от зависти к самой себе.
Слушая ее, танцоры приподнимаются на цыпочки, все как один.
– Танцуем желтый, – говорит Фрида. – Сейчас танцуем желтый, и ничего больше. Арам, золотой, учти, я знаю, что у тебя на уме. И до известной степени разделяю твои чувства. Мне тоже надоел мороз. Но если ты будешь специально танцевать оттепель, потеряешь кучу сил, а завтра, скорее всего, переживешь горькое разочарование. Поэтому сейчас мы будем просто танцевать желтый, и ты с нами. Желтый, Арам, золотой. Просто желтый, и точка, все, все.
Золотой Арам – почти ровесник Фриды. Большую половину жизни золотой Арам провел в инвалидной коляске, среди россыпей драгоценных камней. Арам был ювелиром, из тех, чья негромкая слава молниеносно разносится по городу «сарафанным радио», и очереди к нему выстраивались на годы вперед. Золотой Арам часто думал: в каком-то смысле даже удачно, что я стал инвалидом в восемнадцать лет, а не, скажем, в тридцать. Успел выбрать подходящую профессию, ни дня не был близким обузой. И жену нашел хорошую, иначе и быть не могло, такой крест на себя взвалить отважится только очень добрая и сильная женщина, и только по большой любви. Трех сыновей подняли, дочку-красавицу выдали замуж, построили дом, а уж деревьев вокруг того дома посадили – видимо-невидимо. А как иначе.
После визита к знаменитому китайскому кудеснику – сам золотой Арам считал его шарлатаном, но жена и дети так просили попытать счастья, что не смог им отказать – неожиданно встал и пошел, хотя ни веры, ни надежды не было в нем, только любовь. Страстная любовь к жизни. Китайский чудотворец сказал, этого достаточно.
Так в пятьдесят шесть лет для золотого Арама началась совершенно новая жизнь. Он принялся азартно исследовать внезапно открывшиеся возможности, перепробовал все, до чего смог дотянуться. Ходил в походы на байдарке, заново освоил велосипед, трижды летал на воздушном шаре, съездил на африканское сафари, исколесил на своей машине пол-Европы; до Америки, впрочем, не добрался, рассерженный запретом на курение в самолетах. Однажды, шутки ради, присоединился к танцорам, по случаю праздника выступавшим на Ратушной площади, сделал круг вальса с пришедшей ему на выручку Фридой и пропал навек.
Всем бы так пропасть.
– Арам, – говорит Фрида, – не упрямься, мой золотой. Танцуем желтый, Арам, сейчас просто танцуем желтый, и больше ничего.
На следующий день все городские модницы наденут пестрые резиновые сапожки, а дети по дороге в школу будут снимать и прятать в портфели вязаные шапки. К вечеру вывешенные за окна термометры станут уверенно показывать шесть градусов выше нуля, а еще два дня спустя в проходном дворе на улице Бокшто, через который Фрида любит ходить, когда нет гололеда, расцветет, не дожидаясь весны, желтая форзиция. «Вот засранец, – восхищено подумает Фрида, – настоял-таки на своем!»
Сердиться на Арама она не станет. Победителей не судят. К тому же, морозы действительно ужасно надоели. А цветение во время зимы Фрида всегда считала доброй приметой.
* * *
Когда, допив чай, стали одеваться, Фрида положила руку ему на плечо.
– Счастливчик, у меня такое ощущение, что ты хочешь добавки, – твердо сказала она. – А попросить стесняешься.
– Стесняюсь, – легко согласился он. – А что, можно?
– Можно. При условии, что потом проводишь меня домой. А то я, знаешь, балованная маменькина дочка. Без кавалеров по вечерам гулять не приучена.
– Проводить тебя домой – это дополнительное удовольствие. Кто же в здравом уме от такого откажется?
– Тогда договорились.
Когда они остались одни, Фрида рассеянно нажала на кнопку электрического чайника, уже отключенного от розетки. Так и не заметила своего промаха. Села напротив, испытующе заглянула в глаза. Сказала:
– У тебя такая дыра в сердце, бедный мой счастливчик. Такая страшная дырища. Это смерть, да? Кто-то у тебя умер. Самый важный для тебя человек. А ты остался – не жить, доживать. Очень глупо с твоей стороны, но ничего не поделаешь.
– Умер, да. Друг. Но это было очень давно. И я научился жить без него. То есть, научился думать, что научился. На самом деле, конечно нет.
– Друг, – задумчиво повторила Фрида. – Вот значит как. Надо же. Обычно прорехи таких размеров оставляют дети, но всякое, конечно, бывает… Слушай, а ты уверен, что называешь вещи своими именами? Это был не просто друг, да? Это была любовь? По тебе не скажешь, но… Вы спали вместе?
Укоризненно покачал головой:
– Не спали, Фрида. Играли. Мы были музыкантами. Два саксофониста. Я – тенор, он – альт. По отдельности – так, ничего выдающегося. А вместе мы были почти боги. Вернее, один двухголовый, многорукий, совершенно безбашенный бог. Вместе мы могли абсолютно все. И, да, ты совершенно права, это была любовь. Что ж еще.
– О боже. Тогда я понимаю. Он умер, и с тех пор ты не можешь играть?
Эхом повторил:
– Он умер, и с тех пор я не могу играть. А значит, я умер вместе с ним. Хотя, формально, остался жив. Ты права, в этом все дело.
Помолчали.
– Прости мою солдатскую прямоту, счастливчик, но мне кажется, ты зря сдался, – наконец сказала Фрида. – Огромная потеря, я понимаю. Но зачем добровольно делать ее еще больше? Руки, губы и легкие пока при тебе. Скажешь, нет?
Яростно помотал головой:
– Нет. Не добровольно. Я ничего не решал. Просто не смог.
– Не смог – что?
– А ничего не смог. Штука же не в том, что дуэтом мы звучали много лучше, чем порознь. Я не настолько амбициозен. Но чтобы играть – нет, не так, чтобы делать из себя музыку – надо внутренне соглашаться с тем, что принадлежишь этому миру. Что ты – малая часть прекрасного непостижимого целого, которое будет сейчас литься через тебя – сколько сможешь пропустить, и еще – через край. А если такого согласия нет, будешь фальшивить. И дело, как ты понимаешь, не в технических огрехах.
Фрида молча кивнула.
– Я не раз слышал о людях, которые, похоронив кого-нибудь близкого, решали, что Бога нет. Или того хуже, проклинали Его навек за бессмысленную жестокость. Это не мой случай. Я никого не проклинал. И веру не утрачивал. Собственно, нечего было утрачивать, в том месте, где у нормальных людей вера, у меня всегда был один огромный неформулируемый вопрос, и уж он-то никуда не делся.
– Тогда почему?
– Потому что я никогда не смогу ни понять, ни, тем более, принять мироустройство, логика которого допускает, чтобы такие люди как Лис умирали совсем молодыми. Он был сама радость, ветер и свет, воплощенный смысл бытия, гораздо более уместный среди живых, чем любой из нас, уцелевших. И позарез необходимый – мне и многим другим. Но все это оказалось совершенно неважно.
– Да, – сказала Фрида. – Наверное, я тебя понимаю. К сожалению.
– На самом деле никакой логики, скорее всего, нет вовсе. Никакого замысла, ни тайного, ни явного. Только слепая игра случая, как и вся жизнь на Земле. Нечего тут ненавидеть, некого проклинать. Но ощущать себя частью реальности, в которой умер Лис, я все равно не могу. Так и живу с тех пор инородным телом. Возможно, именно поэтому из меня получился неплохой, как считают коллеги, юрист. Законодательные акты – нелепые нагромождения наспех придуманных идей, по большей части, абстрактных. Они даже не то чтобы противоречат природе и смыслу бытия, а просто находятся где-то сбоку, как бантик, прилагающийся ко всякому «черт-те что». И это мне сейчас близко и понятно. Я сам, в некотором роде, такой бантик.
– А потерять хлебную профессию не боишься? – неожиданно рассмеялась Фрида. И дружески пихнула его в бок локотком, острым, как лезвие мизерикордии.
– Боюсь? Да нет, с чего бы. Как, интересно, я могу ее потерять?
– У занятий танцами порой бывают самые непредсказуемые последствия, – очень серьезно сказала она. – В один прекрасный день ты можешь проснуться и обнаружить, что перестал быть «сбоку бантиком». И худо ли, хорошо ли, а снова принадлежишь этому миру. И что тогда?
Пожал плечами:
– Тогда я просто снова возьмусь за саксофон. Но, знаешь, это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
– Я предпочитаю говорить: «Достаточно хорошо, чтобы быть правдой». Как тебе такая формулировка?
* * *
– Танцуем коричневый, – говорит Фрида. – Стас, мальчик мой, прекрати так гнусно ухмыляться. Держи себя в руках. Коричневый – это не только цвет дерьма. А еще, к примеру…
– Шоколада, – хором подсказывают девочки и Ян, страстный любитель сладкого.
– И еще медвежьей шкуры, – смущенно добавляет Дайва.
– И корабельных досок, – подхватывает Анна. – И древесных стволов.
– И крепко заваренного чая.
– Тогда уж и кофе.
– И старой школьной формы.
– И коровы моей бабушки.
– И двухтомника Фицджеральда.
– И…
– Иииии…
– И всякого дерьма, – добродушно заключает мальчик Стас, чрезвычайно довольный своей находчивостью.
Мальчик Стас недавно разменял седьмой десяток. Мальчику Стасу до сих пор плохо дается вальс, зато он практически король танго. При звуках танго мальчик Стас, добродушный увалень, болтун и балагур, вдруг дивным образом преображается, даже отвисшие щеки подтягиваются, пухлые губы сжимаются в злую, ласковую нить, скулы становятся резче, а черешневые глаза начинают полыхать неподдельной страстью.
Тридцать лет назад мальчик Стас овдовел. Жена вышла в булочную за хлебом для ужина и не вернулась; ее нашли наутро в соседнем дворе, среди мусорных баков, спрятанных за жасминовыми кустами. Несколько десятков ножевых ранений, из которых только одно оказалось смертельным. Не то тайный ревнивый любовник счеты свел, не то просто маньяк. В любом случае, убийцу не нашли, а мальчик Стас остался с двумя трехлетними сыновьями-близнецами на руках. Жениться снова не стал. Сам вырастил мальчишек. И каких! Один теперь большой начальник на телевидении, другой – специалист по аппаратуре настолько хитрой, что родной отец не в силах уяснить, в чем, собственно, заключается его работа.
Мальчик Стас всю жизнь проработал таксистом и до сих пор с удовольствием возит пассажиров, хотя сыновья против, они могли бы обеспечить обожаемому отцу не просто достойную, а натурально сладкую жизнь. Но мальчик Стас не поддается на уговоры. Такси – это люди. Каждый день десятки новых людей. С одними интересно поговорить, других можно послушать, третьим сразу хочется исповедаться, а остальных можно просто разглядывать.
Чем дольше мальчик Стас возит людей, тем меньше их понимает. И тем больше они ему интересны.
– Ой, смотри, допрыгаешься у меня! – Смеется Фрида и показывает мальчику Стасу кулак. – А вы чего ржете? – Грозно спрашивает она остальных. – Смотрите, всех оставлю без сладкого. В частности, без шоколада, коричневого, как де… Ой. Тьфу на вас! До чего пожилую интеллигентную женщину довели.
В течение следующих десяти минут вся группа хохочет до полного изнеможения. Невозможно остановиться, когда смеешься в такой большой компании, тут только палец покажи, и все снова заходятся, постепенно сползая на паркетный пол.
– Ладно, – говорит Фрида, вытирая батистовым платочком выступившие слезы. – Все хороши. И я хороша, не спорю. А теперь, дети, все-таки танцуем коричневый. Соберитесь.
По проспекту Гедиминаса бежит щенок бассета. За ним волочится поводок. Хозяин щенка, мальчишка лет двенадцати, тоже бежит со всех ног, но расстояние между ними постепенно увеличивается. Поди поймай такого резвого неслуха, до полусмерти перепуганного собственным своеволием, лаем чужих собак, зимними башмаками прохожих, шумом, перекрывающим голос хозяина, гудками автомобилей и ослепительным светом их фар.
Словно нарочно решив максимально ухудшить и без того драматическую ситуацию, щенок выскакивает на проезжую часть. Раздается визг тормозов. «Неееееет!» – страшным голосом кричит мальчишка и, обессилев от отчаяния, садится прямо в сугроб.
Минуту спустя к нему подходит коротко стриженная женщина в спортивном костюме и высоких зимних кроссовках. Несет в охапке визжащего, вырывающегося щенка. Коротко спрашивает: «Твой?» И, не дожидаясь благодарности, разворачивается и переходит на бег. И так опаздывала на тренировку, да еще из-за этих двух дурачков столько времени потеряла, надо наверстывать.
«Такие трогательные оба, – умиленно думает она, сворачивая в сторону Зеленого моста. – Хорошо, что все обошлось».
* * *
Зачем-то пришел на целых полчаса раньше, ругал себя за это последними словами, думал, придется теперь топтаться на морозе, и, как назло, ни одного кафе рядом, чтобы там подождать. Но ему повезло, дверь уже была открыта, Фрида сидела на кухне и разговаривала по телефону.
– Ангел мой, – говорила она, – ты прекрасно знаешь, я никогда никого не ругаю за прогулы. Все взрослые люди, у всех бывают неотложные дела и непреодолимые обстоятельства. Зачем ты снова рассказываешь мне эту нелепую историю?.. Нет. Нет. А я говорю, неправда. А если даже правда, впредь потрудись ее от меня скрывать. Она разбивает мне сердце… Что? Господи, ну конечно, мы тебя подождем. Да. Совершенно верно, начнем на четверть часа позже. И закончим соответственно. С превеликим удовольствием. Да, ради тебя. Просто потому что я тебя люблю. И не только я. И мы все очень соскучились. Давай, бегом.
Спрятала телефон в карман и только тогда заметила, что уже не одна. Улыбнулась, растерянно развела руками, сказала:
– Привет, счастливчик. Видишь, нашлась наша пропажа.
– А кто у нас пропажа?
– Люси, конечно. А, ты же ее пока не знаешь. Ты пришел ровно в тот день, когда она в очередной раз сгинула на две недели, и это, увы, еще не рекорд… Я ее очень люблю. Явилась ко мне три года назад, как раз перед самым Рождеством, с виду – совершеннейший мальчишка, штанишки, курточка, вязаная шапка до бровей, упрямый подбородок, нахальный взгляд исподлобья. Заявила: «С детства мечтала быть настоящей девочкой и танцевать вальс в красивом платье, правда же, вы меня к себе возьмете?» С тех пор сшила себе полдюжины платьев, а танцует так, что лично я смотрела бы, не отрываясь. Но занятия прогуливает безбожно. Что, впрочем, полбеды. Если бы она при этом не выдумывала всякие ужасы, цены бы ей не было.
– Ты меня заинтриговала. Что за ужасы?
Фрида нахмурилась. Неохотно сказала:
– Всякий раз твердит одно и то же. Никакой фантазии! Говорит, будто иногда просыпается в мире, где нет нашей танцевальной студии. Все остальное на месте – город, работа, родители, друзья, парки, кафе, велосипед и любимый каток – но студии нет. Вместо нее в этом доме на Раугиклос магазин, торгующий швейными машинками. Почему именно швейными машинками, хотела бы я знать?! Если бы я взялась сочинять подобную историю, поместила бы здесь тренажерный зал, так гораздо правдоподобней… Да, и мой телефон в этой ситуации, конечно же, не отвечает. А когда отвечает, трубку берет какой-то неприятный пожилой господин, кричит, что никакой Фриды тут нет, требует больше не беспокоить. Люси говорит, будто ничего не может с этим поделать. Просто живет дальше, как ни в чем не бывало, но каждый день проверяет: вдруг мир снова изменился, и мы уже есть. Ходит сюда или просто мне звонит. И что бы ты думал? В какой-то момент все действительно возвращается на место, и Люси воссоединяется с нами. Как тебе это нравится, счастливчик?
Долго думал прежде, чем ответить.
– Знаешь, а я как раз вполне способен поверить в такие штуки. У нас в свое время даже целая теория была. Ну, что почти одинаковых версий реальности видимо-невидимо, и все люди порой, сами не подозревая, перепрыгивают из одной в другую, причем скорее всего, во сне, когда же еще. И только немногие способны осознать эти перемещения, подмечая различия в пустяковых деталях: отсутствие любимой радиостанции на знакомой волне, цветущие акации на улице, где всегда росли только липы, кондитерская на месте сапожной мастерской, откуда только вчера забрал отремонтированные ботинки… И учти, в качестве безумного автора этой бредовой идеи, а значит, единственного научного авторитета в данной области, я совершенно уверен, что твоя танцевальная студия есть абсолютно везде. Во всех измерениях, или как их положено называть. Просто там, куда заносит твою бедную Люси, она находится по какому-нибудь другому адресу. А у тебя другой номер телефона, с разницей в одну цифру, вот и все.
– Какая чушь, – проворчала Фрида. Впрочем, она заметно повеселела. Спросила: – А почему ты так уверен, что моя студия там есть?
– Потому что мир, в котором нет ни тебя, ни твоих танцев – это совершенно бессмысленно. И даже жестоко. А реальность не может быть бессмысленной и жестокой. Лично я в такое не верю.
– Боже мой, – Фрида смотрела на него круглыми от изумления глазами. – Реальность не может быть бессмысленной и жестокой? Ты это сказал, счастливчик? Сам? По доброй воле? Никто тебя не заставлял? Совсем рехнулся. Дай я тебя обниму.
* * *
– Люси, – говорит Фрида, – Люси, ангел, ну наконец-то. Быстро марш переодеваться, мы тебя заждались.
Ангел Люси смеется, кивает, обнимается со всеми, кто подвернется под руку, невпопад отвечает на вопросы. Наконец замечает новое лицо, умолкает на полуслове, смотрит на него во все глаза.
– Ой, – говорит Люси. – Кажется, я тебя знаю. Ты играешь на саксофоне, да? Ну точно же! Дуэт «Феликс и Лис». Когда вы выступали, я была студенткой и влюбилась по уши – в вас обоих примерно на неделю, в джаз – на всю жизнь. Господи, только сейчас поняла, как давно вас не слушала. Куда вы оба подевались? Или это я подевалась? А ты Феликс или Лис?
И как, скажите на милость, ей отвечать.
Правду и только правду?
– Сегодня – Лис. Тогда был Феликс. Все очень сложно. Однажды один из нас умер, и с тех пор я пытаюсь понять, кто именно.
– Господи, – говорит Люси, – бедные Феликс и Лис. Ну почему нельзя было оставить в живых обоих?
Справедливый вопрос. И адресат, в общем, выбран верно. Кого еще о таких вещах спрашивать.
– Люси, ангел мой, – говорит Фрида, – а ну марш переодеваться. Ждем тебя, страстно бия копытами и раздувая от нетерпения ноздри. И даже отчасти прядая ушами. А тебя все нет и нет. Только какой-то посторонний мальчишка в холле топчется.
Ангел Люси, и правда, похожа на хорошенького мальчика, когда приходит на занятия в джинсах, теплой куртке и черной вязаной шапке, надвинутой до бровей. Ангел Люси похожа на хорошенькую кудрявую куклу, когда переодевается в синее бархатное платье и бальные туфельки на каблучках. На взрослую женщину тридцати шести лет, любимицу нескольких поколений университетских студентов-гуманитариев, автора доброй дюжины монографий, названия которых мало кто способен прочитать иначе как по слогам, ангел Люси не бывает похожа ни при каких обстоятельствах. Что совершенно не мешает ей всем этим быть – в те редкие часы, когда она способна быть чем-то конкретным.
Ангел Люси очень не любит пропускать занятия. Эти дурацкие вынужденные прогулы выбивают ее из колеи. И после всякого невольного исчезновения ангел Люси понимает, что следовало бы придумать какую-нибудь незатейливую историю о внезапной командировке, простуде, свадьбе сестры, или еще что-то в таком роде, правдоподобное и безобидное. Но ангел Люси слишком любит Фриду, чтобы врать ради ее спокойствия.
Ангел Люси всегда говорит Фриде правду.
Беда Фриды в том, что она это знает.
* * *
Фрида говорит:
– Танцуем зеленый. Но не теплый цвет молодой листвы и свежей травы, о нем пока забудьте. Сегодня мы будем танцевать изумрудный. Холодный, блистательный, неумолимый. И не говорите, что я вас не предупредила.
Фрида говорит:
– О чем задумался, счастливчик? Ты прекрасен, как вечерняя заря, и я желаю с тобой танцевать.
Фрида говорит:
– С кем еще танцевать такой злой, такой прельстительный и страшный зеленый, как не с тобой.
* * *
Пока не попробовал, даже не предполагал, как легко, оказывается, танцевать заданный цвет. Представлять, как жидкая яркая краска заливает все окружающие предметы, паркетный пол, зеркальные стены, низкий, давно небеленый потолок, как разбавляется цветным сиропом густая заоконная тьма, как меняют цвет фиалковые глаза его лучшей в мире учительницы, как звуки бесхитростной музыки превращаются в цветные сияющие нити, трепещут и оплетают танцующие тела, как наконец окрашивается внутреннее пространство, которое привык считать пустотой.
Видеть, как весь мир исчезает в цветном подвижном тумане, а потом сладко взрывается с нежным, но явственно слышным хлопком, и тогда все становится цветом и светом, перестает существовать, начинает быть, и тогда…
Феликс уже почти знал, что происходит тогда, что за паутина плетется, что за дыры латаются. Уже почти понимал, что такое эти разноцветные танцы, и зачем они. Уже почти видел радужные круги, медленно расходящиеся по поверхности океана времени. Но сформулировать все это не смог бы даже на своем внутреннем почти бессловесном языке, специально предназначенном для переговоров с бездной, притаившейся в дальних коридорах сознания. Впрочем, бездна-то в пояснениях не нуждалась, она просто была счастлива – впервые с тех пор, как пришлось убрать в шкаф футляр с саксофоном.
И впервые за эти годы Феликс подумал, что победить смерть гораздо проще, чем кажется.
И почему бы не попробовать прямо сейчас, пока весь мир и он сам – изумрудно-зеленый свет, и смерть – изумрудно-зеленый свет, и желание ее победить – изумрудный свет тоже.
И мертвый Лис – изумрудный свет, как все остальное. Как будто он здесь, как будто тоже танцует, как будто живой.
* * *
Фрида думает: «Этого следовало ожидать».
Фрида думает: «Если бы он не попробовал, я бы, пожалуй, даже рассердилась».
Фрида думает: «А все-таки придется дать ему по ушам. Бедный мой, бедный».
Фрида шепчет:
– Да, счастливчик, ты правильно все понимаешь. И в то же время, ты пока не понимаешь вообще ничего. Поэтому, пожалуйста, прекращай фантазировать. Твой друг не воскреснет от того, что ты тут со мной танцуешь. Мертвые вообще никогда не воскресают. И это, поверь мне, к лучшему.
Феликс ничего не говорит. Он думает: «Да. Ты конечно права. Извини. Но я не мог не попробовать».
Фрида сочувственно кивает в ответ. Она думает: «Конечно, ты не мог».
– Жалко, что ты с нами не пошел, – говорит своему другу девушка с малиновыми волосами. – Мы сперва просто гуляли, а потом забрели на какую-то улицу, забыла, как называется, там еще такая арка между домами; ну, неважно, если захочу, найду, я дорогу запомнила. И там играл невидимый трубач. То есть, я так и не поняла, где он прятался. И никто не понял. Там с одной стороны глухая стена, без окон и дверей, а с другой – забор из металлических прутьев, за ним обычный двухэтажный дом и двор, засаженный страшными черными трупами прошлогодних подсолнухов. Но во дворе точно никого не было, только толстая трехцветная кошка, и еще старуха выходила ее покормить, но почти сразу ушла. И никаких трубачей.
– Так он, наверное, в том двухэтажном доме и сидел.
– Ну да, больше негде. Хотя звук был такой, как будто он прямо тут, рядом с нами на улице стоит. Только невидимый. И как он здорово играл! Ленка под конец вообще разревелась, и я тоже, но совсем немножко… Вообще никогда такого не слышала – чтобы одна труба так круто звучала. Мы час оттуда уйти не могли, хотя замерзли ужасно. Но все равно стояли, пока музыка не умолкла. Жалко, что ты не пошел. Так было хорошо.
* * *
В Сочельник Феликсу не сиделось дома. Обычно на эти дни он уезжал из города – в горы, или в теплые края, или просто на хутор к дальней родне, все равно куда, лишь бы ехать. В путешествии все кажется не совсем настоящим, и это такое облегчение, что ездил бы и ездил, не останавливаясь нигде дольше чем на два дня. И сам толком не понимал, зачем всякий раз возвращается домой. Неужели только из-за работы? Ой, не смеши.
Но в этом году никуда не поехал. Не захотел пропускать танцы. Только-только вошел во вкус, не время сейчас делать перерыв. Хоть убей, не время.
Но сидеть дома в Рождественский вечер оказалось невыносимо. Вина не хотелось, заранее приготовленные книги нагоняли тоску, кино даже включать не стал, и так ясно, что сейчас не пойдет. Только мандарины шли на ура, но после первого десятка ему надоело их чистить. Помаявшись, стал одеваться. Рассовал по карманам пальто оставшиеся мандарины, решил – съем на ходу. Вышел в совершенно пустой, заново обледеневший после недавней оттепели город и отправился куда глаза глядят.
Глаза в последнее время глядели исключительно в одном направлении. Понятно, в каком. Пока шел на улицу Раугиклос, думал: «Ну и дурак. Рождество – семейный праздник, нет там сейчас никого». Но не сумел даже уговорить себя пойти кружным путем вместо кратчайшего.
Еще издалека увидел, как ярко светятся окна танцевального зала. И уж тогда дал себе волю – побежал.
Фрида была в кухне. Как раз ставила кастрюлю для глинтвейна на электрическую плитку.
Конечно не удивилась. Сказала:
– Вот молодец, вовремя пришел. Мне как раз в кои-то веки позарез нужен мужчина. Желательно, прекрасный, как вечерняя заря; впрочем, это не главное. Лишь бы руки не совсем из задницы росли. Не могу открыть дурацкую бутылку. Слишком редко практикуюсь, вот в чем моя беда.
Сказала:
– Я всегда встречаю Рождество здесь. И никого никогда не приглашаю присоединиться. Но непременно варю глинтвейн, потому что каждый год кто-нибудь да приходит. Сам, без приглашения. Потому что дома стало невмоготу или еще по какой-то причине. Неважно.
Подмигнула:
– И всякому, кто приходит сюда встретить со мной Рождество, я делаю отличный подарок.
– Ого! А у меня только мандарины.
И принялся выкладывать их из карманов на стол. Остановился только когда Фрида сказала:
– Опомнись, счастливчик. В твои карманы никак не могло поместиться полсотни мандаринов. А эта уже пятьдесят первая.
– Извини, я не нарочно. Надеюсь, они все-таки съедобные. А что у тебя за подарок?
– Самый лучший, – сказала Фрида. – Я буду с тобой танцевать. Конечно, я и без всякого Рождества танцую с тобой дважды в неделю. Но сегодня все будет немного иначе, счастливчик. Не совсем то, к чему ты привык. Сегодня мы оба будем танцевать для тебя.
* * *
– Танец бескорыстен, – говорит Фрида. – Не он для нас, а мы для него. Я твержу это чуть ли не на каждом занятии и еще не раз повторю, будь уверен, потому что это важнейшее из правил, не усвоив его, ни к чему путному не придешь. Но любое правило можно чуть-чуть нарушить – изредка. Скажем, раз в год. Например, на Рождество. Поэтому сегодня мы будем танцевать для тебя, счастливчик. Не знаю, к чему это приведет. То есть, ничего конкретного обещать не могу. Кроме одного: все станет немного иначе. И тебе эти перемены, скорее всего, понравятся. Потому что ты не дурак, счастливчик. Совсем не дурак.
– Только не вздумай загадывать желание, – говорит Фрида. – И даже не потому, что это наивернейший способ все испортить. Желание – насилие над реальностью, а мы сейчас стараемся с нею подружиться. Но, кроме того, скажи мне, положа руку на сердце: неужели ты сам знаешь, чего на самом деле хочешь?
«Я-то как раз знаю, – думает Феликс. – Я хочу музыку. Музыку и Лиса, потому что музыки без Лиса не бывает, я не умею быть музыкой без него. Но мертвые не воскресают, поэтому все мои желания можно смело засунуть в задницу прямо сейчас. И просто танцевать».
– То-то и оно, – говорит Фрида. – То-то и оно.
И нажимает кнопку на блестящем корпусе музыкального центра. Говорит:
– Всегда знала, счастливчик, что твой танец – фокстрот.
– Очень легко тебя учить, – говорит Фрида. – Поначалу ты, и правда, двигался как мешок с песком, но уже тогда умел самое главное: дышать в одном ритме с партнером. Я ни слова не сказала тебе про дыхание, ты все сделал сам, мгновенно подстроился под меня, и дело сразу пошло.
«Еще бы я этого не умел, – думает Феликс. – Мы с Лисом всегда дышали как одно существо. Без этого у нас ничего бы не вышло».
– У меня хорошая новость, – говорит Фрида. – Только никому не говори, пусть это будет наш с тобой секрет. Смерти нет, счастливчик, есть только иллюзия, достоверная, как всякий хороший цирковой фокус. Трюкач ныряет в замаскированный люк, а зрители в зале думают, будто он только что исчез навсегда. Смерти нет, счастливчик, и это значит, что вы с Лисом еще не раз сыграете вместе. Только не спрашивай, где и когда, откуда мне знать. Не здесь, не прямо сейчас, это правда. Ну и что. Можно немного потерпеть.
– Смерти нет, – говорит Фрида. – А если она есть, тогда нет меня. Или я, или она – именно так стоит вопрос.
«Ну уж нет, ты совершенно точно есть, – думает Феликс. – Иначе, с кем я сейчас танцую?»
– То-то и оно, – повторяет Фрида. – То-то и оно.
* * *
Когда, допив глинтвейн, они вышли на темную морозную улицу, Фрида сказала:
– Представляешь, в тот день, когда мы познакомились, я еще лица твоего не видела, только спину, а уже придумала, что если десять тысяч раз назову тебя «счастливчиком», это непременно поможет тебе им стать. Очень хочу посмотреть на счастливого тебя. Ужасно интересно, как это будет выглядеть.
Спросил:
– И сколько раз уже назвала?
– Четыреста восемьдесят семь раз, счастливчик. О! Уже четыреста восемьдесят восемь. Запасись терпением, я делаю все что могу.
* * *
Фрида говорит:
– Не грусти, счастливчик, мы еще не раз потанцуем вместе. Но сейчас для тебя пришло время снова начать с нуля. То есть, с другой партнершей. Без моей помощи. Теперь – все сам. Не волнуйся, счастливчик, лично я за тебя совершенно спокойна. И считаю, что все прекрасно получится. Веришь ли ты своим ушам?
Феликс говорит:
– Конечно не верю. Но какая разница. Все равно будет, как ты скажешь. Вне зависимости от того, правильно я расслышал или нет.
Фрида говорит:
– Учитесь у него, дети. Вот как надо льстить педагогу.
Фрида говорит:
– Теперь будешь танцевать с Соней. Соня восхитительна, как звезда Канопус[4]; впрочем, это вполне очевидно и без моих речей. Соня, я уверена, родилась специально для того чтобы танцевать, но тут в Небесной Канцелярии случилась генеральная уборка, папки со списками призваний засунули на самую дальнюю полку, и на какое-то время все безнадежно перепуталось. Потом дежурные ангелы спохватились – лучше поздно, чем никогда! – и теперь Соня с нами. Пользуйся этим обстоятельством, счастливчик. У тебя на первых порах наверняка будут проблемы, ты слишком привык полагаться во всем на меня; твое тело, конечно, все помнит, а вот голова поначалу станет сбивать его с толку. Ничего, справишься, и Соня тебе поможет, не сомневайся. Она восхитительная танцовщица. Она вообще восхитительна – во всем.
Восхитительной Соне скоро исполнится сорок; на свои сорок она и выглядит, но еще три года назад ей можно было дать все пятьдесят. В восхитительной Соне сто шестьдесят сантиметров роста и восемьдесят килограммов живого веса, но она не грустит: три года назад килограммов было, страшно сказать, сто двадцать, и где они теперь.
Впрочем, когда восхитительная Соня танцует, она весит не больше тридцати кило. Конечно, танцуя, нельзя встать на весы, но Сонины партнеры – надежные свидетели, ни один из них не стал бы врать ради пустых комплиментов.
Когда муж восхитительной Сони во время очередного запоя заперся в сарае, намереваясь повеситься, она не стала звать на помощь и взламывать дверь, как не раз поступала прежде, а надела свое единственное более-менее приличное платье и пошла гулять. Впервые за много лет посидела в кафе, впервые в жизни купила себе букет пионов. Вернулась домой поздно вечером, когда все было кончено, а она – свободна.
Восхитительная Соня вовсе не уверена, что поступила хорошо. Но если бы ей дали возможность еще раз сделать выбор, не стала бы ничего менять.
У восхитительной Сони трижды рождались мертвые дети; она твердо знает, что четвертый родится живым. Но, вопреки сводному хору врачей и подруг, предрекающему, что скоро будет поздно, не спешит. Сейчас надо просто танцевать, не только по средам и субботам, а каждую свободную минуту, дома – под старые виниловые пластинки с вальсами, в саду – тихонько напевая под нос. А потом все как-нибудь случится само.
Свободных минут у восхитительной Сони не так уж много: с утра она работает в своем магазине одежды, после обеда – на огороде, а зимой сидит за книгами, получает второе образование – педагогическое, как мечтала с детства.
Восхитительная Соня твердо знает, что ее жизнь только начинается.
* * *
Когда Феликс пробовал танцевать дома, один – сперва, чтобы понять, удалось ли хоть что-то усвоить, а позже ради тренировки и удовольствия – ему достаточно было представить, как ложится на плечо горячая рука Фриды, и все получалось само. Но Соня совсем не походила на Фриду, поэтому во время их первого танца он путался так отчаянно и позорно, что чуть не разрыдался от беспомощности, как маленький.
Соня была беззаботна и великодушна, она не просто прощала ему все ошибки, а вела себя так, словно ей достался самый безупречный партнер во вселенной. Поэтому дела понемногу пошли на лад еще до перерыва, а к концу занятий он чувствовал себя так, словно танцевал с толстой невесомой Соней всю жизнь, и даже не представлял, что может быть как-то иначе.
* * *
Фрида говорит:
– Сегодня танцуем красный. Вита, солнышко, можешь считать, это дружеский намек специально для тебя: когда будешь придумывать новое платье для танцев, шей красное, вот тебе мой совет. Этой весной красный, я знаю, не в моде, но какое дело до переменчивой моды нам, в чьем распоряжении вечность?
Солнышко Вита – миниатюрная блондинка с тонким потерянным лицом доброй феи, внезапно разучившейся колдовать. Солнышку Вите почти сорок пять; к ней до сих пор порой пристают на улице желающие познакомиться студенты и даже старшие школьники, и тут ничего не поделаешь, как говорил папа: «Мелкая собачка до старости щенок».
Солнышко Вита лепит кукол из паперклея, шьет для них кружевные платья. У всех ее кукол есть крылья; у большинства – невидимые. Куклы солнышка Виты так хороши, что за ними приезжают издалека, ждут, сколько потребуется, платят, не торгуясь. Если бы солнышко Вита понимала, что такое будущее, она могла бы считать его обеспеченным. Но солнышко Вита только теоретически знает, что имеют в виду люди, когда говорят о завтрашнем дне. Она умеет пользоваться календарями и даже записывать в ежедневник напоминания о предстоящих делах, хотя чувствует себя при этом немного неловко, словно ее вот-вот поймают на мелком вранье. Жизнь в представлении солнышка Виты – это один бесконечный сегодняшний день.
Солнышко Вита – одна из трех сестер-близнецов. Единственная выжившая при родах. Родители не рассказывали солнышку Вите о мертвых сестрах, и очень испугались, когда трехлетняя дочь заговорила о них сама. Солнышко Вита совсем не хотела пугать родителей и больше не упоминала при них о сестричках, которые живут в чудесном месте, не похожем ни на одну из прочитанных сказок, и время от времени приходят с ней поболтать.
Солнышко Вита, конечно, немного жалела, что не может угостить сестер пирогом, поиграть с ними в прятки и «Эрудита» или поехать к морю большой веселой компанией. Но не огорчалась. Разговоры – это тоже немало. Особенно когда тебе рассказывают такие интересные вещи, каких ни в одной книжке не вычитаешь. Эти истории солнышко Вита потом пересказывала своим куклам; возможно, именно потому у них вырастали невидимые крылья, а в глазах появлялась небесная глубина, пугающая детей и магнитом притягивающая взрослых коллекционеров.
Солнышко Вита привыкла жить среди потусторонних голосов и живых людей, от которых эти голоса следовало во что бы то ни стало скрывать. Она не видела в своем положении большой беды, только некоторое неудобство. Со временем сестрички подросли, научились сдержанности и стали появляться только в отсутствие посторонних. Солнышку Вите, конечно, стало полегче. Но от одиночества, в юности казавшегося единственно возможным вариантом судьбы, отказываться не стала. Привыкла уже. И не хотела ничего менять.
Одну из кукол солнышка Виты друзья подарили Фриде. Несколько дней спустя Фрида отыскала художницу, сказала, что кукла скучает без подруг, а денег, чтобы купить еще одну, нет и не предвидится. Спросила, не согласится ли мастерица поменять любую свою работу на пожизненную возможность бесплатно заниматься бальными танцами. Солнышко Вита так растерялась, что приняла предложение. Впрочем, сестрички оказались чрезвычайно довольны этим обстоятельством, кто бы мог подумать, что им так понравятся танцы. Особенно Фридины. Особенно цветные.
Фрида говорит:
– Сегодня танцуем красный. Вита, солнышко, ты замерзла? Да, очень холодный в этом году апрель. Ничего, сейчас согреешься. И я с тобой за компанию, и вообще все. Танцуем красный.
– Ну, слушай. Можно выдыхать, – негромко говорит в телефонную трубку невысокий широкоплечий мужчина. Голос его звучит спокойно, даже небрежно, лицо закрыто капюшоном, волнение выдает только рука, лихорадочно отстукивающая по бедру какой-то фантасмагорический марш. – Будет у нас фестиваль уличной музыки. И в этом году, и в следующем. В мае, как всегда и было. Ложная тревога, никто нас закрывать не собирался, только попросили на неделю вперед перенести, но это, по-моему, вообще не проблема, афиши мы пока не печатали, а на сайте сегодня же быстренько все исправим… А? Да, я тоже думаю, что к лучшему. Может, хоть немного потеплеет к тому времени. Все-таки очень поздняя в этом году весна, я таких холодов в апреле вообще не припомню.
* * *
Когда Феликс заметил Люси на уличной веранде кофейни, обрадовался, замахал руками, бросился к ней. Давным-давно собирался вызнать номер ее телефона, предложить встретиться – просто так, между занятиями, где угодно, зачем-нибудь. Потому что танцы у Фриды по средам и субботам – это, конечно, почти вся их жизнь. Но есть и еще кое-что кроме танцев. Ну, теоретически, должно быть. Осталось только придумать, что именно. А придумывать лучше вместе.
Чувствовал: Люси будет рада любому его предложению. Но откладывал разговор, потому что больше всего на свете хотел случайно встретить ее где-нибудь в городе, не договариваясь о свидании, не стараясь угадать, по какому графику она живет и какими маршрутами ходит, не выслеживая, не надеясь на встречу, не мечтая, вообще не думая о ней, пока не удастся столкнуться нос к носу – вот в точности как сегодня. Решил: все начнется для нас с нечаянной, необязательной встречи где-нибудь в Старом городе, весной или, может быть, только летом, как повезет. Если, конечно, вообще что-то начнется.
Стоп. Никаких «если». Начнется, и точка.
Добежал. Сел рядом на единственный пустующий, словно бы специально для него оставленный стул. Сказал:
– Ты даже не представляешь, как я рад.
Люси задумалась. Надолго, секунды на три. Наконец, честно сказала:
– Да ну, вполне представляю. Сама рада примерно так же.
Не давая опомниться, проинструктировала:
– Тут надо все заказывать у стойки. Эспрессо у них безупречный и еще миндальный хорош – но это при условии, что ты в принципе любишь латте. Если захочешь меня чем-нибудь угостить, имей в виду, кофе я уже выпила достаточно. Лучше купи персиковый сок в стеклянной бутылочке, я его больше всех свежевыжатых люблю.
Вернувшись с напитками, Феликс сел напротив. Сказал:
– Самое главное вот что. Ты, пожалуйста, запиши мой номер. Вот прямо сейчас. И выучи его наизусть. Если вдруг опять когда-нибудь проснешься там, где вместо нашего зала необъятный простор и швейные машинки, ты мне, пожалуйста, сразу позвони. Вдруг я там все-таки есть? И знаю, где Фридина студия. А если не знаю, поищем ее вместе.
Люси посмотрела на него с нескрываемым интересом.
– Совсем псих, – одобрительно сказала она. – Ты даже хуже, чем я. Теперь точно не пропаду.
* * *
– Фрида, – сказал Феликс, – можешь меня поздравить, я стал персонажем комедии. Даже не так, я и есть дурацкая старая комедия, в самом названии которой сокрыта вся страшная правда про меня.
Фрида непонимающе нахмурилась, но миг спустя хлопнула себя по лбу и расхохоталась.
– «Я люблю Люси»?
– Холмс! Но как?
– Элементарно, Ватсон. О чем ином может свидетельствовать ваш лоснящийся правый рукав и протертое до гладкости сукно на левом рукаве возле локтя?[5]
Внезапно стала серьезной. Спросила:
– И что ты будешь делать, когда она в очередной раз сгинет?
Феликс просиял:
– Так это же самое интересное! До сих пор, по словам Люси, все ее родные и близкие оставались на месте, исчезала только ты и твоя танцевальная студия. А теперь у нее буду я. С одной стороны, тоже близкий и, надеюсь, почти родной. А с другой, я совершенно не намерен пропускать твои занятия. Возможно, из меня получится своего рода мост? А если нет, просто куплю тебе швейную машинку в том магазине на Раугиклос. Который вместо…
– И в городской психушке станет одной свободной палатой меньше, – проворчала Фрида. – Ты меня знаешь, счастливчик. Я очень храбрая. Но если в один прекрасный день я увижу в твоих руках швейную машинку, закричу и убегу прочь.
– Кстати. Сколько раз ты уже назвала меня счастливчиком?
– Семь тысяч ровно, счастливчик… Упс! Моргнуть не успела, а уже семь тысяч один.
– Всего семь тысяч, и уже такой эффект, – восхитился Феликс.
– То ли еще будет, счастливчик. Попомнишь мои слова.
* * *
Фрида говорит:
– Сегодня – сюрприз-сюрприз, незабываемое развлечение. Сегодня меняемся парами.
Фрида говорит:
– Рано радуешься, счастливчик. Немедленно прекрати облизываться и таращиться на всех девочек сразу. Ты бы еще замяукал. А март меж тем давным-давно закончился, май на дворе, и какой же роскошный май!
Фрида говорит:
– Сегодня мальчики танцуют с мальчиками, а девочки с девочками. Ну что ты так на меня уставился, счастливчик? Я же не предлагаю вам всем раздеться догола и вымазать друг друга брусничным вареньем. Хотя могло бы выйти неплохо. Но варенье мы все-таки прибережем к чаю.
Фрида говорит:
– Пока тебе не все равно, с кем танцевать, счастливчик, ты вообще ничего не знаешь о том, что такое танец. Вопреки распространенному мнению, танец – вовсе не прелюдия к сексу. Танец самодостаточен, как любое другое искусство. Даже удивительно, что приходится об этом напоминать. И кому – тебе, музыканту.
* * *
Фрида сказала: «тебе, музыканту». Пропустила прилагательное «бывшему», которое столько лет казалось совершенно необходимым, а теперь, и правда, стало ни к чему.
Какому «бывшему», вы что, с ума сошли.
Покаялся:
– Прости, Фрида. Я просто кривляюсь, чтобы тебя насмешить. И, похоже, переусердствовал. Увлекающаяся, знаешь ли, натура. Богема бессмысленная, что с меня взять.
– Богема бессмысленная, говоришь? Ну, поздравляю, допрыгался, – снисходительно улыбнулась Фрида. И, приподнявшись на цыпочки, уткнувшись теплыми губами в самое ухо, торопливо прошептала: – Девять тысяч девятьсот пятьдесят четыре, счастливчик. То есть, уже девять девятьсот пятьдесят пять. Финишная прямая.
* * *
Фрида говорит:
– Юргис, милый, не знаю, чем ты так страшно согрешил в прошлой жизни. Возможно, поджег сиротский приют, а потом вдохновенно сочинял непристойные частушки, любуясь пожаром с вершины холма. Так или иначе, но пробил час расплаты. Теперь твой партнер – то ли Феликс, то ли Лис, оба счастливчики, каких еще поискать, выбирай любого.
Милый Юргис говорит:
– Зачем выбирать? Беру обоих, и точка.
Милому Юргису сорок семь лет; ему самому иногда кажется, что минимум триста – так много событий, идей, впечатлений и лиц хранит его память.
Милый Юргис – бывший рыбак, сын рыбака и внук множества поколений куршских рыбаков и охотников на ворон. Милому Юргису едва исполнилось двадцать два, когда он нечаянно проглотил какой-то залетный лихой ветер. Три дня и три ночи маялся лихорадкой, а потом встал, оделся, вышел из дома, и его понесло.
Двадцать без малого лет милый Юргис не мог усидеть на месте. Исколесил полмира, перебиваясь случайными заработками и мимолетными дружбами. Плотничал в Ирландии, медитировал в Индии, торговал китайским чаем в России, фотографировал туристов в Турции, водил грузовик в Аргентине, выгуливал чужих собак в Нью-Йорке, был массажистом в Испании, управлял прогулочными катерами в Египте; господи, да чего еще только не делал, обучаясь всему на лету и так же легко забывая.
Ненадолго вернувшись в Литву, случайно попал на уличное выступление музыкантов с гонгами. Увидел тусклый блеск певучего металла, отрешенных людей с мягкими колотушками, услышал густой, низкий, ни на что не похожий гул, закрыл глаза, позволил звуковой волне утащить себя на самое дно теплого сияющего омута, а себе – утонуть, упокоиться на этом дне, как положено рыбацкому сыну. Почувствовал, как его покидает лихорадочный ветер странствий, который милый Юргис давно привык считать собственной сутью. Кто занял его место, и откуда он взялся – об этом милый Юргис предпочитал не особо задумываться. Сказал себе: «Теперь это я, и точка».
Месяц приходил в себя от потрясения, заодно собирал информацию. Наконец снова уехал – недалеко, но надолго. В Польшу, к знаменитому гонг-мастеру Тому Чарторыскому. Учиться. На этот раз учеба шла медленно и туго, даже удивительно, что учитель его не выгнал. Еще поразительней, что сам не бросил, до сих пор ежедневные поражения были ему неведомы. Зато усвоил новые знания прочно, так что и после смерти невозможно будет забыть.
Вернувшись в Вильнюс, стал играть в клубах и на площадях, год спустя открыл собственную студию звукотерапии. И наконец успокоился, как и положено всякому, кто нашел наконец свое призвание.
К Фриде милый Юргис пришел сам. Объяснил: «Слишком далеко улетаю с этими гонгами, того гляди, потеряюсь совсем. Решил, что для равновесия мне нужно что-то совсем простое, понятное, заземляющее. Например, бальные танцы». Фрида долго смеялась, с удовольствием повторяя: «Простое! Понятное! За-зем-ля-ю-ще-е!» Но ученика, конечно, взяла. Не в ее это правилах – сокровищами разбрасываться.
* * *
Фрида говорит:
– Перерыв.
И идет на улицу курить.
Феликс и Юргис сидят на паркетном полу, смотрят друг на друга и хохочут так, что стены дрожат.
– I think this is the beginning of a beautiful friendship[6], – сквозь смех говорит Феликс.
– Да уж, – ухмыляется Юргис. – И учти, теперь нам обоим придется жениться.
– Почему именно теперь? Зачем? И на ком?
– А это как раз все равно. Главное – завести детей и дождаться внуков. И вот когда внуки немного подрастут, настанет наш звездный час: «Познакомьтесь, дети, это лучший друг вашего дедушки. Наша дружба началась с того, что мы вместе танцевали танго». Ради одной этой фразы имеет смысл заморачиваться с женитьбой. Скажешь, нет?
– Еще как имеет, – соглашается Феликс. – Если только в ближайшее время не изобретут более простой и доступный способ производства внуков.
– Например, из бумажных отходов.
– Да лишь бы не из пластиковых. Пластиковым внукам хрен чего объяснишь.
* * *
Фрида говорит:
– Сегодня первое июня. Это значит, что все мы дожили до лета, выполнили домашнее задание, молодцы. А еще это значит, что… Что?
– Латинская программа! – Нестройным восторженным хором отвечают ее ученики. И только счастливчик Феликс растерянно хмурится.
«Ну правильно, – думает Фрида, – латинскую программу он еще с нами не танцевал. Он же пришел только в начале декабря».
«В начале декабря, надо же, – изумленно думает Фрида. – Теперь-то кажется, он был с нами всегда. Впрочем, он и был с нами всегда, просто какое-то время мы все этого не осознавали».
Фрида говорит:
– Иди сюда, счастливчик. Будем опять танцевать вместе. Правда здорово? Лично я уже соскучилась по старым добрым временам, когда таскала тебя по паркету, как мешок с картошкой.
– С песком, Фрида. Я был как мешок с песком.
– Цыц, юноша. Если говорю с картошкой, значит, с картошкой. Я – твой педагог, мне виднее.
* * *
– Отлично получается. Если не хочешь потерять меня как партнершу уже на следующем занятии, тебе следует постараться и проявить больше неуклюжести, – сказала Фрида, когда они вышли на улицу, воинственно клацая портсигарами. – А вот вид у тебя не очень, счастливчик. Ты что, вообще не спишь?
– Очень мало, – покаянно признался Феликс. – Столько всего происходит, Фрида. Столько прекрасного всего! Еще и играю теперь – трижды в неделю в клубе. И в офисе – ночи напролет. Зря смеешься, у нас там есть переговорная с такой звукоизоляцией, хоть кузницу открывай, никому не помешает. Поэтому, собственно, и не бросаю пока эту контору. Деньги – черт с ними, проживу, но где я еще такой репетиционный зал найду, сама подумай. Так что, какими бы бурными не были мои ночи, а вставать приходится по-прежнему в семь утра, и вот это – действительно серьезная проблема. Зато единственная. А я еще хорошо помню времена, когда все было иначе.
– Ай, брось, – рассмеялась Фрида. – Не было у тебя никаких дурацких плохих времен. Просто примерещились.
* * *
– Магия, – говорит Фрида. – Конечно, танец – это магия. Но не та сказочная магия, овладеть которой обычно мечтают люди. Принято полагать, будто магия – это возможность насильственно переделать мир по собственному вкусу, руководствуясь корыстными соображениями, или просто умозрительными представлениями о том, как все должно быть устроено. Это, конечно, полная ерунда, сказки народов мира, младенческий лепет смятенного разума, лично мне совершенно неинтересный.
– Подлинная магия, – говорит Фрида, – органичной частью которой является танец – это умение забыть о себе и чутко прислушиваться к желаниям реальности. Помогать их осуществлению, когда это в твоих силах. И не мешать во всех остальных случаях.
– Наверняка мне известно одно, – говорит Фрида. – Когда мы танцуем, в мире становится больше радости. А радость – идеальный материал для ремонта прохудившегося бытия. И когда в нас ее становится столько, что перехлестывает через край, в ближнем мире латаются дыры, счищается ржавчина и выпрямляются стези. Что именно случится, с кем, где и когда, мы не узнаем. Все к лучшему, не надо нам ничего знать. Мы не благодетели, а облагодетельствованные. Счастье наше столь безмерно и ослепительно, что подробности просто ни к чему.
– Я люблю вас, дети, – говорит Фрида, пока ее ученики чеканят пасодобль. – Всех и каждого, сейчас и всегда. Я люблю вас всю жизнь, сколько себя помню. Моя любовь старше вас всех – кроме, разве что, Арама. Но кто может поручиться, что я не полюбила его – и всех остальных – еще до собственного рождения.
– Моя любовь, – говорит Фрида, – это, конечно, тоже часть магии, ее инструмент и следствие одновременно. Ничего не бойтесь, дети, вы бессмертны, пока не боитесь. Танец – одни из кратчайших путей к бессмертию, потому что танцевать и бояться одновременно невозможно.
– А теперь, – говорит Фрида, дождавшись, когда последние такты пасодобля сменятся первыми звуками самбы, – танцуем белый.
Над июльским городом наливаются сливовой чернотой тяжелые тучи. Хозяйки поспешно снимают белье, отцы выскакивают во двор за разыгравшимися детьми, прохожие вертят головами, пытаясь заблаговременно сделать выбор между ненадежными тентами летних кафе и хрупкими навесами троллейбусных остановок.
Высокий, худой, как дон Кихот, и такой же усатый старик стоит у окна, повернувшись спиной к улице. Его двадцатилетняя внучка сидит на подоконнике. Она специально сбегала на рынок, принесла деду малину, мед и творог, но он опять не хочет есть. И вообще ничего не хочет.
– Когда мы с твоей бабушкой Ириной впервые приехали в Вильнюс, – говорит старик, – было русское Рождество, и падал снег – крупные белые пушистые хлопья, как на открытках рисуют. Твоя бабушка всегда обожала зиму, а мне больше нравилось лето, но с того дня я тоже полюбил снег. Мы любили его вместе, радовались каждому снегопаду. Твоя мама уже была взрослая, а мы все еще бегали в парк кататься на санках, как дети, очень она над нами тогда смеялась. В других городах мне по-прежнему нравилось лето, но снег в Вильнюсе – это был наш общий с Ириной праздник, один на двоих, ежегодный и многократный, отмеренный щедрой рукой.
– Когда Ирина умирала, – говорит старик, – дала честное слово, что непременно пришлет мне оттуда привет. Чтобы я точно знал, что смерти нет, а жизнь бесконечна, и Ирина ждет меня на пороге. Ну или хоть записку там оставила, если невозможно подолгу на одном месте сидеть.
– И я, – говорит старик, – вот уже второй месяц оглядываюсь по сторонам. Все что угодно может быть ее приветом. Облако в форме зайца, клубок цветной шерсти на тротуаре, оранжевые огоньки в небе, старая записка про котлеты в холодильнике, вложенная в книгу вместо закладки. Но я думаю, если бы Ирина и правда передала мне привет, я бы сразу понял, что это он и есть. Не пришлось бы ни гадать, ни придумывать.
– Ну, может быть, надо еще подождать, – рассудительно говорит внучка. – Может быть, там время как-то иначе идет.
Вообще-то, она не верит в приветы из загробного царства. И в жизнь после смерти тоже. Ну как – не верит, просто никогда всерьез об этом не думала. И не стала бы, если бы не дед, которого надо приободрить и утешить. Но как, господи, как?!
– Вчера было сорок дней, а Ирина все молчит и молчит, – говорит старик. – Я, честно говоря, думаю, просто некому слать мне приветы. И неоткуда. Ничего там, девочка, нет. И никого. И нас больше не будет.
– Ты посмотри, что делается, – говорит внучка, и голос ее подозрительно звенит. – Дед! Обернись и посмотри в окно, пожалуйста. Ты только посмотри.
На июльский город падает снег. Крупные белые пушистые хлопья, как на открытках рисуют. Настоящий, холодный, мокрый, совершенно невозможный, но если высунуть руку в окно, можно стать счастливым обладателем многих тысяч снежинок и владеть ими единолично целую четверть секунды, пока не растают.
Жили в шатрах, умывались бисером
Из сборника «Сказки старого Вильнюса»
Приду и скажу: прости меня, дурака. Ты знаешь, на меня иногда находит, тогда в голове горячий туман, в горле дыра, страшная, влажная, черная, в груди осиновый кол, ладони звенят от гнева, себя не помню, так оглушает меня этот звон, а тут еще Лялька дура наврала, будто ей Янжелевский сказал, что ты… Ай, ладно. Что было – было. Нет, не так. Того, что было, не было никогда, и сейчас нет – вообще ничего, а мы еще есть. Хоть где-то да есть хоть какие-то мы, я точно знаю.
Приду и скажу: прости, что так поздно. Просто я сперва бегал по городу, по колено в тумане, по пояс в беде, по горло в собственном гневе, пил без меры, спал на ходу, открывал глаза, видел, как горит под ногами земля, закрывал глаза, видел, как пылает небо над головой, но потом пошел дождь, пламя погасло, я забыл свое имя, зато вспомнил твое, а потом еще улицу, номер дома, парадная на углу, третий этаж, дверь цвета красной охры, я сам ее красил, начитавшись маорийских мифов, заливаясь хохотом, почти всерьез намереваясь уберечь твое жилье от демонов патупаиарехе, белокурых и голубоглазых, которые по ночам выходят из моря, ну чего ты смеешься, я совсем, совсем не похож. Я не демон, я помню твой телефонный номер – шестизначный, короткий, теперь таких нет. Весь вечер не мог дозвониться, но это ничего не значит, у тебя часто не срабатывает звонок, старый раздолбанный аппарат, только и радости от него что оранжевый как апельсин. Обязательно принесу тебе новый, хочешь красный? Или лучше черный? Белый, серый – как веселые гуси, синий как небо, или зеленый – тоже как небо, когда лежишь под водой, мечтая выйти из моря, если наступит ночь. Пожалуйста, выбирай.
Приду и скажу: прости, что без цветов. Сколько раз приходил с ними, а мне говорили, что ты тут больше не живешь. Какие-то чужие люди, мужчина с седыми волосами, связанными в хвост, рыжая женщина с кошкой на руках, славные, наверное, они бы мне еще больше понравились, если бы не твердили полную ерунду, дескать тебя здесь нет, слушать их было невыносимо, а потом однажды соврали, что дом на Йогайлос как будто снесли и как будто построили новый, какой-то дурацкий офисный центр, и охранница спрашивает: «Вы к кому?» – ничего себе вопрос. Поэтому сегодня я без цветов, просто показалось, что цветы теперь плохая примета, зато все остальные приметы добрые, одна лучше другой. Например, сегодня был умопомрачительный закат, девочка в красном платье перебежала мне дорогу и еще три синих автомобиля с одинаковыми буквами номеров – AGA – правильно делаешь, что смеешься, мне тоже стало смешно, а все равно отличная оказалась примета, лучше не бывает, потому что ты дома, и никаких офисов, никаких стеклянных лифтов, никакой охраны, никаких мужчин с хвостами и рыжих кошатниц, а у меня с собой полбутылки темного рома, взял запить неудачу, но и встречу обмыть пригодится, правда?
Приду и скажу: прости, что такие холодные руки. Летом вышел из дома, летом к тебе пришел, но там, на мосту, переброшенном через время, всегда зима, лютая стужа, представляешь, насколько должно быть ниже нуля, ниже скольких абсолютных нулей должна опуститься температура, чтобы время, текучее как вода, замерзло, чтобы переправиться на другой берег, не провалившись в черную мутную полынью, не вынырнув из нее на том немыслимом берегу, где нас уже нет. Чтобы сделать двадцать шагов, по одному на год, двадцать раз, спотыкаясь, упасть, расквасив об ледяное застывшее время локти, колени, губы и лоб, получить наконец вожделенное заражение крови – вечностью, как и хотел. Видишь, с добычей пришел, вены теперь отворю – пей мою вечность до дна, до последнего первого дня.
Приду и скажу: прости, что до сих пор не сумел выдумать нас заново – таких же как были, только совсем других, легких и прочных, звонких от смеха, вызолоченных солнцем, с волосами, мокрыми от лунного света, пляшущих, молчаливых, летящих, длящихся бесконечно, живых. Скольких уже сочинил – не пальцев, ветвей древесных в Роще Оков не хватит пересчитать. Но все это были не мы, пришлось отпустить – с миром, он добрый спутник и верный товарищ всем, кроме нас.
Приду и скажу: нечего тут прощать, некому, да и некого; иди сюда, давай вместе выдумаем нас заново, слепим из масла и войлока, мягких и теплых, глаза из блестящего шелка, кончики пальцев из осколков зеркал. Станут о нас рассказывать: «Жили в шатрах, умывались бисером, в косы вплетали дареные сны, в спорах швырялись звездами, прятали за щеку зимние рассветы, как леденцы, писали длинные письма ветрами по белым пескам; нынче отсюда ушли, но где-то по-прежнему бродят, ночами хохочут под окнами, не о чем горевать».
Краковский демон
Из сборника «Большая телега»
Серебряный демон подбирает свою рабочую хламиду, она у него не просто до пят, а гораздо длиннее, с расчетом на ходули. Осторожно, чтобы не повредить костюм, присаживается на парапет, протягивает мне посох с неулыбчивой серебряной головой – подержи секунду. Не снимая маску, сует сигарету в прорезь для рта, прикуривает, заслонившись от ветра серебряным рукавом.
– Я вырос в Бялобжегах, – говорит он. Забирает у меня посох, рассеянно гладит серебряную голову по гладкому лбу, дружески ей подмигивает и снова поворачивается ко мне. – Это такая паскудная дыра, я тебе передать не могу. Дело не только в том, что захолустье, бывают, знаешь, такие деревеньки – заедешь случайно, и кажется, навсегда бы остался. А Бялобжеги не деревня все-таки, какой никакой, а городок, и не то чтобы на краю света, но там все тоской пропитано. Помню, в детстве выходишь из дома солнечным утром, идешь к реке, трава зеленеет, вода серебрится, ивы плакучие, кувшинки, все цветет, как положено, природа-то в тех местах красивая, кто бы спорил. И вот идешь по берегу, тебе всего восемь лет, впереди длинный летний день, и жизнь теоретически одно сплошное чудо, а все равно такая тоска, даже ребенка прошибает, как будто яд какой-то в воздух подмешан, честное слово, нигде больше такого не ощущал. Ближайший город Радом – ну как ближайший, тридцать километров пилить, на автобусе еще ничего, а на велосипеде умаешься… Тоже, кстати, та еще дыра, только и счастья, что авиашоу проводят, мы в детстве, помню, дождаться не могли, главное событие года, все летчиками стать мечтали, понятно. Интересно, хоть кто-то из нашей компании стал?
Демон с наслаждением затягивается дымом, его спутанные серебряные космы развеваются на ветру, он нечеловечески прекрасен, как и положено демону. Такая у него работа – быть нечеловечески прекрасным по пятницам и выходным, с полудня, и как пойдет.
– Летчика из меня, как видишь, не вышло, – говорит он. – Но из Бялобжегов я сбежал, как только школу закончил. Поступил в политехнический институт в Варшаве, в какой взяли, в такой и поступил, лишь бы остаться в столице. Даже не помню, как мой факультет назывался; впрочем, я там всего полгода маялся, а потом меня позвали сниматься в кино, вот так просто на улице остановили и позвали, представляешь? В итоге ничего толком не получилось, взяли профессионального актера, а я в паре эпизодов снялся, неплохо, кстати, заработал за несколько дней. И на съемках познакомился с девчонками из театрального, обалденные оказались девчонки, у меня таких подружек раньше не было. И они сказали – а давай к нам попробуй, может возьмут, мальчиков всегда не хватает, а ты вроде ничего, способный. Не то чтобы я так уж хотел стать актером, дурная какая-то профессия, мне, кстати, до сих пор так кажется, но девчонки рассказали, какая у них там веселая жизнь, к тому же из политехнического меня бы все равно выгнали. Я, прикинь, сел перед экзаменами свои конспекты читать, а там вместо лекций какой-то гон непрерывный, в стихах и прозе. Ну да, сочинял всякую ерунду от скуки, записывал, чтобы не забыть, а оно знаешь как бывает – увлечешься, ничего вокруг не видишь и не слышишь, какая там лекция… Короче, я сессию даже сдавать не пытался и на пересдачу не пришел, и на вторую, и на третью, а пока все это тянулось, ходил в театральный, сперва к тем девчонкам – ну, вроде, в гости, а потом осмелел, стал в аудитории соваться, на занятиях сидел как бы вольнослушателем, преподаватели меня пускали, я им почему-то нравился, я тогда смешной такой был – длинный, тощий, рыжий, морда еще детская, готовый клоун, может, этим и взял. Так что поступать мне было легко, они ко мне привыкли, некоторые даже удивились, когда я на экзамены пришел, думали, я у них уже учусь.
Серебряный демон метким броском отправляет окурок в стоящую неподалеку урну, берет из моих рук бутылку с минеральной водой и пьет ее через соломинку, чтобы не снимать маску.
– Короче, так я в столице и зацепился. И с тех пор в Бялобжеги ни ногой. Ну как – ни ногой, вру, конечно, раз в год все-таки приходится приезжать, у меня там мама живет. Один мой друг говорит: «У всех нормальных людей Страстная неделя перед Пасхой, а у тебя на Рождество». Но насчет недели это он загибает, я больше трех дней не выдерживаю, зимой там вообще удавиться можно. А маму из Бялобжегов палкой не выгонишь, особенно теперь, когда перебралась из панельного дома в хату с садом и огородом. Хата, правда, совсем паршивая, из всех щелей дует, и крыша течет, сколько уже сил в ремонт вбухала, а все без толку; там, если по уму, не ремонт надо, а спалить халупу к свиньям собачьим и новую строить, но таких денег у нас нет. А ей плевать, ей главное – сад. Всю жизнь мечтала, теперь там с утра до ночи хлопочет, в дом не загонишь. Недавно звонила, хвасталась – фотографию ее сада в интернете вывесили, на городском сайте. Ну да, сейчас у любой поганой дыры свой сайт в интернете – герб на пол-экрана, адрес управы, телефон справочной службы, фотография мэра с Папой или президентом, кому как повезло, список государственных учреждений, еще какая-нибудь фигня в таком роде и обязательно страничка с достопримечательностями. А какие в Бялобжегах достопримечательности. Вот разве только мамин сад. Я зашел в интернет, посмотрел на ее розы и сам, знаешь, невольно подумал: «А хороший, наверное, городок Бялобжеги». Самому смешно, да… Сейчас, извини.
Серебряный демон лезет за пазуху, достает телефон, читает смс, пишет ответ, снова прячет телефон в складках своей хламиды.
– Ну вот, – говорит, – на актера я сам не заметил, как выучился. Веселое было время. А потом стало невеселое, потому что работы – нигде, никакой, хоть убейся. На свадьбах пьянь деревенскую развлекать, и то без связей не устроишься. Да я бы и сам не пошел. И тут мне друг говорит: а поехали в Краков, ты же на бубне стучишь, а я на скрипке умею, там уличных музыкантов любят, может, заработаем. А я что, я всегда готов, хоть в Краков, хоть к черту на рога, тем более, за комнату платить нечем, и девчонка моя с голодухи обратно к маме сбежала, я на нее даже рассердиться толком не мог, все же понятно, но очень переживал. У друга тогда машина была, он про нее говорил: «иномарка», – советские «Жигули», представляешь? Но на ходу. И спать, в случае чего, на сидениях можно, а это лучше, чем на скамейке в парке. Короче, поговорили мы с ним и прямо среди ночи подорвались, поехали в Краков. И приехали рано-рано утром. Сна ни в одном глазу, мы тогда крепкие были, а тут еще и на взводе – кто знает, как все повернется на новом месте? Поставили машину в каком-то дворе, прихватили инструменты и пошли в город. Друг мой сюда часто ездил, а я в первый раз. Ну, я тогда вообще нигде не был, думал, Варшава центр мира – после Бялобжегов-то. Зачем еще куда-то ехать?
На серебряный рукав хламиды садится шмель. Серебряный демон отгоняет его посохом.
– Все-таки, – говорит он, – ужасная у меня манера – рассказывать с самого начала, по порядку. Я, наверное, поэтому роман никак не могу дописать, уже пятьсот страниц, прикинь, правда, четырнадцатым кеглем, но все равно до фига, а к сути только-только начал подбираться, какой-то Томас Манн, прости меня Боже… Я же совсем не о том собирался говорить, но, хоть убей, кажется, если я не расскажу про Бялобжеги и про мамины розы, и про театральный, и как мы с Ежи приехали в Краков на рассвете, шли по Миколайской, и я впервые увидел башни Мариацкого костела, окутанные утренним туманом, это уже будет не моя история, а какая-то куцая байка о чужой жизни. А я так не могу.
Я сочувственно киваю, серебряный демон прикуривает новую сигарету и продолжает.
– Мы как увидели эти башни в тумане, так и шли к ним и вышли на площадь Рынок. Я охренел, когда увидел, какая она огромная. У нас в Варшаве Старый Рынок крошечный совсем, и Замковая площадь ненамного больше. А тут! А еще рано утром, когда она совсем пустая – ну, вообще. Слов нет. И знаешь, так меня проняло, что я стал под Мариацким костелом и говорю вслух, как последний деревенский дурак: «Матерь Божья, ты уж помоги нам, пожалуйста, а то так жрать хочется, что переночевать негде», – и сам смеюсь, и чувствую, что Дева Мария тоже смеется где-то там у себя на небесах, хоть и старая шутка, а с Ней, наверное, мало кто шутит, а может вообще я первый. И Ежи ржет, говорит: «Да ты у нас добрый католик, кто бы мог подумать», – а я отвечаю: «Кофе нам с тобой надо выпить, вот чего». А ты учти, денег у нас – только на бензин, чтобы домой вернуться. Заработаем, или нет – это еще вопрос, так что договорились ни гроша не тратить. Но тут как-то, знаешь, почувствовали – все у нас будет хорошо, чего экономию разводить, тем более, кофе действительно надо выпить, сутки не спали, а работать собрались. Огляделись, все вокруг закрыто, рано же еще. Ежи сказал, на вокзал надо идти, он совсем рядом. И тут я вижу, красивая седая пани в красном платье слезает с велосипеда и открывает ключом дверь бара. И заходит. А дверь осталась нараспашку, и я туда сунулся. Спросил: кофе нам сварите, или еще закрыто? А она вздохнула, точно как моя мама, когда я ее прошу пирожки испечь – вроде как, лень ей хлопотать и недосуг, а на самом деле довольна, что ребенок пирожков хочет – и говорит: «Ладно уж, что с вами делать, сварю».
Я почти вижу, как демон улыбается этому воспоминанию под своей серебряной маской.
– Выпили мы у нее кофе, погуляли еще немного, выбрали себе место, встали, попробовали сыграть, посмотреть, как получится, у нас же только на словах все было решено, а сами даже не репетировали ни разу, мне-то хорошо, стучи себе, как вздумается, а Ежи тот еще великий маэстро, неизвестно когда в последний раз за свою скрипку брался. Но ничего, помучились полчаса, а потом стало получаться, аж самим понравилось. И тут подходит к нам такой древний старичок в шляпе канотье, как из антикварной лавки сбежал, честное слово, и говорит: «Глупые мальчишки, музыку играют, а шапку не поставили, куда грошик положить?» Шапок у нас не было, но Ежи быстро сообразил, протянул деду футляр из-под скрипки, и тот положил нам не грошик, а целых пять злотых, хорошее начало, мы аж в пляс пустились на радостях. А потом как-то сразу люди вокруг появились, туристы на Рынок рано выходят, не знаю, чего им не спится. Музыкантов, кроме нас, еще не было, так что все гроши стали наши, к полудню мы уже чувствовали себя богачами. Купили по кренделю и пошли искать комнату, потому что нет дураков уезжать домой, когда все так хорошо складывается. Сперва сняли каморку на Кармелицкой у какой-то бабки, покормили пару дней ее клопов, а потом пани Гражина – та самая, в красном платье, которая бар открывала, мы к ней с тех пор каждое утро заходили кофе пить, решили, это хорошая примета, рука у нее легкая – так вот, пани Гражина подсказала нам адрес дешевого пансиона на улице Святой Анны, в двух шагах от Рынка. Комнату на двоих мы вполне могли себе позволить, а что душ в коридоре, один на весь этаж, нам тогда казалось роскошью, у бабки-то в тазу мылись, и ничего. Каждое утро ходили на площадь играть, иногда и по вечерам стояли. Сперва все ждали, сейчас кто-нибудь придет с нами разбираться – гнать взашей или за место платить заставят. Но никому до нас дела не было, кроме туристов – постоят, послушают, мелочь кинут, и до свиданья, а нам того и надо.
Серебряный демон с наслаждением чешет спину своим жезлом. Венчающая жезл серебряная голова бесстрастно взирает на нас с высоты своего положения.
– Короче, мы очень неплохо подзаработали за лето. Ежи в августе уехал домой, в Варшаву, а я остался. Мне сейчас кажется, я еще в первый день знал, что останусь, и когда мы шли по Миколайской к Мариацкому костелу, уже по-хозяйски по сторонам глядел – дескать, вот ты каков, мой новый дом, ладно, мне подходит, согласен. И мне, знаешь, все время здесь везло, сейчас вспоминаю, сам удивляюсь. И работу быстро нашел – я имею в виду, настоящую работу, не на площади стоять. В том пансионе, где мы поселились, ночной портье вдруг захотел срочно уволиться, а ему сказали: «Ищи замену, а то не отпустим», – так он сам мне предложил, а я уже с начальством договорился, треть зарплаты деньгами, а остальное – жильем, они из чулана в мансарде пылесос и гладильные доски куда-то вынесли, поставили мне колченогую койку – живи на здоровье. Всего четыре квадратных метра, зато все мои. И окно в потолке, узкое, как бойница – тоже мое. А деньги – что деньги. По сравнению с тем, как я жил студентом, даже треть зарплаты – это было о-го-го. Ну и потом, как Ежи уехал, я к другим ребятам прибился со своим бубном, а когда они разъехались по домам, меня уже местные, краковские музыканты сами позвали. В бубен-то я стучал кое-как, но вид у меня тогда был знатный.
– У тебя, – говорю, – и сейчас ничего себе вид.
– Ну да, – соглашается серебряный демон. – Но это просто костюм. А тогда, прикинь, рыжие волосы чуть ли не до пояса, я, когда шел работать, их в косы заплетал, двенадцать косиц, половина кренделем завернута, половина так болтается. Потом одну косу в зеленый покрасил, круто получилось, сам не ожидал. Главное, что туристам нравилось, все со мной сфотографироваться хотели, а я что, я только рад, лишь бы деньги в шапку кидали. А шапка-то общая, так что ребята очень довольны были, что со мной связались. Поиграли мы с ними какое-то время, а на следующий год вдруг пошла мода на «живые скульптуры», и я решил – дай-ка попробую, может пойдет. И, знаешь, пошло. Кем я только не был – и шутом, и рыцарем, и королем. Можно сказать, сделал карьеру… А этот костюм моя жена придумала – тогда еще не жена, мы только-только познакомились, но глаз на нее я сразу положил. Смотрю, хорошая такая, серьезная девчонка, художница. Она на площадь не картинками торговать приходила, а рисовать, училась еще, диплом как раз готовила. Меня тоже нарисовала, так и познакомились, я ее в бар Гражины повел кофе пить, и пока сидели, она мне этот прикид придумала, сама вызвалась сшить, маску из папье-маше вместе клеили, красили потом всю ночь, вместо того, чтобы целоваться. Я, знаешь, никогда с девчонками не стеснялся, а с Янкой поначалу как школьник себя вел, боялся, что рассердится и прогонит… И в этом костюме дела у меня пошли совсем хорошо. Достопримечательностью стал, не хуже нашего трубача. Иногда бывает, стоишь и краем уха слышишь, как туристы друг другу кричат: «Смотри, Серебряный! Тот самый! Помнишь, Карл рассказывал про Серебряного из Кракова? Пошли с ним сфотографируемся».
Серебряный демон достает очередную сигарету, но не прикуривает, а задумчиво вертит ее в руках.
– Все это ладно бы, – говорит он. – Понятно, что я на этой площади самый эффектный, вне конкуренции, на то и был расчет, не зря моя Янка старалась с костюмом. А прошлой весной случилось кое-что из ряда вон выходящее. Пришел я сюда как обычно, в воскресенье около полудня, переоделся в баре у пани Гражины, мы до сих пор дружим, я у нее в подсобке костюм храню и ходули, повезло мне с ней, а то даже не знаю, как бы я сюда от Велички добирался с этой красотой… В общем, ладно. Вышел я на площадь ровно в полдень, с первыми звуками «хейнала»[7], только-только место занял, как вижу – бегут ко мне две тетки, лет по шестьдесят, толстенькая и тощенькая. Смешные такие, в юбках до пят, на каблуках и в бейсболках, но очень милые. И одна другой по-испански кричит: «Это он, это он!» А я по-испански понимаю немножко, одно время его учил, чтобы Лорку в оригинале читать, очень уж я его любил, и до сих пор люблю, хотя язык, конечно, забросил… Но «это он» с испанского на польский перевести у меня ума хватит. В общем, добежали они, и тут тощенькая – бух на колени. «Спасибо тебе, – говорит. – Спасибо тебе, спаситель мой! Жизнь мне подарил, никогда не забуду», – и ну целовать мой подол. Я чуть с ходулей не навернулся. Ну дела, – думаю, – может, я что-то не так понял? Все-таки испанский слабо знаю. А вторая тетка, толстенькая, сует в мою банку какую-то бумажку и просит: «Погладь меня!» Ну, это обычное дело, я всех женщин и детей, которые деньги в банку кладут, по голове глажу, а мужчинам просто руку жму, знакомые их в этот момент фотографируют, и все счастливы. Так что я ее по голове погладил, конечно. Но фотографироваться они не стали. Тощенькая еще какое-то время причитала о спасении жизни, а толстенькая помалкивала, только глядела на меня, сложив руки как для молитвы, такая трогательная, я ее еще раз по голове погладил, не удержался, и тощенькую тоже, когда с колен поднялась. Я с туристами никогда не разговариваю, такое у меня правило, но этим сказал все-таки, чтобы их успокоить: «Все хорошо, дорогие синьоры, все прекрасно!» Они очень обрадовались и наконец ушли. Я подумал – ладно, чего только не бывает. Потом, ближе к вечеру, когда пошел в бар переодеваться, достал деньги из банки, чтобы с Гражиной расплатиться, а там среди монет купюра в сто евро. Я сразу понял, это толстенькая испанка оставила, больше некому. Удивился – описать не могу. Не дают такие деньги на площади – ни «живым скульптурам», ни музыкантам, вообще никому. Так не бывает. Это просто не принято. Рассказал Гражине, а она, знаешь, так понимающе покивала, и говорит: «Все, мальчик мой, допрыгался, теперь ты у нас новый краковский чудотворец. А что ж, так положено, всегда кто-то должен быть».
Серебряный демон вздыхает и тянется к бутылке с водой.
– С тех пор, – говорит он, сделав глоток, – время от времени среди нормальных туристов появляются такие вот… паломники. Глядят голодными глазами, как на чудотворную икону, жалуются, просят о чем-то, или, наоборот, благодарят, каждый на своем языке, я редко их понимаю, может, оно и к лучшему. И деньги оставляют большие. Сто евро больше никто не совал, но, скажем, сто злотых – обычное дело. Оно, конечно, прекрасно, радоваться надо, а только неспокойно мне. Получается, я вроде как жулик. Никого не обманываю, никому ничего не обещаю, а все равно нехорошо выходит. Гражина слышала у себя в баре разные разговоры, пересказывала мне кое-что. Все, как я понимаю, началось с той тощенькой испанской сеньоры. Она болела сильно, не то сердце, не то еще что, доктора говорили, надо срочно операцию делать, но успеха не гарантировали, и она не решалась под нож идти, кто же хочет на операционном столе умереть, всегда кажется, лучше уж дома, в своей постели. Стала ездить по святым местам, молилась – с переменным, так сказать, успехом, ей то лучше делалось, то опять хуже. И вот приехала она в Краков, а тут я на площади стою. Она поглазела, опустила в банку монетку, я ее, как положено, за руку взял и по голове погладил, и в этот самый момент бедная испанская сеньора вдруг поняла, что все у нее будет хорошо. Не знаю, что на нее нашло. Но вернулась домой, побежала к врачу, и выяснилось, что операция уже не нужна, больная здорова, насколько это возможно в ее преклонном возрасте и, даст бог, еще правнуков понянчит. А она – нет чтобы Деву Марию восхвалять, как следует доброй католичке. Вбила себе в голову, что это я ее по голове так удачно погладил. Поехала обратно в Краков меня благодарить и подружку больную с собой прихватила. Не знаю, что там было с подружкой, но и она выздоровела. Синьоры, ясное дело, всем знакомым про это раззвонили, а те – своим. Ну, знаешь, как рождаются слухи. Одними испанцами дело не ограничилось, понятно. Гражина эту историю от своего русского приятеля слышала, а моя Янка в интернете читала, в блоге какого-то немца, она сейчас немецкий учит, поэтому читает что попало, для развития разговорной речи…
Серебряный демон с досадой отмахивается от очередного шмеля.
– И знаешь, что хуже всего? – спрашивает он. – Я же теперь с этой площади никуда деться не могу. У меня уже нормальная работа есть, на полдня, в букинистической лавке, а пару месяцев назад в театр позвали, пока всего одну роль дали, но вроде хорошо пошло, уже место в постоянной труппе предлагают, а я думаю – куда мне в постоянную труппу, это же дневные спектакли по выходным, и на гастроли придется ездить, а на кого я этих бедняг оставлю? Это, конечно, глупости, никакой я не целитель, просто мальчишка из Бялобжегов, бывший варшавский студент, актер беспутный, шарлатан поневоле, но люди в меня верят и, наверное, от этого выздоравливают, по крайней мере, многие приходят, говорят «спасибо», все руки норовят поцеловать… И получается, я теперь к этой площади на всю жизнь привязан, вот этой самой цепью.
Серебряный демон сердито теребит бутафорскую цепь, которая опоясывает его хламиду.
– Я, собственно, почему тебе это рассказываю, – говорит он. – Ты случайно не хочешь вместо меня тут поработать? Я на тебя сразу глаз положил, как увидел. Потом смотрю, ты уже который день без дела по площади болтаешься, вокруг меня все время крутишься, присматриваешься, а на туриста не похож. Поэтому и позвал поговорить. Мы вроде одного роста и сложения, и глаза у тебя тоже синие, это важно, только их из-под маски и видно. А на ходулях бегать я тебя быстро научу, ничего сложного тут нет, сам когда-то встал и пошел, проще, чем на роликах оказалось… Познакомлю тебя со всеми и насчет жилья, если надо, подскажу, и с Гражиной договоримся, будешь у нее костюм хранить и переодеваться, как я. Ну так как, попробуешь?
Я смотрю на его руки в серебряных перчатках, думаю: смешно получилось. Теперь, пожалуй, уже не имеет смысла просить, чтобы он погладил меня по голове, хотя я, вообще-то, именно для этого в Краков приехал. Раньше, раньше надо было просить, в первый же день, а не круги по Рынку нарезать. Чего, спрашивается, стеснялся? Чего ждал? И чему ты, черт побери, так радуешься теперь, когда рассыпалась в прах твоя последняя нелепая надежда на чудо?
– Интересные дела, – говорю я. – Надо подумать. Работа мне действительно не помешает. И Краков хороший город, я бы тут пожил ближайшие лет сто – двести. Для начала попробуй поставить меня на ходули, а там как пойдет.
Серебряный краковский демон поднимается с парапета и, подобрав длинную хламиду, чтобы не путалась в ногах, неторопливо идет к бару Гражины, где остались его ходули. И я сам поднимаюсь и иду, опираясь на посох, чувствую, как с каждым шагом прибывают силы, голова больше не кружится, мой серебряный балахон хлопает на ветру как парус, бутафорская серебряная голова дружески подмигивает мне, а я думаю, что это, конечно, не дело – разгуливать по городу в костюме, но без ходуль, позорище, больше никаких перекуров посреди рабочего дня, никогда.
Из лоскутков, из тряпочек
Из сборника «Ветры, ангелы и люди»
Шел, потому что если упасть лицом в снег, ничего не изменится, только станет мокро и холодно, еще холодней, чем так.
Не останавливался, потому что понимал: если вот прямо сейчас я настолько раздавлен и безутешен, каково мне придется, когда вместо того, чтобы внимательно смотреть под ноги, загляну в свою темноту, где воет и мечется жалкое перепуганное существо, которому недолго осталось, которое скоро уйдет насовсем, заберет меня вместе с собой, потому что оно – это я.
Не оглядывался по сторонам, потому что невыносимо видеть разрумянившихся от мороза, предвкушающих скорое Рождество, веселых, здоровых, а значит почти бессмертных туристов и жителей города Хельсинки, куда приехал, сказав Машке: «Просто открыть визу», – а на самом деле, конечно, чтобы отвлечься, не думать, не кидаться на стены в ожидании приговора. И действительно вполне прекрасно провел здесь целых два дня. И еще примерно треть третьего, пока приговор не был оглашен из телефонной трубки, как и договаривались, после обеда, во вторник двадцатого декабря.
Никогда прежде не молился, в храмы заходил изредка, из любопытства, как экскурсант, поэтому полагал, что сейчас не стоит и начинать: если Бога нет, все равно не поможет, а если все-таки есть, не хотелось бы напоследок выглядеть в его глазах трусливой, истеричной и, к тому же недальновидной свиньей, которая поднимает визг только на пороге бойни – где ты, дура, раньше была? Язык бы не повернулся взмолиться об исцелении, да и глупо просить того, в кого не веришь, о невозможном. И только для себя одного.
Все это не то чтобы всерьез обдумывал, но как-то без дополнительных размышлений понимал, даже когда услышал собственный шепот из той темноты, куда не был пока готов заглянуть целиком: «Кто-нибудь всемогущий, если Ты где-нибудь есть, сделай со мной хоть что-нибудь вот прямо сейчас».
В другой ситуации порадовался бы блестящей формулировке – идеально честная молитва агностика, не придерешься. Но сейчас было не до того. Усилием воли заставил себя заткнуться. Пошел дальше, зачем-то свернул, перешел дорогу, чуть не угодив под трамвай, или только показалось, будто опасность была близка, а на самом деле чертов зеленый трамвай спокойно стоял на своей остановке, хрен разберешь, когда двигаешься как во сне сквозь синие городские сумерки, праздничные огни и густой мокрый снег, тающий на щеках и стекающий за воротник вместо слез, которыми горю, будем честны, не поможешь.
Потом снова куда-то свернул. И тут же сложился практически пополам, потому что ветер теперь задул прямо в лицо и оказался не просто холодным, а ледяным. Поутру в прогнозе погоды жителям Хельсинки обещали южный ветер во второй половине дня, и как же жаль, что веселого человека, способного посмеяться над подобным несоответствием названия и сути, больше нет, остался только термос, в который его налили при рождении, раньше времени вышедший из строя дурацкий сосуд, ржавый, дырявый, больше не способный держать тепло, уже почти пустой, содержимое льется на тротуар – вот прямо сейчас.
Ладно, с другой стороны, чем хуже, тем лучше. Этот невыносимый ветер в лицо – дополнительная возможность еще какое-то время не думать о смерти, как киношная сигарета перед казнью, милосердная отсрочка на целых пять минут, или сколько я смогу так идти. И на том спасибо, могло бы не быть даже ледяного южного ветра, мало ли что обещали синоптики, они у нас нынче почти как Бог, никто в них не верит, и я тоже.
И я.
Почти ослеп от горя, ветра и мокрого снега, но шел, не останавливаясь, даже шагу прибавил, насколько это было возможно, снова перешел дорогу, ведомый зеленой звездой светофора, и как-то внезапно чуть не угодил в котел. То есть натурально налетел бы на раскаленный котел, булькающий и дымящийся если бы его не подхватили чьи-то милосердные руки в количестве примерно полудюжины штук, и тогда, конечно, пришлось все-таки остановиться и оглядеться по сторонам. Ничего не поделаешь.
В первую секунду почти всерьез подумал, что попал в ад. И как-то даже, надо сказать, обрадовался. Потому что – ну все-таки жизнь после смерти. Не полное небытие. И самое главное, я уже тут. Без больниц, без мучений, без всей этой тошнотворной агонии – раз, и в аду! Невероятная удача. Наверное, меня все-таки сбил тот зеленый трамвай? Ни черта не помню; впрочем, оно и к лучшему.
А потом проморгался и понял, что пришел не в ад, а просто на ярмарку. И даже узнал место – это же Эспланада! Ярмарка тут вообще круглый год, не только на Рождество, просто сейчас стало гораздо больше: товаров, людей, фонарей, костров и котлов с едой – всего.
Потом осознал, что его уже довольно давно о чем-то расспрашивают – те самые добрые люди, которые не дали рухнуть в адский котел. Сперва говорили по-фински, но быстро перешли на английский. Заставил себя вслушаться. Ничего особенного: «Что с вами случилось?» – и прочие вежливо-встревоженные реплики в таком роде. Надо бы ответить: «Спасибо, все в порядке», – и быстро, быстро бежать отсюда, куда угодно, лишь бы не оставаться здесь. Рождественская ярмарка не самое подходящее место для человека, готового рыдать от разочарования, узнав, что она – не ад.
Но из задуманной речи получилось только: «Спасибо», – да и то так тихо, что сам себя не услышал. А потом мешком осел на утоптанный снег – не обморок, просто ослаб, настолько, что даже в пылающей голове не осталось мыслей, кроме одной, зато очень здравой: «Какой тебе ад, дурак. Сначала надо отдать Кашу Лёвке. Машка ее совсем не любит, терпит из-за меня, и это взаимно. Нельзя их вдвоем оставлять. А Лёвка в Каше души…» Додумывать фразу до конца: «…не чает», – не стал. И так понятно. К тому же, под нос ему сунули дымящуюся керамическую кружку, такую горячую, что обжегся первым же глотком. Но напиток оказался настолько вкусным и словно бы изначально, чуть ли не с младенчества желанным, что не смог оторваться, пил, закусывая снегом, кажется, прямо с земли. Или все-таки с ближайшего прилавка? Сам не понял, откуда его зачерпнул.
Кажется, это называется «глёги». В Швеции «глёг», а тут вроде бы так.
Пока вспоминал название напитка и бормотал «спасибо, спасибо» на всех мыслимых языках, кроме почему-то повсеместно употребляемого английского, его подхватили под мышки и куда-то поволокли. Как оказалось, просто помогли убраться с дороги. Усадили на какой-то мешок, прислонили спиной к столбу. Кто-то произнес слово «врач», и это вернуло если не силы, то разум. Оскалился, пытаясь изобразить подобие благодарной улыбки. И английский сразу вспомнил как миленький. По крайней мере, «окей» и даже «ай эм файн». И потом уже щебетал, не умолкая, словно бы многократно повторенное «окей» было общеизвестным и действенным заговором, предотвращающим появление «Скорой Помощи».
Ну, во всяком случае, на этот раз заговор помог, доброжелательные спасители удовлетворенно закивали и разошлись прежде, чем успел спросить, кому заплатить за глёги. Или хотя бы вернуть опустошенную кружку – кому?
В поисках ответа на этот вопрос огляделся по сторонам. Прилавка с напитками поблизости не обнаружил. Зато увидел Ее.
Именно так, «Ее» с большой буквы. Потому что это, безусловно, была женщина его мечты. Вернее, мечты того любителя необычайных зрелищ, которым он был до телефонного звонка из клиники.
Во-первых, она была великаншей. То есть даже сейчас, сидя за прилавком на ящике, для тепла укутанном одеялами, казалась чуть выше среднего человеческого роста, и заранее страшно подумать, что будет, если встанет на ноги. Навес головой точно снесет.
Во-вторых, предполагаемый возраст ее лежал в диапазоне от, скажем, пятидесяти до примерно трехсот. Впечатление резко менялось от ракурса и освещения. Вот повернулась, придвинувшись к фонарю, подвешенному над головой, и перед нами совсем еще не старая блондинка, румяная от мороза и ветра, скуластая и сероглазая, каких здесь много. Вот наклонила голову к пылающим на прилавке свечам, и сразу ясно, что волосы у нее не белокурые, а седые, и морщины кажутся слишком глубокими для обычного срока человеческой жизни, и глаза уже не просто светлые, а выцветшие от времени, прозрачные, как вода, приглядись получше, и увидишь, что лежит на их дне. Если, конечно, там вообще хоть что-то еще лежит.
В-третьих, и гигантский рост, и переменчивое лицо женщины меркли в сравнении с ее нарядом. Уж насколько щедра на сюрпризы местная уличная мода, а ничего подобного до сих пор не видел. И дело вовсе не в меховых сапогах, украшенных разноцветными лентами, пуговицами и брошками. И не в широченной юбке, явно сшитой из кусков старых пледов и одеял. И даже не в ярко-зеленой шубке из искусственного меха, надетой поверх розового пуховика. Штука в том, что, кроме всей этой красоты, был еще один слой, что-то вроде мантии с капюшоном или плащ-палатки, в общем, просторный балахон, целиком сшитый – составленный, сложенный, сконструированный, даже непонятно, каким словом назвать процесс его изготовления – из тряпичных игрушек, кукол, птиц и зверьков. Это наглядное пособие для желающих осторожно, соблюдая технику безопасности, заглянуть в глаза хаосу было небрежно накинуто на плечи великанши и укрывало от холода не только ее, но и довольно большой участок земли вокруг.
Примерно такие же тряпичные игрушки грудами лежали на прилавке, защищенные от непогоды не только навесом, но и прозрачной пленкой. В руках женщины тоже была игрушка, рыбка, сшитая из пестрых лоскутов. Вернее, рыбка была в одной руке, а в другой иголка с ниткой. Мастерица пришивала игрушке оранжевый пуговичный глаз. Но отвлеклась от работы, чтобы внимательно рассмотреть нового соседа.
Поглядела, озабоченно нахмурилась. Заговорила по-фински. Увидев, что он ничего не понимает, удрученно покачала головой и принялась оглядываться по сторонам, вероятно, в поисках переводчика. Но подходящей кандидатуры не нашла. Попробовала справиться сама. Несколько раз повторила по-английски: «нот окей», делая упор на «нот». Вдруг провела ребром ладони по горлу и уставилась на него с такой яростью, словно и правда собиралась зарезать – вот прямо сейчас, посреди ликующей ярмарки, в присутствии сотен свидетелей.
Подумал, она сердится, что расселся под ее навесом, велит уходить. Сам бы, честно говоря, рад, да вот ноги все еще как ватные, и поди ей это без языка растолкуй. Но великанша вдруг ласково заулыбалась, погладила по голове и снова заговорила по-фински. Слезла с ящика, опустилась рядом на корточки. Похлопала ладонью по земле, потом стукнула по ней кулаком, и этот жест оказался неожиданно понятным: «сиди тут, как прибитый». Сбросила на землю свою невозможную сложносочиненную мантию, вылезла из-под навеса и тут же растворилась в синей, огненной, снежной ярмарочной мгле. Действительно огромная, явно выше двух метров. И комплекции соответствующей, как говорится, «крепкого сложения». Подумал: «Господи, натурально же троллиха, по идее, в этих краях они как раз должны водиться». А потом закрыл глаза и не думал ни о чем.
Даже не надеялся на такую передышку.
…Великанша вернулась довольно быстро. И не одна. Привела с собой румяную от мороза синеглазую толстуху в радужном войлочном кафтане, больше похожем на короб, малиновой плиссированной юбке поверх серых вельветовых штанов и вызывающе разных валенках – желтом и голубом. Из-под вязаной шапочки в форме мышиной головы с ушками выбивались морковно-рыжие кудри. Хельсинская уличная мода, благослови ее, боже. Тут сойдешь с ума и не заметишь.
Отличный, кстати, вариант. Даже лучше ада.
– Меня зовут Анна, – сказала рыжая на чистом русском языке. – Туули попросила меня перевести.
Сказал зачем-то:
– Боже, как же вы правильно говорите! Вообще без акцента.
– Это неудивительно, – усмехнулась Анна. – Я из Петрозаводска. А как вас зовут? Это не я любопытствую, это первый вопрос Туули. Ей, если честно, лучше отвечать, когда спрашивает. Она… Она у нас такая.
Сказал:
– Юрий.
И поразился тому, какой фальшивой нотой прозвучало его вроде бы настоящее, не выдуманное, в паспорте записанное имя. Как будто соврал.
Великанша, присевшая рядом на корточки и внимательно вглядывавшаяся в его лицо, помотала головой и что-то сказала по-фински. Рыжая перевала:
– Туули спрашивает, как вас называют дома? И как называли в детстве? Должны быть еще какие-то имена.
Зачем-то послушался, стал перечислять:
– Юрка, Юрочка, Юрчик, Мурчик. Длинный – так в школе дразнили, теперь трудно поверить, но когда-то был выше всех в классе, а потом остановился и остался среднего… да, это уже неважно. А, еще Жесть – тоже школьное прозвище, производная от фамилии. А бабушка, папина мама, почему-то называла Жорка, хотя…
– Сорка! – твердо сказала великанша Туули. И повторила: – Сорка.
Смешно как выговаривает. Как маленькая. Однако именно в ее исполнении детское имя, которым его уже много лет никто не звал, почему-то село как влитое. Было бы ботинком, купил бы, не раздумывая.
– Сорка! – Туули дернула его за рукав, привлекая внимание. И затараторила по-фински.
Рыжая Анна слушала ее, приоткрыв рот – не то от удивления, не то просто от усердия, стараясь запомнить. Наконец, перевела.
– Туули говорит, что за тобой – учтите, это она с вами так внезапно на «ты» перешла, а не я – охотится смерть. Я понимаю, что для вас это звучит довольно странно, но Туули – она такая…
Перебил:
– Не надо объяснять. Она угадала. Все правда. Охотится. Смерть. То есть, даже не охотится, а уже поймала. Прижала лапой, как кошка птичку. Думает теперь, как дальше будем играть.
Удивился тому, как легко выговорилось слово «смерть». Легче, чем собственные прозвища и имена. Теперь бы еще умереть так же легко, как выговорилось. Но на это шансы, прямо скажем, невелики.
Великанша меж тем продолжала что-то увлеченно рассказывать, легонько похлопывая его то по плечу, то по колену – может, демонстрировала дружеские намерения или просто не давала отвлечься и задуматься о своем.
– Туули говорит, что может сшить куклу – вместо тебя. В смысле, куклу, которую смерть согласится взять вместо тебя… вместо вас.
– Что?! Какую куклу? Как – сшить?!
– Ну как, – невозмутимо ответила Анна. – Как обычно шьют кукол. Из лоскутков, из тряпочек…
– Ис лоскутеп, ис трьапосек, – повторила за ней великанша. И вдруг рассмеялась звонко, неудержимо, как ребенок, принялась твердить на все лады: – Ис лоскутеп, ис трьапосек! Ис лоскутеп, ис трьапосек!
И стала теребить рыжую, требуя, видимо, перевести так насмешившие ее слова. Та сказала. Великанша достала откуда-то из-под одежды блокнот, карандаш и принялась записывать.
– Говорит, ей пригодится русских покупателей веселить, – объяснила Анна.
И так бывает. Думаешь, дурдом на выезде, а на самом деле, создание новой эффективной рекламной кампании происходит вот прямо у тебя на глазах.
Великанша тем временем дописала, спрятала блокнот, снова стала серьезной и заговорила.
– Туули предлагает так, – принялась переводить рыжая. – Она сделает очень хорошую куклу. Но ты сам должен отдать куклу смерти. И искать свою смерть тоже будешь сам, Туули с тобой не пойдет. Но подскажет, с чего начать поиски. Идет?
«Да идите вы на хрен, дуры психованные», – вот что ответил бы на этот бред еще совсем недавно. И ушел бы прочь, стараясь как можно скорей выкинуть из головы идиотский эпизод, слишком нелепый, чтобы пересказывать его потом другим, как забавное недоразумение, слишком неприятный, чтобы вспоминать самому.
А теперь сказал:
– Я сейчас вообще на все согласен, лишь бы хоть на пять минут поверить, что не умру. В смысле, что умру не прямо сейчас, не в ближайшие месяцы, а когда-нибудь потом, очень нескоро, как все нормальные люди.
Удивительно, каким покладистым становится человек после оглашения смертного приговора. И вокруг него сразу никаких психованных дур, а сплошные добрые феи с высшим шаманским образованием. В любую чушь готов поверить и еще быть благодарным, что не пришлось сочинять ее самостоятельно.
Великанша хлопнула его по колену и сказала:
– Хювя!
Ну или что-то в таком роде. По интонации понял, что это одобрение. Потом вступила переводчица Анна:
– Туули говорит, хорошо. Вы посидите тут, пока она будет шить куклу. Это не очень долго, часа два… Правда, вы успеете совсем замерзнуть, это не дело. Надо ей сказать.
Великанша послушала, покивала, подняла с земли свой немыслимый, сшитый из тряпичных игрушек плащ и накинула ему на плечи. Подоткнула со всех сторон, пискнуть не успел, а уже был укутан, как младенец. Так хорошо, что поздно сопротивляться.
– Я пока пойду, – сказала рыжая. – У меня тут своя торговля, а муж один плохо справляется, там уже наверное такая очередь собралась! Потом вернусь, когда надо будет еще переводить. Может, вам поесть принести? Я куплю, мне совсем не трудно.
Покачал головой:
– Еды не надо. А вот если сможете купить мне кружку глёга…
– Глёги, – кивнула Анна. – Конечно! Сейчас принесу. Нет-нет, не нужно денег. Вы сейчас под нашим с Туули присмотром, как младенец, которого мать ненадолго у нас оставила… Не знаю, как вам объяснить. Но с младенцев денег не берут, это всем ясно.
И убежала, не слушая возражений, а минуту спустя вернулась с пластиковым стаканом. Не стала давать в руки, поставила рядом на землю. Сказала:
– Осторожно, очень горячий. Я-то в перчатках, а вы-то нет!
Вышла из-под навеса и исчезла, словно не было никакой переводчицы Анны, рыжей, толстой, в радужном войлочном коробе-кафтане и разноцветных валенках. Приснилась, примерещилась. Просто такой уж сегодня ветер, такой тут снег, такие яркие ярмарочные огни и столько людей – немыслимо! Вот ведь психи, нет чтобы сидеть по домам в такую погоду. Сам бы сидел, если бы не вся эта дурацкая затея с поездкой в Хельсинки, неудавшимся побегом от смерти, которая, если что, и по телефону позвонить не постесняется. В заранее назначенное время, голосом Санвикентича, Лёвкиного соседа по даче, врача – можно я не буду уточнять его специализацию? Хотя бы сейчас, наедине с собой промолчу.
Взял стаканчик с глёги – надо же, до сих пор горячий. Выпил залпом почти половину и чуть не поперхнулся – очень уж крепкий! Явно разбавленный ромом как минимум пополам. Честно говоря, именно то что надо.
Великанша Туули обернулась, одобрительно пробормотала «хювя» и снова вернулась к работе Вспомнил: она же вот прямо сейчас шьет куклу, которую я смогу обменять на смерть… тьфу ты, обменять смерти на свою шкуру, всучить вместо себя – господи, как же чудесно это звучит! И можно верить этому дурацкому обещанию очень долго, целых два часа или около того, пока удивительная огромная старуха, персонаж какой-то неизвестной, не прочитанной в детстве народной сказки мастерит мне новую жизнь – «ис лоскутеп, ис трьапосек», из всего, что есть под рукой.
Допил глёги, закрыл глаза. И то ли задремал, то ли просто расслабился так, что шевельнуться не мог. Сквозь сон слышал, как Туули переговаривается с покупателями по-фински, иногда называет цены на ломаном английском, шуршит бумагой, пакуя товар. Слышал, как она думает, обращаясь к нему: «Не беспокойся, я о тебе не забыла, шью твою куклу, такую работу можно прерывать, и молчать, пока шьешь, не обязательно, это совсем простое ярмарочное колдовство». И сам думал в ответ: «А я и не беспокоюсь».
Проснулся как-то очень внезапно, буквально за миг до того, как вернулась рыжая Анна. Или все-таки именно она и разбудила, дернув за рукав: «Пора! Пора!»
Что пора, куда пора? Ах, ну да, заснул же прямо на ярмарке. Сидя на земле, вернее, на мешке, но все равно. Укутанный в абсурдную накидку из кукол, зайцев, ежиков и медвежат. «Ис лоскутеп, ис трьапосек», черт бы их побрал. Конечно пора! Вылезать из-под этого дикого, но такого теплого покрывала, подниматься и уходить.
– Сорка! – сказала старуха-великанша, хлопнув его по колену. Потом положила огромную руку на плечо толстухи: – Анна!
И, убедившись, что привлекла внимание обоих, заговорила.
Рыжая переводила. Голос ее звучал спокойно и отстраненно, но глаза были полны тревоги. Как будто боялась, что он в любой момент может ее стукнуть, чтобы прекратила молоть ерунду.
Зря боялась, конечно. С человеком, приговоренным к смерти, очень легко договориться, если пообещаешь ему хоть какой-то намек на жизнь.
– Теперь тебе надо уйти с ярмарки, – говорила Анна. – Пойти – но не домой, в смысле, не в гостиницу, а гулять. То есть, не просто гулять, а искать свою смерть. Она сейчас где-то здесь, в городе, совсем рядом. Ты у нее новая игрушка, ей интересно быть поблизости. Следить за тобой, наблюдать. Развлекаться. Не у всех людей смерть так себя ведет, но твоя – именно так. Такой уж у нее характер. Похож на твой. Туули говорит, характер всегда похож, поэтому свою смерть с чужой никогда не перепутаешь.
Подумал: «Если это правда, мне крышка. Всю жизнь думал, что у меня отличный характер. Я действительно люблю развлекаться. Со мной интересно, со мной весело, сколько раз это слышал, да и сам знаю. Но черт, если бы меня заранее предупредили, что такой же характер будет у моей смерти, постарался бы воспитать в себе совсем другие качества. Стал бы флегматичным и милосердным… нет, еще лучше придумал – невыносимым прокрастинатором, вечно откладывающим неотложные дела на самый последний момент, до тех пор, пока не станет ясно, что браться за них уже поздно, и можно просто лечь спать. Карьера, безусловно, накрылась бы медным тазом – и черт с ней. Зато жить можно было бы бесконечно долго. И с возрастом поправить дела, получив наследство от бездетных правнуков…
– Сорка, – строго сказала старуха. – Сорка!
Это явно означало: «Не отвлекайся».
– Туули точно не знает, где именно надо искать твою смерть. Но может попробовать подсказать. Она спрашивает, был ли ты сегодня в опасности. Не обязательно в большой, можно в маленькой. Может быть, где-то поскользнулся, упал. Или человек мимо пробегал, толкнул. Или улицу переходил, а там машина…
– Трамвай!
Сперва выпалил, а уже потом вспомнил – и правда, был же зеленый трамвай. Чуть не угодил под него. Ну или просто показалось, неважно. Или важно?
Спросил:
– А если на самом деле этот трамвай стоял на месте, и опасности не было? Мало ли что мне с перепугу померещилось. Это считается?
Анна перевела вопрос, Туули энергично закивала и что-то затараторила.
– Важно только то, что ты сам счел трамвай опасным, – сказала Анна. – Помнишь, где это случилось? Сможешь туда вернуться?
Задумался, припоминая свой давешний маршрут. Наконец уверенно кивнул:
– Найду.
– Тогда вернись туда и немного постой на рельсах, вспоминая, как чуть было не попал под трамвай. Вспоминай свой страх. Потом иди на ближайшую трамвайную остановку. Дождись трамвая такого же цвета как тот, который тебя напугал. И ехать он должен в том же направлении. Войди в него и оглядись. Среди пассажиров будет твоя смерть. Просто не может ее там не быть.
– И как я ее узнаю?
– Понятия не имею, – вздохнула Анна. – Но Туули говорит, не было до сих пор такого, чтобы человек собственную смерть не узнал.
Ладно. Не было так не было, договорились. Хорошую сказку вы мне рассказываете, девочки. Жаль только, что я очень устал. Нет у меня больше сил вам верить. Закончились.
Старая великанша вдруг ухватила его за плечи и как следует встряхнула. Крикнула сердито:
– Сорка!
Это подействовало. По крайней мере, силы сразу откуда-то появились. Если не верить этим безумным теткам, то хотя бы внимательно их слушать. Уже хорошо.
Туули тут же заулыбалась. И вложила ему в руки тряпичную куклу.
Очень странная у нее получилась кукла. Те, которые лежали на прилавке – милые аккуратные безделицы, довольно скучные, хоть и сшитые из разноцветных лоскутов. Скорее украшение интерьера, чем настоящая игрушка, такие обычно не дают детям, а кладут на подушки или сажают на диван, как символ простоты и смирения с домашним уютом.
А кукла, которую держал сейчас в руках, походила на работу юного художника-авангардиста, очень талантливого, но пока неумелого. Изумительно точное сочетание ярких и блеклых цветов, но при этом перекошенное туловище, кривые ручки и ножки, нитки торчат отовсюду. И несоразмерно огромная голова с тусклыми глазами-пуговицами и третьим, явно зрячим, открытым нараспашку, не пуговичным, а вышитым. И не на лбу, где обычно рисуют третий глаз, а на лысой макушке, уставился оттуда прямо в небо.
Хороший ход. Смешной.
И бархатная роза на животе, примерно в том самом месте, где… Ох, нет. Не надо об этом думать. Не сейчас.
– Когда ты узнаешь свою смерть, дашь ей эту куклу, – переводила толстуха. – Вернее, не дашь, а всучишь, это более точное слово. Если понадобится, силой. Если смерть не станет брать игрушку, положи ей на колени или в карман засунь, да хоть за пазуху. Скажи: «Забирай вместо меня!» На любом языке, это все равно. А потом беги. Что хочешь делай, важно одно: чтобы смерть не догнала тебя и не вернула куклу, потому что второй раз этот номер уже не пройдет.
– Сорка, – ласково сказала великанша. – Сорка, окей! – и добавила еще что-то по-фински.
– Туули говорит, все у вас получится, – объяснила Анна. – Я тоже очень на это надеюсь. И хочу еще немножко добавить от себя. Я же примерно представляю, как дико все это для вас выглядит – Туулина кукла и разговоры про смерть в трамвае. Вы наверное думаете, она совсем спятила. И я с нею за компанию, если уж все это перевожу. Так вы знаете что? Думайте о нас что хотите, на здоровье. Спятили так спятили. А куклу все-таки не выбрасывайте. И до трамвая доберитесь, пожалуйста. И выберите там пассажира, который хоть немножко похож на смерть. Ну хотя бы капельку, условно, теоретически. И отдайте ему куклу. Как-нибудь уговорите взять, придумайте что-нибудь. Обязательно! Потому что лично для меня все это тоже совершенно абсурдно звучит. Но я много лет знакома с Туули. И точно знаю, что ее надо слушаться. До сих пор еще никто об этом не пожалел, начиная с меня. А ведь мне по ее совету сутки на дереве пришлось сидеть, когда муж после аварии в реанимацию попал. Поздней осенью! Без телефона, без новостей. Совсем извелась, и врачи меня обыскались, когда Матти в себя пришел. Не знала потом, как объяснять им свое поведение. Но главное – Матти-то выздоровел, как новенький теперь. Из-за того, что я как дура сутки на дереве сидела? Не знаю. Честно говоря, совсем не уверена. Но если завтра у меня опять что-то стрясется, и Туули велит для исправления ситуации бегать голышом по Эспланаде, я разденусь как миленькая и побегу. На всякий случай. А вам даже штаны снимать не надо. И на дереве сидеть никто не заставляет. Я хочу сказать, вам досталось довольно простое задание. Такое можно выполнить даже если совсем не веришь.
Невольно улыбнулся, представив, как толстая Анна карабкается на дерево, а потом сидит на ветке – в этой своей плиссированной юбке и радужном войлочном армяке, пестрая и нелепая, как сбежавший из зоопарка гигантский павлин. Похоже, великанша Туули знает толк в развлечениях. Правда, очень смешно.
Сказал:
– Спасибо, что рассказали про дерево. Теперь мне будет проще послушаться Туули. Если уж так удачно вышло, что я – не первый такой дурак.
– Затем и рассказала, – улыбнулась Анна. – Потому что сама на вашем месте была. И примерно так же себя чувствовала – вроде бы, на все готова, лишь бы хоть как-то делу помочь. А с другой стороны, такую глупость сделать велят. Такую невероятную, нелепую глупость! Умереть, кажется, проще, чем уговорить себя ее совершить.
Повторил:
– Умереть проще.
И понял, что нет, вовсе не проще! Лучше уж совершить тысячу самых дурацких глупостей, чем умирать. Даже если о твоих выходках подробно расскажут все мировые газеты и три миллиона новостных сайтов в интернете выложат видео на потеху всем соседям, родне и друзьям. А шансы на это, скажем прямо, невелики. Машка – и та не узнает, если, конечно, сам не разболтаю.
Сказал:
– Нет, умереть все-таки гораздо труднее. Конечно. Пойду искать этот чертов трамвай. Спросите, пожалуйста, у Туули, сколько я должен за куклу.
Почему-то был почти уверен, что сейчас придется отдать великанше все наличные деньги. И заранее не знал, как пережить грядущее разочарование. Деньги – черт с ними, по карманам и сотни евро не наберется, остальные на карточке, и вряд ли у Туули есть терминал. Но трудно, ох, как же трудно будет потом отделаться от мысли, что все это был хитроумный маркетинговый прием. Как продать подороже грошовую куклу? Да очень просто – объявить ее волшебным талисманом. Популярный и широко известный метод, Туули не первая и не последняя. Боже, как жаль.
Но великанша только рассмеялась, хлопнув себя по ляжкам, а потом и их с Анной по плечам – за компанию. Что-то сказала и снова рассмеялась.
– Туули говорит, кукла – это подарок на Рождество, – перевела Анна. – Не вам, а вашей смерти. Она у вас симпатичная, как и вы сами. И наверняка хорошо себя вела весь год.
Вернуться на улицу, где его чуть не сбил трамвай, действительно оказалось несложно. Вроде, шел, не разбирая дороги, а оказывается автопилот записал весь маршрут и был готов повторить его в любую минуту.
Шел очень быстро, благо ледяной южный ветер дул теперь в спину, не препятствовал, а помогал, подгонял. Свернул за угол даже раньше, чем успел задуматься: «А не пора ли мне поворачивать?» И практически сразу вышел на широкую улицу с трамвайными рельсами, пока совершенно пустыми, хоть танцы устраивай. Остановка была совсем рядом, пошел было туда, но спохватился: Туули велела постоять на рельсах и вспомнить, как испугался. Если уж решил выполнять самую идиотскую в мире инструкцию, будь точен – просто для равновесия. Безупречно или никак.
Ну что, постоял, побоялся. Вернее, вспомнил давешний испуг, скорее даже просто выброс адреналина, сотрясший тело, ум-то был занят совсем другими страхами, только с бухгалтерским равнодушием отметил: «Надо же, как близко этот трамвай».
Потом все-таки пошел на остановку и принялся ждать.
Раньше почему-то думал, все трамваи в Хельсинки зеленые, но оказалось – нет. Первым приехал синий как майское небо, почти сразу за ним – ярко-красный, с призывной надписью «Паб». Вспомнил даже, что читал о таком в интернете, решил не искать специально его остановку, но обязательно сесть прокатиться, если сам случайно попадется на глаза. И вот, гляди-ка, действительно приехал и долго стоял, дразнил распахнутыми дверями, теплом и светом, звоном бокалов и веселыми голосами чужих незнакомых людей, вероятно здоровых, а значит почти бессмертных – в отличие от меня. Вот о чем не следует забывать, когда почти готов поддаться искушению, махнуть рукой на дурацкую куклу и вскочить в уютный вагон, погулять напоследок, потому что это же действительно самый последний шанс, завтра поезд – как бы домой, а на самом деле, мы все понимаем, куда идет этот поезд, и как называется конечная станция, да? Ладно, ладно, молчу.
Наконец красный трамвай-паб обиженно тренькнул и тронулся с остановки. А следом за ним приехал зеленый – не сразу, но более-менее вскоре. Минут пять спустя. Остановился, но почему-то не открыл двери, и в этот момент вдруг стало так страшно, как еще никогда в жизни не было, страшнее, чем отвечать на телефонный звонок из клиники, страшнее даже, чем завершив разговор с врачом, класть телефон в карман.
«Трамвай приехал, спасение рядом, но двери! Закрыты, не войти, шанс упущен, чудесное спасение отменяется», – примерно так выглядел безмолвный внутренний вопль в переводе на внятный русский язык. И только тогда понял: «Господи, да я же очень серьезно играю в эту игру. Как будто поверил каждому слову ярмарочной старухи. Получается правда, поверил? Похоже на то».
Водитель трамвая, вагоновожатый, как их называли в детстве, с недоумением косился на странного пассажира – вроде топчется у самых дверей, а не заходит. Хотел заорать: «Дурак, ты забыл открыть мне двери!» – но тут наконец сообразил, что должен сделать это сам. Просто нажать кнопку, расположенную снаружи, сто раз уже это делал, во многих странах городской транспорт устроен именно так. И вдруг забыл. Господи, как же глупо. Но хорошо хоть в последний момент вспомнил, нажал, вошел, успел.
Успел. Что дальше-то? В таких случаях обычно говорят: «хороший вопрос». Но вопрос, будем честны, нехороший. От такого вопроса в глазах темно, и как же это не вовремя, потому что именно сейчас смотреть надо очень внимательно. И не себе под ноги, а на лица немногочисленных пассажиров. Кто-то из них – твоя смерть. И моли бога, чтобы этот кошмар, который и сформулировать-то сейчас невыносимо, сбылся для тебя. Оказался правдой. Потому что если все эти люди – просто жители города Хельсинки, едущие по своим делам, тебе хана.
Огляделся, конечно – а куда деваться. И убедился, что великанша Туули была права, когда говорила: «Не было до сих пор такого, чтобы человек собственную смерть не узнал». Ошибиться и правда невозможно.
Ошибиться невозможно хотя бы потому, что эту фигуру в синей куртке с прикрывающим большую часть лица капюшоном, видел уже не раз. И всегда почему-то в трамваях. Впервые в детстве, года, что ли, в четыре. И так громко ревел, так вопил от ужаса, так упрямо тянул мать к выходу, что порвал ее новенький плащ. А она так расстроилась и растерялась, что впервые в жизни ударила по щеке, да так сильно, что не устоял на ногах. Как теперь выясняется, правильно сделала, по крайней мере, на всю жизнь запомнил эту безобразную сцену и заодно образ врага, мужчину в синей куртке с большим капюшоном, почти без лица, самого обыкновенного, самого страшного в мире дядьку – поди такое кому-нибудь объясни даже в сорок лет, не то что в четыре года.
Потом еще несколько раз встречал его в трамваях, почему-то всегда в «шестерке», сколько ни ездил другими маршрутами. И еще один раз в Одессе, когда был там в отпуске и ехал с друзьями с пляжа, от парка Шевченко, кажется, в двадцать восьмом. Конечно, сразу же выскочил, объяснив: укачало. В этом смысле очень хорошо быть взрослым, даже перед лицом иррационального смертного страха всегда найдешь что соврать.
И вот теперь в Хельсинки. Ну, привет.
Сразу мог бы догадаться, кого мне высматривать в зеленом трамвае. Однако, надо же, даже не вспомнил. Удивительная штука память, этакий шкаф на курьих ножках, который поворачивается задом то к лесу, то к тебе самому исключительно по собственной воле. И какой частью усвоенной информации можно воспользоваться прямо сейчас, решаешь совсем не ты.
Стоял, смотрел на фигуру в синей куртке. Думал: «Куклу он, конечно, брать не захочет. Такого поди заставь. Значит, остается один вариант: нужно дождаться остановки, кинуть куклу ему на колени и выскочить. Главное – кнопка! О кнопке в последний момент не забыть, а то не откроется дверь. Он… этот… короче, Смерть скорее всего погонится за мной, чтобы вернуть куклу. И наверняка тоже успеет выскочить, местные вагоновожатые никогда не захлопывают дверь перед носом зазевавшегося пассажира, и это, в кои-то веки, плохая новость, наши лютые питерские водилы в этом смысле куда надежней, но ладно, работаем с тем, что есть. Все, что мне остается – выскочить из трамвая и бежать, не оглядываясь. И тогда, может быть, убегу. Или скроюсь в каком-нибудь баре, или ворвусь в магазин, затеряюсь в толпе, заползу под прилавок. Или, кстати, полиция – совсем неплохой вариант. Спрячусь за спину первого же полицейского, буду кричать, что на меня напал тип в синей куртке, пусть защищает. В общем, можно рискнуть. Вернее, иначе нельзя.
Прошел через салон, остановился рядом с этим… безликим, в куртке. Короче, и так ясно, с кем. Тот, надо отдать ему должное, не обратил вообще никакого внимания – мало ли кто тут ходит. И можно было бы усомниться, да не выдумал ли я это все, включая свой детский испуг и рыдающую от растерянности маму, если бы не сила притяжения незнакомца – не какая-нибудь «харизма», а настоящее физическое притяжение, наверное так чувствует себя железка в опасной близости от магнита, когда понимает: «Ой, батюшки, я сейчас поползу». Вцепился в поручень, выстоял, не грохнулся всем телом на колени пассажира в синей куртке, не уселся на ручки собственной смерти, и на том спасибо, такой молодец.
Стоял на расстоянии вытянутой руки, терпел из последних сил, думал в ужасе: «Господи, как же я от него убегу?» Но когда трамвай затормозил у очередной остановки, действовал решительно и так четко, как будто уже сто раз репетировал эту сцену. Достал из кармана тряпичную куклу, швырнул ее в лицо своей смерти, вернее, под капюшон. Крикнул на весь салон: «Забирай вместо меня», – а потом зачем-то добавил, уже потише: «Это от Туули. Подарок на Рождество за хорошее поведение».
Хотел было развернуться и побежать к выходу, но застыл, не в силах двинуться с места. Понял: вот и пропал. А этот в синей куртке вдруг рассмеялся, да так заразительно, что в иных обстоятельствах стал бы хохотать вместе с ним, не разбираясь, в чем, собственно, соль. А так просто беспомощно слушал, как смеется – не то его смерть, не то все-таки просто пассажир хельсинского трамвая, поди разбери.
Так бы и стоял небось столбом не то что до следующей остановки, а вообще до конечной, но тут тип в синей куртке повернулся к нему, сверкнул из-под капюшона веселыми глазами, совершенно человеческими, только оранжевыми как огонь, сказал по-русски, совсем без акцента, как толстая Анна на ярмарке: «Да не бойся ты. Я ж не идиот – от рождественских подарков отказываться».
Уже потом, выскочив все-таки из трамвая, убедившись, что нет никакой погони, переведя дух, подумал: «Вообще-то, сразу мог бы сообразить – если у смерти действительно мой характер, с ней довольно легко поладить, удивив или рассмешив».
Присел на лавку на остановке – ноги совсем не держат, а ведь еще собирался удирать от погони, такой оптимист. Посмотрел вслед отъезжающему трамваю, на всякий случай огляделся по сторонам – вроде бы никого. Закрыл глаза и подумал: «Спасибо, милая Туули, милая Анна. Хотел бы я принести вам теперь подарков на Рождество. Сейчас посижу немножко и что-нибудь непременно придумаю. И заодно соображу, как отсюда добраться до Эспланады. Надеюсь, вы пока там, ярмарка не закончилась, рано еще совсем, часа наверное не прошло с тех пор, как мы расстались».
Но вместо того, чтобы встать и идти, задремал. Вернее, даже крепко заснул. Потому что как еще объяснить, что, когда открыл глаза, вокруг было светло как днем. Ну, то есть, условно светло, на самом-то деле серо. Но серо – это и есть «как днем», иного освещения в полдень в конце декабря на севере не дождешься.
Оглядевшись, понял, что находится не на улице. И даже не в гостинице. А дома, в спальне. Ничего себе номер.
– Ничего себе номер, – сказал вслух, когда дверь отворилась и в спальню вошли Машка с Кашей.
Причем удивило его даже не столько Машкино появление, сколько тот факт, что кошка преспокойно сидела у нее на руках, не предпринимая попыток вырваться. Прежде Каша Машке даже гладить себя не особо позволяла. Да та и не рвалась. Неприязнь их была взаимной и, слава богу, что сдержанной. «Ты меня не трогаешь, я тебя не замечаю», «Я тебя кормлю, ты ко мне не лезешь», – вот и договорились.
И тут вдруг такая любовь.
– Да уж, ничего себе номер, – повторила Машка. Тоном, не предвещавшим ничего хорошего.
Ну или просто так показалось. Потому что когда засыпаешь на трамвайной остановке в центре города Хельсинки, а просыпаешься у себя дома, довольно легко предположить, что в промежутке между этими двумя событиями поместилось еще несколько, вполне способных вызвать некоторое недовольство ближних. Особенно если ближний – Машка, обладающая ангельским характером. В смысле, характером падшего ангела, так он всегда ее дразнил.
Сказал:
– Учти, я понятия не имею, как тут оказался. Последнее воспоминание: я сижу на трамвайной остановке и соображаю, как добраться до Эспланады, где Рождественская ярмарка. И все!
– Ну, судя по всему, до ярмарки ты благополучно добрался, – вздохнула Машка. – А где еще ты мог так наклюкаться, что даже на поезд опоздал?
– Наклюкался? Я?! Опоздал на поезд? Немыслимо. Так не бывает.
– Я тоже думала, что так не бывает. С кем угодно, но не с тобой. Тем не менее, факт остается фактом. Телефон ты отключил еще три дня назад…
– Три дня назад?! Господи, а какое сегодня число?
– Двадцать третье. А на звонки ты перестал отвечать двадцатого. Я, наверное, понимаю, почему. И даже рассердиться на тебя за это толком не могу. Ладно, ничего, в итоге Александр Викентьевич позвонил мне. Не смотри так, плохих новостей не будет. Он сказал, что лечить тебе надо исключительно голову, в противном случае, мне придется еще долгие годы жить с невменяемым психом, не способным даже вовремя зарядить свой идиотский телефон. И бросил трубку. По-моему, Александр Викентьевич здорово обиделся. Не знаю, как ты теперь будешь с ним мириться, и очень рада, что это не моя проблема.
Хотел перебить, сказать: «Вы все дружно сошли с ума. Ну или только ты. Санвикентич звонил мне двадцатого, сразу честно сказал: «Максимум – полгода», – и как раз после этого разговора я…»
Но промолчал, потому что… Неважно. В общем, правильно сделал, что промолчал.
– Поэтому, – сказала Машка, – все двадцатое декабря я рыдала. Сперва на радостях. А потом, после нескольких сотен попыток тебе дозвониться, уже от ужаса. Потому что, понимаешь, самые хорошие в мире анализы совершенно не спасают от несчастных случаев и других катастроф, которые, будем честны, могут произойти с кем угодно, абсолютно в любой момент. И я все время думала, как же это обидно, если с тобой что-то случилось именно сегодня, когда наконец стало ясно, что все хорошо, и можно жить дальше. В общем, как-то примерно так. А ты, конечно, свинья.
Кивнул:
– Я свинья. Но учти, я такая интересная разновидность свиньи, которая только что была совершенно уверена, что двадцатое декабря – это у нас сегодня. В самом крайнем случае – ладно, вчера. При условии, что я до утра проспал на той остановке, что само по себе совершенно немыслимо, холодно же, ветер и снег… Но куда делись еще два дня?
– Это тебе виднее, – вздохнула Машка. – Я знаю только, что поездом ты вчера не приехал. И пока я думала, не пора ли обращаться в какой-нибудь международный розыск, и пыталась выяснить, с чего начинать, тебя благополучно привезли.
– Привезли?
– Ага. В грузовике. Какая-то милая пара – она русская, он финн. Ехали в Питер, везли в магазинчик ее родителей какой-то товар и подобрали тебя недалеко от границы, где ты ловил попутку. Сказали, ты был так прекрасен, что просто невозможно такого не подвезти до самого дома. Они тебя еще и внесли – прямо на четвертый этаж. И кротко спросили, куда можно положить.
– Я был прекрасен? Это в каком смысле? Настолько пьян?
– Пьян – это само собой, судя по чудовищному перегару. Но думаю, они имели в виду твой наряд.
– Что за наряд?
– Словами не описать. Сейчас покажу.
Усадила Кашу на постель и вышла из комнаты. Кошка, прежде обожавшая хозяина с истинно собачьей страстью, сейчас не спешила ластиться. Сидела, внимательно разглядывала, осторожно принюхивалась, как будто успела забыть… Да ну, чушь какая – «забыть»! А то прежде никогда из дома не уезжал. И почти на месяц случалось. И все было в порядке, сразу лезла на руки, мурлыкала, как заводная.
Хотел спросить кошку: «Правда, что ли, не узнаешь?» – но почему-то постеснялся. Только пробормотал неуверенно: «Кашенька», – и замер, испугавшись, что она сейчас вообще удерет. Но в этот момент Каша вдруг торжествующе мякнула и решительно полезла под одеяло – исполнять свою прямую обязанность, греть хозяйский бок.
Ну слава богу, признала. Значит я – это все-таки я.
А что, были сомнения?
Сомнения, чего уж там, были. Но они все разом вылетели из головы, когда в спальню вернулась Машка. И вовсе не потому, что Машка прекрасней всех на земле, хотя, конечно, случается с ней порой и такое. А потому что она – не принесла даже, а натурально приволокла что-то вроде огромной мантии с капюшоном или плащ-палатки, сшитой из тряпичных игрушек, кукол, птиц и зверьков. Туулин балахон, господи твоя воля. Ис лоскутеп, ис трьапосек. Откуда ему тут взяться? А с другой стороны, откуда тут взяться мне?
То-то и оно.
А все-таки хорошо, что добрался тогда снова до ярмарки, разыскал великаншу Туули и рыжую Анну, завалил их подарками, обнимал, целовал румяные от мороза щеки, пил «за здоровье», а потом за скорое Рождество, за Туули, Анну, Матти и «Сорку», за «хювя» и «окей» – сперва на Эспланаде, под смех гуляющих, потрескивание костров и жизнерадостный визг расстроенного аккордеона, а потом на палубе катера, мчавшего куда-то их пеструю компанию сквозь вой ледяного южного ветра. Или это был не катер, а сам южный ветер? Да кто ж теперь разберет.
Конечно, перебрал с непривычки. А кто бы на моем месте не перебрал.
– Ты хоть что-нибудь помнишь? – сочувственно спросила Машка.
Уселась на ковер рядом с постелью, посмотрела жалобно, снизу вверх, как ребенок. Повторила:
– Помнишь хоть что-нибудь?
Времени на обдумывание больше не оставалось. Знал: как скажу, так и будет, мне выбирать.
Ладно.
Сказал:
– Помню только, что от страха совсем съехала крыша, и я отключил телефон. Пообещал себе, что через пару часов наберусь храбрости, снова включу и позвоню Санвикентичу сам. Пошел прогуляться в сторону Эспланады, где ярмарка. Выпил там глёги – это же вроде совсем не крепко. Но сразу так попустило, что повторил. А потом… А вот что было потом, друг мой Машка, я совершенно не помню. Помню только, что все забыл.
– Ну и черт с тобой, – вздохнула Машка. – Забыл так забыл, главное, что живой. И это, к счастью, надолго.
Sweet Plum
Из сборника «Книга предложений»
Когда я сказал: «Поедем автостопом», Лара и бровью не повела. Зато утром, когда я подогнал к подъезду древний «гольф» цвета разлитой ртути, вздохнула почти разочарованно:
– Так и знала, что врешь про автостоп.
– Это, увидишь, будет самый настоящий автостоп. Программа такая: мы едем, едем, едем в далекие края до тех пор, пока что-нибудь не сломается. Потом полдня кукуем на обочине, ждем доброго самаритянина, который дотащит нас на буксире до ближайшего автосервиса; пока машину чинят – осматриваем окрестные достопримечательности. Чем серьезней поломка, тем больше успеем увидеть. Правда, я здорово придумал?
– Ничего себе лотерея. А вдруг не сломается? Тогда, что ли, так и будем ехать без остановок, как глупые дураки?
– Ну да, к последнему морю. Но это, знаешь, маловероятно. Машина восемьдесят шестого года.
– Практически ровесница фараонов.
– Вот именно. Причем я, судя по всему, первый владелец, который не испытывает к ней лютой ненависти. Во всяком случае, мой предшественник, добрейшей души человек, в жизни ни с кем, кроме телевизора, не поругался, – так вот, даже он бил это бедное животное ногами за малейшую провинность; говорил, что хуже уже все равно не будет. Он, скажу тебе по секрету, заблуждался. Хуже теоретически возможно. Но маловероятно, чего уж там.
– Да, это меняет дело. Автостопом ехать любой дурак может. А такой экстрим только для крутых рейнджеров и законченных придурков вроде нас.
– Вот и я так рассудил. Тем более что эту бедолагу не жалко заправлять богомерзкими отходами алхимических опытов, которые в причерноморских степях выдают за бензин.
– Вот. Это уже как-то похоже на правду, – ухмыльнулась Лара. – Ты – скупой и расчетливый буржуа, прикинувшийся романтическим вагабондом. Я это предвидела; скажу больше, в глубине души я на это надеялась. Только, чур, вести будем по очереди, – почти сердито добавила она. – Я тоже желаю насладиться этим увечным железным телом.
– От таких великодушных предложений, Лариса Сергеевна, настоящие джентльмены в здравом уме не отказываются. – И я проворно распахнул перед ней водительскую дверь. – Чур, ты первая. Я еще не проснулся.
Лара просияла. Немного повозилась с креслом, подвигала его туда-сюда, поправила зеркала, медленно вырулила на подъездную дорожку, попятилась, пробуя заднюю передачу, умиротворенно вздохнула: «Ладно, будем считать, разобрались», – и мы поехали.
Это путешествие я замыслил еще зимой, обнаружив, что дела не дают мне улизнуть от московской слякотной стужи. Вообще-то, до сих пор я предпочитал полагаться в таких делах на импровизацию, но зимние ночи почти бесконечны, а сладкие планы на будущее лето – самое эффективное и безвредное снотворное, от такого времяпровождения даже похмелья не бывает, поэтому я успел распланировать свою «крымскую кампанию» до мельчайших деталей. Решил, что это будет долгое, неторопливое путешествие на древней помойке, которая за долгие годы небезупречной службы приобрела в семье прежнего владельца статус родового проклятия. У этой археологической редкости было одно неоспоримое преимущество перед любым другим доступным мне транспортным средством: в случае чего, ее абсолютно не жалко, так что и тревожиться не о чем. Недостаток комфорта – невысокая плата за безмятежность, по крайней мере, для человека вроде меня, чуть ли не от рождения наделенного сомнительным даром заранее просчитывать и предупреждать все возможные неприятности. Дрянная машина, драные штаны и минимум наличности – вот залог полноценного отдыха, мне так всегда казалось.
Разобравшись с приоритетами, я сочинил примерно трехкилометровый плей-лист, выбрал две дюжины книг для пляжного чтения, после некоторых колебаний мысленно положил в рюкзак камеру, маску, ласты и две пары темных очков или даже три, потому что одну из них я непременно потеряю на третий примерно день, а вторую – ближе к концу отпуска. Составил дивное дорожное меню: гора бутербродов с сыром, идеальная еда для путешествия, чем дольше лежат они на жаре, тем вкуснее становятся. И сливовых самокруток надо будет навертеть побольше, про запас, чтобы не останавливаться потом на обочине ради каждого перекура. И лайм заранее выдавить в каждую бутылку с водой, и два литровых термоса с кофе, непременно два, потому что я прожил очень долгую жизнь, целых тридцать шесть лет, и твердо знаю: один литр кофе – это катастрофически мало.
В феврале ударили лютые морозы, а работы у нас с Мишелем прибавилось, так что даже в Египет какой-нибудь на неделю сбежать от холодов не удалось, и мне понемногу стало казаться, что все эти прекрасные штуки – лето, Одесса, Кинбурнская коса и Крым, даже расплавленные солнцем бутерброды с сыром – существуют только в моем воображении. Но я твердо знал, что, если вера моя будет крепка, они своевременно материализуются, сбудутся и превзойдут все ожидания, как бывало уже не раз.
А еще через месяц, в марте, я познакомился с Ларой, и это событие, как принято говорить в таких случаях, перевернуло мою жизнь, но в планы на лето оно не внесло никаких изменений, кроме разве что числа бутербродов и термосов. Даже плей-лист перекраивать не пришлось, наши музыкальные пристрастия полностью совпали, а на такую удачу я, честно говоря, рассчитывал куда меньше, чем на возможную встречу с инопланетянами, в скорое пришествие которых окончательно перестал верить еще в девятом, кажется, классе.
Сцепление полетело на окраине Одессы, где я в любом случае планировал задержаться. Вообще, это прискорбное происшествие с самого начала подозрительно смахивало на удачу: не прошло и минуты, как у меня за спиной появился ангел-хранитель, смуглый, седой и неопохмеленный. Ангел назывался дядя-вася, в кармане его ветхих штанов небесной флейтой заливался древний мобильный телефон «Моторола» весом в добрых полтора кило, а в телефоне задушевно материлось дяди-васино земное начальство. «Тихо, ша, – снисходительно говорил начальству наш ангел, – слушай сюда, у меня тут клиент на иномарке, с шикарной дамой, так что хватай какой-нибудь канат и давай до нас». Мы с Ларой опомниться не успели, как оказались в автосервисе, откуда нашего ангела-хранителя уже давно грозились выгнать взашей за пристрастие к богемному образу жизни, да так и не собрались – на наше счастье. Вознаградив дядю-васю комком мятых гривен, а его усталого, но обнадеживающе трезвого начальника авансом и обещанием приплатить за срочность, я закинул на плечо полупустой рюкзак с чистым бельем и зубными щетками; в ближайшем раскаленном киоске мы обзавелись подробной картой местности и отправились к морю, скупая все персики и помидоры на своем пути, счастливые, замурзанные, хлюпающие соком великовозрастные балбесы, идеальная пара, ничего не скажешь.
Если верить карте, до моря было сантиметров пять, не больше, однако мы шли целых два с половиной часа, палимые бледным от злости послеполуденным солнцем. Но вместо усталости испытывали только нарастающее возбуждение и азарт, словно бы на берегу нас ждали не ребристые топчаны и убогие пляжные шалманы, а как минимум парадный вход в волшебную страну. Наконец пришли, рухнули на раскаленный песок, перевели дух, переглянулись и одновременно рассмеялись – от полноты чувств.
– Слушай, – сказал я после того, как мы, заново рожденные, мокрые и обессиленные, вышли из моря. – Я тебя сейчас разочарую, причем два раза подряд. Переживешь?
– Это пойдет мне на пользу, – заверила меня Лара. – А то что-то я в последнее время какая-то чересчур очарованная, добром это не кончится.
– Будем надеяться, это вообще ничем не кончится. Ни добром, ни злом – в смысле просто не кончится, и все.
– Конечно не кончится, еще чего не хватало. Давай, разочаровывай, не томи.
– Во-первых, я вовсе не такой прекрасный романтический придурок, каким стараюсь казаться. А скучный, предусмотрительный хмырь. Все это время делал вид, будто мы несемся на крыльях судьбы навстречу неведомым приключениям, а сам решил, что в Одессе надо будет задержаться дней на пять, и заранее договорился насчет жилья. Здесь отличные квартиры-гостиницы, по-моему, полгорода этим бизнесом живет. Нас ждет однокомнатная квартира с огромной кухней, на тихой улице, до моря десять минут пешком, белые стены, синий потолок и такие же синие простыни, пропахшие лавандой, – я почему знаю, я там уже останавливался в декабре, когда по делам сюда ездил, и в прошлом году весной тоже; в общем, это совершенно неважно, главное – место проверенное, тебе понравится.
– Ну, честно говоря, я так и подумала, что у тебя все схвачено. Так что, если хочешь меня разочаровать, осталась еще одна попытка. Но, боюсь, ничего не получится.
– Зря сомневаешься. Надо верить в безграничные возможности человека. Я, видишь ли, плохо рассчитал дату прибытия. Все с самого начала складывалось подозрительно удачно: ты согласилась подменять меня за рулем, мы так и не заглохли посреди степи, очередь на границе была меньше, чем обычно, нас даже за превышение скорости ни разу не остановили. В итоге мы с тобой приехали почти на целые сутки раньше. Квартира освободится только завтра в полдень. И где мы будем ночевать сегодня, я, честно говоря, пока не понимаю. Можно, конечно, позвонить Ольге, в смысле хозяйке, вдруг предыдущие жильцы раньше уехали. Она этих квартир штук десять сдает или даже больше. А если у нее ничего нет, обзвоню гостиницы, тут на карте, видишь, реклама с телефонами… Но надо понимать, что шансов у нас почти никаких. Начало августа все-таки.
– Ты давай звони, – поразмыслив, сказала Лара. – Хозяйке и вообще всем. Свободный номер в разгар сезона – так, конечно, не бывает. Но мало ли. А в случае чего, пойдем на вокзал. Там бабушки.
– Бабушки, – задумчиво повторил я. – На вокзале. Бабушки, значит. – И тут меня наконец осенило: – А, с картонками?
– Ну да. Мрачный клоповник по сходной цене, специально для неприхотливых пассажиров плацкартных вагонов. Ничего, одну ночь продержимся как-нибудь. Я так точно буду спать как убитая, с нежностью прижимая к груди самого крупного клопа, как плюшевого мишку.
– Ужасы какие ты рассказываешь, – вздохнул я и потянулся за телефоном.
Предчувствия меня не обманули. Ольга, высоко ценившая меня за редкую для ее постояльцев готовность самостоятельно заменять перегоревшие лампочки и феноменальную непригодность к хищению хозяйской туалетной бумаги, чуть не плакала, но ничем не могла помочь: нынешние жильцы раньше завтрашнего утра с места не двинутся, а остальные квартиры заняты до конца августа, и ее собственный дом, как назло, под завязку забит родственниками, даже в садовой беседке спит племянник из Новосибирска. Обещала расспросить коллег и перезвонить, если что-то найдется, но на это я, честно говоря, не слишком рассчитывал. На ее месте я бы и сам трижды подумал, прежде чем постоянного клиента к конкурентам отправлять: а вдруг мне там понравится?
Обзвон гостиниц тоже ни к чему не привел. Лара тем временем доплыла до волнореза и теперь бродила туда-сюда, по воде аки посуху, то и дело поворачиваясь лицом к берегу и приветственно размахивая руками – для меня. Но желанного терапевтического эффекта ее пантомима не возымела, я стремительно впадал в уныние. Приключения, кто бы спорил, дело хорошее, а привокзальные старушки с картонками, надо думать, прелюбопытнейшие человеческие экземпляры, и все-таки ночь в съемном клоповнике – не совсем то, что требуется усталым героям, только что преодолевшим тысячу с лишним километров на сомнительном, прямо скажем, транспортном средстве.
Однако когда Лара вернулась на берег, мокрая и счастливая, я незамедлительно воспрянул духом, она всегда на меня так действует, и, честно говоря, не только она. Наедине с собой я угрюм и малодушен, но стоит появиться хотя бы одному заинтересованному зрителю, и я дивным образом преображаюсь, всегда так было, сколько себя помню, а уж ради Лары и вовсе грех не расстараться. Вот и теперь встряхнулся, сказал ей жизнерадостно: нас никто не любит, потому что все дураки, а все-таки быть не может, чтобы мы – и вдруг остались без крова. Не для того мы на свет родились, чтобы пропасть пропадом в прекрасном южном городе, в самый разгар пляжного сезона, меньше чем за сутки до обретения лавандовых простыней. Вперед, скомандовал я, на вокзал, да здравствуют бабки с картонками, наверняка одна из них окажется вдовствующей графиней и сдаст нам фамильный особняк, где по коридорам вместо тараканов бродят призраки невинноубиенных злодеев, от которых всего-то беспокойства – деликатный перезвон невидимых оков, тоже мне великое горе, нас после такого дня из пушки не разбудишь; короче, переживем. Пошли.
Мы сверились с картой, убедились, что от железнодорожного вокзала нас отделяют какие-то несчастные три сантиметра, приободрились, оделись и отправились в путь. Мироздание, изумленное нашей стойкостью, озадаченно поскребло в затылке и решило ниспослать нам награду. Мы еще от пляжа толком не отошли, когда телефон в моем кармане заурчал, завибрировал и наконец запел голосом Макса Раабе: «Oops! I did it again!» Я поспешно ткнул трубкой в ухо и услышал торопливую скороговорку Ольги – а я-то, дурак, на нее не надеялся.
– Нашла я вам жилье, перезвоните мне прямо сейчас, а то с нашими тарифами по московскому номеру очень дорого говорить.
– Ага, – согласился я, все еще не веря своему счастью.
– О, – сказала Лара, – ооооо! Я правильно понимаю, что у нас уже есть ночлег?
– Похоже, есть, – кивнул я, усаживаясь на сизую от солнца и пыли траву.
Ненавижу говорить по телефону на ходу; впрочем, будь моя воля, я бы вообще никогда, ни с кем по телефону не разговаривал, писал бы эсэмэски и горя не знал бы, но если устроиться поудобнее, да еще и закурить, процесс общения с невидимым собеседником начинает казаться более-менее терпимым.
– Ты – без пяти минут доброе божество! – объявила Лара.
– А почему «без пяти минут»? – рассеянно переспросил я, нажимая кнопку вызова.
– Потому что через пять минут ты им натурально станешь. Сразу после того, как узнаешь адрес. Имей в виду: я согласна на все, включая дворовый клозет, лишь бы вотпрямщас. Как-то вдруг сразу ужасно устала.
– Так часто после моря бывает, – кивнул я. – Отходишь от воды метров на двести и вдруг раз – и срубает. А мы с тобой еще всю ночь ехали, а потом в самый солнцепек через весь город брели зачем-то… Ага, пошли гудки, сейчас мы все узнаем.
– Значит, ситуация такая, – деловито сказала Ольга. – У моей мамы есть подружка, тетя Лида. У тети Лиды был сын Паша, умер зимой. От него осталась отдельная квартира, все удобства, окна во двор, от Дерибасовской буквально в двух шагах. Я это помещение хорошо знаю, тетя Лида его сдавать хочет, понятно, что через меня, но там сначала ремонт надо сделать, я и собираюсь – осенью. А пока хата, конечно, страшная: все-таки мужчина жил один, нездоровый и, насколько я знаю, сильно пьющий… Нет, теперь там все вымыто-вылизано, ни грязи, ни запаха, ни насекомых, но потолок – аж черный, и стены не лучше, и плитка в ванной посыпалась, и в комнате люстры нет, только настольная лампа. И ни телевизора, ни музыкального центра тоже нет. Но окна не битые, дверь запирается, по крайней мере один из трех замков там точно целый, вода идет, и колонка работает, я проверяла.
– Если чисто и без запаха, все в порядке, – поспешно сказал я. – Это же на одну ночь. Мы сразу упадем и уснем. Хоть на полу.
– Ну зачем на полу, диван там есть, – успокоила меня Ольга. – Тетя Лида чистое белье принесет, постелет. Вы, главное, не бойтесь, Пашка не на этом диване умер, и вообще не в квартире, я точно знаю, – поспешно добавила она.
Вот что-что, а это мне точно было до одного места. Мало ли, кто где умер. Подумаешь – умер. В конце концов, все мы здесь, можно сказать, именно для этого и собрались. Но возражать Ольге я не стал. И пересказывать Ларе все эти душещипательные подробности – тоже. На всякий случай. А то придет к ней во сне призрак мертвого пьяницы, станет клянчить на бутылку, – зачем нам, спрашивается, такое развлечение?
– Спасительница вы наша, – сказал я Ольге. – С меня причитается. Придумаю что-нибудь.
– Ой, да ладно! – отмахнулась она. Но по голосу было слышно, что обрадовалась обещанию, теперь главное – не забыть бы, а то некрасиво получится.
– Теперь так, – говорила Ольга. – Тетя Лида хотела с вас за ночлег взять десять евро, а я ей сказала, чтобы брала двадцать, а завтра с вас еще десятку возьму как посредник. Вы уж не серчайте, оно столько стоит. Хата, конечно, страшная, но сейчас самый сезон, так что беру по-божески, дешевле вам только комнату на Слободке сдадут, и хорошо, если без хозяйских курей. Да, только смотрите, больше ей тоже не давайте. Даже и не думайте, а то вы старушку пожалеете, разбалуете, а мне с ней еще работать.
– Нет проблем, – согласился я. – Как скажете. Куда ехать за ключами?
– А прямо туда. Это улица Маяковского, как бы вам объяснить покороче? Ну, где Горсад…
– Знаю, начинается от Дерибасовской, там еще ресторан на углу, «Стейк-хаус», кажется.
– Правильно, бывший овощной. А дальше совсем просто. Идете прямо, по той стороне, где ресторан, метров двести, не больше, видите седьмой номер, заходите в арку, попадаете во двор и смотрите по сторонам. Если увидите старушку во всем черном, как из старого фильма про Сицилию, с Моникой Витти… А! Точно! «Не промахнись, Асунта», так он назывался. Так вот, она и есть тетя Лида. А если ее там нет, звоните мне, что-нибудь придумаю. Но, вообще, она обещала, что минут через десять-пятнадцать там будет.
– За пятнадцать минут мы сами можем не успеть, – честно сказал я. – Нам еще от моря наверх подниматься и такси ловить.
– Ничего, она подождет, – заверила меня Ольга. – Сколько надо, столько и подождет. В общем, вы устраивайтесь, отдыхайте, а завтра после двенадцати я вас жду на Энгельса. Ну, мы еще созвонимся.
– Конечно созвонимся, – согласился я. – Спасибо вам. Правда, такое спасибо!
От избытка чувств я сгреб Лару в охапку и немножко покружил, но быстро одумался и аккуратно поставил ее на землю. Не до молодецкой удали сейчас, все-таки я здорово перегрелся, до красного тумана в глазах, хорош буду, если свалюсь на полдороге, джигит.
– Голову все-таки надо чем-нибудь прикрывать. – Лара заметила, что я едва устоял на ногах. – В соломенных шляпах у нас с тобой будет дурацкий вид, но мудрое человечество это учло и предусмотрительно изобрело банданы. И бейсболки. Которые мы все равно почему-то не носим… А мы, что ли, правда будем жить на Дерибасовской?
– Почти. В двухстах метрах от нее, если верить нашей хозяйке. Но это всего одну ночь, не забывай. Завтра переберемся поближе к морю.
– Все равно круто. Это же все равно что приехать, скажем, в Питер и не найти ночлега нигде, кроме как на крейсере «Аврора».
– Примерно так, – согласился я. – Пошли искать такси.
Дом номер семь по улице Маяковского оказался на редкость унылым трехэтажным строением свинцово-серого цвета, а ведущая во двор арка, уставленная благоуханными мусорными контейнерами, могла бы на равных состязаться с питерскими подворотнями за гордое звание самого гнилого дупла всех времен. Двор, прямо скажем, не разрушил первоначальное впечатление. В отличие от всех известных мне одесских дворов, зеленых, шумных, до отказа заполненных детьми, котами, старушками, доминошниками, мальвами, собачьим лаем, запахами еды и мокрым бельем, этот был пуст, тих и почти полностью заасфальтирован, только под некоторыми окнами зеленели микроскопические клумбы, засаженные цветными ромашками. Бельевые веревки были натянуты повсюду, но вместо традиционных пестрых футболок и цветастых простыней на них болтались бурые тряпки из мешковины и древний спортивный костюм цвета засушенной фиалки, как минимум шестидесятого размера.
– Ну вот, мы все-таки первые пришли, – разочарованно вздохнула Лара.
В тот же миг из дальнего подъезда выкатился натуральный колобок. Обещанная сицилийская матрона в черном, казалось мне, непременно должна быть высокой, тощей и сутулой, даже согбенной, с косматыми седыми патлами и, желательно, с бельмом на глазу, для пущего саспенса. Однако тетя Лида оказалась маленькой, толстой, румяной и очень приветливой с виду старушкой, ее черное платье-халат выглядело по-домашнему уютно, а на ногах сверкали остатками лака стоптанные красные босоножки.
– Это вы москвичи бездомные? – ласково спросила она.
Лара отвернулась и беззвучно заржала, прикрыв рот рукой, так что вести переговоры пришлось мне.
– Бездомные москвичи – это и есть мы. Нас Ольга прислала. Вы не очень долго ждали?
– Совсем не ждала. Только-только постель застелить успела и окна открыть, чтобы проветрилось. Идемте в хату, я вам все покажу.
Экскурсия по тесной, заставленной старой мебелью, заклеенной блеклыми зелеными обоями «хате» отняла минут пять, но оказалась весьма поучительной. Мы уяснили расположение выключателей, научились управляться с газовой колонкой и страшной, как пищеварительный тракт людоеда, плитой, на которой громоздился древний чайник, чей возраст, по моим приблизительным прикидкам, датировался ранним мезозоем, а форма и размеры заставляли вспомнить все телевизионные передачи о космических кораблях пришельцев, какие мне случалось смотреть. Преисполнившись житейской мудрости, мы отдали старушке деньги и наконец-то остались одни.
Лара тут же упала на диван, застеленный белоснежной, накрахмаленной до состояния черствого коржа простыней. Диван пронзительно завизжал. Лара подскочила от неожиданности; потом, конечно, заулыбалась.
– Ишь, не нравится ему, – удовлетворенно сказала она. – Такая прекрасная бабушка эта тетя Лида. И такой прекрасный дом, страшный как чума. И такая прекрасная кошмарная квартира. И такой прекрасный скрипучий диван. Счастливее меня нет никого на этой земле. Я даже жрать захотела на радостях. Но никуда ни за что не пойду, так и знай.
– Ладно, пойду один, – решил я. – Принесу тебе чего душа пожелает. Заказывай.
– Э, нет, так не пойдет! Ты, значит, будешь наслаждаться жизнью, шляясь по душным гастрономам, а я здесь в полном одиночестве – страдать от несовместимости цвета обоев с моими духовными идеалами?! – возмутилась Лара. – Каков подлец! Нет уж, лучше помоги мне доковылять до угла. Хороший стейк – это серьезная мотивация.
Вернулись мы уже затемно, едва живые от усталости, сытые как удавы и почти пьяные – скорее от еды и впечатлений, чем от двух бокалов «Шато Бешвель». В тусклом свете чужих кухонных окон двор показался нам еще более унылым, зато квартира от полумрака только выиграла, но мы не стали ее особо разглядывать – упали на диван и уснули прежде, чем умолкли его скандальные пружины.
Когда я проснулся, было темно. Голова раскалывалась, в рот, похоже, насрали тараканы, привычная тупая боль в желудке жить особо не мешала, зато от изжоги впору было лезть на стенку. Однако у стенки басовито всхрапывала Сергевна, дала банку вчера с кумой, теперь будет дрыхнуть до самого утра, ее, когда накиряется, из пушки не разбудишь, и слава богу. Хоть сейчас никто мне сраку не морочит, не бухтит над ухом: «Бу-бу-бу, бу-бу-бу», – и так целыми днями, как только сама от себя не устает. Она вообще ниче так, не злая, жрать готовит, убирается, и на морду смотреть даже в похмелье не страшно, но, е-мое, какая же нудная баба, ей бы училкой в школе работать, а не на кассе сидеть. Ладно, в жопу Ларису Сергевну, сейчас важно другое – не уссаться.
Спустил ноги на пол, поискал тапки, не нашел, и хуй с ними, пошел босой, так приспичило, тут не до шуток. Воду сливать не стал: бутыль мы вчера вроде не набирали, пусть хоть в бачке будет запас, если на кухне нечего попить. Сушняк у меня – это что-то. Пустыня Каракумы, клуб кинопутешествий с Сенкевичем на верблюде – и все это в моей глотке, включая верблюжачье говно, а я-то, дурной, гадаю, что у меня там сдохло.