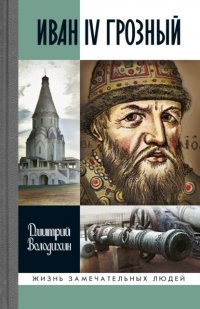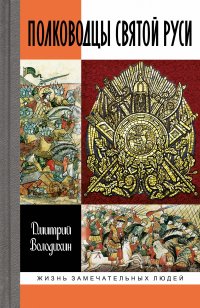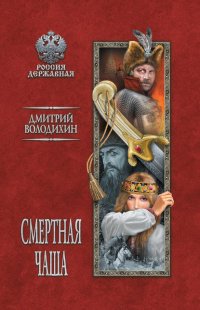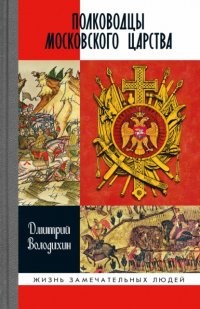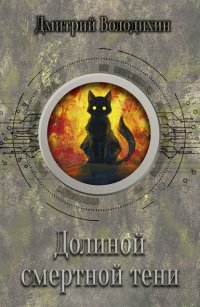
Читать онлайн Долиной смертной тени бесплатно
- Все книги автора: Дмитрий Володихин
Долиной смертной тени
(роман)
Душу мою обрати,
настави мя на стези правды,
имене ради Своего.
Аще бо и пойду посреди
сени смертныя, не убоюся зла,
яко Ты со мною еси,
жезл Твой и палица Твоя,
та мя утешиста.
(Псалтирь. Псалом 22.)
Глава 0. Доброволец
11 прериаля 2149 года.
Планета Совершенство, город Кампанелла, столица Северной Конфедерации Истинной Свободы.
Волонтер Эрнст Эндрюс, 23 года.
Я никогда не любил военных. Не любил на каком-то глубинном, иррациональном уровне. Как отторгают пауков и змей, так я отторгал парней в пятнистых комбинезонах и с оружием наизготовку. Их наглые хари. Их пустые глаза. Их агрессивность. Агрессивностью от них шибает за милю.
Люди не любят то, чего боятся. И я не исключение. Мне всегда казалось: военные люди едва-едва сдерживаются, чтобы не начать стрелять по нам, нормальным… Они прилагают волевое усилие к собственным пальцам, иначе пальцы нажмут, куда надо, и от нас полетят кровавые брызги…
Им можно все. Нам – ничего. Они скромные, стеснительные (до поры) хозяева, мы – наглые рабы. Когда-нибудь они устанут терпеть и накажут нас. Явятся всем своим миллиононожием, принесут смрад начищенных армейских ботинок и ружейного масла… Тупая серая масса выльется из поставленных ей пределов и затопит наши маленькие уютные островки.
Как же я боялся!
И был прав.
Они пришли за мной.
А я было подумал – отсижусь. Я было понадеялся, что самое страшное позади.
– …Крепче, Аб, крепче, мать твою, щенок дергается…
– Я бы на его месте тоже дергался. Ты только представь себе: эта аккуратная жопка против комитетской Железной дивизии…
– Крепче, Аб, заткнись, Ник, заткнитесь, засранцы.
– Вас понял, сержант, сэр! Держу крепко, сержант, сэр. Голубчик не… оосссуука!
Тот, что пытался прижать мои ладони к полу, схватился за яйца, запрыгал, завыл. Но тот, что держал меня сзади, облапив, как матерый пидор, уйти не дал. Гады. Г-гады!
– Ахмед, он сейчас вырвется, можешь ты поторопиться? А? Сержант, мать твою, сэр!
– Заткнись, заткнись, заткнись! Заткнись и держи.
И тот, сзади, здоровяк с черной эмблемкой анархистов-милитариев на шлеме, сжал меня хваткой маньяка. А их сержант, подлец и кретин, опустился на корточки прямо передо мной. Амуниция на нем скрипнула. Он открыл рот, и до моих ноздрей донеслось зловонное дыхание. Терпеть не могу гниющие желудки.
– Дружок, милый, я тебя понимаю. Ты к нам не хочешь. Ты не хочешь, чтобы твоей аккуратной жопкой закрывали прорыв под Плифоном. Ты нас не любишь, о, как же ты нас не любишь! Я сам такой был. Но у нас работенка, ее надо сделать в очень ограниченные сроки. И я устал валандаться с дерьмом вроде тебя. Ты по любому наш, но если прямо сейчас прекратишь выпендриваться, то хотя бы останешься цел и невредим. А это большая льгота. Либо ты будешь сидеть тихо, и я сделаю все ласково. Либо…
– Ахмед, он сейчас бросится… Здоровяк хренов.
– Держи, Аб. Молча. Если он вырвется, я тебе мошонку порву. Ты понял?
– Да понял я, понял…
– Итак, дружок, милый, это совсем не больно. И в добровольцах тебе числиться всего двенадцать месяцев… ерунда, в общем-то. А потом – гуляй, будешь вольный человек. Ну? Не станешь рыпаться? Нет? Очень на тебя надеюсь, дружок. Очень, очень надеюсь. Не верти головкой, не надо, мальчик, да? Согласен?
Какой мерзкий у него голос! Будто в колледже без пяти минут выпускник уговаривает румяную девочку с младшего курса на разок-завалить: «Ну же, милашка, я буду с тобой нежен и аккуратен, детка, я буду с тобой оч-чень внимателен. И лучше бы ты сделала это со мной, крошка, именно со мной и прямо сейчас. Потому что тогда тебя возьмет под крыло цивилизованный человек, киска, тебя уже не будет сношать банда черножопых наркоманов…»
Я рванулся изо всех сил, я саданул затылком анархисту Абу прямо по носу, и, кажется, я зарычал от ярости.
Аб слетел с меня. Я начал подниматься, встал с колен и почти распрямил ноги… У меня, наверное, появился шанс. Тень шанса. Но тень шанса – лучше, чем ничего. С сержантиком уж я как-нибудь…
Натренированный армейский кулак протаранил мой череп. Левый глаз брызнул бриллиантами. Пол предательски выскочил из-под ног. И сейчас же вернулся, чтобы нанести удар по затылку.
…Судя по всему, в ауте я пребывал недолго. Совсем недолго. Может быть, минуту или две. Но вербовщикам хватило. Когда я очнулся, шея страшно чесалась – там, где под кожей тянется труба сонной артерии. Клеймо, значит, они поставили и маячок ввели.
Биогард стискивал мои руки. Не больно, но крепко. Сержантишка вдавливал подушечку моего указательного пальца в какую-то вшивую точку на маленьком переносном экранчике. Форменная нашивка у него на рукаве – слово «ratio» – назойливо лезла мне в самые очи. Воины чистого разума, м-мерзавцы… попался. Точка. Я попался…
– Все, дружок. Обошлось почти без членовредительства. Контракт твой – вот он, ознакомься. Не интересуешься? Понимаю. Какая, в сущности, разница? Просто ты попался, милый…
Глава 1. Под дождем
21 фруктидора 2156 года.
Планета Совершенство, Зеркальное плато, поселок Слоу Уотер.
Капрал Эрнст Эндрюс, 30 лет, и некто Огородник, в два раза старше.
С Огородником я познакомился из-за дождя.
В наших местах часто идут дожди. Я люблю дожди. Вот, я сижу дома и смотрю в окно. В моем жилище всего одно окно, потому что всего одна комната пригодна для спанья, там я все щели заткнул, потолок оштукатурил и побелил, даже дверь обил мякотью двух старых кресел. Чтобы поплотней прилегала к косяку. Зимой тут холодно, топлива не напасешься, а сквозняки живо всю теплынь выстужают. Зачем мне еще такая беда? Вот я и обил дверь. Все сам сделал. Десять лет назад я ничего не умел, зато у меня было образование. Очень хорошее образование. Теперь все мое образование рассеялось, зато я умею кой-чего полезного. Такие дела. И еще я жив. Живой. То есть образования у меня сейчас, почитай, нет совсем, зато я выжил. И биопласт прозрачный я у Лудаша выпросил – как раз на окно. Лудаш – это олдермен моего дистикта был год назад. Теперь помер, вместо него колченогий Петер. Жадный, упрямый, у такого ничего не выпросишь. Вот. А у Лудаша я выпросил хорошую плиту биопласта. Обрезал как положено, и вышло точнехонько на окно. В других комнатах глухие стены, нет там никаких отверстий. Либо стены разворочены, уже никак там не поживешь. Кое-где окна были раньше, и дыры были – ну, для труб, для вентиляции, для еще чего-то… я не разбираюсь. Теперь там ни труб, ни вентиляции, ни окон. Дыры и дыры. Продавлы. Нет, правильно сказать не так, правильно сказать «провалы». Даже не забиты ничем, ветер гуляет, слякоть несет, листья… Года три назад птичьего помета повсюду было накладено. Потом птицы повывелись, передохли, наверное, и помет теперь остался только старый, уже окаменелый… В левом крыле и крышы нет, крыша порушена в левом крыле. Ну и, понятно, полы все разъело, даже фундамент покурочило. От кислотных дождей. А над спальней над своей я на крыше слой дерна положил. А дерн обрезками жести покрыл. Жесть я в Городе нашел. Когда еще не был такой ленивый, как сейчас, я в Город ходил, и там нашел хорошую жесть, много жести. Вот. А по жести я положил еще один слой дерна. Чтоб наверняка. И тот слой еще разными железяками накрыл – где что мог оторвать, вытащить и унести, тем и накрыл. Надежно вышло. Ни разу на меня не просочилось. Когда дерн вымывает, я еще кладу. А щели все заделал. Неровен час, Цветной туман с утра просочится, надышишься и подохнешь. Или кожа слезет. То есть не подохнешь, конечно, сейчас редко кто от Цветного тумана дохнет, уже не той густоты туман, но кожа попортится. И я старался, мне тут жить все-таки. Осенью у меня хорошо, тепло. И весной хорошо – тепло, не сыро ничуть. У Боунзов весной очень сыро, старик от ревматизма мучается. И у Стоунбриджей тоже сыро. И у трясучего Вольфа. А у Хебберши весной и сыро, и холодно, и даже мокрицы какие-то заводятся, то ли жучье. Но Хебберша дура. Дурее только Протез. И Бритые дурее, понятно. А еще она ленивая и старая.
У меня дома хорошо, очень хорошо, я постарался.
Поэтому я не люблю выходить наружу.
Люблю дома сидеть. Когда дождь идет, никуда не пойдешь. Ни работ никаких, ни улицы расчищать не надо, ни канализацию чистить, ничего. И сам никуда не пойдешь. Вот. То есть, когда дождя нет и тумана нет, может, захочется куда-нибудь пойти. Может, в Город пойти. Может, в Парк пойти. Там неуютно. В Парке красиво, но тоже неуютно. Чужаки попадаются и от дома далеко. А когда дождь, такие опасные планы сам не захочешь придумывать, они в голову нейдут. Вот, сидишь себе, расслабишься…
Я сижу у окна и смотрю наружу. Когда дождя нет, просто так смотрю. Смотрю и беспокоюсь: может, надо что-нибудь сделать, куда-нибудь пойти, а я сижу тут и глазею? Иногда, очень редко, все-таки схожу куда-нибудь. А если просто сижу и смотрю, то мне неспокойно. Но вот – дождь. И никуда не пойдешь. Сидишь спокойно и смотришь. Биопласт очень прозрачный, прозрачней стекла, он как воздух. Смотришь через него, и все видно. Какие пузыри надуваются на лужах. И как лужи расползаются. И как ржавая бочка наполняется, а потом льет через край. И брызги с моего карниза летят во все стороны. И как трава гнется. И какое небо. И сырые пятна разноцветные на стенах домов. И разные железяки из развалин торчат. И забор гнилой, весь скоро распадется. Темный, мокрый забор, краска давно сошла, он почти черный. Иногда ящерица пробежит. Ящерицы наши любят дождь, но только если теплый. Из дыр вылезают. Их расплодилось видимо-невидимо. Притом все больше таких, каких раньше не было. Я к ним привык, хоть они и странные до ужаса, все в радужных разводах, с костяными манжетами на лапах… Я ко всему привык. Только к лягушкам я не привык. Лягушек сюда с самой Земли завезли. Они и сейчас выглядят как обычные лягушки. Вот. Лягушки и лягушки. Только квакать разучились, стрекочут. Я к стрекочущим лягушкам не привык и привыкать не хочу. Уж больно пакостно они выводят, ровно какая-то насекомая тварь.
А я сижу и смотрю часами. Так мне хорошо!
Но с Огородником я познакомился совсем не тогда, когда дома сидел. Я был не дома. Я службу справлял. Потому что я солдат и даже капрал. И я должен службу справлять раз в пять дней. А иногда раз в четыре дня. Или даже раз в три дня. И я тогда справлял службу, а курево мое отсырело. Понятно, бумаги нет, табак разве что в сушеный лист Ладошника завернешь, а сушеный лист Ладошника живо промокает. И зажигалка моя, хорошая зажигалочка, самодельная, с наддувом, я ее у Лудаша выменял, когда еще он жив был, в общем, сдохла зажигалка. Горючка, то есть, в ней закончилась. Не рассчитал я, дурында, курил много. Холодно ведь в дозоре, – вот я и курил. Горючка, понятно, кончилась. Едва пырхает. Сла-абенький такой огонек дает. Сдохла, паразитка. Я – пырх, пырх, а курево отсырело и не никак не возьмется. И дождь косой, брызжет сбоку, гасит мне огонек. Совсем плохо. Мы сидим с Огородником на деревяшках, которые вместо сидений распоротых на кресла положены, ну, в раскуроченной амфибии сидим, и я злюсь. Очень зябко, полтора часа уже просидели, за дождем не видать ничего, холод собачий, и даже курево никак огнем не возьмется. И дождь сбоку брызжет. Косой дождь. Спасибо, крыша у амфибии цела, хоть не промокли вдрызг… Вот. У нас на Первой Дозорной Точке вкопана раскуроченная амфибия. Для часовых. Вот мы в ней сидим, и я уже очень злюсь, и мне себя очень жалко. Какие же они все кретины! Дурачье! Болваны. Черви наземные. Мерзни тут…
Огородник поворачивается и говорит:
– Руки вот так сделай.
Показывает – как.
– И что? Зачем это?
– От дождя.
Опять показывает – как.
А он все время молчал, ни слова не сказал. Так только, когда разводили нас по дозорам, он разводящему, Таракану, ответил. По службе ему положено отвечать, вот он и ответил. Когда Вольф-младший дозорным начальником заступает, а Таракан при нем разводящий, они службу блюдут – спасу нет. Как в старые времена. Я в старые времена солдатом не служил. Я просто работал. Я летал. Просто я думаю, что в старые времена, до Мятежа, службу блюли строго. У них техники было много, а при технике человек суровеет… Вот. В общем, что Вольф, что Таракан ото всех требуют, чтоб им отвечали по особенному. Таракан говорит: «Чеканно». Вольф говорит: «Рубленно». А всем плевать на них, они тупые. Все отвечают, как ответится. Только Огородник отвечал им точно так, как они хотели. В смысле, слова отрубал. Или чеканил. Или как-то так. А потом все время молчал. И я молчал. Что мне с ним говорить? Кто мне этот Огородник? Только глаза мозолит. Чего ему у нас надо? Зачем приехал? Да хоть бы он и хороший был человек, безобидный, а я и сам не говорливый. Он молчит – я молчу. Я молчу – он молчит. Мы молчим. Хорошо. Нормально все.
А потом он мне показал, как руки поставить. От дождя.
Зажигалка моя пырхнула напоследок, но ее не залило. И курево занялось. Пошло курево. Я затянулся всласть, аж до самых до печенок. Кто не курит – не поймет, как это всласть затянуться, когда давно дыму в рот не брал.
И я ему сказал:
– Я тебя знаю.
– Мм?
– Я откуда-то тебя знаю. Я тебя видел. Я тебя запомнил. Я тебя точно видел.
– Мм.
– Что мычишь?
Он только плечами повел. Он так показал мне: отцепись, брат, чего лезешь? Но меня разобрало.
– Да точно видел. Ты в Подземном городе был? В каком-нибудь Подземном городе? Которые для развлечений?
– Мм… – в смысле: какие-такие подземные города? А еще в смысле: чего зря брехать?
– А может, ты жил в столице? В столице Совершенства ты жил? Ну, в последней настоящей столице? Раньше? А? Я там учился.
– Ммм… – в смысле: нет.
– Или в военном госпитале тебя лечили? Тут, на Зеркальном плато, был госпиталь… Потом военные разбежались. Или ты лежал там? А? Болел? Ранили? А?
– Ммнт! – в смысле: заткнись.
– Может, ты летал?
– Что летал?
Тут я вижу, дело нечисто. Так он быстро ответил, так он быстро переспросил! Враз видно: как-то я его задел. Он, наверное, летал, как я, и я его тогда где-нибудь видел. Вот. Он летуном был. Но он об этом говорить не хочет ни с кем. И мне с ним об этом говорить не нужно, может быть, он рассердится. И я подумал: нет, не надо ему сейчас вопросы задавать, не люблю когда люди рассерженные. Зачем? Потом поговорим. Может, он захочет поговорить.
– Огородник, давай, зайди ко мне. Когда сменимся и отоспимся.
Он так глядит на меня, ровно спросить хочет: зачем это ему ко мне идти? Но ничего он спрашивать не стал, молчит. И я ему тогда говорю, сам не знаю зачем:
– Огородник, у меня кофе хорошее есть, очень хорошее.
Сказал, а самому жалко стало. Кофе мало у меня совсем. Выпьет мой кофе.
– Лучше ты ко мне зайди, Капрал. Зайдешь ко мне.
Голос у него какой! Ничего особенного не сказал. А мне уже хочется побежать, все сделать, как он велел. Вот. Я даже испугался. Откуда такая сила у него?
– Давай, Капрал. У меня шоколад есть. Настоящий. С Терры Второй привезен. А кофе свой захвати, пригодится.
Это он все гораздо мягче сказал. Он вроде бы не хотел меня голосом своим испугать, потому и гораздо мягче голос сделал. У Хебберши инфоскон есть. Плохой, плохо работает. Но есть. Он один на весь Поселок, только у Хебберши. И вот она ловит каналы, чего-то тыкает, подстраивает, деловая… И Огородник как она. В смысле, голос подстроил свой. Как канал в инфосконе. Только что войну показывали, а тут будто бы для детей программа. Но это хорошо, что он мягче сделал. Так лучше. Я грубых людей не люблю. И злых людей тоже не люблю. Зачем это?
– Ладно. Я зайду.
Про шоколад он сказал, а у меня все в голове на старые дела повернулось. До Мятежа еще. Я шоколад вспомнил. Я его ел. Вот. Я его ел очень давно, до Мятежа, до всех дел. Он нежный, сладкий, как хорошая жизнь. Вот, я когда отравился, то уже потом не ел его, я его даже не видел. Всего не хватало, ботинок не хватало, какой там шоколад! Вот. Ага. Когда я на войне отравился… Страшно, лучше не думать… А раньше я летал. Я был стювардом на лайнере «Виктория». О! Там шоколада было завались. О! О! Очень много. Я ходил на лайнере до Марса. И до Терры-2. И до Нью-Скотленда. И до самой Земли! Я был на самой Земле, в городе Майами. И на Терре-2 я был. В городе Ольгиополе. И еще много где. Я летал. Вот. Я был летун. До Мятежа, до всех дел. Вспомнишь – и трясет. И весь холодеешь. И трясет, трясет, особенно руки трясутся… Какая жизнь была… Может, все мне привиделось? Ну, когда отравился… Нет, все было, другие люди похожие вещи рассказывают. Вот, например, Лудаш. И Таракан. У Хебберши, когда она дает свой инфоскон посмотреть, такие там известия, будто где-то сейчас… вроде… вроде… как раньше. Может, оно так и есть. Но Хеббершу редко кто может уговорить – дать посмотреть. Если только дать ей что-нибудь. Она жрать страсть как любит. Тощая, а пожрать любит. Я спросил Таракана раз: «Там живут как раньше. А мы чего же?» А он мне сказал: «Тебе не все равно?» Вот он так сказал, и я не знаю – мне все равно или нет…
Шоколад. Вот. Да.
– Я к тебе точно зайду, Огородник.
– Угу.
И я затыкаюсь. Нет, мне, понятно, очень хочется узнать, где я его видел. Я уже почти вспомнил. Но не совсем. Это как сон хватать рукой: вот он есть, и вот его нету… Спрашивать ни о чем я не буду. И я не стал спрашивать. Потом вспомню.
Тут у меня в кармане задребезжало. Вынул я Прибор с Экраном. На Экране красненькая пометка: с Визиром номер 81 стряслась какая-то глупость. Он не работает. Может, надо его заменить. Вот.
Очень плохо!
Эти я сейчас вспоминаю, как мне было плохо, и даже сейчас до костей пробирает. Наши Визиры за Равниной наблюдают, они внизу. Там, внизу, – Равнина. А у нас, наверху – Плато. Это слово мне Лудаш сказал: «Плато»… Красивое слово, значительное. В старой жизни я его знал и понимал. А потом оно мне просто понравилось. В смысле, когда Лудаш мне его сказал. Плато… И с Плато до низу, или обратно с Равнины наверх можно добраться тремя способами. Лучший способ – через Провал. В смысле, через ущелье. И провал сторожат не два, а три человека. Еще можно пойти по Каменистой тропе. Это хуже. Вот. Неудобно. Сверзишься враз, и костей не соберут. Там наша Третья Дозорная Точка. Место тихое. Только дурак полезет. Или – если себе враг. Башколом. Тогда запросто. И тут еще можно пройти, тут – седловина. Первая Дозорная Точка.
Надо мне было по седловине вниз отправляться. Ой, худо! Там осыпь, там земля как каша из грязи, там острые камни. Но надо веревкой обвязаться и лезть. Мне надо лезть. Потому что прошлый раз лазал Огородник. Из нас двоих я старший, я капрал, я главнее. Но это только потому, что я – местный, а он – пришлый, и совсем недавно тут появился, еще местным не стал. У меня – что? Одежда старая, вся в заплатах. Ружье самодельное, дробью стреляет. Ружье с двумя стволами. А у него – что? Приличная одежда, исправная, без дырок. Сапоги высокие, почти новые, тоже без дырок. И еще у Огородника есть пистолет: новенький, жутковатый. Огородник по-моему, сам его боится. Называет свой пистолет с уважением: «Третья модель». Точно так говорит: «Третья модель», а не просто «пистолет». Вот. Огородник странный. Но, по всему видно, не злой. И не дурак. Ну вот, он лазал вниз прошлый раз, вернулся по уши в грязи. Говорит, контакт отошел у Визира. Визир потом опять заработал. Так было за пять дней до того раза, как мы познакомились. То есть, в дозоре нас часто вместе ставили, но мы не разговаривали и не знакомились. А тут – р-раз – и познакомились. И мне надо вниз лезть. Хоть я и капрал, но очередь моя.
Ой-ой!
И я закряхтел, веревку с карабином подобрал, ружье подобрал, карабин к ремню пристегнул, хочу выйти наружу. Вдруг он говорит:
– Погоди.
– А?
– Погоди-ка.
– Надо Визир посмотреть…
– Сиди, парень. Я через прицел погляжу, что там.
Он старше меня по возрасту, поэтому назвал меня «парнем». Но я старше по званию, и мне было неприятно, что он так меня назвал. И я сказал Огороднику:
– Сиди тут, рядовой, неси службу.
И наружу лезу.
Не тут-то было. Он меня за руку – хвать.
– Извини, Капрал. Просто подожди чуточку.
– Ладно. Тогда давай, смотри через прицел… чего как.
Улыбается.
– Сейчас гляну.
А что мне? Вот, он извинился, и я понял, что мне лучше бы внутри пока посидеть. Вот. Тут тебе ни грязи, ни дождя, ничего такого.
Огородник завозился с излучателем. То есть излучатель старый, со времен Мятежа остался, он работает. Но все наши парни знают только, куда жать, чтоб выстрелило. Вот, еще как перезарядить его. А там еще много всяких штук, военная техника – дело хитрое такое, сложная вся. И штуки наши парни не знают и наладить не могут. И я не знаю. А Огородник чего-то там знал. Я видел, как он в излучателе копался, даже чистил его…
– Вот!
Раз «вот» говорит, значит, дело на лад пошло. Может, грязь меня сегодня не получит? Все-таки небесполезный человек Огородник.
А он как раз прямо из железного нутра излучателева – это вешь тяжелая и большая – вынул два проводочка. Длинные проводочки с шишечками на концах. Шишечки-присосочки. И ловко так присосал их себе за ушами. Вот. Это и есть прицел? Проводочки дурацкие? Я смотрел во все глаза. Ой-ей-ей! Лицо у Огородника сразу серьезное сделалось. А потом он брови в кучку над переносицей собрал, не нравится ему что-то.
– Нет, Капрал, не суйся туда. Не надо тебе туда соваться. Во всяком случае, одному.
Я ему кивнул так вопросительно. То есть, чего ради мне туда не ходить-то? Визир сам собой не исправится.
Огородник с себя проводочки стянул и мне их живо наладил. В смысле, за уши. Вертко так он это сделал, будто всякие излучатели ему – прямая родня. А человек он по повадке тихий. Странно. Я это запомнил.
Ай!
Будто мне какой-то гад пальцем по мозгам провел! Мозги зачесались.
А потом я стал видеть далеко вперед. Вот, я глазами вижу метров на сто. Дождь же, туман туманит, сумеречно. А не глазами я гораздо дальше вижу. Через всю седловину вижу и еще на равнине, аж до развалин Полсберга. Ай! Не могу же я так далеко видеть! Это оно во мне видит… Оно – это прицел, наверное… Да?
– Освоился? Найди Визир. Найдешь – гляди левее.
– Ну… нашел.
Точно, шпенек из земли торчит, где ему и положено торчать.
– Заметил?
– Чего?
Шпенек и шпенек. Железяка.
– Левее. Там канава и валун, на человеческую голову похожий. Глянь за валун.
Гляжу. Почему у меня голова заболела?
Точно, кто-то за камнем шевелится. Едва-едва видно его, осторожный. Я присмотрелся. Вон рука. Верно, рука. Кожа вся пятнах, белого там мало. Людак…
– Спасибо, Огородник.
– Не за что, Капрал.
Как же, не за что! Пошел бы я туда, подкараулил бы меня людак и шею свернул бы. Это им запросто. Сильные, черти. Тут ему и мясо, и оружие… И курево мое, кстати, хорошее пайковое курево, тоже ему, образине, досталось бы. Людаки – почти умные, не сильно глупей нас. Людак это тебе не тупой быкун. И оружие бы унес, и курево бы скурил…
Людаков я видел три раза в жизни. Первый раз, когда ихний шатун, одиночка, чуть не до самого Поселка добрался. На окраине его Капитан подстрелил. Лежал, весь страшный, брюхо разворочено, кожа в коричневых разводах. Такой людак. Мне чуть плохо не стало. Вот. Другой раз их людачья семья перебила Вторую Дозорную Точку на Провале… Причем тихо так перебила, никто не услышал, никто не заметил… Когда шум пошел, они уже ухватили кое-кого из наших и потащили вниз. Поселковые растерялись, я растерялся, все растерялись, только Протез пальнул разок, да еще, может, Капитан. Они трех наших утащили: Байка, Сина и усатую Лукрецию. Их, понятно, потом не сыскали. Тот раз я людаков видел со спины. И опять мне страшно сделалось. Так холодно было, всего пробрало холодом! На третий раз лучше вышло. Я был в резерве. Капитан сказал: «Бегите на Вторую Точку, там прорыв!» Мы побежали. Это как раз полгода назад было. Верно. У Хебберши днями пожар случился. То ли позже на день, то ли раньше на день. И у старика Боунза несушка околела. Хорошая была несушка… Вот, мы побежали к Провалу. А там наши со всех стволов палят. И Таракан кричит: «Туда стреляйте! Видите? Туда, туда стреляйте!» Я смотрю – не пойми куда, не пойми в кого… «Не вижу, Таракан». – «Мать, твою, Капрал, дурья башка, видишь, пальцем показываю! Ослеп?» – «Сам ты дурья башка». Палец-палец! Не надо было ему ругаться. Я потом увидел людаков, правда, совсем издалека. Шевелятся… Я выстрелил с одного ствола. Не знаю, попал или нет. А потом я выстрелил с другого ствола. И второй ствол разорвало. Вот. С полгода прошло, как я по людакам стрелял. А вообще-то нет, пожар у Хебберши был раньше на месяц. Несушка околела – точно, а пожар был раньше. Значит, меньше, чем полгода. Ствол мне тогда разнесло, как фанерный. Старику Боунзу посекло ухо. Так, немножечко, он даже не расстроился. И мне руку посекло. Тоже несильно. Вот. Царапина, да и только. А попал я или нет – не знаю. Людаки тогда нашей стрельбы испугались и ушли. Их как раз по Визиру заметили. Капитан всем сказал: «Видите? Не зря старались, вкапывали. Полезная вешь». А людаки ушли, потому что мы их своей стрельбой отпугнули. Так-то.
А тут опять людак появился…
До чего же у меня голова разболелась! Спасу нет.
Я думаю. Что нам делать? Визир надо чинить. А один я туда не сунусь. Может, издалека его как-то достать, людака этого? Вот. Из дробовика, понятно, не дострелишь до него…
– Огородник… ты… это… из своего пистолета его… как?
Он пожал плечами.
– Добить – добьет, но попадания не гарантирую. «Третья модель» все-таки не для поля производилась.
Какое поле? Причем тут поле? По-английски он хорошо говорит. Вот. Буквы глотает иногда, да. Но все понятно мне. А тут про какое-то поле завернул… Никак не возьму в толк.
– А если излучателем его? А, Огородник?
Сам-то я всего один раз стрельнул из излучателя. Когда учился.
Морщится.
– Попробовать можно. Только к чему заряды тратить? У вас… у нас итак зарядов мало. Подождать, пока он уберется, и все дела.
Это он верно говорит. Зарядов мало. Таракан мне сказал: «Зря пальнешь – душу выну». Злобный человек.
Голова сделалась как бомба. Еще чуток – и взорвется. Отчего ж мне плохо? Зачем я тут заболел?
– Ладно. Переждем.
Я так сказал, а сам думаю: «Если не уберется, опять же хорошо. Тогда Протезу из следующей смены вниз лезть придется. Или Стоунбриджу-старшему». Очень не хотелось в грязь по уши забираться…
Мне как-то неспокойно. Опять закуриваю – на еще один пырх зажигалочки хватило. Сижу, пыхаю. Голова не проходит. Бычок ладошниковый мне пальцы жжет… Вышвыриваю бычок – вот, кончилось когда хорошо, началось когда потерпеть. Курева уже не запалишь. Сорок минут до конца смены у нас с Огородником. Вот. Потом Протез со Стоунбриджем придут, да. Будут возиться. Стоунбриджа мне жалко, он добрый и он старый. А Протез… пускай лезет. А Стоунбриджа все равно жалко. Может, слазить за него? Если людак ушел уже. Как там, думаю, парень мой пятнистый? Примочки-то Огородник у меня еще не снял. В смысле – из-за ушей. Смотрю. Вот он, людак. Завозился чего-то. В канаве своей машинку какую-то настраивает. В смысле, железку. Нет, не пофартило сменщикам, значит. Не повезло. Полезут вниз. Ну, пускай. Ничего. Грязь еще никого не убивала.
Чего ж он там возится, людак этот? А? Теперь его хорошо видно. Наполовину вылез из укрывища своего. Страшный: безволосый, нос провалился, дыра вместо носа… а еще очень тощий – кожа да кости… И машинку свою на нас наставляет… Вот. Зачем это?
Ой-ой!
Меня пробрало: это ж не только я его сейчас вижу, это ж он на меня тоже глядит! Все видит!
Ужасно страшно мне сделалось. И я спокойным таким голосом говорю Огороднику:
– Он… людак… вроде как целится?
– Не бойся. Из чего ему целиться? Откуда у него такое оружие, чтоб издалека целиться? Такого и у вас-то… у нас… раз два и обчелся.
Откуда Огородник узнал, что я боюсь? Я же спокойно так с ним говорил? Да?
– Ладно. Дай-ка я посмотрю… на всякий случай. – И тянется к этим штучкам за ушами, хочет снять уже.
И все-таки почем он знает, что я боюсь? Откуда…
Тут нас с Огородником пришкварило.
Рядом с раскуроченной амфибией был такой ком из старых труб, уже не поймешь, для чего он. Просто в машине в какой-то был, а потом вынули. Ни к каким хозяйственным делам он не годен, уж очень сталь твердая, – а то б давно все разобрали. Вот. И он, этот ком трубный, ка-ак жахнет во все стороны! И огня – море! И жар страшный! Я за щеку с той стороны схватился, где жахнуло, – будто горячую сковороду к щеке приложили! Больно.
Не пойму ничего. Секунду сидел, не страшно, нет. Вовсе я не испугался, просто не понял ничего. Я знаю, когда я пугаюсь, а когда нет.
А Огородник хитрый сразу все понял. Правда, это я потом сообразил, что Огородник сразу все понял. Развернулся и пинка мне такого вмазал! Я как птичка из амфибии вылетел.
И тут у меня в голове помутилось, перед глазами почернело, а за ушами такая боль взялась, хоть помирай. Точно там боль была, где фитюльки от прицела крепились, и еще в затылке. И глаза заболели – где-то внутри, глубоко, будто их прямо из мозгов моих кто-то внутрь за веревочки дернул…
Я кричу, я по земле катаюсь. Мордой в самую грязь хлюпнул. Слезы брызжут, с дождевыми каплями мешаются и с водой из лужи. Никак не проходит, только еще хуже стало. Дождь – едкий! Я руками за глаза схватился, мну их, тру, чешу… А их бы выдрать оба!
Опять рядышком потеплело – я под горячую волну попал. Ну да мне не до того. Я Огородника зову, он мне должен помочь! А Огородник в ответ кричит:
– Сейчас, Капрал! Сейчас! Потерпи секунду, сейчас я! Потерпи, парень!
И ругается по-своему, по-русски. Я их языка не знаю, я только слышу, что ругается он долго, и крепко, видно, забирает. Чего он не идет ко мне?
Я уж помирать собрался.
Один раз я глаза разодрал маленько. Вижу – Огородник у излучателя сгорбатился, лупит вовсю. Серьезный – страсть. Деловой, ловко у него получается. Вот издалека опять огонь прилетел. Целый шарик огня о передок амфибный разбился, пламенные крошки в разные стороны – порск! Опять мне тепло…
Тут глаза совсем слезами застлало. И больно, больно!
Ругается мой Огородник.
А я концы отдаю.
Бамс! Совсем отключился…
Глава 2. Солнечный мальчик
Флореаль 2144 года.
Планета Совершенство, город Сервет, столица риджна Шеппард и всей Республики Совершенство.
Студент Эрнст Эндрюс, 18 лет.
Я нравился себе, когда рассматривал свое тело в зеркале. Сухой, ни капли жира, не то чтобы мускулистый, скорее, жилистый, крепкий. Рот и нос правильно очерчены, детская пухлость губ успела к тому времени сойти на нет. Соломенные волосы, глаза цвета спелого янтаря. Вот уже год как я учился в Сервете, а это город на теплом море, тут бывает либо очень много света, либо чуть поменьше; зима коротка, несколько недель идут холодные дожди, да и все. Поэтому загар круглый год остается ровным: с осени до весны он просто не успевает сойти… Чтобы получить такой загар искусственным путем, надо быть раз в пять богаче меня. В общем, я был хорош, просто загляденье. Только подбородок слабоват. Не хватало воли подбородку…
Не беда. Один подбородок общего впечатления смазать не может. Я обязан был нравиться девчонкам, и я им нравился. На меня поглядывали, мне строили глазки, мне делали всевозможные намеки… И даже влезали на колени под игривыми предлогами. Однажды мне было сказано: «Страшно к тебе подойти, Эрни…» – «Почему?» – «Ну как же! Ты вроде налитой виноградины, аж светишься изнутри» – «И?» – «Балбес! Будь ты самую малость похуже, цены б тебе не было»…
Действительно, роль партнера по развлечениям я играл спустя рукава. Однако высокомерие тут ни причем. Кажется, я лишен высокомерия начисто. Да, красоту свою я осознавал, но никаких выводов из этого не делал. Я был фантастически ленив, вот в чем загвоздка! Мне казалось: если женщина хочет заполучить меня, пусть сама придет и сама совершит все приготовительные пассы.
Родители оплачивали мне комнату в чудовищном спальном октагоне на окраине Сервета. Чудовищном не по условиям, нет. По размеру. С утра все коридоры и переходы в нем наполнялись людским морем, оно выплескивалось на улицы, и я, маленькая щепочка, плыл на гребне одной из волн…
Тогда как раз была очередь Сервета исполнять роль столицы. До 2120-го столицей был Миррор-сити, а потом вышел закон: ради социальной справедливости главный город каждого риджна на планете должен в течение 10 лет побыть в столичной шкуре. Со всеми ее плюсами и минусами. До 130-го «дежурила» Меланхтония, до 140-го – Кампанелла, а потом пришел черед Сервета. Когда я там жил, Сервет был очень богатым, очень дорогим и очень толпливым городом. Поздней осенью и ранней весной он приближался к идеалу. Но летом все губила нестерпимая жара и великое столпотворение: под мантию столицы Сервет надевал цветастую курортную рубашку… По жребию через шесть лет, в 150-м, столичную должность обретал Полсберг. Но я собирался остаться в Сервете. Мне нравился этот город. По крайней мере, тут хорошо готовили рыбу. Иногда – настоящую, свежепойманную. Немыслимое дело: здешним рыбакам все еще было что вылавливать! Не в море, конечно, в озерах высокогорных, в море-то давно всё научилось плавать кверху брюхом…
Мне хватало денег, чтобы вести умеренный, спокойный образ жизни. Я не перетруждался, одолевая учебный курс, не блистал на семинарах и не приводил своими способностями в восторг тьюторов. Но стабильный средний результат у меня всегда был в кармане. Я не особенно много пил и ни разу ни с кем не подрался, хотя возможностей для этого в студенческой среде – хоть отбавляй. Я ненавидел большие шумные компании, но был не прочь поболтать с парой-тройкой милых людей или потанцевать с подвернувшейся девчонкой. Я был не плох и не хорош. Я был я.
Что я любил в ту пору? Что занимало меня?
Во-первых, я немножечко писал. Стихи и еще какие-то невнятные, но глубокомысленные эссе. Ни то, ни другое мне впоследствии не нравилось перечитывать. Но какая это великолепная игра – в Человека, Который Творит!
Впрочем, литературные игры были у меня не во-первых, а во-вторых. Потому что на первом месте всегда стояли мечтания. Совсем не те сильные, яркие, четко оформленные желания, которые обыкновенно называют мечтами. Мечта похожа на плоский цветной кружок, прикрепленный к белой стене. У меня не было кружков, у меня были туманы разных оттенков. Я погружался в мечтания как в длительную легкую дрему, поскольку хотел многого, но ничего – по-настоящему сильно… Все вокруг размывалось. Я купался в жизни подобно пыли, парящей в солнечных лучах, а мечтания мои купались во мне, словно капельки вязкого десертного вина, пролитые в чистую воду… В чистую, очень чистую воду, прозрачнее и легче самого воздуха. Бывает ли вода легче воздуха? Выходит, да. Я был такой водой – летучей, теплой, окутанной винными туманами.
И когда ты чувствуешь себя то ли пылью в солнечных лучах, то ли водой в воздушной стихии, все на свете кажется несерьезным и неважным. Поэтому я играючи тасовал слова и фразы, пытаясь придать себе малую толику блеска… Вон пошел парень, он пишет стихи. Хорошие? Не знаю, не читала. А на слух? Да и не слышала тоже. Факт тот, что он пишет…
Я был никем и пытался – так же и вяло и лениво, как все, что я делал в те годы, – изобразить кого-то. Быть кем-то слишком пафосно, а вот казаться кем-то гораздо уместнее. Да и стильнее, пожалуй.
Я выбрал на побережье, не слишком далеко от своего жилья, кафе «Цехин». Оно посещалось меньше соседних заведений – уж не знаю, по какой причине. Возможно, у них стоял устаревший кухонный автомат. Во всяком случае, кофе, коньячный ликер и жареная рыба слишком откровенно отдавали синтетикой… А может быть, это кафе просто ничем не отличалось от других. Так иногда бывает: некто или нечто до такой степени не выделяется среди прочих, что в конце концов оказывается хуже всех, становится на нижнюю ступень в родной иерархии… Меня это качество «Цехина» как раз устраивало. Чем меньше посетителей – тем тише. Название приятное… «Он творил у самых морских волн, в «Цехине», теперь это место стало меккой для романтически настроенной молодежи…» Я садился на улице, под матерчатыми зонтиками и заказывал все-равно-что, но подешевле. Сидел, смотрел на море, смотрел на песок, смотрел на проходящих мимо людей… И вымучивал из себя стихи. Я где-то прочитал о знаменитом поэте из времен классической старины… как же его звали? впрочем, не важно… Так вот, он писал на салфетках. Я тоже решил писать на салфетках – по его примеру. Но поскольку бумажные квадратики не всегда имелись в наличии, я загодя покупал их и приносил с собой.
Вымучивалось худо. Иногда после двух-трех посещений «Цехина» я не мог похвастаться хотя бы одним завершенным стихотворением. Сколько должен писать поэт, если он поставил себе задачу не утратить поэтского статуса? Обязательно одно стихотворение в неделю? Или можно одно в месяц? Вот незадача…
В наши дни никто не пишет много. Когда-то, говорят, люди зачитывались романами. И романов была просто уймища. Я склонен думать, что это правда, поскольку один настоящий средневековый роман я нашел в приложениях к учебной программе по культуре. Конечно, адаптированный. Если бы старые тексты не адаптировали, их было бы очень скучно читать… Роман назывался «Мадам Бовари». Он был про то, как одна женщина изменила своему мужу. Женщина стеснялась и мучилась. Я не мог понять – почему? Мой тьютор как-то сказал: «У классической литературы привкус нераскрытой тайны…» Точно. Тайна есть: почему женщина так маялась, обзаводясь вторым партнером? Пошла бы к психоаналитику, он бы ей живо вправил комплексы… Но женщина мне почему-то нравилась. Она не была похожа на нынешних девчонок и, тем более, на мою мать. Должно быть, мадам Бовари не хотелось быть примитивной штамповкой, вот она и построила свою психологическую стратегию нестандартно – в надежде прослыть штучным товаром. Или такова хитрая методика повышения самооценки? Но только оч-чень хитрая… Тьютор объяснил: «В старину люди табуировали секс…». Я не понял ни черта, но увлекся. Что-то было в женщине из романа. Странное и притягательное, медлительное и завораживающее… не знаю, как объяснить. Слов таких нет. С тех пор все стало проще. Мы ясны, мы на свету, а она как будто в полумраке. Мы – простые, надежные, удобные в эксплуатации модели. Она – модель навороченная, с опциями и примочками мутного назначения, сразу ясно, что крутая, но среднему юзеру не по зубам. Очень длинный роман. Я читал его на протяжении двух месяцев минут по двадцать в день, или даже по сорок, если было интересно. Жутко устал, но солидно приподнялся по культуре. Нашел еще один роман, про древнюю Америку. Называется «Унесенные ветром». Но его я не дочитал: там были рабовладельцы, и их всех автор показал как хороших людей, добрых и храбрых. А этого быть не может, мы же теперь знаем: все рабовладельцы – моральные уроды, они не могли быть ни добрыми, ни храбрыми. Автор тут явно напутал, вот и я сбился, перестал ему доверять… И решил сделать перерыв. Не читать пока старинные тексты. Антиквариат – интересная штука, но стоит ли сажать на нем столько времени и нервов? То есть времени он жрет исключительно много, и когда читаешь, почему-то очень сильно волнуешься, а так тоже нельзя… Теперь не пишут ничего столь же длинного. Если нормальный человек не может прочитать текст за день – когда он не работает, конечно, а просто читает с утра до вечера, да и все тут – значит, очень странный текст попался. Мало кто захочет возиться с таким текстом.
Стихи сейчас тоже коротенькие. Надо быть полным извращенцем, чтоб писать поэмы, как раньше. Это я по себе знаю. Больше двадцати строк может написать только маньяк, фанат или полный отморозок. Писать надо шутя, играючи. Как целоваться на вечеринке.
Я не маньяк и не фанат. И мне скоро стало тяжело давить из себя какие-то тексты, где все складно, все аккуратно сделано, да еще и много. Двенадцать, например, строчек, или целых шестнадцать. Всего мой «классический период» продлился полгода с хвостиком. Получилось двадцать два стихотворения и два эссе. А еще три стихотворения я написал раньше, до того, как всерьез засел за литературный труд. Это должно называться «предыстория творчества». Потом, когда обо мне кто-нибудь напишет. Или «раннее творчество». И так, и так можно. И так, и так говорят.
Я отобрал, что получше, примерно половину, и запустил в сеть. Там даже обо мне почирикали невнятно. Общий смысл: «О, глядите-ка, еще один пишет!»
А потом я попробовал творить современные стихи. Их писать гораздо проще. Как кого пронесет, в самом натуральном смысле этого слова, так и написать. Умные люди отчасти в шутку, отчасти всерьез говорили: «О, такого-то опять пронесло стишками». Надо только какую-нибудь чудинку свою придумать, иначе затеряешься. И эссе по-современному – тоже дело несложное. Тут должно быть видно три вещи: во-первых, дикая сложность, как бы умность. Во-вторых, дикая непонятность, – не только для тупых, а для всех. В-третьих, все должны видеть, до чего ты волновался и трепыхался, когда писал. Если видно, как трепыхался, значит, высок регистр искренности. А это – катит. Насчет стихов я делал прикольно: рисовал положенную на бок восьмерку, знак бесконечности, и писал кругом восьмерки какую-нибудь ахинею. Но прикол кроме меня никто не заметил и ничего не сказал. Насчет эссе получилось лучше. Я написал на десять тысяч знаков про роман «Мадам Бовари». Причем сначала написал просто и ясно. Как полный дурак. Потом залез в справочную программу и выписал оттуда сто научных слов. Воткнул все сто, посмотрел, и самому понравилось: будто бы настоящий научник писал! Да и больше стало на целую тысячу знаков. Потом разбил все предложения в тексте надвое. Выбросил первую половинку первого предложения и вторую половинку последнего. Сшил вторую половинку первого предложения с первой половинкой второго, вторую половинку второго с первой половинкой третьего, вторую половинку третьего с первой половинкой четвертого, и так далее, до самого конца. Посмотрел. Нет, все равно понятно. Выбросил все числительные, вместо числительных везде вставил знак «бесконечность». Круто! Придумал хорошее название: «Иератика эпического символизма в «Мадам Бовари». Прыжок в континуитет». Круто! Правда, значение слов «иератика» и «континуитет» от меня ускользнуло… Оставалось сделать текст трепыхательным. Сколько ни бился, не мог. Начал спрашивать у знакомых, как это у них бывает, когда они волнуются, и как они про это говорят. Мне сразу накидали отличных фразочек: «Штормит не по-детски», «как бы пришел приход», «колотит, чисто трупешник от розетки», «сама не своя, типа в критические дни», «…и прочищает все люки!» После каждого абзаца я написал: «И когда я думаю об этом, меня штормит не по-детски». Или: «Если пропустить это через свою личность, то как бы придет приход». Или: «Искреннего человека от одного прикосновения с образом соблазнителя колотит, чисто трупешник от розетки». Или: «Ставлю себя на место мадам Бовари и чувствую: вот, я сама не своя, типа в критические дни». Словом, я использовал все, что набрал от народа. А в самом конце: «Написал последнее слово, и чакры открылись, и прочистило все люки!» Теперь вышло – самое оно. Я подал «Иератику эпического…» как учебное сочинение и к изумлению своему выиграл конкурс студенческих работ. Декан Лора Фридман, рыжая носатая стерва, при большом стечении народа вручила мне чек на сто килогульденов, забранную в рамочку пометку о внесении моей этой штучки в реестр «Юная элита», а также «семечку», где был записан адаптированный вариант еще одного старинного романа. Рамочку я быстро потерял. Сто килогульденов – это один раз вдвоем пообедать в приличном месте, а потом переспать в четырехзвездочном люксе. К утру я обладал суммой в полтора килогульдена… На «семечке» я обнаружил роман «Воспоминания о монастыре» Жозе Сарамаго. Прикольного было в романе только одно: Сарамаго, оказывается, из Португалии, и это суперкруто! Никогда не видел ни одного португальца. На Совершенстве их как-то мало… Роман хоть и был адаптирован, а все равно читался с трудом. Муторно писал Сарамаго, ничего не поймешь. Наверное, он считался большим научником. За два дня я прочитал пять абзацев и намертво встал. Но все равно было приятно. Выиграл же я конкурс, а не проиграл. Подарили мне разные примочки…
Угнетало меня одно: современные стихи и современные эссе никто, кроме тех, кому это по работе положено, не читал. Я тоже не читал современные стихи других поэтов. Ничего ж не понятно! И я решил завязать с современными стихами. Мой «модернистский период» продлился без малого четыре месяца. Сто шестьдесят стихотворений и одно эссе.
Три недели у меня тянулся «период мучительных поисков». В смысле, я ничего не писал. Я думал, как бы так исхитриться, чтобы не париться над текстами, но народу было бы приятно читать мое добро.
И я придумал.
Так начался период «романтического минимализма». Стояла весна сто сорок четвертого года. Почему помню: на всем столичн ом континенте как раз начались перебои с чистой водой. Тогда это многих напугало. Потом привыкли…
Вот что я изобрел. Одно стихотворение равняется одной мысли, одному чувству, одной идее. Или, скажем, если я увидел нечто необычное, то одной зарисовке, картинке… Мне тогда показали японские хокку и танка, это стихи, их писали еще на самой Земле. А все написанное на Земле ценится выше нынешнего. Оно как бы более настоящее. Более солидное. Я прочитал с десяток хокку и танка, мне понравилось. Все как надо. Аутентично! Положи на один стол хокку и нашу современную финтифлюшку, так финтифлюшка тут же зарыдает от стыда и забьется в уголок. Сначала я хотел делать стихи под японскую старину. Круто бы получилось. Но когда попробовал, скоро упрел – размер держать, словечки нанизывать… На фиг! – сказал я себе. Пусть будут белые хокку. Хокку в прозе. Коротенькая мысль-чувство-идея, – очень коротенькая! – и обязательно в романтичном изложении. Люди же любят все романтичное, ну, вроде обеда в ресторане над прудом.
Так родился романтический минимализм.
Дело сдвинулось с мертвой точки. У меня поперло. В день я записывал по одному – по два стихотворения. Некоторые из них получались невероятно длинными, но для меня писать их не составило никакого труда. Вот что значит грамотная маркетинговая идея… эээ… то есть, конечно, дебютная идея.
Вот мое любимое стихотворение:
- Меня зовут корабли,
- Никогда не виденные мною.
- Я ищу паруса,
- Которых не было, нет и не будет.
- Я нуждаюсь в золотых монетах,
- Спрятанных давным-давно
- В земле несуществующей страны.
- Я люблю изящные гербы,
- Пурпурные ткани,
- Благородных девушек,
- Мушкеты,
- Рыцарские шлемы,
- Плеск штандартов,
- Страусиные перья на треуголках,
- Стихи сумасшедших людей
- В высоких ботфортах
- И при длинных шпагах.
- Это невозможно —
- Все вместе!
- И даже в отдельности
- Встречается очень редко.
- А когда я вижу хоть что-то
- Из реестров моей мечты,
- Неизменно нахожу в золоте
- Подлую примесь меди,
- Неизменно слышу
- В мелодии благородства
- Фальшивую ноту корысти.
- Но я храню странную надежду:
- Быть может,
- Несмотря ни на что,
- Где-нибудь
- Бесконечно далеко отсюда
- На зеленом холме расцветает
- Моя мечта во всем ее блеске
- И без единого изъяна…
Я думал, оно попадет в такт с мечтами многих людей… Но вышло иначе. На него никто не обратил внимания. Или, возможно, я заглянул людям так глубоко, что они почувствовали неудобство. Кому понравится чужое любопытство, забравшееся в самые глубокие трюмы души?
А может быть, мне просто захотелось объяснить провал этих строк, столь важных для меня.
Зато другое стихотворение вызвало настоящий шквал эмоций. Похлопывания по плечу, ревнивые взгляды иных студенческих поэтов, ободряющие словоизвержения в сети, деловитые объяснения в любви перед тем как…
А ведь это ужасно просто! Почти глупо! За что здесь любить, чем восхищаться? Сам написал, но понять не могу:
- Я подобен частичке цветочной пыльцы,
- Летящей над кромкой прибоя:
- У меня нет веса,
- Я не различаю землю, воду и небо,
- Не помню, откуда сорвал меня ветер,
- Не ведаю, где упаду.
Шесть полубессмысленных строчек. И ты ловишь на себе заинтересованные взгляды незнакомых людей, слышишь обрывки фраз наподобие: «…этот?.. пыльца над кромкой?.. сам?.. о-о-о…»
Вот и о-о-о…
Обо мне даже несколько раз написали всерьез.
Поэты из артели «Глаксинья» дали мне суровую оценку:
«Градус имажной примитивизации Эндрюса принципиально элиминирует деконструкционный вектор его генеральных эттемптов. Очевиден эксплицитный слом устоявшейся парадигмы. Данная морфология постинтеллектуалистского дискурса валидной считаться не может ни с какой точки зрения». Один мой знакомый почитал и сказал: «Ты только к девкам с переломом парадигмы не ходи, а то они тебе последнее доломают…»
Поэты из Аристократического клуба сравнили меня со своим авторитетом, и я, разумеется, проиграл: «Поле художественного небытия вновь принесло урожай в виде множества современных эпигонов, абсолютно неспособных ощущать музыку стиха. Например, шустрый ретроинсталлятор Эндрюс – свежайшее порождение хаоса… Сколько бесплодных стараний! Трескучие фразы, вычурная котурновость… Но Уордсуорт остается, конечно, непревзойденным».
Да я и не пытался цапнуть вашего Урода Суорта! Я и знать о нем не знал. Правда! Я сам по себе.
Поэты-цифровики обвинили меня в предательстве формального эксперимента: «Период положенных набок восьмерок свидетельствовал о живом биении мысли, о научном поиске в области современного стихосложения! Разумеется, все это было наивно. Еще четверть столетия назад великий Прампель объяснил всем литераторам, способным мыслить: во-первых, тексту не следует быть плоскостным, он лишается глубины, если его втискивать в двухкоординатное убожество; во-вторых, художественное произведение должно подчиняться в первую очередь математическим закономерностям, это ведь прежде всего фрагментарная графическая проекция эмоционального плана бытия. Эндрюс этого не понимал, но он уже был на подходах к истине. Общеизвестно, что из молодых поэтов столицы именно он подавал наибольшие надежды. Что мы наблюдаем теперь? Непредвзятый ум обязан констатировать: безжизненная пустыня до самой линии горизонта…»
Оказывается, я подавал какие-то надежды! Раньше-то почему не сказали?
Поэты-канатоедцы клеймили меня последами словами: «Мало одиночества, мало монологизма, мало автоматического письма. Отвратительное пристрастие к строгой форме. Зачем вам это, Эндрюс? Честные поэты идут самым трудным путем. Это путь непонятности, непринятости, непризнанности. А вы, видимо, возжелали дешевой популярности у серых масс!»
Кабы знать, что без монологизма нельзя… Если кто в курсе, где почитать про монологизм, сообщите мне, пожалуйста.
Поэты из Маргинальной Академии двинули вразрез со всеми остальными: «Так держать, парень! Это самый смелый эксперимент за последние двадцать лет – писать стихи, которые можно читать. Мы, бессмысленные упыри, поддерживаем Эндрюса против всех продажных шакалов».
Спасибо вам, упыри, вы мне теперь как родные.
Очень удивили меня виртуальные бомбардисты:
«Пубертатные скрипы Эндрюса – для нас уже пройденный этап. Мы – разрушители! Сатана победит! Не носи в обтяг! Стреляй первым! Сбросим старичье с корабля современности! Эндрюс – весь в прошлом веке. Эндрюс миновал. Эндрюс должен быть разрушен!»
Как же так! Я только-только писать намастрячился, а уже – пройденный этап… Я же еще толком и начать не успел… Ой.
Поэты-ассоциаторы+ выразили свое мнение туманно: «Плей веней эторнитээ мэн веней харт». Я спросил одного знакомого ассоциатора+, что это значит. Он посмотрел-посмотрел и объяснил: «Очевидно, это высказывание универсального плана». Ладно. Раз умные люди говорят универсального, значит универсального…
Зато ассоциаторы- обозначили позицию гораздо яснее: «Гррргр БэгэБэээээ Хрюмсь ГрБэээ!» Я и ответил им столь же прямо: «Сами вы собаки, бараны и свиньи!»
Весомые люди из Института статистической литературы в совершенно научном издании высказались обо мне так: «Сам факт нового поэта – положительный факт!» Я не очень понял их пафоса, но почел за благо согласиться.
В целом же я был удивлен возней вокруг моих штучек. Круто, конечно, но почему эти люди столь серьезны? Я же пишу почти понарошку! Может, дело в этом самом почти?..
Однажды произошло странное событие. Я написал очередное баловство и пустил его на прогулку в сеть:
- Перед грозой
- Листва наполняется
- Призраками ушедших душ.
На следующий день в моей комнате, на моем столе, посреди моих бумаг появилось свидетельство визита каких-то чужаков.
Листок бумаги. Аккуратные строки, буковка к буковке, почерк стилизован под какую-то незапамятную старину. Это чувствовалось, что под старину, но определить, под какую именно, мне не хватило знаний.
«Досточтимый господин и полноправный гражданин Эндрюс, душа свободная от очевидной принадлежности! К Вам обращается нижайший раб, приписанный к Мастерской переливания крови. Имя мое – Имущество Хозяина, и прочего знать Вам не следует. Ваш краткий стихотворный текст об ушедших душах случайным, как мы полагаем, образом, открыл истину, которой достойны только посвященные адепты второго уровня. В силу важности для нас значений некоторых слов и символов, мы собрали Совет Подмастерьев и обсудили проблему Вашего дальнейшего существования. Отвергнув решение пресечь его немедленно, мы согласились между собой подарить Вам жизнь, ожидая очередных Ваших шагов на пути личного духовного просветления и приучения народов к Истинным Символам. Быть может, Вас ведет рука Высокого. Уповаем на это. Если путь, избранный Вами, – не случайность, нам еще предстоит встретиться. Надеюсь, Вы не откажетесь от знакомства с навыками Высшими и Потаенными, от приращения знаний и способностей, данных Вам от природы. Мы будем наблюдать за Вами и способствовать некоторым Вашим начинаниям».
Подпись: «Худший из Братства».
Я ничего не понял, но был напуган. К счастью, вмешательство чужих в мою жизнь ограничилось этим посланием. Или, возможно, оно имело место и впоследствии, но осталось мною незамеченным…
На время я заподозрил каверзу однокурсников. Напрасно.
Зато покровительство Лоры Фридман я испытал на себе в полной мере. Оказывается, она принадлежала к «Обществу ревнителей традиционной литературы». Раз в год Общество собирало деньги и печатало настоящую книгу – какие делали в старину, лет сто назад. В очень красивом артоморфовом переплете с ползучими голограммками и видеомузыкальным сопровождением каждой страницы. Всего сто экземпляров – для подлинных ценителей. Не спросив моего разрешения, она включила туда самое длинное изо всех моих стихотворений. Вот оно:
- Однажды я сидел на берегу
- И наслаждался зрелищем
- Ровного прилива.
- Волны плескались о камни,
- Изборожденные током воды,
- Поросшие зелеными кудрями
- Водорослей.
- Пленительная картина!
- Изгибами водорослей под водой
- Можно любоваться
- Всю жизнь.
- Но вот мне почудилось:
- Чего-то не хватает.
- Самой малости,
- Но важной.
- Я пригляделся:
- И впрямь,
- Это место
- Слишком прекрасно,
- Чтоб не скрывать
- Какой-нибудь тайны
- Или клада.
- Но ни того, ни другого
- Я не видел.
- Тогда я отправился в город
- И купил там старинную монету.
- Серебряную.
- Настоящую.
- С Земли.
- Я принес ее на берег
- И бросил в воду.
- Но монета провалилась между камнями.
- Теперь ее ни за что
- Не разглядеть!
- Я набрался терпения,
- Прошелся по антикварным лавкам
- Еще раз.
- И купил еще одну монету.
- Чистое серебро.
- С Земли!
- Потом я бродил,
- Закатав штаны,
- По мелководью.
- Отыскал подобие каменной чаши,
- Глубокой
- И дикого вида,
- Словно в камне дремал
- Нрав
- Лукавый и непокорный.
- В той чаше я и оставил
- Монету.
- А потом до заката ловил
- Искаженные отблески
- Доброго серебра.
- Но назавтра монета моя
- Исчезла…
Надо же! Сама выловила в сети и напечатала. Я узнал об этом, только когда Лора Фридман вызвала меня под учебно-административным предлогом, усадила в кресло и молча подала книгу под названием «Забытая река». Я так же молча полистал, нашел стихи о монете и на минуту совершенно утратил над собой контроль. Возможно, я что-то невнятно булькал и, скорее всего, щеки мои сделались красны, как закат на картине, писаной вместо краски сухим Полсбергским вином… Мне сделалось необыкновенно стыдно. Лора Фридман могла вызвать такое же чувство другими способами. Например, заставить меня голышом читать лекцию или задать вопрос о цвете моего кала…
Но постепенно я отошел от мыслительного ступора. О! Деканша, оказывается, все это время что-то вещала, поддерживая монументальный тон и торжественное выражение лица.
По правде говоря, я уловил только два слова: «большая честь». Но тут Лора Фридман замолчала и уставилась на меня выжидательно. От нее повеяло сквознячком беспокойства. Какая-то неправильность. То ли звук, то ли запах, то ли… то ли… непонятно.
Я почувствовал, что сейчас надо оправдать ее ожидания, только не ясно, какого рода. Пауза подошла к отметке «слегка неприлично». Вероятнее всего, требовалось выдавить из себя нечто глубокомысленное. Я напрягся и выдавил:
– Кто я такой? Кто мы такие? Всего лишь песок под солнечными лучами. С титанами прежних времен мы не можем встать в один рост. В лучшем случае мы способны казаться ими…
Сказал, и самому понравилось. Очень значительно прозвучало.
Она поднялась из-за стола и подошла ко мне вплотную. Ее тело почти касалось моего. Протянула руку, небрежно взъерошила мне волосы. А потом скучающе добавила:
– Вы талантливы и робки, Эрни. Для истинного ценителя… или ценительницы это драгоценное сочетание.
– Спасибо. Большое вам спасибо. Я очень вам благода… – Эту фразу я начал произносить на автомате, потом запнулся… запнулся… и поднял на нее глаза.
Увиденное привело меня в состояние крайней растерянности. Да этого просто быть не могло!
Радужки ее глаз – две клумбы с бесстыжими огненными цветами. Однокурсницы научили меня понимать такие взгляды без комментариев. Что за глаза! О, черт, что за глаза! Словно два отверстия, аккуратно вырезанных в спелом, налитом лавой вулкане.
Мощь ее желания на несколько секунд подавила меня и лишила способности здраво рассуждать.
Между тем, ее пальцы все еще не окончили свой туристический вояж по моим волосам. И мне захотелось прикоснуться к ней. Прикоснуться к ее коже – очень белой, белей полнолуния. Почувствовать, чего больше в теле Лоры Фридман: прохлады или пламени? Второго, наверное, второго… Но прежде всего, накрыть ее пальцы своими.
Ой!
Я наконец понял, что именно сбивало меня с толку еще до того, как она… подступила ко мне. А ведь Лора Фридман именно подступила – как армия с осадными орудиями, лестницами и пушками подступает к стенам крепости… Она пахла дорогим афродизиаком. Достаточно сильным, чтобы не давать мужчине покоя и достаточно тонким, чтобы избавить собеседника от излишней уверенности. Наши девчонки рассказывали мне кое о чем… подобном.
Моя ладонь дернулась, но я сейчас же усмирил ее.
Здесь, в этой комнате, в этом университете, Лора Фридман была всем, а я ничем. Она превосходила меня по любым показателям, какие только можно вообразить. И даже моя внешность – выигрышная внешность молодого здорового парня, которому природа даровала приятное отражение в зеркале, уступала зрелому могуществу ее красы.
Но она была старше меня лет на пятнадцать, и ей требовалось, чтобы я разрешил завладеть мной. Таковы правила вечной игры.
А я колебался, не решаясь обозначить последнее позволение. Не ее возраст и не ее искушенность тревожили меня. Просто она слишком сильно хотела получить меня. Так сильно, что ее желания заморозили мои собственные…
Если бы все происходило при других обстоятельствах! Не в ее кабинете. Не столь неожиданно. Если бы ей удалось чуть-чуть прикрутить огонек в собственных глазах! Наверное, все произошло бы очень быстро…
Однако вышло то, что вышло. Здравомыслие держало на вытянутых руках транспарант с двумя крупно написанными словами: «Неизбежные неприятности!» Кроме того, какая-то часть меня, совершенно не связанная с рассудком, нашептывала: «Этот огонь сделает тебе больно».
И я сказал:
– Мне надо подумать… обо всем этом.
Ни один мускул не дрогнул в ее лице. Но глаза, глаза! Будто две заслонки опустились над страшной топкой…
– Верно ли вы поняли меня?
Я встал. Дистанция между мной и Лорой Фридман нимало не увеличилась. Я даже сократил ее на одну десятую шага.
– Полагаю, да.
– Вы свободны. Подумайте… на досуге.
Я вышел от нее взмыленный. Меня бросало то в жар, то в холод. Кажется, обыкновенная административная стервоза, каких двенадцать на дюжину, а поди ж ты, какое пылание скрывает в себе!
За несколько минут я повзрослел года на три…
Разумеется, о близости с нею я и думать не собирался.
Напротив, мне на ум приходили один за другим неуклюжие планы, как избежать связи с деканшей… Но так было только первые день-два. А потом Лора Фридман стала являться ко мне в снах и оборачиваться знакомыми девчонками.
Ее образ…
К свиньям образ! Глаза и кожа. Запах. Грудь. Голос. Пропади оно пропадом!
С другими я проводил ночь, но не помнил на утро, как выглядит их тело, не помнил имен и лиц. Да и они, впрочем, вряд ли вспоминали обо мне, – вплоть до следующего приступа естественных надобностей. А эта бледнолицая ворона теперь мерещилась мне буквально всюду. И даже умудрилась поссорить меня с одной энергичной партнершей, не прилагая к тому ни малейших усилий…
Я не знал, что и подумать. Какое лихо стряслось со мной? Раннее проявление серьезных чувств? Или нездоровая психическая зависимость? Вот, раньше многие писали о любви. Сейчас все больше о своих страданиях и о половом акте. Но любовь и половой акт несоединимы. Первое – старинное чувство, тонкое и благородное, сейчас его можно только сыграть. Второе – быт. А я застрял точно посередине…
Погружаясь в томительную маету, я написал семь строк:
- Когда я размышляю о любви,
- Всякий раз пытаюсь представить себе
- Что-нибудь возвышенное.
- Но в голову лезет
- Одна только женская кожа.
- Белая кожа,
- Натянутая округло и звонко…
Или сходить к врачу?
Самое время завести знакомство с недорогим психоаналитиком…
Я не пошел к Лоре Фридман. Я не пошел к психоаналитику. Я не придумал, как остудить кипящие мозги. Но семь строк о любви я исправно загнал в сеть. По привычке. Машинально. Это было худшее из всего, что я мог сделать!
За неделю случилось очень многое. Главным образом, плохое.
В день первый мне закатили пощечины три студентки, не обладавшие белой кожей, – по очереди, с интервалом примерно в час. Потом «довесила» совершеннейшая беляночка. Дабы никто не подумал, что белые женщины остались равнодушны к моей расистской выходке. На выходе из университета ко мне подошел накачанный афр в майке и с серьгой в ухе. Ничего не говоря, он двинул меня в скулу. Я его. Он опять – меня. И я. А он все то же. Пришлось повторить. И получить ответ… В общем, мне досталось больше. Он все время молчал, но по гневному выражению его лица я понял, что кожа есть и у мужчин.
На второй день я получил только одну пощечину, забыл от кого. Тогда же на меня подала в суд Ассоциация «Равноправие». За расизм. В сети меня почтил открытым письмом признанный лидер канатоедцев Зизи Пегая Свинья. Зизи не хотел бы жить в одном городе с таким моральным уродом, как я. К Пегой Свинье вяло присоединились пять негодующих поэтесс из Аристократического клуба и чудовищный Рёмер Гарц, признанный император графоманов, отметившийся во всех стилях, обществах и академиях.
На третий день никто уже не пытался устроить моим щекам проверку на прочность. Однако из суда дистрикта пришло сообщение еще о двух исках: от всепланетного Фонда «Власть Женщин» и от регионального Союза сексуальных меньшинств «Доминирование». Оба иска – с формулировкой «за сексизм».
На четвертый день мой тьютор Джордж Байокко, приторно улыбаясь, завел осторожную беседу о неких разногласиях в руководстве университета по поводу меня. Что за разногласия, он так и не объяснил. «Вы ведь сами все понимаете…» Беда! Я как раз ничего не понял и хотел переспросить, но постеснялся. Зато Байокко посоветовал мне помедитировать на досуге над шестой строчкой злосчастного стихотворения о любви. Нужна ли она? Как взрослый, умный и не лишенный способностей человек, я должен понимать, где именно проходят невидимые пределы дозволенного вольномыслия. Все здравомыслящие люди, оказывается, видят эти пределы с полпинка…
На пятый день менеджер группы «Малахерба», практиковавшей камерный турбо-рок, связался со мной и предложил порядочные деньги за право использовать семь строк о любви в качестве припева в какой-то их «Садо-брутальной композиции»… Единственная хорошая новость. Садо они там, бруто или нетто, а деньги пригодятся. Лора Фридман, как бы случайно встретив меня в коридоре, опять глянула пылающими глазами и вполголоса высказала ужасную крамолу: «Молодец, мальчик! Народ Авраама, Моисея и Соломона создал все, что сейчас называют культурой. А он тоже бел, и умные люди всегда помнят об этом». Знала бы она, до чего права! Ведь ее декольте наследует по прямой и Аврааму, и Соломону, и Моисею… «Мы будем вас защищать!» – добавила Лора Фридман.
На шестой день доктор философии Жан-Пьер Малиновски прочитал публичную лекцию о рецидивах тоталитарных настроений в студенческой среде. Я там не был. Но мне рассказывали, что выражение «например, Эндрюс» прозвучало раз двадцать. В тот же день я нашел перед своей дверью окровавленную куриную голову. А на самой двери анонимная рука вывела фосфоресцирующей краской: «Очистим наш мир от уродов». Смыть краску можно было только вместе с дверью. В сети появилась моя физиономия. Очень сердитая. И еще там нетрудно было различить мой кулак, расплющивающий нос тому самому афру с серьгой… Все остальное – будто в тумане, нечетко. Ниже неведомый доброжелатель разъяснял суть дела: «Эрнст Эндрюс избивает чернокожего».
На седьмой день перед домом, где я жил, встал пикет из трех человек. Двое смущенно улыбались, а третья хмурила брови и сжимала в руке самодельный плакатик: «Кукуклан – не пройдет!» На тыльной стороне «Кукуклана» красовалось: «Любовь не различает цветов!» Они проторчали до вечера. После заката ко мне поскреблась совершенно незнакомая девушка. Прямо с порога она заявила: «Хочу разок попробовать, как это делают фашисты». Не помню случая, когда секс выходил бездарнее и скучнее… Минуло десять минуло после ее ухода, и мне на чип пришло сообщение от поэтической артели «Глаксинья». Вот начало: «Мы, современные молодые поэты, с презрением отвергаем наглые выходки фашиствующих молодчиков…» Всего одиннадцать подписей в конце. Вчитавшись как следует, я понял, что настоящий живой «фашиствующий молодчик» всего один, и это я. Но относительно выходки оставалось сомнение: что они имели в виду – пресловутую шестую строку или сексуальный опыт с любительницей фашистов? Вероятно, обвинение предъявлялось по совокупности.
Я загрустил.
Но апогеем моих печальных приключений стала встреча с джентльменом в черном…
Я только-только устроился за столиком в «Цехине», отхлебнул невыразительного кофе и принялся мечтательно мусолить салфетку. И тут, откуда ни возьмись, явился человек, одетый явно не по погоде. Строгий черный костюм, черная рубашка, черный галстук, черные запонки. Безупречность и дороговизна.
Он подсел, не спросив разрешения, и без предисловий начал разговор:
– Мистер Эндрюс, я представляю серьезных людей. Буду рад, если вы уделите мне десять минут своего драгоценного времени.
– Конечно же… Как мне вас называть?
– Никак. Послушайте, с недавнего времени публика стала обращать на вас внимание. А слава имеет как лицевую, так и оборотную сторону. Люди, на которых я работаю, способны избавить вас от неприятностей… по поводу кожи… и тому подобной ерунды.
– Что ж, я искренне благодарен. Чем потребуется заплатить за такую услугу?
– Это ваше? – он прочитал одно из первых моих стихотворений в стиле романтического минимализма. Я как раз побывал на посмертной выставке Пола Корда. Странный был человек, но добрый, все ждали от него какого-то главного дела всей жизни, сверхдостижения. И он на протяжении семи лет писал эскизы к картине «Старинные чудаки, такие скоро исчезнут». А потом умер, оставив семьдесят эскизов, но так и не окончив работу…
- Я люблю одного художника:
- Его картины
- И его судьбу.
- Это был хороший человек,
- И он хотел сотворить
- Нечто сверхъестественное,
- Чудесное.
- Но ему не было позволено.
- И он тихо умер,
- Никого не оскорбив
- Злой бранью.
- Я печалюсь о нем.
- У моей грусти
- Привкус полыни.
- Несотворенное чудо разбилось,
- Остались осколки.
- Они хранят горечь,
- У которой нет имени
- И священный отряд
- Уходящих душ.
Джентльмен в черным читал это бесцветным голосом. Некролог, сводку новостей или, скажем, кулинарный рецепт уместно читать именно так… Впрочем, я не обиделся.
– Мое.
– Мистер Эндрюс, с вами должны были связаться люди из организации, которая называет себя «Мастерской переливания крови». Я не ошибаюсь?
– Да, они… а кто…
– Благодарю вас. Полагаю, предметом обсуждения были три строки…
Он воспроизвел «Перед грозой…» все тем же омерзительным голосом. Я боялся его, но одновременно во мне росло раздражение. В конце концов, не кулинарные рецепты я пишу!
– Вы правы, но… – я так не сумел сформулировать это самое «но», а мой собеседник терпеливо ждал завершения реплики. Повисло неловкое молчание.
– Мистер Эндрюс, вероятно, вы хотели бы знать побольше, однако я здесь не для этого. Меня уполномочили сделать вам предложение. Мы избавляем вас от нынешних сложностей, а также от избыточных порций внимания со стороны Братства. А вы навсегда исключаете из своих литературных опытов мотив уходящих душ… да и вообще каких бы то ни было душ. Будьте самую малость реалистичнее, вот и все.
– Вы ставите запрет на слово «душа»?
– Можно сказать и так.
Меня подмывало задать вопрос, кто они такие, чтобы вмешиваться в мою жизнь, чтобы диктовать мне, как и о чем писать! Но я боялся, и с каждой секундой все больше погружался в пучину холодного, совершенно необъяснимого ужаса. Обычный день, солнышко светит, птички поют, напротив меня сидит унылое чучело в черном, так почему ж мне так страшно?
Я так и не задал вопрос «кто такие?» Но моего мужества хватило на вопрос попроще:
– А если нет?
– Если вы скажете «нет», мистер Эндрюс?
– Вы правильно поняли меня.
– Ваши сложности возрастут многократно. Вы – дитя мегаполиса и привыкли к определенному уровню бытового комфорта. Лишение малой его толики станет для вас настоящей катастрофой. Допустим… только допустим на секунду, что вы окажетесь в месте, где вам не позволят мыться ни горячей водой, ни холодной, в течение значительного периода… А кормить будут весьма скудно. Например, один раз в два дня.
– Я все еще колеблюсь. Вы не были в достаточной степени убедительны.
– Возможно, у вас просто слабое воображение, мистер Эндрюс. Вы можете представить себе, хотя бы чисто теоретически, что неподалеку от вас, в том же самом месте, окажется ваш отец?
Я почувствовал себя раздавленным. Червяк под сапогом, да и только…
– Я согласен.
– Со своей стороны, заверяю: все обещанное нами остается в силе.
Джентльмен в черном встал из-за стола и покинул кафе. Больше я его никогда не видел.
Он не лгал. За двое суток истцы отозвали все три иска. Нападки в сети моментально улеглись. Пикет пропал. Университет начисто забыл о моем «вольномыслии». И даже безголовая курица не пришла за своей головой… Правда, на протяжении нескольких дней я худо спал. Снилась чушь, однажды под утро явился все тот же черныш и потребовал чаще смазывать дробовик, угрожая в противном случае выбить мне последние зубы. И ведь видел я тот самый дробовик, но к чему он появился в моей жизни, так и не понял…
Было во всем этом нечто гораздо более жуткое, нежели угрозы моего собеседника – и в реальности, и в сновидениях. На минуту-другую мне вдруг показалось, что я кем-то стал. Или становлюсь кем-то. Обретаю вес, материальность… Я почувствовал дыхание жизни, совершенно отличной от того существования, которое я веду изо дня в день. Это нестерпимо!
Нельзя жить, требуя от себя столь многого. Шаг в сторону принес мне облегчение.
Как раз начался месяц флореаль, и в городе стало худо. Каждый год команды упитанных менеджеров насмерть бились друг с другом и с избирателями за Самый Богатый Контракт. Этот контракт делал команду победителей правительством планеты, а «призеры» могли еще побороться за отдельные ведомства и мэрии… Месяца на полтора Сервет превращался в истинный бедлам. С раннего утра город швырял в тебя миллионами разномастных криков. Их тон, дизайн, продолжительность и настойчивость различались бесконечно. Их суть из года в год одна и та же. «Купи нас! Мы недороги и эффективны! Другие хуже!» Так что я убегал из Сервета в гавань Двух Фортов чуть ли не каждый день. Занятия. Потом часа два дома, у инфоскона. Затем Цехин. Напоследок – гавань. На следующий день то же самое, и снова, и снова, и снова. Я задерживался там до глубокой ночи. Тогда город стихал, и можно было вернуться, не опасаясь утонуть в волнах страстей. Страстей чужих и фальшивых…
Гавань Двух Фортов стала в те весенние дни самым любимым моим местом. Там всегда было тихо и безлюдно. Я мог делать там все, что хотел. Но чаще всего я лежал на песке и размышлял, чего хочу, не двигаясь с мечта и подолгу не меняя позы, однако неизменно приходил к выводу, что ничего не желаю с такой силой, как продолжать процесс лежания…
Имя этому месту дал я.
Гаванью оно никогда не было и быть не могло. На Совершенстве давно никто не строил корабли – ни, надводные, ни подводные. Антигравы лишили их права на существование…
Дно округлой мелководной бухты устлано было галькой. Над нею возвышались рябые глыбы валунов, поросших длинными мочалами водорослей. Вот откуда взялись «кудри зеленые»… От остального побережья заливчик отгораживали два грязно-серых чудовища из эпохи титанов. Отвесная скала с тремя пятнистыми соснами на макушке, а неподалеку – ее родная сестра, чуть пониже и с двумя соснами. Счастливы те деревья, до которых не может дотянуться рука человека… Благо, альпинисты на нашей планете не водятся. Два циклопических монолита как будто сторожили бухту от вторжения с моря и суши. Мне иногда казалось, что я различаю на самом верху пушечные стволы и людей в латах. Да-да, мне чудилось отдаленное посверкивание меди. Поэтому я называл каменных сестер фортами. Они появились здесь за много тысячелетий до того, как человек пришел на Совершенство, и, может быть, переживут нас. Время размягчило камень, избороздило титанические тела шрамами, подточило их снизу, высверлив глубокие каверны, но еще не победило, еще не повалило двух стражей бухты.
Мне нравилась их непреклонность. Кажется, они готовы были умереть, но не уступить, не сдаться.
Иногда я представлял себе, как в гавань Двух Фортов на всех парусах влетает фрегат… И тут же поправлял себя: допустим, он даже влетит, хотя поискать бы того идиота-капитана, который поведет свой корабль под всеми парусами на мель, но, предположим, нашелся такой псих; каменные зубы валунов сейчас же вопьются в деревянную плоть фрегата и прикончат его! Наверное, дело было так: вражеский фрегат долго обстреливали меткие канониры. Капитан, штурман и рулевой погибли, а штурвал заклинило… заклинило… э-э-э… заклинило осколком чего-нибудь. Осколком мачты, например. Или реи… одной из рей. Вот и попала бедная посудина валунам на обед. Совершенно не склеивались начало и конец этой сказки: фрегат – и посудина, на всех парусах – и заклинило штурвал… Ерунда какая-то. Возвышенное и бытовое плохо сочетаются друг с другом. Низкие обстоятельства лучше бы вовсе презреть. Да, влетел на всех парусах. И никто по нему не палил из пушек, потому что это наш фрегат, незачем его калечить. И на камни он вовсе не напоролся. Потому что… потому что… взлетел перед самыми камнями. Ну да. Иногда у него получалось летать. Иногда у всех получается летать. Он сделал круг над побережьем и ушел за горизонт.
Я постеснялся увечить Сказку о летучем фрегате стихотворением. Пусть останется, как есть. Не стану ее ни с кем делить.
Галечная полоса оторачивала линию прибоя, но в некотором отдалении от моря начинался песок. Сероватый крупный песок с камушками и ракушками. Там я и полеживал, там и предавался мечтаниям. Порой я сам себе казался точкой, где стихии смешиваются друг с другом, не заводя споров.
Бывало и так: я вскакивал, начинал какие-то дикие пляски, прыжки и кружения на песке, бегал по берегу, выкрикивал стихи и тут же их забывал. В такие минуты меня подмывало записать на чип все то, что выкрикиваю, вероятно, тогда у меня получалось лучшее… Но даже если я поддавался этому соблазну, потом все равно тщательно стирал записанное. Запыхавшись, я останавливался и принимался писать на песке; писал, пока оно само лилось из меня, прекращал при первом же затруднении. А остановившись, немедленно смешивал слова с песком, так, чтобы от слов не осталось и следа.
Должно быть, во мне просыпался древний инстинкт, запрещавший выносить все сколько-нибудь ценное за пределы гавани Двух Фортов. Не знаю, откуда он взялся. Но я ни разу не нарушил табу.
Однажды я задумался о смысле странного внутреннего запрета. Именно так: сначала он явился и подчинил меня, потом я осознал его существование и попытался понять.
Мне очень хорошо здесь, в бухте. Я как будто просыпаюсь от иной жизни. Там, в городе, в университете, даже в моем жилище, даже в «Цехине», я сплю. Все происходящее со мной, окружающие меня предметы и люди не вполне реальны, они – часть моего сна. Иллюзорного в них намного больше, чем действительного. Изредка я ненадолго выныриваю из глубин дремы, вижу что-нибудь настоящее и до смерти пугаюсь его. Единственный способ существовать в мире снов – сливаться с общей виртуальностью, быть на беспутье, избегать пути. Наверное, по рождению и самой природе мне не дозволено приобретать нечто настоящее или становиться его частью. А в бухте всё действительно. Мир наполняется весом и материальностью. Однако мне ничуть не страшно здесь и даже уютно. Значит, может существовать истинный мир, где мне позволительно жить, не рассекая кожу об острые грани… и тут затерян маленький его кусочек. Сделав шаг за его пределы, я вновь с головой ухожу в Иллюзию. И если я попытаюсь вынести отсюда хоть что-то: песчинку, слово или мечту, там, за границей реальности, они станут ненастоящими. Хорошо, если просто исказятся; не исключено, что они перестанут существовать. Пусть уж лучше здесь проживут короткую истинную жизнь, чем там – длинную и фальшивую…
Конечно, мне никогда не приходила в голову мысль искупаться. Этой роскоши я позволить себе не мог. Море у побережья между Серветом и Бэконом отравлено до такой степени, что никакое живое существо не протянет в нем и пяти минут… Такая красота, и так загадили! И всего-то за несколько десятилетий.
Именно там, в гавани Двух Фортов, я попал в ужасно неудобную ситуацию. Страшный день, 9 флореаля.
До лета оставалась сущая ерунда, наша звезда, Либидо, палила немилосердно, антизагарный крем ничуть не защищал от нее, и лишь в сумеречный час я осмелился стащить с себя все, кроме плавок. А потом на меня напал бес кружения и плясок. Город выходил из меня вместе с потом. Я облился чистой водой из бутылочки, вытерся полотенцем и упал на колени. Закрыв глаза, я чертил пальцем по песку отдельные слова и странные знаки, выкрикивал безо всякого лада и порядка отдельные фразы. Потом эти фразы слились в нечто цельное, однако все еще бессмысленное. В словесную гору как будто не вдохнули душу, и она оставалась вроде голема, еще не приведенного магом в движение… Голем, это глиняный человек, мне про него рассказывала одна девушка… Вдруг ко мне пришло одно-единственное слово, я вставил его, куда надо, и тем самым как будто повернул невидимый ключ. Невнятная куча фраз стала живым созданием, красивым и нравным. Она начала вести себя, и это было прекрасно…
Не поднимая век, я ровным и торжественным голосом продекламировал в пустоту стихотворный орнамент.
– Браво!
Кто-то хлопал в ладоши.
Я вскочил на ноги. Я почувствовал себя одновременно оскорбленным, обворованным и застигнутым за каким-то постыдным делом.
Девушке можно было дать на вид лет семнадцать или восемнадцать. По моде неосуфиев она отрастила длинные волосы. По моде артмаргиналов выкрасила их в семь цветов радуги, не забыв расплескать поверх радужных полосок фальшивые грязные брызги. По моде турбо-рокеров обезобразила живот блуждающей татуировкой: нечленораздельный набор индустриальной атрибутики. По моде боди-редакторов превратила свое тело в набор палочек, едва обтянутых кожей: «Ни грамма жира, ни грамма мышц!» – так, кажется, они говорят. Груди ее явно подверглись дорогостоящей операции на уменьшение. Теперь лишь огромные темные пятна вокруг сосков выдавали тайну: здесь когда-то была грудь, а рядом вторая, и если провести археологические раскопки, то в нижней части культурного слоя обнаружатся их фундаменты… Пупок хирурги-косметологи зарастили вставкой телесного цвета. Глазной белок закрыт слоем живого серебра. На щеках переливались красной медью изображения двух янтр, уж и не вспомню, каких именно. Бедра искрились: сейчас многие, как она, вставляют себе прямо в плоть тонкие золотые нити, но никто не вставляет столько… На каждом ногте красовался миниатюрный портрет его владелицы. Десять разных портретов… впрочем, то, что они отличаются друг от друга, я разглядел позднее. Смуглая кожа, чуть раскосые глаза, мощный подбородок, крупный, идеально прямой нос, тяжелые, чувственные губы и плоские скулы выдавали настоящий коктейль рас в ее генах. Из одежды на ней был только набор из тонких белых ремешков, хаотично перекрещивающихся и сплетающихся в узлы.
Королева стиля. Что рядом с ее телом – истинным произведением искусства – моя провинциальная миловидность и мои стихи! Я почувствовал безнадежное ее превосходство.
Я не люблю женщин-тростинок. Предпочитаю варианты, приближенные к венерам каменного века. Тела, «выточенные» по последнему фасону, нередко вызывали у меня робость, страх и даже гадливость.
Но на этот раз тело незнакомки пробудило прямо противоположную реакцию. Совершенно необъяснимо я возжелал ее. Почти сразу. То есть, по прошествии пяти или десяти секунд после того, как впервые увидел. Наверное, труд, вложенный ею в собственную плоть, сделал недоброе технологическое чудо. Все маленькие косметические хитрости до такой степени фокусировали взгляд на теле девушки, что его просто невозможно было не захотеть. А плавки – худший занавес для пьесы об устройстве мужчины.
Итак, мне было стыдно, я злился и одновременно испытывал сильнейшее желание… Что за несчастье!
Одним своим появлением незнакомка получила надо мной власть. И теперь в ее воле было повернуть ситуацию как угодно.
– Солнечный мальчик.
– Что?
Я не поверил своим ушам. Слишком красиво это было сказано. Слишком большой подарок она делала мне с высоты своего совершенства.
– Солнечный мальчик! Ты – мой солнечный мальчик.
Слово «мой» вселило в меня восторг.
– Я…
– Ты – Эрнст Эндрюс, и ты, оказывается, мне нужен, – не дала она мне закончить.
Незнакомая госпожа подошла ко мне вплотную. Она ничем не пахла. Вернее, пахла тем, что было вокруг нее: песком и морем. Восхитительный аромат! Провела пальцами косую черту по моей груди – от ключицы к солнечному сплетению…
– Меня зовут Эйша Мабуту, но те, кто ближе ко мне, пользуются истинным именем – Кали.
– Кали?
– Я убиваю любовью, убиваю без пощады. Ты попробуешь на себе, Эрни, как это бывает. От тебя останется только тень. Веришь мне?
– Я? Не знаю… почему…
Кали дотронулась до моей шеи. Мой рассудок полностью растворился в точке касания.
– Послушай, Эрни, первый раз будет у нас совсем простым. Сбросим энергию, да и все тут. Более сложное и более длительное взаимодействие – чуть погодя, когда ты сможешь пойти на второй заход. Ты ведь простой человек, если я не ошибаюсь?
– Что?
Я ничего не понял. Слушал ее и не слышал.
– Парень! Сделай это быстро, грубо и незамысловато.
– Прямо сейчас?
Она сделала неуловимо быстрое движение, и я полетел на песок. Кали моментально избавила меня от плавок, раздвинула свои ремешки и легла сверху. Ее объятие оказалось неожиданно крепким.
– Долго болтаем… – прошептала Кали.
Первый раз у нас получился… как бы поточнее выразиться? наверное, технологичным. Кали сделала несколько провоцирующих движений, и я в ответ исторг томительный избыток себя. Вот и все.
Едва мы отдышались, как она принялась учить меня дыхательным упражнениям. Одному, второму, третьему…
– Все это, в сущности, чепуха, Эрни. Но на твоем уровне даже такая мелочь может дать сильный эффект.
– Да… Учи меня.
Когда она углубилась в тантроинструкции по пропусканию воздушного столба через чакры, я неожиданно подумал: «Какого фига она сюда явилась? Какого фига ей понадобился именно я?» Но именно в эту минуту желание вновь начало восставать из пепла. Кроме того, Кали ни на секунду не отпускала моего взгляда. Глаза в глаза, на расстоянии предпоцелуя, только так она позволяла общаться с собой, – с первых минут знакомства и до той ночи, как мы расстались.
– Не отвлекайся, весь будь здесь и сейчас, – уловила она мое секундное колебание.
«Вероятно, все у нас вышло случайно… И еще ее темперамент…» – я не сумел додумать эту успокоительную мысль до конца. Прошло уже полчаса с тех пор, как мы впервые соединились; она говорила и прикасалась ко мне; мой рассудок вновь распался на составные части, и я утратил способность не то что удерживать в голове сколько-нибудь сложную мысль, но даже просто концентрировать внимание…
Я было потянулся к ней, но Кали резким движением остановила меня.
– Делай в точности то, что я велю. Уверяю, Эрни, ты не пожалеешь.
Я делал. Кали беспощадно дрессировала мое желание, отсекая лишние протуберанцы. Оказалось, ее любимая фраза: «Не торопись!» И я пытался не торопиться.
Пытался…
Пыт-тался…
Пытался!
А потом со мной стряслось цунами. Никогда прежде я не испытывал ничего подобного…
Потом я долго лежал ничком, приводя в порядок расстроенные чувства. Я был поражен, я почувствовал себя бабочкой, наколотой на иголку. Именно так: игла роскошного соблазна продырявила мою личность. Выходит, я ничего не знаю о жизни… И стою ничтожно мало.
Кали сидела рядом, поглаживала меня, как маленького ребенка, и приговаривала:
– Ну-ну, это всего лишь начало. Это всего лишь начало, Эрни…
Наконец, я осмелился спросить:
– Как я тебе, Кали?
Она усмехнулась:
– Я знала, каков ты, еще до того, как мы начали. Мой диагноз оказался верен. Не сердись, милый, но пока ты… дерево.
Видимо, она хотела сказать «бревно», однако в последний момент сжалилась надо мной.
– Впрочем, Эрни, у тебя неплохие задатки. Просто придется тебя подучить. Иногда это будет жестоко, иногда больно, иногда страшно. Но моя цель – не мучить, а совершенствовать тебя. Я требую абсолютного послушания, пока ты со мной. Ты мне понравился… мне понравилось твое безумие. И я буду возиться с тобой даром, но только при одном условии. Повторяю: аб-со-лютное послушание, ни единого слова, ни единого жеста поперек. Либо ты веришь мне, либо – до свидания.
Кали говорила ровно и почти бесстрастно. Правда, при этом она улыбалась, и улыбалась дружески, ободряюще. Мол, не дрейфь, парень, какие проблемы? Я вновь заколебался. Не хочется быть в плену, хотя бы и в таком. Но ее глаза, ее улыбка, в которой заранее читался мой ответ, покорили меня.
– Я твой. Делай, что сочтешь нужным.
– Отлично. Курс молодого бойца считаю открытым…
Так я стал одной из ее игр. На больший статус я не претендовал. Может, я и хотел бы, но результат любых моих поползновений в сторону повышения статуса было очень легко предугадать…
Первую неделю мы почти не расставались и почти не вылезали из постели. Я не ходил на лекции, не встречался с тьюторами, не посещал библиотеку, не писал стихи, не бывал в «Цехине» и гавани Двух Фортов. Иная жизнь пожирала мое время без остатка, но я не чувствовал себя обделенным.
То, чем мы занимались, не всегда влезало в рамки старого доброго понятия «секс». Иногда Кали говорила:
– Ты всего-навсего учишься управлять энергией, спрятанной внутри тебя.
Я досадовал в такие моменты: каскады сложных и болезненных упражнений, обрушившиеся на меня, ничуть не вписывались в мои чаяния. Я надеялся на более простой и… и… адекватный вариант. Но высказывался намного мягче:
– Кали, а надо ли все это, чтобы мы с тобой могли наслаждаться друг другом?
Она строго отвечала:
– Свою порцию удовольствий ты получаешь, милый. Надеюсь, за нашей гимнастикой ты когда-нибудь увидишь нечто большее…
– Что?
– Возможно, смысл жизни.
Время от времени она разрешала мне оргазм. Всякий раз выходило ослепительно! Но потом Кали насмешливо ухмылялась и отпускала язвительные шуточки:
– Все, чего ты хотел, – плюнуть спермой в бесконечность?
Очень быстро я сделался наркоманом. В любое время суток мне требовалась доза Кали. Я испытывал настоящую ломку в ее отсутствие. Промежутки от одного периода блаженно-удовлетворенного состояния до другого делались все длиннее и длиннее. Наконец, они заполнили собой все. Мне стало трудно поймать даже сам момент наслаждения, в лучшем случае, я мог ненадолго приостановить ломку. Мое тело как будто захлебывалось криком: «Еще Кали! Еще Кали! Я не могу без Кали!» Орала кожа, вопили внутренности, возбужденно хрипел мозг… Каждая частичка меня словно протягивала руку за подаянием. Моя боль познала градации: настоящий кошмар, когда Кали нет рядом; ужас, когда она здесь, в шаге, но недовольна мной; очень худо, когда она всем довольна, но не собирается начать игру в постели…
На второй неделе нашего знакомства она, как нарочно, стала покидать меня и отсутствовала чем дальше, тем больше. В перерывах между Кали и Кали я просто стенки грыз… За десять дней я влил в себя больше успокоительных, нежели за всю прежнюю жизнь. Способность работать разрушилась. Я не мог справиться с собой, не мог забить тоску тупыми и незамысловатыми развлечениями. Сутками я не ел, – мне не хотелось… Сон не шел ко мне, если она не лежала около меня. Из зеркала на меня смотрел тощий нечесаный субъект, под глазами у него двумя бесформенными клоками собралась тьма.
Ревновал ли я? Да нет же. Вернее, ревность моя относилась не к кому-то конкретно – пусть она спит хоть со всем Университетом! – а ко времени, которое Кали тратит не на меня.
Я очень просил ее не оставлять меня, во всяком случае, пока я не привыкну к новой жизни и не смирюсь с отлучками моего наркотика. Кали говорила:
– Теперь ты никогда не привыкнешь и никогда не смиришься.
Однако первое время она снисходила к моим просьбам. Потом мое положение изменилось к худшему. Чем больше страсти и унижения вкладывалось в мольбы к ней, тем суше и злее она отвечала:
– Эрни, дурень, пойми, это часть обучения. Ты не должен привязываться ни ко мне, ни к чему-либо еще. Ни к кому и ни к чему, Эрни, балбес, запомни навсегда! Ты должен уметь разорвать любую связь в любой момент. Разорвать и уйти!
Я отчетливо понимал безобразие собственного падения. Я отлично видел себя со стороны: качусь по наклонной, стремительно разрушается все то, что было во мне цельного и здорового. Впоследствии, по всей видимости, в пустой оболочке родится совсем другой человек, а от меня нынешнего и впрямь сохранится одно имя. Но мне заранее противен был урод, которому предстояло занять мое место в этом мире.
Мне требовалось за что-то зацепиться и выскочить из ловушки. На любом, даже самом обрывистом склоне, растут деревья, бывают уступы и ниши… Надо схватиться хоть за что-нибудь!
Я вновь садился за стихи. Не шло. Я пытался возиться с учебными программами. В голове оставалась пустота. Однажды я вспомнил, как хорошо мне бывало в гавани Двух Фортов, и на несколько часов обрел подобие внутренней независимости. Казалось, здравомыслие начало ко мне возвращаться. Я лихорадочно обдумывал планы, как ослабить хватку Кали на моем горле. Разумеется, и речи быть не может о том, чтобы совсем расстаться… Или может? Или очень даже может?
Придя в тот день, Кали вела себя ласково. Сверкающая глыба невероятного оргазма начисто смела весь мой суверенитет.
Больше гавань Двух Фортов не помогала.
Я почти не выходил из дому. В Университете забеспокоились на мой счет. Я получал оттуда вежливые запросы и не отвечал на них. Запросы сделались требовательнее и холоднее по тону. Я врал. Мою ложь легко раскрывали. Запросы облачились в одеяние угроз. Я не знал, что делать. Наконец, ко мне пришло послание от декана. Лора Фридман была невероятно лаконична: «Мальчик, иди ко мне. Немедленно!»
Мой дух пребывал в измочаленном состоянии. Кали с утра отсутствовала. У меня не хватило сил сопротивляться посланию в форме прямого приказа. Легче оказалось подчиниться.
Я шел в Университет и маялся мыслями о Кали. Я сидел в приемной Лоры Фридман и взывал к Кали. Я слушал деканшу, а внутри меня стоял непрекращающийся вопль: «Ка-а-а-а-али!» Я возвращался домой, задыхаясь от страдания.
Смутно помню, что говорила мне Лора Фридман. Потом, дома, я частично восстановил в памяти ее монолог. Я был настолько не в себе… до такой степени… Короче, я не сумел извлечь из себя ни единой фразы в ответ.
Я думал с трудом, я вспоминал с трудом.
О чем… Лора… эээ… вот: «пропустил зачет»… «академический отпуск»… Отпуск, видимо, лучший выход из положения, она давала умный совет, да. Но моего утлого разумения сейчас не хватит даже на оформление отпуска… И… и… еще… какое-то… важное… «Премия… имени Анатоля Франса… фактически… открывает путь… к магистратуре… по крайне мере… очень… способствует…» Лора Фридман боролась за меня.
И тут я вспомнил совершенно ясно: она не смотрела мне в глаза все то время, пока я был у нее. И только в самом конце остановила на мне тяжелый взгляд. Огонь в ее глазах потемнел. Черное пламя гнева, вот что это было теперь.
Она все знала!
И все еще боролась за меня…
Кали в тот день хворала. Злилась, ехидничала, ворчала, да и в постели была много ленивей обычного. Легла спать рано и сейчас же уснула.
А ко мне сон не шел. Я ворочался, я пил снотворное, даже выходил из дому на пару минут – подышать свежим воздухом… Наконец, забылся полудремой-полуявью: никак не мог понять – сплю я, или все еще маюсь, принуждая себя заснуть. Надо мной летала Лора Фридман, белоснежно-голая и ужасно хмурая. Потом я брел по каким-то омерзительным пустырям, огибая завалы строительного мусора и ржавую технику, а руки мои сжимали две банки дешевых рыбных консервов. Нелепица, дурь.
Проснулся я рано утром. Голова болела страшно, будто просилась, чтоб ее оторвали. Кали спала мертвым сном, открыв рот и сбросив одеяло. Я поднял его и уже хотел было укрыть мой хворый наркотик, но вдруг остановился, как громом пораженный.
В первый раз я почувствовал ее запах. И это был гадкий запах гниющих гланд. Обыкновенная простуда в один миг разрушила всю магическую мощь ее привлекательности. Я смотрел на Кали, застыв в самой нелепой позе, не выпуская одеяла, я глядел во все глаза. Это тело впервые показалось мне безобразным. Хилое, искаженное усилиями косметологов, разрисованное в стиле сельской ярмарки… зачем оно мне понадобилось? Почему я со сверхъестественной силой вожделел к нему? Прекрасная Лора уничтожила все барьеры между нами, а я променял ее на чудовище! Как это можно объяснить? Ничего рационального не приходило мне в голову. Должно быть, когда-то Эйша сама прошла… обучение, и поднялась до таких высот, на которых нетрудно вязать узлы из мыслей и желаний другого человека. Должно быть, ее личность тоже когда-то сыграла роль корма для личинки нового существа, и мне, маленькому ученику, ни за что не представить всю его жутковатую силу, все его навыки и возможности.
Я понимал с необыкновенной отчетливостью: стоит ей открыть глаза, стоит прикоснуться ко мне всего один раз, и я моментально забуду все, о чем сейчас думал. На минуту чувство полной беспомощности охватило меня. Ничего нельзя сделать; я пропал, сопротивление невозможно! Но тут мне в голову пришла идея иного сорта. Допустим, сражение я заведомо проиграю, но что мешает мне бежать? Бежать! Немедленно, не теряя ни секунды, бежать! Бежать! Пока фортуна не поставила крест на этой надежде, пока мой шанс на ее счету не обнулился! Ну же, давай, пентюх, осел, глист безмозглый, спасай свою шкуру!
Я тихо-тихо положил одеяло на пол, наспех оделся, взял идентификационную карточку и выскочил за дверь. Инстинкт подсказывал мне самую простую тактику: уносить ноги, не глядя по сторонам. Но я все-таки зашел в ближайший информ-сервис, отправил сообщение в Университет, прося академический отпуск на месяц, и еще одно – фирме-домовладельцу: с сегодняшнего дня аренда аннулируется, просьба отправить мои вещи по отцовскому адресу, поскольку чрезвычайные обстоятельства мешают мне сделать это самостоятельно. Затем списал со счета на идентификационной карточке невыплаченный остаток арендной платы и приличную, с моей точки зрения, сумму за беспокойство о моих вещах.
Кажется, здравый смысл начал ко мне понемногу возвращаться… Добрый знак!
Через несколько часов я был в городишке Даймонд-Харбор, у отца. Он, конечно, поинтересовался, чего ради я решил внеурочно отдохнуть, и он, конечно, не поверил моему лепету: «Переутомился… заболел… психоаналитик советует…» Но и лишних вопросов задавать не стал, только сказал: «Ты уже большая зверюшка, сам за себя отвечаешь». Ну и оторопел он, когда я его обнял, – ни с того, ни с сего!
Я отключил на чипе принимающую функцию, попросил отца игнорировать любые запросы относительно моей персоны и никого ко мне не пускать. Он ограничился одним вопросом: «Надеюсь, ты не мистеру Закону рога наставил?» С отцом мне исключительно повезло.
Дней восемь я ничего не делал. Слонялся по улицам, просиживал вечера в барах. Я чувствовал себя глубоко отравленным, как будто из геракловых времен неведомым путем пришла в наш мир капелька черной крови Несса, и досталась мне. Про Несса и Геракла я знал из учебной программы… Яд выветривался, яд терял силу, но это происходило слишком постепенно, с гибельным промедлением. Возможно, последние частички отравы останутся во мне вплоть до смертного часа. Учиться в университете, работать… это я еще смогу. Но писать стихи – никогда. У меня руки трясутся при одной мысли о стихах.
Нечто важное внутри меня безнадежно испорчено.
Я по часу сиживал над чашкой кофе, размышляя. Как будто восстанавливал навык думать… Что такое Кали? Сверхиллюзия, иллюзия в предельной концентрации. Мир породил ее, когда я нашел территорию, – пусть совсем маленький клочок – где мог ему не принадлежать. Точка, добавить нечего. Однажды утром я увидел реальное тело иллюзии, ее механизм, и… и… и – что? Во-первых, испугался, во-вторых, разозлился. Если б я мог увидеть механизм нашего мира, интересно, до каких величин вырос бы мой страх и мой гнев? Но ведь было же что-то настоящее… в самом начале. В основе. Иначе не существовало бы ничего иного, помимо миражей, а я нашел, все-таки нашел кое-что… оставшееся. Просто куда ни сунься, все загажено… Даже голова моя, мое сердце, мои глаза – и те загажены. Я думаю, чувствую, смотрю из-под многоэтажных слоев грязи. Я сам на девять десятых иллюзия. Одна сплошная кажимость… Почти сплошная.
Я захотел всплыть. Всплыть отсюда. Не знаю, как сказать. Вообще, всплыть.
И мне вновь понадобилась зацепка. Мне нужно что-то твердое, настоящее, – только от такого можно оттолкнуться, поднимаясь к поверхности.
Гавань Двух Фортов? Нет, не подойдет, я истратил ее, борясь с Кали.
Может быть, стихи мои? Уже написанные? В них я тоже чуть-чуть не принадлежал… опять не знаю, как сказать правильно… Нет, слишком уж чуть-чуть, не хватит.
Отец? Да. Но все равно не хватит. Я ведь не смогу жить рядом с ним долго, я уеду, и он растворится за моей спиной.
Тогда, наверное, Лора. Лора Фридман. В ней было настоящее чувство ко мне. И, кажется, во мне тоже шевельнулось тогда маленькое чувство ей навстречу. Простое, тупое, незамысловатое чувство, но на другие я пока и не способен. Я вызвал в памяти ее лицо, и лицо послушно явилось. Тогда я испытал благодарность к Лоре Фридман за то, что она существует, и за то, что она пыталась кем-то стать для меня.
Простит она? Или не простит? Кажется, она – сильный человек, а значит, мои шансы на прощение и благосклонность повышаются. Надо бы мне… надо бы мне… надо бы мне… но боязно.
А встретить Кали – еще того боязнее…
Утром девятого дня отец подошел ко мне и спросил:
– На твоей морде написано: «Я нечто задумал, но духу не хватает». Вроде запора у кота – к лотку подошел, лапой скребет, себя, стервец, подбадривает, а до дела все никак у него не дойдет… Я не ошибся?
– Вроде того.
– Не знаю, какие там у тебя проблемы. Захочешь – сам расскажешь. Дам тебе один совет… если не понадобится, можешь отправить его в мусорную корзину. В общем так, Эрни: всегда лучше попробовать.
– А?
– Да ничего сложного. Сделать попытку и проиграть лучше, чем всю жизнь маяться от собственной трусости.
И я через час уехал.
Мои опасения столкнуться с Кали носом к носу и опять стать ее пленником не оправдались. Менеджер фирмы-домовладельца передал мне коротенькую записку: «Жаль. Я вложила в тебя немало труда». Больше я не видел Эйшу Мабуту, убивающую любовью. Странно. Впрочем, Университет очень велик…
Лора Фридман полтора часа продержала меня у дверей своего кабинета. Встретила неприветливо. И разговор начала напрямик, как с равным.
– Добрый день, молодой человек. Желаете извиниться? Минни, дорогая, нужны ли нам его извинения?
А на столе у нее сидит шахматный хамелеон, тварь безобидная, но внешне – просто чудовище. Молчит, разумеется. Только расписной шарик глаза, утопленный в кожистой гофрированной выпуклости, беспокойно дернулся. Круто! Ну и зверюга…
– Интересуетесь возможностями выхода из карьерного тупика? – Лора Фридман ехидно поджала губы и подняла брови, бросая мне женский вызов.
На миг я растерялся. Но потом вспомнил отцовские слова: «Всегда лучше попробовать…»
– Извинений не будет. Карьера меня не интересует. В частности, не интересует магистратура…
Мы были одни. Мы стояли в полутора метрах друг от друга. Я сделал шаг вперед, а она – полшага назад.
– Меня интересуете вы, Лора.
– Вы не смеете.
– Прямо сейчас.
– Нет.
Я схватил ее за руку и подтащил к себе. Она сопротивлялась. Вертелась, как змея. Хамелеон, чувствуя настроение хозяйки, покрылся огненными пятнами, но не двинулся с места.
– И надолго ты заинтересовался мной, гаденыш?
– Как выйдет.
– Пошел вон!
– Нет.
Я прижал ее к себе. Да какого…
– Театра на сегодня достаточно!
И тут она спрашивает меня, раскрасневшаяся и злая:
– Чертова дверь… заперта?
– Да.
– А сразу ты не мог сказать? – Ее губы коснулись моих.
…что-то, напоминающее любовь… наверное…
Лора Фридман была нетерпелива и нежна.
Глава 3. Две банки рыбных консервов
21 фруктидора 2156 года.
Планета Совершенство, Зеркальное плато, поселок Слоу Уотер.
Капрал Эрнст Эндрюс, 30 лет, и некто Огородник, в два раза старше.
…Огородник получил волдырь на лоб. Так его огнем людачьим подпекло. Из машинки. И на щеку второй волдырь приспел. Но на щеке – маленький, почти не заметно, если не приглядываться, а на лбу – здоровый. Вот. Очень здоровый. Это я ой как помню.
Потом уже я своим умом дошел, зачем Огородник пинка мне зарядил. Если б не зарядил, пекся б я вместе с ним. Может и до смерти сгорел бы.
Вот, я очнулся. Мне хорошо. Ничего не болит. Только муторно, и какой-то я свинцовый. Огородник сказал чуть погодя, что была у него дрянь от боли… от шока от болевого – он сказал. И Огородник мне такой дряни не пожалел, вколол. Вот. А после нее всегда, говорит, тяжелеет народ. Такая вещь. Я очнулся, да. Он на мне сидит и меня же по роже хлещет.
Гад какой!
А у меня сил нет.
– Живой? Живой? Глаза открыл, молодец, молоде-ец! Не уходи, давай, борись!
И рукой своей – хлясть! хлясть!
Я заворочался. Язык едва слушается, пальцы совсем не слушаются.
– Не хлещи, гад! – говорю ему.
– Жив-в-о-ой! – орет Огородник.
– Слезь, гад. Тяжело.
Слез.
– Ты… ты… извини меня. Не рассчитал. Старый стал. Ни рожна не помню уже… Прости меня, парень.
– Чего еще?
А сам я едва соображаю.
Огородник рассказывает: не надо было ему прицел от излучателя на меня вешать. Совсем не надо. Вот. Без привычки, говорит, да еще слабый человек, да еще голодный, да еще если снять рывком, так и концы отдать можно. Запросто.
Выходит, он меня от смерти спас, он же чуть в гроб не вогнал. Такие дела. Ну, тогда я без соображения был, потом додумал. Да и ладно. Жив же я. Чего еще?
А в тот раз я ему только сказал:
– Я не слабый.
– Да, да! Ты не слабый! Ты просто ослаб чуток.
Я подумал и добавил, чтоб он не зазнавался:
– И я не голодный.
– Верно, верно! Ты не голодный, просто ешь мало.
Точно. Едим мы тут не очень-то. А когда терранских пайков не было, уже собирались загнуться всем Поселком. Хеббер загнулся. Бритая Лу загнулась. Я сам мало не загнулся. К тому шло. Вот. А с пайками жить можно. В смысле, не помирать. Огородника не любят – уж больно он сытый был, когда приехал. Теперь похудел. На наших – то харчах небось не разожрешься. Нет, с пайками можно жить, конечно. Совсем другое дело. Но и с пайками жиров на ребрах не нарастишь.
Я сел и спрашиваю:
– Чего с людаком? Убил ты его?
Это для порядка я спросил. Капрал же я.
– Нет, не убил. Ушел людак. Но машинку я ему попортил, больше палить ему не из чего.
Я киваю. Хоть машинку попортил…
Тут рация заголосила. Самодельная такая фуфлошка, ее Капитан с Протезом из разной мелочи смастрячили. Она раз – работает, два – не рабротает, три – опять работает, четыре – опять не работает. Вот так.
Мы слышим с Огородником: тарахтенье, потом свист и голос. А голос – Вольфа-младшего. Значит, Вольф-младший ругается. Ой, ругается! На все сразу.
Огородник вертит рацию.
– Может, мне ответить, Капрал?
– Нет, давай сюда… я… это… обязан же…
И кажется мне, будто я виноват. Виноват, и точка. Будто это он, Огородник, должен все Вольфу рассказывать, а я влез по ошибке между ними.
Все-таки я тянусь к рации… Ну и мне – р-раз! – и судорогой скручивает ногу. Ой-ой!
– Давай, – я кричу, – ты ему все скажи.
Огородник приложил говорилку ко рту:
– Господин лейтенант, сэр! Говорит младший дозорный рядовой Сомов.
Пауза.
– Возится с техникой, сэр.
Это он, наверное, про меня. Не говорить же, ему, что вот, не отвечает капрал из-за ноги. Нога у него, видишь, заболела! Хороший человек Огородник.
Пауза.
– Капитан не видит сектор, потому что Визир 81 выведен из строя, сэр.
Пауза.
Ногу отпустило мою, но к говорилке подходить неохота.
– Людаком, сэр. У нас с ним был огневой контакт, пострадала дозорная точка и личный состав дозора, нужен санитар.
Как он это все ловко и четко выводит! По всему видно, был Огородник военным. Даже не просто каким-то там военным, а целой военной шишкой. Вот.
Пауза.
– Никак нет, сэр. Огневой контакт.
Потом он возвысил голос и по складам сказал Вольфу еще разок:
– Ог-не-вой кон-такт… сэр.
Пауза.
– Никак нет, сэр. Вполне здоров.
Пауза.
– Никак нет, сэр. Моя мать никогда не предпринимала подобных действий. Откуда вы знаете, сэр, что подобные действия вообще возможны? Личный опыт, сэр?
Пауза. До меня донеслись прямо из рации слова «трепаный огрызок». Огородник слушает, ухом не ведет. Вот. Как будто Вольф там сейчас не пеной исходит, а конфет ему обещает…
Конфеты… слово издалека. Что это было – конфеты? Какая-то приятная вещь…
– Так точно, сэр. Рад стараться, сэр. И вам того же, сэр. Разрешите обратиться?
Пауза.
– Визир я заменю сам, сэр. После нашей смены. Но санитар нам нужен немедленно, сэр.
Все. Больше из рации ни словечка не пришло.
– Здорово ты его, Огородник. Вольф – злыдень, правильно ты его… припечатал.
Напарник мой только вздохнул, не сказал мне ничего. Даже не улыбнулся. Вот. Угрюмый очень.
Конечно, санитар к нам до смены не пришел. Я же говорю, злыдень этот Вольф. Даже Таракан его добрее. Таракан вообще не дурак, только любит покуражиться. Но бед никаких от него не случается. Иногда бывает грубый. Даже злобный бывает. Но плохого ни разу не делал. А Вольф – дрянь-человек. Гнилой, зубастый, глупостями полна голова…
И потому что злыдень, он с санитаром совсем не поторопился. Мы завидели Протеза и дедушку Стоунбриджа через долго. Они с опозданием на пост брели. Вот. На целых двадцать минут опоздали. Не иначе их Вольф задержал. Стоунбридж ни за что бы не опоздал. Он у нас человек-часы. Все минута в минуту делает. Да. Как до Мятежа люди жили, так он и сейчас живет. Протез бы, может, и опоздал бы, но на двадцать минут даже Протез бы не стал опаздывать. И с ними Ханна бредет. Она у нас по медицинским делам знаток.
А Огородник, как их увидел, и впрямь вниз полез. Прицел нацепил, поглядел – нет никого. Запасной Визир взял и полез. Я ему сказал:
– Ты чего? Сейчас в тепло пойдем. Чего ты?
А он мне:
– Ты иди. Я тебе потом расскажу.
И полез. Ну, бешеный. Откуда силы берутся? Я как дозорную смену отстою в такое-то время, мне ж без еды и без отогрева лишнего шага шагнуть не хочется. А этот вниз скакнул! Силен.
Старик Стоунбридж курево сам разжег, сам же мне в рот его сунул. Понимает – обидно нам за ихнее опоздание. Вежливый. Даже Протез не зубоскалит. У него, у Протеза, шуточки дурные. Но сейчас он шуточек своих не шутит, тихо сидит.
Только сказал мне: «Все Капрал, приняли мы Точку. Топай в караульную хибару, Капрал». И все. Извиняться не стал. Но и шуточек не шутит. Хорошо. И на том спасибо.
А Ханна – добрая. Мне нравится, что она пришла. Ханна высокая, шея у нее тонкая, волосы светлые, как если бы медяшку до крайности начистить. Еще у нее серые глаза, я на ее глаза люблю смотреть, очень красивые глаза. На левой щеке у Ханны – ожог от кислотного дождя. Тут у нас редко бывали сильные дожди, у нас бывают слабые дожди, после них только язвочки, да кожа шелушится, да глаза болят, если маленький брызг залетел. А на Равнине очень сильные дожди шли, особенно когда по небу тучи багровые ходили, ну, в первое время после Мятежа, еще тогда Полсберг до конца сгорел и быкуны только-только появились… Но раз пятнадцать или двадцать и у нас дожди ужасные лились, вот дрянь! Совсем нехорошо. Она под такой дождь попала чуть-чуть. На щеке ожог остался, на руке на левой, и еще где-нибудь, наверное, осталось, только не видно. Но она все равно красивая, Ханна. Среди нас она вроде бы цветок в траве.
Ладони у Ханны большие, пальцы сильные, как мужские. Она меня принялась жать, мять и переворачивать. Я употел. Хотя и холодно, и дождит все время… И спрашивает меня, спрашивает, как я, чего я, почему я вялый, как дождевой червяк. А спрашивает вежливо. Не то что Таракан или Вольф, или Бритые. Хотя она побольше их всех знает. Вот. Ханна – ученый человек. К нам она попала, понятно, потому, что ничего у нее не осталось. Вот и живет у нас. Очень вежливая. Делать ей у нас нечего. А деваться некуда. Но хоть жива.
Если ты жив, – радуйся.
Она на Огородника разозлилась. «Вот какой глупец! Сопля терранская. Он не должен был так с тобой, он должен был о тебе подумать». – «Да ладно, Ханна. Он не злой… Вот. Просто не привык еще». А самому мне так сладко стало: вот, кто-то должен думать обо мне, и это сама Ханна говорит. И еще я подумал про слово «глупец» – странное слово. Можно же сказать «дурак», и всем понятно. А вот скажет Ханна «глупец», понятно совсем другое – до чего она сама умная! «А где он сам – Огородник твой?» – «Внизу. Визир меняет, Ханна. Сам полез. Мог бы не лезть». – «Да? На дурь сил хватает у него». Я ничего не ответил. Она сказала как женщины говорят, и я этого понять не могу. Вот. Почему – дурь? А сил много – хорошо, пригодится. Нет, не понимаю я.
Еще полчаса прошло. Ханна все беспокоится, вот, надо Капралу уходить, и вообще четвертую дозорную смену достаивать ему не надо. И ужасно холодно мне, смерть как холодно. Может, я заболею совсем. Слабость одолела. Спать хочется. И одежду посушить надо. Курить хочется очень сильно – Стоунбриджево курево уже в нутре моем переварилось и силу потеряло. Но я никуда не иду. Мне без Огородника уйти – неудобно и плохо. Я же Капрал. А он мой солдат. И вообще мне с ним лучше. Хоть он и гад. И по лицу меня хлестал. А все равно.
Вылез Огородник из провала, весь в грязи, весь мокрый, страшный, как чучело, в лужу сваленное. Устал, видно, – дышит тяжело: ух-ух! ух-ух! Но довольный, улыбается. За собой какую-то железяку тягает, здоровая железяка.
Стоунбридж ему без разговоров кубик пищевого концентрата дает. Старик понимает – за него слазили. А Протез отвернулся. Будто бы он тут ни при чем. Куда-то в сторону глядит.
– Джеф, запроси Вольфа, как там Капитан, может он вести наблюдение за сектором? Я Визир сменил.
Стоунбридж завозился.
Ханна подошла к Огороднику и хлясть ему пощечину!
– Ты думаешь – кто он и кто ты? Ты вообще-то разницу заметил?
Огородник щеку потер и отвернулся. А что ему сказать? Сказать ему нечего.
– Посмотри-ка мне в глаза. Тебе не стыдно?
Огородник поворачивается и глядит прямо Ханне в глаза. А она ему. И так – с полминуты. Вот. Странные люди. Стоунбридж в рацию орет, не слышно его там никому, Протез сухарь грызет, а эти смотрятся друг в друга, как в зеркало. Я говорю:
– Отставить, Ханна. Солдата в дозоре… бить совсем нельзя. Это преступление. Военное. Вот так. И настроение ему портить нельзя.
Они разошлись молча. Я тогда еще спросил:
– А чего за железяку ты приволок, Огородник? Зачем это?
– Это? JVX-2132. В очень хорошем состоянии. Значит, перед самым Мятежом его, голубчика, выпустили. Полобоймы не израсходовано…
– А… джэйвиэкс… с цифирьками… из него… по нам…
– Из него.
– Вот лихо дурацкое! Откуда ж он… оно… у людаков-то? Они же – зверье…
– Умные вопросы задаешь, Капрал. Не знаю. Я пока ничего не знаю. Одно я тебе точно скажу: там, где я раньше… жил, эта штуковина считается устаревшей. Но здесь – другое дело. Если она попадет в умелые руки, половине славного поселка Слоу Уотер – конец.
Я испугался как маленький зверек. Захотел забиться в какую-нибудь дыру. Какое холодное страшное слово – «джэйвиэкс»! Как будто колдун хочет вызвать злого духа. «Дух» я не помню, что такое, но точно плохое. А «джэйвиэкс» – холодное слово, ужасное слово, хуже только «ви-ти-кей»…
А Стоунбридж, наконец, докричался.
– Капрал, Огородник! Идите оба к Капитану. Он вас срочно к себе зовет.
И мы пошли. Ханна с нами пошла, даже разрешения спрашивать не стала. Вот. А Огородник джейвиэкс с собой прихватил.
Хороший дом себе Капитан под жилье приспособил. Под жилье и под штаб свой. Раньше тут школа была. Еще в Мятеж, дети тут учились. Теперь, понятно, никто тут не учится. Еще бы кто-то учится тут стал! Во всем поселке Слоу Уотер нашем детей с десяток наберется, притом больной каждый третий. Чего им учиться? Куда им учиться?
В штабу своем Капитан хорошо все обиходил. Чисто у него, тепло у него. Вот. У нас народ какой? У нас народ спокойный – никому ничего не надо… Как кто живет, так и живет себе. Мало кто трепыхается. Вот, Капитан хочет жить прилично и с узорами. Вот, Лудаш хотел, но нет его уже. Вот, еще Ханна как-то так же… любит все чистое, аккуратное. Ну и Огородник, вроде. Так про него говорили, сам-то я не был у Огородника, не видел… Ну, для ровного счета, может, я еще. Окно же я себе засобачил? Засобачил. Из хорошего прозрачного биопласта засобачил. А что все сказали? Все хихикали. Олдермен Петер так и сказал: «Вот и дурак наш пофорсить решил». Капитану, небось, никто не скажет, над Капитаном хихикать не станут. Капитан – шишка. Его боятся. И уважают его тоже. Где бы без Капитана был Поселок? На самом дне помойки.
Вот приходим мы к Капитану.
Там у него сидят две женщины, смотрят на экранчики, а экранчиков мно-ого. Глядят, какие дела им визиры покажут. А вот проморгали нашего людака. Ничего не сказали нам. Одна женщина старая, а другая молодая, но тоже некрасивая.
Капитан на Огородника быстро так посмотрел. Ханна тут же заговорила, какой дурак Огородник и какая Огородник свинья. Капитан ее не слушает. Капитан ее не видит. И меня он тоже не видит. Ну и ладно. Я умаялся и мне надо домой… Капитан встал.
Ой-ой!
Ни перед кем Капитан не встает. Ни разу не бывало. Даже перед мэром Поселка Филом Янсеном, которого еще зовут Малюткой, он не встает. Гордый Капитан. И еще старый тоже. Шестьдесят ему лет, весь седой, лохмы седые во все стороны торчат. И однорукий. Левой руки нет, во время Мятежа где-то ему левую руку оттяпали.
Чего же он перед Огородником встал? Огородник – простой человек. Даже не капрал. Никак не возьму в толк.
– Без чинов, парень.
Это Капитан сказал. Он как-то так наполовину спросил, наполовину просто сказал, вроде бы и не спросил.
– Спасибо. – Огородник ему отвечает.
– Из чего стреляли?
Огородник молча кладет железяку на стол.
Оба они друг другу в глаза смотрят. Молчат. Видно, знают и понимают какую-то большую гадость. А я не знаю и мне не понятно. И еще чуть-чуть обидно. Но не очень сильно.
Ханна тут рядом щебечет, а они стоят как каменные. И тогда ей надоело, она подходит к столу и давай по нему ладонью стукать. Очень громко.
Капитан будто бы очнулся и голову к ней повернул. Вот. А она ему:
– Вы потом решите все свои дела! Без меня. А мне нужна всего одна минута.
– Да, Ханна.
– Капрала надо снять с дозора. Дать ему отлежаться. Иначе мы можем потерять человека, после того как он с этим… – на Огородника глаза скосила очень сердито —…типчиком… в одной смене постоял.
Капитан глазами пошарил-пошарил, ответ он словно бы глазами искал, и говорит ей:
– Хорошо. Я отдам соответствующие распоряжения Вольфу.
Пауза. И добавил:
– Вы двое. Поговорим – и свободны от дозора. Оба.
Пауза. Еще добавил:
– Ханна, обработай этому типчику ожоги. Прямо сейчас.
Я подумал: вот сейчас Ханна заспорит, заругается. Вот. Что Огородник – дурак и свинья. А дурака и свинью зачем обрабатывать? Нет, другой человек Ханна. Молча кивнула Ханна. Примерилась к Огороднику.
– Садитесь.
– Спасибо.
Это уже он ей сказал.
Завозилась Ханна вокруг него, а Капитан разговор свой важный дальше потянул:
– Ошибка исключается?
– На все сто.
– Откуда бы это взялось?
– Сам голову ломаю. Пошлю запрос в штаб ограниченного контингента, может тамошние ребята знают больше нас.
Я удивился. Где терранцы – и где мы! Чего это они с нами возиться будут? Чего это они Огороднику ответят? Кто он там такой, чтобы отвечать ему? И как это он запрос пошлет? Чем это? И я спросил:
– А ты разве… можешь?
– Могу, Капрал.
Капитан поморщился сильно. Больше я ничего не спрашивал. А то опять начнет морщиться, а мне неприятно…
– Если ты думаешь, что я больше об этом знаю, чем рассказал, Огородник, то напрасно. Ноль информации. Ноль идей.
– Понятно. Может, они поумнели?
– Людаки что ли?
– Да.
– Вряд ли.
– Почему?
– Сразу как они появились, были почти как люди. По уму четырех людаков можно было приравнять к трем людям. Условно. Потоми – трех к двум. Теперь людак вроде половинки человека. Быстрый, зараза, но больше, чем на пяток движений вперед думать не может. Это я тебе говорю. А я сведения о них коплю как об условном противнике. И больше меня о людаках и быкунах на Плато не знает никто.
И повторил:
– Это я тебе говорю!
– Иными словами, они, наоборот, глупеют?
– Точно схвачено…
– Этому хватило ума, чтобы поливать нас огнем.
– Но не хватило ума убить.
Ханна вздрогнула тогда. Никто не заметил, я только заметил.
– Повезло. И потом… я еще не совсем разучился…
– Да понимаю я.
Капитан поскреб в лохмах своих. Долго скреб, основательно. То медленно, то быстро. Когда медленно, наверное, это мысли у него были. А когда быстро – мыслей, значит, не было.
– Знаешь, в конце Мятежа… да уже и Мятеж весь в фук вышел, уже неразбериха стояла… первых людаков хотели к военным делам приспособить. При людях-то они куда сообразительнее, чем сами по себе. Сами по себе людаки – стая. А хороший специалист может в них кое-что вколотить на уровне…
– …рефлекса.
– Да. Как в цирке дрессируют. Только навык надолго остается. Это я тебе говорю.
Цирк… Цирк? Цирк – это что такое? Забыл уже. Ведь помнил. Был какой-то такой цирк…
– Специалист, говоришь…
Оба они замолчали. Думали: откуда специалист? И я тоже думал: откуда специалист? Ну и… не знаю. Равнина – не для нас. Там кошмар же. Ужас. Дикие. Отрава. Ради… ради… радиациция. Плохо, очень плохо.
Тут Ханна работу свою доделала. Огородник ей кивнул и улыбнулся. А она посмотрела на его лицо внимательно и не улыбнулась. Наверное, хотела. Но удержалась. И пошла-пошла к дверям, ничего никому не говоря. Потом обернулась.
– До свидания.
И опять пошла-пошла. И опять обернулась:
– На днях зайди, Огородник, сделаю тебе перевязку.
– Я зайду, Ханна. Обязательно.
Ушла. Очень она вкусно пахнет.
– Огородник, я не знаю.
Ой-ой!
Я удивился: когда это Капитан говорил, что вот он чего-то не знает! Никогда не говорил. Он всегда все знает, а мы на него очень надеемся… Вот. А тут он не знает! Страшно.
– Огородник, наведи справки.
– Да.
– И еще: будешь ходить в дозор через сутки.
– Я понял.
– Ты, и еще человек семь надежных ребят. А с вами будет целая орава шалопутов. Только не проморгайте.
Кивнул Огородник. И я кивнул. Интересно, а я – надежный парень или шалопут?
Напоследок выдал нам Капитан премиальные – две банки рыбных консервов Огороднику и две банки рыбных консервов мне. А это большое дело. Потому что больше двух банок рыбных консервов у меня было последний раз… о! да. Когда первого быкуна поселковые увидели и убили. Тогда Лудаш целый склад нашел. Военный. Там много всего было. Четыре года назад, то ли даже больше четырех уже…
Я обрадовался.
Мы идем с Огородником по хибарам по своим. Он мне и говорит:
– Выспишься – заходи. Угощу тебя.
– Да. Зайду я. Да.
И он пошел-пошел. К себе. А я думаю: «Чем ты меня угостишь-то, когда у меня целых две банки рыбных консервов!» Но это я зря так думал.
Иду, тяжело мне. Я устал, все болит, одежда тяжелая, мокрая, банки тяжелые. Спать хочется страсть как. Вот. Едва иду. Добрался вот. Кофе делать затеял, но потом немощь одолела и решил я передохнуть чуток, посидеть. Сел на кровать. Ох и устал же я…
Глава 4. На вершине
11 вандемьера 2146 года.
Планета Совершенство, поселок Гельвеция, южная окраина риджна Шеппард.
Старший инспектор биоаварийной службы Эрнст Эндрюс, 20 лет.
В то утро мне повезло. И еще раз повезет на закате. А в целом день был хуже некуда. Меня как будто засунули в мясорубку и поворачивали ручку до тех пор, пока все прочное не оказалось сломанным.
На рассвете прибыл Грегор.
Сказать, что он устал, как собака, – ничего не сказать. Когда я увидел его, распластавшегося в кресле, руки висят как веревки, глаза закрыты, и весь он вроде мешка с песком, то первым делом подумал: «Помер Грегор. Приехал, свалился и помер». В первую секунду я не испугался и даже на жалость меня не пробило. Сам был никакой. Двое суток не мылся, на сон у меня было всего четыре часа и, кроме того, в последнее время сразу после пробуждения ужас подступал мне к горлу. Тяжелый мертвящий ужас. Каждый день начинался с ожидания: убойный сегодня будет вылет или не убойный? За последний месяц мы похоронили отряд Овакимяна, отряд Лойера и Марту… великолепную безотказную Марту, самую опытную среди нас, самую красивую на Станции, да и самую идейную, наверное… Одним словом, на Грегора просто не осталось жалости. За спиной у меня тявкнула Щепка: «Еще один…» – и тут он пошевелился. Живой. Твою мать, живой. Радоваться тоже сил нет.
Людвиг поднялся и засипел, голос у него отравой порченый, один сип, а не голос:
– Давайте, садитесь. Долго тащитесь.
А нас и было-то всего человек десять. Сам Людвиг, техники, Грегор и два отряда: мой, да Кристианссона, остальные в разъездах. Причем Грегор не в счет: сил в нем сейчас не больше, чем в зомби, у которого кончился завод.
Людвиг начал сегодня раньше обычного. Видно, не рассчитывал он на Грегора. Ну, продержится парень еще пять минут, ну десять, ну, пятнадцать, а потом вырубится. А держать его на таблетках до семи, когда у нас развод бывает, – глупо и нехорошо. Сейчас отбарабанит свое и баиньки.
А мы, значит, в дороге отоспимся. Наверное.
Людвиг:
– Грегор, тебе слово.
– На мысу Грей Найф – ничего особенно. Радиоактивные отходы… чьи они, я понять не смог, маркировки вытравлены в нулину. Но похоже, это наши старые знакомые, концерн Лысого Мэта… И, ребята, состояние такое, что надо решать вопрос срочно. Я Людвигу замеры передал, он вам скачает, тому, кто поедет, да… но лично, чисто субъективно, передаю ощущение: дерьмо стрясется ни сегодня, так завтра… А остров… Остров – похуже. Подземный завод, склады, все что должно жить – давно не живет… Короче, во-первых, есть кое-какие признаки панфира… уверенности нет у меня, но признаки оч-чень подозрительные… Во-вторых, очевидные следы активности женевцев. Года восьмидесятые, наверное. Или конец семидесятых, перед самым предоставлением независимости от Федерации… Потом они всё аккуратно запаковали… Я едва пробился с поверхности. Не знал бы, где искать, не пробился бы. И, в-третьих, вода у них кое-где капает. В шахтах, в переходах… А если вода просочилась туда, отрава обязательно найдет способ просочиться оттуда. Вы только представьте себе: вылезет на берег многорукая огнедышащая рыба… Ха-ха… Или местные жители позеленеют до летального исхода. Ха-ха… – и тут я посмотрел на лицо Грегора. Да он пьяный в сиську! Пьяный и счастливо улыбается. Доволен, что выбрался с Острова целым и невредимым.