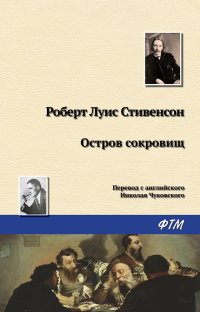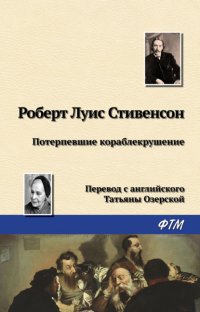
Читать онлайн Потерпевшие кораблекрушение бесплатно
- Все книги автора: Роберт Льюис Стивенсон
Пролог
На Маркизских островах
Было три часа зимнего дня в Таиохаэ, французской столице и главном порту Маркизских островов. Дул сильный шквалистый пассат, грохочущий прибой разбивался на крупной гальке пологого берега, и пятидесятитонная шхуна – военный корабль, олицетворяющий достоинство и влияние Франции на этом каннибальском архипелаге, – прыгала на волнах у своего причала под Тюремным Холмом. Низкие, черные тучи закрывали вершины поднимающихся амфитеатром гор; около полудня прошел сильный дождь – настоящий тропический ливень, когда вода падает с неба сплошной стеной, – и по темно-зеленым склонам все еще вились серебристые нити потоков.
На этих островах с жарким и здоровым климатом зима – только пустое название. Дождь не освежил жителей Таиохаэ, и ветер не принес им бодрости. Правда, на одной из окраин комендант лично наблюдал за работами, производившимися в его саду, и садовники – все до одного каторжники – волей-неволей продолжали трудиться, но все прочие обитатели городка предавались послеобеденному отдыху и сну: Вайкеху, туземная королева, почивала в своем прелестном домике под сенью шелестящих пальм, комиссар с Таити – в своей осененной флагами официальной резиденции, торговцы – в своих опустевших лавках, и даже клубный слуга крепко спал в помещении клуба, уронив голову на буфетную стойку, над которой были прибиты визитные карточки морских офицеров и карта мира. На протянувшейся вдоль берега единственной улице городка, где в благодатной тени пальм и в густых зарослях пурао прятались дощатые домики, не было видно ни души. Только на конце рассохшегося причала, который некогда (в дни краткого процветания восставших Южных Штатов) стонал под тяжестью тюков хлопка, на куче мусора примостился знаменитый татуированный европеец – живая диковинка Таиохаэ.
Он не спал – его взгляд был устремлен на бухту. Он смотрел на горный отрог, переходящий у горловины бухты в цепь невысоких утесов, на белую кипящую полосу прибоя у двух островков, между которыми в узком просвете виднелись на синем горизонте туманные вершины крутых гор острова Хуапу. Однако внимание его не задерживалось на этих давно знакомых чертах ландшафта. Он был погружен в то дремотное состояние, когда сон граничит с явью, и в памяти его всплывали разрозненные картины прошлого: лица туземцев и белых – шкиперов, старших помощников, местных царьков и вождей проходили перед его глазами и снова исчезали в небытии; он вспоминал старые путешествия, забытые пейзажи, освещенные первыми лучами зари; он снова слышал грохот барабанов, сзывающих на каннибальское пиршество; быть может, он вспоминал темнокожую принцессу, из любви к которой подвергся мучительной пытке татуирования, а теперь сидел на мусорной куче в конце причала порта Таиохаэ – бездомный бродяга-европеец. А быть может, на память ему приходило еще более далекое прошлое, и он снова слышал звуки и ощущал запахи родной Англии, своего детства: веселый перезвон соборных колоколов, аромат цветущего вереска, нежную песню реки у плотины.
У входа в бухту – опасные воды, и корабль можно провести только совсем рядом с островками, так что с него легко добросить до берега сухарь. И вот, пока татуированный европеец дремал и грезил о прошлом, из-за оконечности западного островка выдвинулся надутый ветром кливер – зрелище, которое мгновенно заставило его очнуться. Затем показались два стакселя, и, прежде чем татуированный европеец успел вскочить на ноги, топсельная шхуна круто легла к ветру и, обогнув островок, курсом бейдевинд вошла в бухту.
Сонный городок пробудился, как по волшебству. Со всех сторон высыпали туземцы, приветствуя друг друга радостным криком «эхиппи» – корабль; королева вышла на веранду и стала вглядываться в бухту, прикрыв глаза рукой, являвшей собою чудо высокого искусства татуировки; комендант, забыв о своих садовниках, бросился в дом за подзорной трубой; семнадцать бронзовых канаков, во главе с боцманом-французом составлявшие команду военной шхуны, столпились на ее баке, а все англичане, американцы, немцы, поляки, корсиканцы и шотландцы – торговцы и правительственные чиновники в Таиохаэ, – оставив свои лавки и конторы, по обычаю начали собираться на улице перед клубом.
Расстояния в городке были так малы, и вся дюжина его белых обитателей собралась поэтому так быстро, что они успели уже обменяться догадками относительно национальности и цели плавания неизвестной шхуны, прежде чем она продвинулась на полкабельтова по направлению к якорной стоянке. Через мгновение на клотике ее грот-мачты взвился английский флаг.
– Я же говорил, что это англичане – сразу узнал по стакселям! – воскликнул старый, но еще бодрый моряк, который с полным на то правом (если бы ему удалось найти незнакомых с его биографией судовладельцев) мог бы опять украсить своей персоной еще один капитанский мостик и разбить еще один корабль.
– Но ее корпус американской формы, этого вы отрицать не станете, – заметил проницательный шотландец – механик с хлопкоочистительной фабрики. – По-моему, это яхта.
– Вот-вот, – сказал старый моряк, – именно яхта. Поглядите-ка на ее шлюпбалки и гичку, подвешенную за кормой.
– Яхта, как бы не так! – отозвался голос, несомненно, принадлежавшей уроженцу Глазго. – Она же несет флаг английского торгового флота! Яхта! Еще чего!
– Во всяком случае, вы можете запереть лавку, Том, – заметил холеный немец и добавил, обращаясь к проезжавшему мимо на красивой гнедой лошади туземцу с тонким и умным лицом: – Bonjour, mon Prince! Vouz allez boire une verre de biere?.[1]
Однако принц Станилас Моанатини – единственный по-настоящему занятый человек на острове – торопился осмотреть оползень, заваливший утром горную дорогу. Солнце уже клонилось к закату, скоро должны были спуститься сумерки, и если он хотел избежать опасностей, которые таят в себе мрак и невидимые пропасти, и страха перед призраками, населяющими джунгли, то не мог принять любезное приглашение. Впрочем, если он даже и собирался спешиться, тут же выяснилось, что угостить его будет нечем.
– Пива! – вскричал уроженец Глазго. – Как бы не так! В клубе осталось всего восемь бутылок! А я еще ни разу не видел в этом порту судна под английским флагом! Его капитан и должен выпить это пиво.
Это предложение показалось всем присутствующим вполне справедливым, хотя и не вызвало особого восторга: вот уже несколько дней самое слово «пиво» наводило тоску на членов клуба, которые каждый вечер уныло подсчитывали оставшиеся бутылки.
– А вот и Хэвенс! – сказал кто-то, словно обрадовавшись возможности переменить тему. – Ну-ка, Хэвенс, что вы думаете об этом корабле?
– Я не думаю, – ответил Хэвенс, высокий, невозмутимый, медлительный, облаченный в белоснежный полотняный костюм англичанин, закуривая папиросу, – я знаю. Он должен доставить мне груз от оклэндской фирмы «Дональд и Эденборо». Я как раз собираюсь отправиться на него.
– А что это за корабль? – спросил старый морской волк.
– Не имею ни малейшего представления. Какой-нибудь трамп,[2] который они зафрахтовали.
С этими словами Хэвенс прошествовал дальше и скоро уже сидел на корме вельбота, там, где он был в безопасности от брызг, грозивших испортить безупречную свежесть его костюма, и отдавал команды буйным канакам негромким, вежливым голосом, что не помешало им подойти к борту шхуны с большой лихостью и точностью.
У трапа его встретил загорелый, обветренный капитан.
– По-моему, ваш груз адресован нам, – сказал англичанин. – Моя фамилия Хэвенс.
– Совершенно справедливо, сэр, – ответил капитан, обмениваясь с ним – рукопожатием. – Владелец, мистер Додд, ждет вас в каюте… Осторожнее, рубка только что окрашена.
Хэвенс вступил в узкий проход между рубкой и бортом и спустился по трапу в салон.
– Мистер Додд, если не ошибаюсь? – сказал он, обращаясь к невысокому бородатому человеку, который что-то писал за столом. И тут же воскликнул: – Да это же Лауден Додд!
– Он самый, милый друг, – радостно ответил мистер Додд, вскакивая на ноги. – Прочитав вашу фамилию во фрахтовых документах, я так и надеялся, что это будете вы! Ну, в вас не заметно никаких перемен: все тот же невозмутимый, подтянутый британец.
– Зато вы переменились, – ответил Хэвенс. – Вы, кажется, сами стали британцем?
– О нет, – возразил Додд. – Красная скатерть на верхушке мачты – это флаг моего компаньона. Но сам он в делах не участвует. Вот он. – И Додд указал на бюст, составлявший одно из многочисленных и весьма необычных украшений этой оригинальной каюты.
– Прекрасный бюст! – заметил Хэвенс, бросив на него вежливый взгляд.
– Судя по лицу, ваш компаньон – приятный человек.
– И даже очень, – отозвался Додд. – Собственно, он глава нашего предприятия. Это он его финансирует.
– И, кажется, он в деньгах особенно не стеснен, – сказал его собеседник, со все возрастающим изумлением осматривая каюту.
– Его деньги, мой вкус, – объяснил Додд. – Книжный шкаф из черного ореха – антикварная редкость; книги все мои – в основном это писатели французского Возрождения. Видели бы вы, как отскакивают от них скучающие жители здешних островов, когда подходят к шкафу, рассчитывая поживиться чем-нибудь получше библиотечных романов! Зеркала настоящие венецианские; вон то в углу – очень недурной образчик. Мазня – моя и его, лепка – только моя.
– Лепка? А что это такое? – спросил Хэвенс.
– Вот эти бюсты, – ответил Додд. – В молодости я ведь был скульптором.
– Да, я – об этом слышал. А кроме того, вы, по-моему, упоминали, что интересовались недвижимостью в Калифорнии.
– Неужели я утверждал что-либо подобное? – удивился Додд. – «Интересовался» – это не то слово. «Был втянут в спекуляции» – гораздо ближе к истине. Как бы то ни было, я прирожденный художник: меня никогда ничто, кроме искусства, не интересовало. Если бы я завтра разбил эту посудину, – добавил он помолчав, – я, пожалуй, опять занялся бы искусством!
– Ваш корабль застрахован? – осведомился Хэвенс.
– Да, – ответил Додд. – Есть во Фриско дурак, который согласился застраховать его и забирает львиную долю наших прибылей, но мы с ним еще посчитаемся.
– Груз, я полагаю, в полном порядке? – заметил Хэвенс.
– Да, наверное, – ответил Додд. – Займемся документами?
– У нас для этого будет весь завтрашний день, – сказал Хэвенс. – А пока вас ждут не дождутся в нашем клубе. C'est l'heure de l'absinthe.[3] А потом, Лауден, вы, разумеется, пообедаете у меня?
Мистер Додд охотно выразил согласие, надел белую куртку – не без некоторого труда, потому что он был уже в годах и довольно толст, – расчесал бороду и усы перед одним из венецианских зеркал и, взяв фетровую шляпу с большими полями, вывел своего посетителя через помещение конторы на шкафут.
У борта их ждала кормовая шлюпка, очень изящная, с мягкими сиденьями и отделкой из полированного красного дерева.
– Садитесь за руль, – предложил Лауден. – Вы ведь знаете, где здесь удобнее всего пристать.
– Не люблю править чужими лодками, – возразил Хэвенс.
– Считайте ее лодкой моего компаньона, и мы с вами окажемся в одинаковом положении, – посоветовал Лауден, легко спускаясь по трапу.
Хэвенс последовал за ним и без дальнейших возражений взял румпель-штерты.
– Не понимаю, каким образом вам удается извлекать доходы из вашей шхуны, – заметил он. – Во-первых, она, на мой взгляд, великовата для торговли по архипелагам, а во-вторых, слишком роскошно отделана.
– Я не так уж уверен, что мы действительно извлекаем из нее доходы, – возразил Лауден. – Я ведь отнюдь не деловой человек. Мой компаньон, кажется, доволен, а деньги, как я вам уже говорил, принадлежат ему. Я вкладываю в дело только отсутствие коммерческого опыта.
– Полагаю, ваши обязанности вам по душе? – осведомился Хэвенс.
– Да, как ни странно, очень, – ответил Лауден.
Пока они пересекали гладь бухты, солнце зашло за горизонт, на военной шхуне раздался сигнальный выстрел пушки (точнее говоря, это было ружье) и был спущен флаг. Шлюпка пристала к берегу в уже сгущающихся сумерках, и на низкой веранде «Сёркль Интернасьональ»[4] (как официально и не без оснований назывался клуб) засветились многочисленные лампы. Наступили самые приятные часы суток: исчезли назойливые, больно жалящие мушки; повеял прохладный береговой бриз, и члены «Серкль Интернасьональ» собрались в клубе поболтать и выпить стаканчик-другой. Мистер Лауден Додд был официально представлен коменданту острова; партнеру коменданта по бильярду – торговцу с соседнего острова и почетному члену клуба, который начал свою карьеру помощником плотника на борту военного корабля северян; портовому доктору; начальнику жандармов; владельцу опийной плантации и всем остальным людям с белой кожей, которых прихоти торговли или кораблекрушений, а может быть, просто нежелание служить в военном флоте забросили в Таиохаэ. Благодаря своей располагающей внешности и любезным манерам, а также умению красноречиво изъясняться как на английском, так и на французском языках Лауден всем очень понравился. Вскоре на столе возле него уже стояла одна из восьми последних бутылок пива, а сам он оказался довольно молчаливой центральной фигурой оживленно болтающей группы.
Разговоры в Южных Морях все на один образец: океан здесь огромен, но мир мал; вначале непременно будет упомянут Забияка Хейс, герой-моряк, чьи подвиги и вполне заслуженный конец остались совершенно неизвестными Европе; потом будет затронут вопрос о торговле копрой или жемчугом, а может быть, хлопком или губками, но очень небрежно, словно он никого особенно не интересует; то и дело будут упоминаться названия шхун и фамилии их капитанов, а затем собеседники обменяются новостями о последнем кораблекрушении и обстоятельно их обсудят. Человеку новому эти разговоры сначала не покажутся особенно интересными, но, когда он проживет в мире островов год или два и перевидает немало шхун, так что фамилия каждого капитана будет вызывать в его памяти определенную фигуру, облаченную в пижаму или парусиновый костюм, да к тому же привыкнет к снисходительности, с которой (в память мистера Хейса) относятся здесь к таким видам человеческой деятельности, как контрабанда, нарочно устроенное кораблекрушение, баратрия,[5] пиратство, насильственная вербовка рабочей силы и прочее, он убедится, что беседы в клубах Полинезии не менее остроумны и поучительны, чем разговоры в подобных же заведениях Лондона и Парижа.
Хотя мистер Лауден Додд и прибыл на Маркизские острова впервые, он был старым, просоленным торговцем Южных Морей; он знал множество кораблей и их капитанов; ему приходилось на других архипелагах присутствовать при зарождении предприятия, о конце которого шел рассказ, или, наоборот, он мог сообщить о дальнейшем развитии событий, начавшихся в Таиохаэ. Среди прочих интересных новостей – например, о появлении в здешних водах новых лиц – он сообщил также о кораблекрушении. «Джон Ричарде» разделил судьбу многих других островных шхун.
– Дикинсон выбросил ее на остров Пальмерстона, – возвестил Додд.
– А кто владельцы? – спросил один из его собеседников.
– О, как обычно, «Кепсикум и K°».
Все переглянулись с многозначительной улыбкой, и Лауден, пожалуй, выразил общее мнение, сказав:
– Вот, говорят, есть выгодные дела! Что может быть выгоднее застрахованной шхуны, опытного капитана и крепкого, надежного рифа?
– Выгодных дел не существует! – заметил уроженец Глазго. – Никто, кроме миссионеров, не получает барышей.
– Ну, не знаю, – возразил кто-то. – Опиум приносит недурную прибыль.
– Неплохо также подобраться к жемчужной отмели, где ловля запрещена, так году на четвертом, обчистить лагуну и удрать на всех парусах, пока французы не спохватились.
– Неплохо золота самородок отыскать, – вставил какой-то немец.
– Купить потерпевший крушение корабль тоже иной раз сделка недурная, – сказал Хэвенс. – Помните этого человека из Гонолулу и бриг, который выбросило на рифы Вайкики? Ветер был крепкий, и бриг начало ломать, не успел он как следует сесть на днище. Агент «Ллойда» продал его меньше чем через час, и до темноты, когда корабль наконец разбило в щепы, покупатель успел обеспечить себе безбедную жизнь, а если бы солнце зашло на три часа позже, он мог бы совсем удалиться от дел. Но и так он построил себе дом на улице Беретания и назвал его в честь этого корабля.
– Да, порой на кораблекрушении можно недурно нажиться, – сказал уроженец Глазго, – но далеко не всегда.
– Ну, это общее правило – выгодные дела встречаются редко, – ответил Хэвенс.
– Согласен, – продолжал шотландец. – А я мечтаю узнать тайну какого-нибудь богача и поприжать его как следует.
– Полагаю, вам известно, что такого рода способы среди порядочных людей неупотребительны? – возразил Хэвенс.
– Это меня не интересует, мне такой способ вполне подходит, – невозмутимо отозвался шотландец из Глазго. – Беда только в том, что подходящих секретов в Южных Морях не узнаешь. Их надо искать в Лондоне или в Париже.
– Мак-Гиббон начитался бульварных романов, – сказал кто-то.
– Он читал «Аврору Флойд», – добавили из другого угла.
– Ну и что? – возразил Мак-Гиббон. – Ведь это же правда. Почитайте-ка газеты! Вы хихикаете только из-за своего тупоголового невежества. А на мой взгляд, шантаж – такое же ремесло, как страхование, только в сто раз честнее.
Начавшаяся перепалка заставила Лаудена, который больше всего на свете ценил мир и спокойствие, поспешно вмешаться в разговор.
– Как ни странно, – сказал он, – но мне на своем веку пришлось испробовать все эти способы добывания хлеба насущного.
– Вы имели самородок найти? – жадно спросил немец, изъяснявшийся на ломаном языке.
– Нет, – ответил Лауден. – Я занимался всякими глупостями, но все-таки не золотоискательством. Любой дурости есть предел.
– Ну, а контрабандной торговлей опиумом вы занимались? – поинтересовался кто-то еще.
– Занимался, – ответил Лауден.
– Выгодное дело?
– Еще какое!
– И покупали разбившийся корабль?
– Да, сэр, – ответил Лауден.
– Ну, и что из этого вышло?
– Видите ли, этот корабль был особого сорта, – объяснил Лауден. – По чести говоря, я бы никому не советовал заниматься этим видом деятельности.
– А что, его разбило в щепы на мели?
– Вернее будет сказать, что из-за него на мели оказался я, – заметил Лауден. – Не сумел преодолеть трудностей.
– А шантажом занимались? – осведомился Хэвенс.
– Само собой разумеется! – кивнул Лауден.
– Выгодное дело?
– Видите ли, я человек невезучий. А так, наверное, выгодное.
– Вы узнали чью-нибудь тайну? – спросил уроженец Глазго.
– Великую, как этот океан.
– Тайну богача?
– Не знаю, что вы называете богачом, но эти острова он мог бы купить и не заметить, во что они ему обошлись.
– Ну, так за чем же дело стало? Вы не могли его разыскать?
– Да, на это потребовалось время, но в конце концов я загнал его в угол и…
– И что?
– Все полетело вверх тормашками. Я стал его лучшим другом.
– Ах, черт!
– По-вашему, он не слишком разборчив в выборе друзей? – любезно осведомился Лауден. – Да, пожалуй, у него довольно широкий круг симпатий.
– Если вы кончили болтать чепуху, Лауден, – сказал Хэвенс, – то нам пора идти ко мне обедать.
За стенами клуба во мраке ревел прибой. В темной чаще кое-где мерцали огоньки. Мимо по двое и по трое проходили островитянки, кокетливо улыбались и снова исчезали во мгле, а в воздухе еще долго держался запах пальмового масла и цветов франжипана. От клуба до жилища мистера Хэвенса было два шага, и любому обитателю Европы они показались бы двумя шагами по волшебной стране. Если бы такой европеец мог последовать за нашими двумя друзьями в дом, окруженный широкой верандой, и в прохладной комнате, с жалюзи вместо стен, сесть с ними за стол, на белую скатерть которого падали цветные тени от бокалов с вином; если бы он мог отведать экзотические кушанья: сырую рыбу, плоды хлебного дерева, печеные бананы, жареного поросенка с гарниром из упоительного мити и царя всех подобных блюд – салат из сердцевины пальмы; если бы он мог увидеть и услышать, как некая прелестная туземка, слишком скромная для супруги хозяина и слишком властная для любого иного положения, то появляется в столовой, то исчезает, браня невидимых помощников, а потом мгновенно очутился в родном лондонском пригороде, он сказал бы, протирая глаза и потягиваясь в своем любимом кресле у камина: «Мне приснилось дивное местечко! Ей-богу, это был рай!» Однако Додд и его хозяин давно уже привыкли ко всем чудесам тропической ночи, ко всем яствам островной кухни и принялись за еду просто как люди, давно проголодавшиеся, лениво перебрасываясь словами, как бывает, когда немного скучно.
Вскоре разговор коснулся беседы в клубе.
– Вы никогда еще не болтали столько чепухи, Лауден, – заметил Хэвенс.
– Мне показалось, что в воздухе запахло порохом, вот я и заговорил, чтобы отвлечь их. Однако все это вовсе не чепуха.
– Вы хотите сказать, что все это правда: и опиум, и покупка потерпевшего крушение корабля, и шантаж, и человек, который стал вашим другом?
– Все правда, до последнего слова, – ответил Лауден.
– Кажется, вы действительно много испытали на своем веку, – сухо сказал Хэвенс.
– Да, история моей жизни довольно любопытна, – отозвался его друг. – Если хотите, я расскажу ее вам.
Далее следует повесть о жизни Лаудена Додда, не так, как он поведал ее своему другу, а так, как он впоследствии записал ее.
Рассказ Лаудена
Глава I
Хорошее коммерческое образование
Для начала мне следует описать характер моего бедного отца. Трудно представить себе человека лучше или красивее его и в то же время такого (с моей точки зрения) неудачника: ему не повезло и с делами, и с удовольствиями, и с выбором дома, и (как мне ни жаль) с единственным сыном. Он начал жизнь землемером, стал спекулировать земельными участками, пустился в другие деловые предприятия и постепенно приобрел репутацию одного из самых ловких дельцов штата Маскегон.[6] «У Додда голова что надо», – отзывались о нем окружающие. Но сам я далеко не так уверен в его деловых способностях. Впрочем, удачливость его долгое время казалась несомненной, а уж настойчивость была совершенно бесспорной. Он вел ежедневную битву за деньги с меланхолической покорностью мученика: вставал чуть свет, ел на ходу, даже в дни побед возвращался домой измученным и обескураженным; он отказывал себе в развлечениях – если вообще был способен развлекаться, в чем я порой сомневался, – и доводил до благополучного конца очередную спекуляцию с пшеницей или алюминием, по сути своей ничем не отличавшуюся от грабежа на большой дороге, ценой самой высокой самоотверженности и добросовестности.
К несчастью, меня ничто, кроме искусства, никогда не интересовало и интересовать не будет. Я считал тогда, что высшее назначение человека – обогащать мир прекрасными произведениями искусства и приятно проводить время, свободное от этого благородного занятия. Насколько помню, о второй половине своей жизненной программы (которую, кстати, мне только и удалось осуществить) я отцу ничего не говорил, однако он, по-видимому, что-то заподозрил, так как назвал мой заветный план баловством и блажью.
– Ну хорошо, – воскликнул я однажды, – а что такое твоя жизнь? Ты думаешь только о том, как бы разбогатеть, и при этом за счет других людей.
Он грустно вздохнул (это вообще было его привычкой) и укоризненно покачал головой.
– Ах, Лауден, Лауден! – сказал он. – Все вы, мальчики, считаете себя мудрецами: Но как бы ты ни противился этому, всякий человек обязан работать. И выбор только один – быть честным человеком или вором, Лауден.
Вы сами видите, насколько бесполезно было спорить с моим отцом. Отчаяние, охватывавшее меня после подобных разговоров, отягощалось еще и раскаянием, потому что я нередко грубил ему, а он неизменно бывал со мной мягок и ласков. К тому же я ведь отстаивал мои личные стремления и желания, а он думал только о моем благе, хотя и понимал его по-своему. И он не терял надежды образумить меня.
– Основа у тебя хорошая, Лауден, – повторял он, – основа у тебя хорошая. В конце концов кровь скажется, и ты пойдешь по правильному пути. Я не боюсь, что мне придется стыдиться моего сына. Просто мне порой бывает неприятно, когда ты начинаешь нести чепуху.
После этого он похлопывал меня по плечу или по руке с нежностью, особенно трогательной в таком красивом и сильном человеке.
Как только я окончил школу, отец отправил меня в Маскегонскую коммерческую академию. Вы иностранец, и вам, вероятно, не так-то просто поверить, что подобное учебное заведение существует на самом деле. Поэтому, прежде чем продолжить свой рассказ, я хочу заверить вас, что я не шучу. Эта академия действительно существовала, а может быть, существует и по сей день – наш штат чрезвычайно ею гордился, считая это учебное заведение высшим достижением современной цивилизации. Мой отец, провожая меня на вокзал, несомненно, был уверен, что открывает передо мной прямой и верный путь в президенты и в рай.
– Лауден, – сказал он мне, – я даю тебе возможность, какой не мог дать своему сыну даже Юлий Цезарь: возможность познать жизнь прежде, чем ты сам примешь в ней участие. Избегай рискованных спекуляций, старайся вести себя так, как следует благородному человеку, и, по возможности, ограничивайся надежными операциями с железнодорожными акциями. Пшеница всегда соблазнительна, но и очень опасна. В твоем возрасте я не стал бы начинать с пшеницы; однако другие ценности тебе не противопоказаны. Обращай особое внимание на ведение счетных книг и, раз потеряв деньги, вторично их в те же акции не вкладывай. Ну, сынок, поцелуй меня на прощание и не забывай, что ты у меня один и что твой отец будет следить за твоей карьерой с любовью и тревогой.
Коммерческая академия занимала несколько прекрасных просторных зданий, расположенных в лесу. Воздух там был очень здоровым, питание – превосходным, плата за обучение – весьма высокой. Телеграф соединял академию, говоря словами рекламного объявления, «с различными мировыми центрами». Читальный зал был в изобилии снабжен «коммерческой прессой». Разговоры велись большей частью об Уолл-стрите, а студенты (всего там обучалось около ста человек) в основном занимались тем, что пытались прикарманить «академические капиталы» своих товарищей. Правда, по утрам мы занимались в аудиториях: нам преподавали немецкий и французский языки, бухгалтерское дело и прочие солидные науки. Однако большую часть дня мы проводили на «бирже», обучаясь спекуляции товарами и ценными бумагами, – это-то и была основа основ получаемого нами образования. Поскольку ни один из участников не имел никакой собственности – ни бушеля реальной пшеницы, ни доллара в государственной валюте, – эти спекуляции, разумеется, не приносили их участникам никаких выгод и превращались в самоцель. Они сводились к откровенной, ничем не прикрытой азартной игре. Нас, не жалея никаких затрат на декорации, обучали именно тому, что уничтожает всякую истинную коммерцию. Для того чтобы мы на опыте познакомились с движением и капризами цен, наш учебный рынок точно воспроизводил реальное положение вещей в стране. Мы были обязаны вести счетные книги, которые в конце каждого месяца проверялись либо директором, либо кем-нибудь из его помощников. Чтобы сделать игру еще более правдоподобной, «академической валюте» была придана реальная стоимость. Заботливые родители или опекуны покупали ее студентам по цене цент за доллар. Заканчивая курс, студенты по той же цене продавали академии оставшуюся у них валюту. А наиболее удачливые «биржевики» порой реализовывали часть своих капиталов еще в бытность свою студентами, чтобы тайком устроить пирушку в соседнем городке. Короче говоря, хуже этой академии была, пожалуй, только та, где Оливер познакомился с Чарли Бейтсом.[7]
Когда кто-то из младших преподавателей проводил меня на «биржу», чтобы показать мне мою конторку, я был ошеломлен царившим там хаосом и шумом. В глубине зала виднелись черные доски со столбцами все время меняющихся цифр. После каждого изменения студенты толпой бросались к доскам и начинали во весь голос вопить какую-то, как мне показалось, абракадабру. Некоторые вскакивали на конторки и скамьи, подавая руками и головами загадочные знаки и что-то быстро отмечая в своих записных книжках. Мне показалось, что неприятней этой сцены я еще ничего в жизни не видывал; а когда я сообразил, что все эти сделки – простая игра и что всех денег, циркулирующих на «академической бирже», не хватит и на покупку пары коньков, то почувствовал большое изумление, хотя и ненадолго, ибо припомнил, как взрослые и очень богатые люди выходят из себя, проиграв жалкие гроши. Тогда, найдя таким образом оправдание моим соученикам, я изумился поведению преподавателя, который привел меня сюда: забыв показать мне мою конторку, он, бедняга, стоял среди этой суматохи как завороженный – казалось, цифры на досках всецело завладели его вниманием.
– Глядите, глядите, – завопил он мне в ухо, – курсы падают! Рынком со вчерашнего дня завладели «медведи».
– Ну и что же? – ответил я, с трудом перекрикивая шум (я еще не научился разговаривать в подобной обстановке). – Это же все понарошку.
– Да, конечно, – ответил он, – и вы должны твердо запомнить, что истинную прибыль вы получите, только если будете хорошо вести свои счетные книги. Надеюсь, Додд, мне предстоит только хвалить вас за них. Вы начинаете свою деятельность с весьма приличным капиталом – десять тысяч долларов в «академической валюте». Его, несомненно, хватит вам до конца обучения, если, конечно, вы не будете рисковать и пускаться в сомнительные операции… Постойте, что бы это значило? – перебил он сам себя, когда на досках появились новые цифры. – Семь, четыре, три! Додд, вам повезло: за весь семестр еще не было такого оживления. И подумать только, что точно то же происходит сейчас в Нью-Йорке, Чикаго, Сент-Луисе и других соперничающих деловых центрах страны! Эх, я и сам поиграл бы вместе с мальчиками, – добавил он, потирая руки, – да только это не разрешается правилами.
– А что бы вы сделали?
– Что бы я сделал? – вскричал он, сверкнув глазами. – Покупал бы, пока хватит капитала!
– Это и значит не рисковать и не пускаться в сомнительные операции? – спросил я с самым невинным видом.
Он бросил на меня злобный взгляд, а затем сказал, словно для того, чтобы переменить тему:
– Видите того рыжего юношу в очках? Это Билсон, наш самый блестящий студент. Мы все уверены в его будущем. Берите пример с Билсона, Додд.
Вскоре после этого, пока шум по-прежнему нарастал, цифры на доске появлялись и исчезали все быстрее, а зал сотрясался от воплей биржевиков, младший преподаватель покинул меня, указав мне наконец мою конторку. Мой сосед подводил итоги в своей счетной книге – подсчитывал убытки за это утро, как я узнал позднее, – и очень охотно оторвался от этого малоприятного занятия, увидев незнакомое лицо.
– Эй, новичок! – окликнул он меня. – Как вас зовут?.. Что? Ваш отец – Додд Голова Что Надо? Сколько у вас капитала? Десять тысяч? Здорово! Ну и дурак же вы, что возитесь со своими книгами!
Я ответил, что не вижу – иного выхода, поскольку книги ежемесячно проверяются.
– Эх, разиня! Наймите писца! – крикнул он. – Кого-нибудь из наших банкротов – для этого они здесь и толкутся. Если вы будете удачно играть на бирже, вам в этом колледже работать не придется.
Шум к этому времени стал совсем уже невыносимым, и мой новый друг, сказав, что наверняка кто-то «прогорел», что он пойдет выяснить, в чем дело, и приведет мне писца, застегнул куртку и нырнул в неистовствующую толпу. Его предположение было правильно: кто-то действительно «прогорел», один из королей биржи был низложен – игра на сале оказалась для него роковой, – и писец, обязавшийся писать мои книги, избавлять меня от всей работы и получать все причитающееся мне образование за тысячу долларов в месяц в «академической валюте» (десять долларов в валюте США), оказался не кем иным, как знаменитым Билсоном, с которого мне рекомендовали брать пример. Бедняга был очень расстроен. Только за одно могу я похвалить Маскегонскую коммерческую академию: все мы, включая даже самую мелкую рыбешку, испытывали глубокий стыд, оказываясь банкротами; ну, а такому магнату, как Билсон, который в дни своего процветания столь высоко задирал нос, потерпеть полный крах было особенно тяжело. Но дух серьезного отношения к игре победил даже горечь недавнего поражения, и Билсон приступил к исполнению своих новых обязанностей с надлежащей энергией и деловитостью.
Таковы были мои первые впечатления от этого нелепого учебного заведения, и, говоря откровенно, я скорее назвал бы их приятными. Пока я буду богат, я смогу распоряжаться дневными и вечерними часами по своему вкусу: писец будет вести мои книги, писец будет толкаться и вопить на бирже, а я могу заниматься писанием пейзажей и чтением романов Бальзака – в то время это были два главных моих увлечения. Следовательно, моя задача сводилась к тому, чтобы оставаться богатым, то есть вести дела осмотрительно и не пускаться в рискованные спекуляции, иначе говоря, найти какой-то безопасный способ наживы. Я ищу его до сих пор, и, насколько могу судить, в нашем несовершенном мире ближе всего к нему стоит излюбленная детьми деловая операция, сводящаяся к формуле: «Орел – я выиграл, решка – ты проиграл». Помня напутственные слова моего отца, я робко взялся за железные дороги и около месяца занимал бесславно-надежную позицию, скупая в малых количествах самые устойчивые акции и безропотно (насколько это у меня получалось) снося презрение своего писца. Однажды я в виде опыта решился на более смелый шаг и, не сомневаясь, что акции компании «Пен-Хендл» (если не ошибаюсь) будут падать и дальше, продал этих акций на несколько тысяч. Но не успел я произвести эту сделку, как какие-то идиоты в Нью-Йорке начали играть на повышение, акции «ПенХендла» взлетели к потолку, а мое положение оказалось подорванным. Кровь, как и надеялся мой отец, сказалась, и я мужественно продолжал вести свою линию: весь день я продавал эти дьявольские акции, и весь день они продолжали повышаться. Как кажется, я (хрупкая скорлупка) попал под носовую волну мощного корабля Джея Гульда – в дальнейшем, насколько помню, оказалось, что это был первый ход в очень крупной биржевой игре. В тот вечер имя Лаудена Додда занимало первое место в газете нашей академии, а мы с Билсоном (снова оказавшимся без места) претендовали на одну и ту же вакансию писца. О ком шумят, того скорей услышат. Мое разорение привлекло ко мне всеобщее внимание, и поэтому место писца получил я. Так что, как вы сейчас убедились, и в Маскегонской коммерческой академии можно было кое-чему научиться.
Меня лично совсем не трогало, выиграл я или проиграл в такой сложной и скучной игре, где все зависело только от случайности. Однако писать об этом отцу оказалось тяжелой задачей, и я пустил в ход все свое красноречие. Я доказывал (и это было абсолютной правдой), что студенты, удачно играющие на бирже, не получают никакого образования, и, следовательно, если он хочет, чтобы я чему-нибудь научился, ему следует радоваться моему разорению. Затем я (не очень последовательно) обратился к нему с просьбой снабдить меня новым капиталом, обещая в этом случае иметь дело только с надежными акциями железных дорог. Несколько увлекшись, я заключил свое письмо уверениями, что не гожусь в дельцы, и горячей просьбой забрать меня из этого отвратительного места и отпустить в Париж заниматься искусством. В ответ я получил короткое, ласковое и грустное письмо, в котором он писал только, что до каникул осталось совсем немного, а тогда у нас будет достаточно времени, чтобы все обсудить.
Когда я приехал домой на каникулы, отец встретил меня на вокзале, и я был потрясен, увидев, как он постарел. Казалось, он думал только о том, как утешить меня и вернуть мне бодрость духа (которую я, по его мнению, должен был утратить). Не надо унывать, убеждал он меня, сотни опытнейших биржевиков начинали свою карьеру с неудачи. Я заявил ему, что не создан быть финансистом, и его лицо омрачилось.
– Не говори так, Лауден, – сказал он. – Я не могу поверить, что мой сын оказался трусом.
– Но мне не нравится эта жизнь! – умоляюще произнес я. – Меня интересует не биржа, а искусство. На этом поприще я способен достичь гораздо большего!
И я напомнил ему, что известные художники зарабатывают большие деньги, что любая картина Мейсонье стоит много тысяч долларов.
– А не думаешь ли ты, Лауден, – возразил он, – что человек, способный написать тысячедолларовую картину, сумел бы показать свою закалку и на бирже? Уж поверь, этот Мэзон, о котором ты сейчас упомянул, или наш соотечественник Бьерстадт, очутись они завтра на хлебной бирже, показали бы, из какого материала они скроены. Послушай, Лауден, сынок, ведь я, видит бог, думаю только о твоем благе, и я хочу заключить с тобой договор: в следующем семестре я снова дам тебе десять тысяч ваших долларов, и, если ты покажешь себя настоящим мужчиной и удвоишь этот капитал, я позволю тебе поехать в Париж, коли тебе еще будет этого хотеться, в чем я сильно сомневаюсь. Но разрешить тебе уйти с позором, словно тебя высекли, мне не позволяет гордость.
Когда я это услышал, сердце мое забилось от радости, но тут же меня снова охватило уныние. Ведь, как мне казалось, куда легче было тут же, не сходя с места, написать картину не хуже Мейсонье, чем заработать десять тысяч долларов на нашей академической бирже. Не мот я также не подивиться столь странному способу проверки, есть ли у человека талант художника. Я даже осмелился выразить свое недоумение вслух.
– Ты забываешь, мой милый, – сказал отец с глубоким вздохом, – что я могу судить только об одном, но не о другом. Будь у тебя даже гений самого Бьерстадта, я бы этого не заметил.
– А кроме того, – продолжал я, – это не совсем справедливо. Другим студентам помогают их родные: присылают им телеграммы с указаниями. Вот, например, Джим Костелло, он и шага не сделает, пока отец из Нью-Йорка не подскажет ему, как поступить. А кроме того, как ты не понимаешь – ведь если кто-то наживается, значит, кому-то нужно разоряться.
– Я буду держать тебя в курсе выгодных сделок, – вскричал мой отец, просияв. – Я не знал, что это разрешается вашими правилами. Я буду посылать тебе телеграммы, зашифрованные нашим коммерческим шифром, и мы устроим нечто вроде фирмы «Лауден Додд и сын», а? – Он похлопал меня по плечу, а затем повторил с нежной улыбкой: – «Додд и сын», «Додд и сын».
Раз мой отец обещал давать мне советы, а коммерческая академия становилась преддверием Парижа, я мог с надеждой взирать на будущее. К тому же мысль о нашей «фирме» доставила моему старичку такое удовольствие, что он сразу ободрился. И вот после грустной встречи на вокзале мы сели ужинать, весело улыбаясь и в самом праздничном настроении.
А теперь я должен ввести в мое повествование нового героя, который, не сказав ни слова и даже пальцем не пошевелив, определил всю мою дальнейшую судьбу. Вам приходилось бывать в Штатах, и, возможно, вы видели его золоченую, хитро каннелированную голову, сверкающую над деревьями посреди обширной равнины, ибо этот новый герой был не что иное, как капитолий штата Маскегон, тогда еще только находившийся в проекте. Мой отец приветствовал его постройку из патриотических чувств, к которым в равной мере примешивалась деловая алчность, – и то и другое было совершенно искренним. Он был членом всех комитетов, связанных с этой постройкой, он пожертвовал на нее значительную сумму, и он подготавливал свое участие во всех связанных с ней подрядах. На конкурс было прислано много проектов. Когда я приехал из академии, мой отец был занят их рассмотрением, и они так его заинтересовали, что в первый же вечер после моего приезда он обратился ко мне за советом. Вот наконец был предмет, которым я мог заняться с искренним удовольствием! Правда, я ничего не смыслил в архитектуре, но, во всяком случае, это было искусство, а я в любом искусстве предпочитал классические образцы и, кроме того, был готов ради него на любые труды – способность, которую какой-то прославленный идиот объявил равнозначной гению. Я тут же с головой ушел в работу: ознакомился со всеми проектами, оценил их недостатки и достоинства, прочел множество книг по архитектуре, овладел теорией деформации, изучил текущие цены на строительные материалы и, короче говоря, оказался настолько хорошим «натаскивателем», что, когда началось рассмотрение проектов, Додд Голова Что Надо заслужил свежие лавры. Его доводы убедили всех, его выбор был единодушно одобрен комитетом, а я мог втихомолку торжествовать, зная, что и аргументы и выбор принадлежали мне и только мне. Когда в принятый проект вносились некоторые дополнения и изменения, моя роль оказалась еще более значительной, ибо я составил эскиз и сделал модель каминных решеток для служебных помещений. Энергия и способности, которые я при этом проявил, привели моего отца в полный восторг, а кроме того, хотя мне самому, пожалуй, не следовало бы говорить об этом, именно благодаря моим усилиям капитолий моего родного штата украшает, а не безобразит его.
В общем, когда я вернулся в Коммерческую академию, настроение у меня было очень бодрое, и мои первые биржевые операции увенчались блестящим успехом. Отец постоянно присылал мне письма и телеграммы. «Ты должен сам решить, как поступить, Лауден, – не уставал повторять он. – Я сообщаю тебе только цифры, но любую свою спекуляцию ты предпринимаешь на свой страх и риск, и все, что ты заработаешь, ты заработаешь благодаря собственной смелости и инициативе». Однако, несмотря на это, всегда было легко угадать, чего он от меня ждет, и я всегда спешил оправдать его ожидания. Через месяц у меня уже было около восемнадцати тысяч долларов в «академической валюте». И тут я пал жертвой одного из пороков этой системы. Как я уже упоминал, за «академическую валюту» можно было получить один процент ее номинальной стоимости в денежных знаках Соединенных Штатов. Разорившиеся биржевые игроки постоянно продавали свою одежду, книги, банджо и запонки, чтобы покрыть дефицит, а нажившиеся, наоборот, не устояв перед соблазном, превращали часть своих «прибылей» в настоящие доллары для оплаты каких-нибудь реальных удовольствий. А мне понадобилось тридцать долларов, чтобы приобрести принадлежности для занятий живописью: я постоянно уходил в лес писать этюды, и, поскольку мои карманные деньги были израсходованы, в один злосчастный день я реализовал три тысячи в «академической валюте», чтобы купить себе палитру, – благодаря советам моего отца я уже начал смотреть на биржу как на место, где деньги сами плывут тебе в руки.
Палитра прибыла в среду, и я вознесся на седьмое небо. В это время мой отец (сказать «я» значило бы отступить от истины) пытался устроить «двойной опцион» на пшенице между Чикаго и Нью-Йорком – как вам известно, спекуляции такого рода считаются одними из самых рискованных на шахматной доске финансов. В четверг удача повернулась к нему спиной, и к вечеру моя фамилия второй раз красовалась на доске в списке банкротов. Это был тяжелый удар. Надо сказать, что моему отцу в любом случае было бы нелегко его перенести, потому что, как бы ни мучили человека промахи его сына, его собственные промахи мучают его гораздо сильнее. Однако в горькой чаше нашей неудачи была, кроме того, капля смертельного яда: отец превосходно знал состояние моих финансов и заметил недостачу трех тысяч «академических долларов», а это, с его точки зрения, означало, что я украл тридцать настоящих долларов. Пожалуй, такое суждение было слишком строгим, но некоторые основания для него были, а мой отец, хотя его биржевая деятельность, на мой взгляд, по самой своей сути исключала честность, был необыкновенно щепетилен во всех сопутствующих ей мелочах. Я получил от него только одно печальное, обиженное и ласковое письмо, и больше до конца семестра он мне не писал, так что все это горькое время, трудясь в качестве писца, продавая одежду и этюды, чтобы добыть средства на очередную безнадежную спекуляцию, и с тоской стараясь забыть свою мечту о Париже, я был лишен его поддержки и советов.
Однако все это время он, по-видимому, постоянно думал о своем сыне и о том, что с ним дальше делать. Полагаю, он пришел в настоящий ужас от моей беспринципности – именно так он оценивал мой поступок – и старался изыскать способ, как в дальнейшем оградить меня от искушений. С другой стороны, архитектор, строивший капитолии, похвально отозвался о моих решетках, и, пока отец колебался, не зная, на что решиться, вмешалась судьба, и Маскегонский капитолии определил мою дальнейшую жизнь.
– Лауден, – сказал мне отец, встретив меня на вокзале сияющей улыбкой, – если ты поедешь в Париж, сколько времени тебе понадобится, чтобы сделаться опытным скульптором?
– Я не понимаю, отец, что ты имеешь в виду? – вскричал я. – Что значит «опытным»?
– Это значит – скульптором, которому можно доверить самые сложные заказы, – ответил он. – Ну, например, обнаженную натуру, а также патриотический и эмблематический стили.
– На это может потребоваться три года, – ответил я.
– И ты считаешь, что этому можно научиться только в Париже? – спросил он. – Ведь и у нас тут есть всякие возможности, и, говорят, этот Проджерс очень искусный скульптор, хотя он, наверное, слишком важный, чтобы давать уроки.
– Кроме Парижа, этому нельзя научиться нигде, – заверил его я.
– Да, – признал он, – мне и самому кажется, что так будет гораздо звучнее: «Молодой уроженец нашего штата, сын одного из наших видных граждан, обучавшийся у самых опытных мастеров Парижа!»
– Но, папочка, я ничего не понимаю, – перебил я. – Я ведь никогда не думал о том, чтобы стать скульптором.
– Дело вот в чем, – объяснил он. – Я взял подряд на снабжение нашего капитолия скульптурами. Сперва я смотрел на это как на коммерческую сделку, а потом мне пришло в голову, что лучше превратить ее в семейное предприятие. Это придется тебе по вкусу, можно заработать большие деньги и проявить патриотизм. Если ты согласен, то поезжай в Париж и возвращайся через три года украшать капитолии своего родного штата. Пред тобой открываются блестящие возможности, Лауден. И вот еще что: к каждому заработанному тобой доллару я добавлю один от себя. Но чем скорее ты уедешь и чем старательнее будешь учиться, тем будет лучше, так как, если первые статуи не придутся по вкусу гражданам Маскегона, выйдут большие неприятности.
Глава II
Руссильонское вино
Родители моей матери были шотландцы, и решено было, что по дороге в Париж я заеду навестить моего дядю Эдама Лаудена, удалившегося от дел бакалейщика, который проживал в Эдинбурге. Дядя говорил со мной очень сдержанно и очень иронично; кормил он меня великолепно, отвел мне чудесную комнату, но, казалось, возмещал себе все эти расходы до последнего гроша тем, что втайне надо мной потешался, отчего очки его то и дело насмешливо поблескивали, а уголки рта начинали лукаво подергиваться. Все это плохо скрываемое веселье, насколько я мог понять, объяснялось только тем фактом, что я американец. «Та-а-ак! – начинал он разговор, затягивая это слово до бесконечности. – В вашей стране вы, наверное, делаете это по-другому». И все мои многочисленные двоюродные братья и сестры принимались весело хихикать. Вероятно, именно такого рода отношение и породило то, что называется американской любовью к розыгрышам. Во всяком случае, я не выдержал и сообщил, что мои друзья летом ходят нагишом, а вторая методистско-епископальная церковь в Маскегоне украшена скальпами. Однако не могу сказать, чтобы подобные взлеты моей фантазии вызывали особенное изумление: их принимали почти так же, как сообщение о том, что мой отец принадлежит к республиканской партии, а в каждом штате есть своя столица, Вот если бы я рассказал им сущую правду – что мой отец вносил ежегодно высокую плату за то, чтобы меня обучали в заведении, по сути своей ничем не отличавшемся от игорного притона, – хихиканье и насмешливые улыбки моих родственников имели бы куда больше оснований.
Не могу отрицать, что порой меня охватывало непреодолимое желание угостить дядю Эдама хорошим тумаком, и надо сказать, что в конце концов дело, наверное, тем бы и кончилось, если бы в мою честь не был устроен званый обед. Во время него я, к большому моему удивлению и радости, убедился, что невежливость, с которой я столкнулся, не выходит за границы тесного семейного круга и может даже считаться проявлением родственной нежности. Гостям меня представляли со всяческим уважением, а то, что говорилось «о моем американском зяте, муже бедняжки Дженни, Джеймсе К. Додде, известном маскегонском миллионере», вполне могло исполнить гордостью сердце любящего сына.
Сначала моим проводником по городу был назначен дряхлый клерк моего деда, приятный, робкий человечек, питавший большую склонность к виски. В компании этого безобидного, но отнюдь не аристократического спутника я осмотрел «трон Артура» и Колтон-Хилл, послушал, как играет оркестр в саду на Принсис-стрит, поглядел на исторические реликвии и на кровь Риччио в величественном замке на утесе и влюбился и в этот замок, и в бесчисленные колокольни, и в красивые здания, и в широкие проспекты, и в узенькие, кишащие народом улочки старинного города, где мои предки жили и умирали в те дни, когда никто еще не слыхал о Христофоре Колумбе.
Однако куда больше меня интересовала реликвия совсем иного рода, а именно: мой дед Александр Лауден. В свое время этот почтенный старец был простым каменщиком и, как мне кажется, сумел разбогатеть исключительно благодаря практической сметке, а не каким-то особым достоинствам. Его внешность, речь и манеры недвусмысленно указывали на его скромное прошлое, что было источником вечных мучений для дяди Эдама. Под его ногтями, несмотря на тщательный надзор, постоянно появлялся траур, одежда висела на нем мешком, как праздничный костюм на поденщике, речь его была простонародной, и даже в лучшие свои минуты, когда он соглашался хранить молчание, самое его присутствие в уголке гостиной, его обветренное морщинистое лицо, его редкие волосы, его мозолистые руки и веселая лукавая усмешка безжалостно выдавали тот неприятный факт, что семья наша «вышла из низов». Как бы ни жеманилась моя тетушка, как бы ни задирали нос мои кузены и кузины, ничто не могло противостоять весомой физической реальности – старику каменщику, сидящему в уголке у камина.
То, что я американец, давало мне одно преимущество: мне и в голову не приходило стыдиться деда, и старик не преминул это заметить. Он с большой нежностью вспоминал мою мать – вероятно, потому, что у него сложилась привычка сравнивать ее с дядей Эдамом, которого он презирал до неистовства, – и решил, что свое почтительное отношение к нему я унаследовал от его любимицы. Когда мы отправлялись с ним на прогулку – а скоро эти прогулки стали ежедневными, – он иногда (не забыв шепотом предупредить меня, чтобы я не проговорился об этом Эдаму) заходил в какой-нибудь трактир, где прежде бывал частым гостем, и там (если ему везло и он встречал своих старинных приятелей) с великой гордостью представлял меня честной компании, отпуская одновременно шпильку по адресу остальных своих потомков.
«Это сынок моей Дженни, – говаривал он в таких случаях. – Вот он – паренек хороший, не в пример другим». Во время наших прогулок мы не осматривали исторических древностей и не любовались видами, вместо этого мы посещали один за другим унылые окраинные кварталы. Интересны они были потому, что, как заявлял старик, он был подрядчиком, который их строил, а порой и единственным архитектором, который их планировал. Мне редко приходилось видеть более безобразные дома – их кирпичные стены, казалось, краснели, а черепичные крыши бледнели от стыда. Но я умел скрывать свои чувства от дряхлого ремесленника, и, когда он указывал на какой-нибудь очередной образчик уродства, обычно добавляя замечание вроде: «Вот эту штуку придумал я: дешево, красиво и всем пришлось по душе, а потом эту мыслишку у меня позаимствовали, и под Глазго есть целые кварталы с такими вот готическими башенками и плинтусами», – я торопился вежливо выразить свое восхищение и (заметив, что это доставляет ему особенное удовольствие) осведомиться, во сколько обошлось каждое такое украшение. Нетрудно догадаться, что наиболее частой и приятной темой наших разговоров был Маскегонский капитолий.
Я по памяти начертил для деда все планы этого здания, а он с помощью узкой и длинной книжицы, полной всяческих цифр и таблиц (справочника Молесворта, если не ошибаюсь), которую всюду носил с собой в кармане, составлял примерные сметы и покупал с воображаемых торгов воображаемые подряды. Наших маскегонских строителей он окрестил шайкой стервятников, и эта интересная для обеих сторон тема в соединении с моими познаниями в области архитектуры, теории деформации и цен на строительные материалы в Соединенных Штатах послужила надежной основой для сближения старика и юноши, в остальных отношениях совсем друг на друга не похожих, и заставила моего деда с большим жаром называть меня «умнейшим пареньком». Таким-то образом, как вы в свое время увидите, капитолий моего родного штата вторично оказал сильнейшее влияние на течение моей жизни.
Однако, покидая Эдинбург, я не подозревал о том, какую значительную услугу успел себе оказать, и чувствовал только огромное облегчение от сознания, что расстаюсь наконец с этим довольно-таки скучным домом и отправляюсь в город радужных надежд – в Париж. У каждого человека есть своя заветная мечта, а я мечтал о занятиях искусством, о студенческой жизни в Латинском квартале и о мире Парижа, каким описал его мрачный волшебник – автор «Человеческой комедии». И я не разочаровался. Впрочем, я и не мог разочароваться, ибо видел не реальный Париж, а тот, который рисовало мне воображение. Моим соседом в безобразном, пропитанном запахами кухни пансионе на улице Расина, где я поселился, был З. Марка; в захудалом ресторанчике я обедал за одним столом с Лусто и Растиньяком; а если на перекрестке на меня чуть не наезжал изящный кабриолет, значит, им правил Максим де Трай. Как я уже сказал, обедал я в дешевом ресторанчике, а жил в дешевом пансионе – но не из нужды, а из романтических побуждений. Отец щедро снабжал меня деньгами, и если бы я только пожелал, то мог бы жить на площади Звезды и ездить на занятия в собственном экипаже. Однако тогда вся прелесть парижской жизни была бы для меня утрачена: я остался бы прежним Лауденом Доддом, в то время как теперь я был студентом Латинского квартала, преемником Мюрже, и в самом деле жил так, как жили герои тех книг, которые я, погружаясь в мир мечты, запоем читал и перечитывал в лесах Маскегона.
В те годы мы, обитатели Латинского квартала, все были немножко помешаны на Мюрже. Поставленная театром «Одеон» пьеса «Жизнь богемы» (удивительно скучная и сентиментальная вещь) выдержала невиданное (для Парижа) число представлений и возродила созданную Мюрже легенду. Поэтому во всех мансардах нашего квартала разыгрывалось в частном порядке одно и то же представление, и добрая треть студентов вполне сознательно и к огромному собственному удовольствию старалась во всем подражать Родольфу или Шон-ару. Некоторые из нас заходили в этом очень далеко, а другие – еще дальше. Я, например, с величайшей завистью взирал на некоего моего соотечественника, который снимал мастерскую на улице Его Высочества Принца, носил сапоги, собирал свои длинные волосы в сетку и в таком облачении ничтоже сумняшеся шествовал в самый паршивый кабачок квартала в сопровождении натурщицы-корсиканки, одетой в живописный костюм своей родины и профессии. Несомненно, требуется некоторое величие души, чтобы придать подобный размах даже капризу; что же касается меня, то я довольствовался тем, что с огромным пылом притворялся бедняком, выходил на улицу в феске и пытался, невзирая на всяческие неприятные приключения, найти давно вымершее млекопитающее – гризетку. Самые большие жертвы я приносил в вопросах еды и питья: я был прирожденным гурманом и обладал тонким вкусом, особенно в отношении вин, так что только глубокая преданность романтическому идеалу давала мне силы прожевывать сдобренные жиром и мускусом блюда и запивать их красными чернилами, которые изготовляются в Берси под видом вина Порой после тяжелого дня в студии, где я трудился прилежно и весьма успешно, меня вдруг охватывало непреодолимое отвращение к подобной жизни, и тогда я, на время покинув дешевые кабачки и своих товарищей, отправлялся вознаградить себя за долгие недели самопожертвования хорошими винами и изысканными яствами. Я усаживался на террасе или в саду какого-нибудь ресторана, раскрывал томик одного из моих любимых писателей и, то принимаясь читать, то откладывая его в сторону, блаженствовал, пока не наступали сумерки и Париж не загорался огнями, а тогда отправлялся домой по набережным, любуясь звездами, наслаждаясь поэзией и приятной сытостью.
Однажды, когда на втором году моего пребывания в Париже я устроил себе такой отдых, со мной случилось приключение, о котором следует рассказать; собственно, к нему-то я и вел, ибо именно благодаря этому приключению я познакомился с Джимом Пинкертоном. Как-то в октябре я обедал совершенно один; на бульварах осыпались рыжие листья и, крутясь, неслись по мостовой. В такие осенние дни впечатлительные люди склонны равным образом и грустить в одиночестве и веселиться в дружеской компании – Ресторан не был особенно модным заведением, но обладал хорошим погребом, и клиенту предлагалась весьма разнообразная карта вин. Еето я и читал с двойным наслаждением человека, любящего и хорошие вина и красивые, звучные названия, когда мой взгляд упал (в самом ее конце) на малоизвестную марку – «руссильонское». Я вспомнил, что никогда еще не пробовал этого вина, тут же заказал бутылку и, найдя ее содержимое превосходным, осушил ее до дна, а затем заказал еще пинтовую бутылку. Оказалось, что руссильонское вино в маленькие бутылки не разливается. «Ладно, – сказал я, – давайте еще одну большую», после чего все погрузилось в туман. Столики в этом заведении стоят близко друг к другу, и когда я немного опомнился, то обнаружил, что веду громогласный разговор с моими ближайшими соседями. Очевидно, такое количество слушателей меня не удовлетворило, так как я отчетливо помню, что обводил взглядом зал, где все стулья были повернуты в мою сторону и откуда на меня смотрели улыбающиеся лица. Я даже помню, что именно я говорил, но, хотя с тех пор прошло уже двадцать лет, стыд по-прежнему жжет меня, и я сообщу вам только одно: речь моя была весьма патриотичной – остальное пусть дорисует ваше воображение. Я собирался отправиться пить кофе в обществе моих новых друзей, но едва вышел на улицу, как почему-то оказался в полном одиночестве. Это обстоятельство и тогда меня почти не удивило, а теперь удивляет еще меньше; но зато я весьма огорчился, когда заметил, что пытаюсь пройти сквозь будку с афишами. Я начал подумывать, не повредила ли мне последняя бутылка, и решил выпить кофе с коньяком, чтобы привести свои нервы в порядок. В кафе «Источник», куда я отправился за этим спасительным средством, бил фонтан, и (что крайне меня изумило) мельничка и другие механические игрушки по краям бассейна, казалось, недавно починенные, выделывали самые невероятные штуки. В кафе было необычайно жарко и светло, и каждая деталь, начиная от лиц клиентов и кончая шрифтом в газетах на столике, выступала удивительно рельефно, а весь зал мягко и приятно покачивался, словно гамак. Некоторое время все это мне чрезвычайно нравилось, и я подумал, что не скоро устану любоваться окружающим, но вдруг меня охватила беспричинная печаль, а затем с такой же быстротой и внезапностью я пришел к заключению, что я пьян и мне следует поскорее лечь спать.
До моего пансиона было два шага. Я взял у швейцара зажженную свечу и поднялся на четвертый этаж в свою комнату. Хотя я и был пьян, мысль моя работала с необычайной ясностью и логичностью. Меня заботило одно: не опоздать завтра на занятия, и, заметив, что часы на каминной полке остановились, я решил спуститься вниз и отдать соответствующее распоряжение швейцару. Оставив горящую свечу на столе и не закрыв двери, чтобы на обратном пути не сбиться с дороги, я стал спускаться по лестнице. Дом был погружен в полный мрак, но, поскольку на каждую площадку выходило только три двери, заблудиться было невозможно, и я мог спокойно продолжать свой спуск, пока не завижу мерцание ночника в швейцарской. Я прошел четыре лестничных марша – никаких признаков швейцарской! Разумеется, я мог сбиться со счета, поэтому я прошел еще один марш, и еще один, и еще один, пока, наконец, не оказалось, что я отшагал их целых девять. Я уже не сомневался, что каким-то образом прошел мимо каморки швейцара, не заметив ее, – по самому скромному подсчету, я спустился уже на пять этажей ниже уровня улицы и находился где-то в недрах земли. Открытие, что мой пансион расположен над катакомбами, было очень интересным, и если бы я не был настроен по-деловому, то, без сомнения, продолжал бы всю ночь исследовать это подземное царство. Но я твердо помнил, что завтра должен встать вовремя и что для этого мне необходимо отыскать швейцара. И вот, повернув обратно и тщательно считая, я стал подниматься до уровня улицы. Я прошел пять… шесть… семь маршей – по-прежнему никаких следов швейцара. Все это мне порядком надоело, и, сообразив, что моя комната уже совсем близко, я решил вернуться в нее и лечь спать. Я продолжал подъем и вскоре оставил за собой восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый марши лестницы, но моя открытая дверь, казалось, исчезла так же, как швейцар и его ночник. Я вспомнил, что в самой своей высокой точке этот дом насчитывает шесть этажей, из чего следовало, что я находился теперь по меньшей мере на три этажа выше крыши. Сначала мое приключение казалось мне забавным, но теперь оно, вполне естественно, начало меня раздражать. «Моя комната должна быть здесь, и все», – сказал я и, вытянув руки, направился к двери. Двери не было, не было и стены, вместо них передо мной зиял темный коридор. Некоторое время я шел по нему, не встречая никакого препятствия. И это в доме, где на каждом этаже были только три маленькие комнаты, выходившие прямо на лестничную площадку! Происходившее было настолько нелепо, что я, как вы легко поймете, окончательно потерял терпение. Тут я заметил у самого пола узкую полоску света, исследовал стену, нащупал дверную ручку и без всяких церемоний вошел в какую-то комнату. Там я увидел молодую девушку, которая, судя по ее весьма домашнему туалету, собиралась ложиться спать.
– Простите мое вторжение, – сказал я, – но я живу в двенадцатом номере, а с этим проклятым домом произошло что-то непонятное.
Поглядев на меня, она ответила:
– Если вы будете так любезны выйти отсюда на несколько минут, я вас туда провожу.
Таким образом, вопрос был улажен при полной невозмутимости обеих сторон. Я стал ждать в коридоре. Вскоре незнакомка вышла в халате, взяла меня за руку, повела вверх по лестнице (то есть на четвертый этаж выше крыши) и втолкнула в мою комнату, где, чрезвычайно утомленный всеми этими удивительными открытиями, я немедленно бросился на постель и заснул, как ребенок.
Я рассказал вам об этом происшествии так, как оно мне представлялось ночью; однако на следующее утро, проснувшись и вспоминая о нем, я не мог не признать, что многое из случившегося выглядит весьма неправдоподобно. Вопреки вчерашним добродетельным намерениям, настроения идти в студию у меня не было, и вместо этого я отправился в Люксембургский сад, чтобы там в обществе воробьев, статуй и осыпающихся листьев остудить голову и привести в порядок мысли. Я очень люблю этот сад, занимающий столь видное место и в истории и в литературе. Баррас и Фуше выглядывали из окон этого дворца. На этих скамьях писали стихи Лусто и Банвиль (первый кажется мне не менее реальным, чем второй). За садовой решеткой кипит городская жизнь, а внутри шелестит листва деревьев, щебечут воробьи и дети, смотрят вдаль статуи. Я устроился на скамье напротив входа в музей и начал размышлять о событиях прошлой ночи, стараясь (насколько был в состоянии) отделить истину от фантазии.
При дневном свете оказалось, что в доме только шесть этажей, как было и прежде. Со всем моим архитектурным опытом я не мог втиснуть в его высоту все эти бесконечные лестничные марши, и он был слишком узок, чтобы вместить в себя длинный коридор, по которому я шел ночью. Однако самым неправдоподобным было даже не это. Мне вспомнился прочитанный когда-то афоризм, гласивший, что все может оказаться не соответствующим себе, кроме человеческой натуры. Дом может вырасти или расшириться – во всяком случае, на взгляд хорошо пообедавшего человека. Океан может высохнуть, скалы – рассыпаться в прах, звезды – попадать с небес, словно яблоки осенью, и философ ничуть не удивится. Но встреча с молодой девушкой была случаем иного порядка. В этом отношении от девушек толку мало; или, скажем, мало толку применять к ним подобные правила; иначе говоря (можно и так взглянуть на дело), они существа высшего толка. Я готов был принять любую из этих точек зрения, так как все они приводили, в сущности, к одному выводу, к которому я уже начал склоняться, когда мне в голову пришел еще один аргумент, окончательно его подтвердивший. Я помнил наш разговор дословно – ну, так вот: я заговорил с ней по-английски, а не по-французски, и она ответила мне на том же языке. Отсюда следовало, что все ночное происшествие было сном, и катакомбы, и лестницы, и милосердная незнакомка.
Едва я успел прийти к этому заключению, как по осеннему саду пронесся сильный порыв ветра, посыпался дождь сухих листьев и над моей головой с громким чириканьем взвилась стайка воробьев. Этот приятный шум длился всего несколько мгновений, но он успел вывести меня из рассеянной задумчивости, в которую я был погружен. Я быстро поднял голову и увидел перед собой молодую девушку в коричневом жакете, которая держала в руках этюдник. Рядом с ней шел юноша несколькими годами старше меня; под мышкой он нес палитру. Их ноша, а также направление, в котором они шли, подсказали мне, что они идут в музей, где девушка, несомненно, занимается копированием какой-нибудь картины. Представьте же себе мое изумление, когда я узнал в ней мою вчерашнюю незнакомку! Если у меня и были сомнения, они мгновенно рассеялись, когда – наши взгляды встретились и она, поняв, что я узнал ее, и вспомнив, в каком наряде была она во время нашей встречи, с легким смущением отвернулась и стала смотреть себе под ноги.
Я не помню, была ли она хорошенькой, или нет, но при нашей первой встрече она проявила столько здравого смысла и такта, а я играл такую жалкую роль, что теперь мне страшно захотелось показать себя в более выгодном свете. Ее спутник был, вероятнее всего, ее братом, а братья склонны действовать без долгих размышлений, поскольку им еще в детские годы приходится играть роль защитника и покровителя, и я решил, что ввиду этого мне следует немедленно принести свои извинения, тем самым предупредив возможность будущих осложнений.
Рассудив так, я приблизился ко входу в музей и едва успел занять подходящую позицию, как оттуда вышел тот самый молодой человек, о котором я думал. Так я столкнулся с третьим фактором, определившим мою судьбу, ибо мой жизненный путь сложился под влиянием следующих трех элементов: моего отца, капитолия штата Маскегон и моего друга Джима Пинкертона. Что же касается молодой девушки, которая в ту минуту занимала все мои мысли, то ее я с тех пор больше не видел и ничего о ней не слышал – вот великолепный пример игры в жмурки, которую мы зовем жизнью.
Глава III
В которой появляется мистер Пинкертон
Незнакомец, как я уже говорил, был на несколько лет старше меня. Он был хорошо сложен, обладал очень подвижным лицом и весьма дружелюбными манерами, а глаза у него были серые, живые и быстрые.
– Простите, можно сказать вам два слова? – начал я.
– Мой дорогой сэр, – перебил он, – хотя я не знаю, о чем вы хотите говорить, но готов выслушать хоть тысячу слов.
– Вы только что сопровождали молодую особу, по отношению к которой я совершенно непреднамеренно был невежлив. Обратиться прямо к ней значило бы снова поставить ее в неловкое положение, и поэтому я пользуюсь возможностью принести свои нижайшие извинения человеку одного со мной пола, ее другу и, может быть, – добавил я, поклонившись, – защитнику по крови.
– Вы мой соотечественник, в этом нет сомнения! – вскричал он. – Доказательство тому – ваша деликатность по отношению к незнакомой вам женщине. И она вполне заслуживает самого высокого уважения. Я был представлен ей на званом чае у моих друзей и, встретившись с ней сегодня утром, разумеется, предложил помочь ей нести ее палитру. Мой дорогой сэр, могу ли я узнать ваше имя?
Я был очень разочарован, узнав, что он совсем посторонний моей незнакомке, и предпочел бы уйти, но не мог этого сделать, так как начал разговор первым. Впрочем, этот молодой человек чем-то мне понравился.
– Меня зовут, – ответил я, – Лауден Додд. Я приехал сюда из Маскегона учиться ваянию.
– Ваянию? – повторил он так, словно это показалось ему очень странным. – А меня зовут Джим Пинкертон. Очень рад с вами познакомиться.
– Пинкертон? – в свою очередь, удивился я. – Не вы ли Пинкертон «Гроза табуреток»?
Он подтвердил мою догадку с веселым мальчишеским смехом, и действительно любой житель Латинского квартала мог бы гордиться столь почетным прозвищем.
Чтобы объяснить, откуда оно взялось, мне придется несколько отвлечься и сообщить кое-какие сведения, касающиеся истории нравов XIX столетия; такое отступление может быть интересным и само по себе. В те времена в некоторых студиях новичков «крестили» самыми варварскими и гнусными способами. Но два происшествия, последовавшие одно за другим, помогли развитию цивилизации, и (как это часто бывает) именно благодаря тому, что в ход тоже были пущены самые варварские средства. Первое случилось вскоре после появления в студии новичка-армянина. На голове его была феска, а в кармане (о чем никто не знал) – кинжал. «Крестить» его начали в самом обычном стиле и даже – из-за головного убора жертвы – куда более буйно, чем других. Сначала он переносил все с подзадоривающим терпением, но, когда кто-то из студентов позволил себе действительно непростительную грубость, выхватил свой кинжал и без всякого предупреждения всадил его в бок шутнику. Рад сообщить, что последнему пришлось пролежать несколько месяцев в кровати, прежде чем он смог снова приступить к занятиям. Свое прозвище Пинкертон приобрел в результате второго происшествия. Однажды в набитой народом студии трепещущий новичок подвергался особенно жестоким и подленьким шуточкам. Вдруг высокий бледный юноша вскочил со своего табурета и завопил: «А ну, англичане и американцы, разгоним эту лавочку!» Англосаксы жестоки, но не любят подлости, и призыв встретил горячую поддержку. Англичане и американцы схватили свои табуреты, и через минуту окровавленные французы уже в беспорядке отступали к дверям, бросив онемевшую от изумления жертву. В этой битве и американцы и англичане покрыли себя равной славой, но я горжусь тем, что зачинщиком был американец и притом горячий патриот, которого как-то впоследствии на представлении «L'oncle Sam»[8] пришлось оттеснить в глубь ложи и не подпускать к барьеру, потому что он то и дело выкрикивал: «О моя родина, моя родина!» А еще один американец (мой новый знакомый Пинкертон) больше всех отличился во время сражения. Одним ударом он раскрошил свой табурет, и самый грозный из его противников, отлетев в сторону, пробил спиной то, что на нашем жаргоне именовалось «добросовестно обнаженной натурой». Говорят, что обратившийся в паническое бегство воин так и выскочил на улицу, обрамленный разорванным холстом.
Нетрудно понять, сколько разговоров вызвало это событие в студенческом квартале и как я был рад встрече с моим прославленным соотечественником. В то же утро мне было суждено самому познакомиться с донкихотской стороной его натуры. Мы проходили мимо мастерской одного молодого французского художника, чьи картины я давно уже обещал посмотреть, и теперь, в полном согласии с обычаями Латинского квартала, я пригласил Пинкертона пойти к нему вместе со мной. В те времена среди моих товарищей попадались крайне неприятные личности. Настоящие художники Парижа почти всегда вызывали мое горячее восхищение и уважение, но добрая половина студентов оставляла желать много лучшего – настолько, что я часто недоумевал, откуда берутся хорошие художники и куда деваются буяны-студенты. Подобная же тайна окутывает промежуточные ступени медицинского образования и, наверное, не раз ставила в тупик даже самых ненаблюдательных людей. Во всяком случае, субъект, к которому я привел Пинкертона, был одним из самых мерзких пьяниц квартала. Он предложил нам полюбоваться огромным полотном, на котором был изображен святой Стефан: мученик лежал в луже крови на дне пересохшего водоема, а толпа иудеев в синих, зеленых и желтых одеждах побивала его – судя по изображению – сдобными булочками. Пока мы смотрели на это творение, хозяин развлекал нас рассказом о недавнем эпизоде из собственной биографии, в котором он, как ему представлялось, играл героическую роль. Я принадлежу к тем американцам-космополитам, которые принимают мир (и на родине и за границей) таким, каков он есть, и предпочитают оставаться зрителями, однако даже я слушал эту историю с плохо скрываемым отвращением, как вдруг почувствовал, что меня отчаянно тянут за рукав.
– Он говорит, что спустил ее с лестницы? – спросил Пинкертон, побелев, как святой Стефан.
– Да, – ответил я. – Свою любовницу, которая ему надоела. А потом стал швырять в нее камнями. Возможно, именно это и подсказало ему сюжет его картины. Он только что привел убедительнейший довод – она была так стара, что годилась ему в матери.
Пинкертон издал странный звук, похожий на всхлипывание.
– Скажите ему, – пробормотал он, задыхаясь, – а то я не говорю по-французски, хотя кое-что понимаю… Так скажите ему, что я сейчас вздую его.
– Ради бога, воздержитесь! – вскричал я. – Они тут этого не понимают!
– И я попытался увести его.
– Ну, хотя бы скажите ему, что мы о нем думаем. Дайте я ему выскажу, что о нем думает честный американец.
– Предоставьте это мне, – сказал я, выталкивая Пинкертона за дверь.
– Qu'est ce qu'il a?[9] – спросил студент.
– Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regarder votre croute,[10] – ответил я и ретировался вслед за Пинкертоном.
– Что вы ему сказали? – осведомился тот.