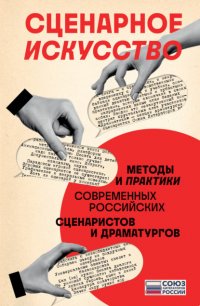Читать онлайн Скрипка некроманта бесплатно
- Все книги автора: Далия Трускиновская
Глава 1
Рождественские заботы
Казалось, вот так и должен выглядеть истинный конец света – с каждым днем все темнее и темнее, солнце почти не появляется в узких улицах, которые становятся все более похожи на трещины в скалах, где от сырости зарождается смутная и когтистая нечисть. Город превращается в царство слякоти и мрака, и фонари лишь усугубляют это ощущение обреченности и безнадежности, ибо бессильны – им дай Бог сохранить хотя бы шарик света, аршин в поперечнике, и не погаснуть до полуночи от скупой хозяйской руки. Все короче серенькие дни, все сильнее мрак, все опаснее холодный и влажный ветер, все быстрее проскальзывают жмущиеся к стенкам тени, почти безликие, все отчетливее душа понимает, что вместе с городом погружается на дно океанское, и чем она дышит – уже непонятно.
И вдруг рвется где-то в вышине черная пелена, отделяющая тьму от небесной белизны, и начинается преображение мира! Летит, летит с небес счастье! Конец света, похоже, отменяется, нечисть бежит без оглядки – она не выносит белого цвета; обжигает он ее, что ли? Полчаса – и город делается пушистым, праздничным, каждый фонарь в нахлобученной белой шапке воображает себя родственником звезд небесных, а на улицах появляются лица. Всюду проникает отраженный свет, всякий подоконник излучает сияние, и надежда, уже прилегшая было на смертный одр, приподнимается, делает глубокий вдох и говорит сама себе: ну, матушка, пожить еще, что ли?
– Иван Андреич, сходи-ка ты завтра в Дом Черноголовых, узнай про итальянцев. Когда и впрямь так хороши, как про них врут, пригласи к нам на вечер, – сказала княгиня Варвара Васильевна. – Думала ли я, что это Рождество и Святки встречать буду в такой тоске?
Вид у княгини и впрямь был невеселый – она, презрев новую моду, надела с утра зеленый широкий молдаван, изобретение покойной государыни, чтобы скрыть полноту. В Рижском замке не до мод, а сквозняком не прохватило бы. Зеленый бархат был ей, рыжеволосой, к лицу, да лицо-то куксилось и кривилось, скажешь слово поперек – жди грозы.
– Развлечения будут, ваше сиятельство, – ответил Маликульмульк. – На гуляния с детками поедете, актеров позовем…
– Немецких? Благодарю покорно! Нет, все не то! Пиеску-то ты так и не написал!
Маликульмульк сделал постную физиономию – действительно, пока переезжал и устраивал новоселье, совсем забыл про одноактную комедию, которая в голове почти сложилась. Название ей было – «Пирог».
Он отлично понимал княгиню – год назад, когда князь Голицын был в опале и жил с семейством то в Зубриловке, то в Казацком, на Рождество и иные праздники съезжались обычно гости, и в прекрасных усадьбах всем места хватало. Это в Санкт-Петербурге уж не знали, какой новой блажи ожидать от государя императора, чем еще ему вздумается испортить общую радость, а вдали от столицы веселились от души. Даже домашние спектакли были – на зависть столичным театралам: и «Превращенную Дидону» Марина поставила, и Маликульмулькову «Подщипу». И одевались как душе угодно: старшие сыновья князя, угодившие в опалу вместе с отцом, носили фраки – а поди в Санкт-Петербурге надень запрещенный фрак. Младшие носились кудлатые, в той одежонке, которая соответствовала погоде и занятию – не в кружевах же играть в свайку. А столичные детки обязаны были во всем подражать старшим, и шестилетнее дитя являлось в треуголке, в башмаках с пряжками, причесанное в три букли с косицей и напудренное.
Теперь же князь Сергей Федорович – рижский генерал-губернатор, мало того – первый рижский генерал-губернатор, потому что лишь решением государя Александра I Лифляндская, Эстляндская и Курляндская губернии сведены в единое генерал-губернаторство с центром в Риге. Должность почтенная, да только княгине в Рижском замке тоскливо – и гостей сюда не назвать, и не развернуться, как сердцу мило. Разве это – гостиная для княгини Голицыной? С Зубриловкой, куда хоть сотню человек назови, и все просторно будет, не сравнить. А пиеску где она собиралась ставить – на том пятачке возле печки? Однако спорить с Варварой Васильевной нелепо, тем более что она сейчас права – она чувствует себя лишенной мирских радостей Рождества и Святок. В храм-то Божий пойдет всей семьей, и не только по зову души, а для соблюдения порядка – все высшие гарнизонные чины явятся в Петропавловский собор, как на парад. А кроме? В Дворянское собрание? Невместно – она должна у себя прием устроить. Так ей хочется. Хочется, чтобы вся здешняя знать явилась на поклон к князю, а не сам он бегал петушком по чьим-то разукрашенным гостиным. Это все понятно, а как устроить праздник – покамест непонятно.
Во всяком случае, за наведение порядка княгиня взялась основательно – всю дворню к делу приставила. Горничные обметали паутину из углов, мыли двери, начищали бронзовые ручки и подсвечники, в Северном дворе здоровые парни выбивали пыль из ковров и чистили их свежим снегом, со стороны поглядеть – пляска, а на самом деле ковер уложен на снег ворсом вниз и парни с хохотом по нему топчутся, подпрыгивая. Поднимут – на месте ковра серый прямоугольник. К Сочельнику все должно сверкать.
Маликульмульк поглядел в окно – шел снег, исчезал в темных водах еще не замерзшей Двины. Ничего страшного – до заката еще часа три, можно прогуляться.
– Так я, ваше сиятельство, и не буду откладывать дело в долгий ящик, прямо сейчас и пойду, – сказал Маликульмульк.
– Куда так скоро? А обедать?
Варвара Васильевна обижалась, что он, перебравшись жить в предместье, отчего-то стал меньше бывать не только в ее гостиной, но и за обеденным столом.
– Я в «Лондоне» съем чего-нибудь… – брякнул Маликульмульк и понял, что попался.
– Какой тебе «Лондон»?! Сбесился ты, не иначе – нетто в «Лондоне» постное подают? Не мудри, оставайся – у нас сегодня грибные щи, гречневая каша, как ты любишь, оладьи, гороховый кисель.
Маликульмульк сдержал вздох – кабы хоть каши дали вдоволь! Он уже знал княгинин обычай – присматривать, чтобы в пост не было среди домочадцев чревоугодия. Но решил остаться – в конце концов, говорят, на Ратушной площади уже начинаются гулянья, а где гулянья – там и торговцы съестным.
После обеда княгиня самолично проводила Маликульмулька до дверей – и правильно сделала, потому что он опять изгваздал где-то шубу, так что пришлось звать Матрешу со щеткой.
– Ты, Иван Андреич, вызнай, когда итальянцы репетируют, тогда и загляни. И верно ли, что виртуозу и четырнадцати нет. Да постарайся с самим старым Манчини увидеться. Ты ведь и по-итальянски говоришь, как-нибудь уж с ним сговоришься.
– Я, ваше сиятельство, не столь говорю, сколь читаю и понимаю.
– Ничего, управишься!
Маликульмульк заглянул в канцелярию, предупредил исполнительного Сергеева, что вернется примерно через час, вышел через Северные ворота и невольно улыбнулся – такой белизной сверкала замковая площадь. Он повернул налево и по Большой Замковой пошел в сторону Ратушной площади. Аптека Слона была по дороге – ну, почти по дороге, а там всегда угостят прекрасным кофеем. Варвара Васильевна в пост кофей варить не приказывала, но ведь это пойло и не скоромное – отвар молотых бобов с добавлением сахара, который тоже растительного происхождения. Ну а жирные рижские сливки, которые хоть ножом режь, подождут. И коричное печенье подождет – оно же, поди, на яйцах. А вот маленькие, кругленькие, ароматные куммелькухены – кажись, постные.
На Большой Замковой было уже настоящее гулянье – к площади катили красивые санки, полные детей и молодых женщин. Запряжка была скромная – в одну лошадку. А вот получила княгиня письмо из Москвы, и расстройства у нее прибавилось: вся Москва, презрев строгости покойного императора Павла Петровича, возвращается к прежнему обычаю ездить в каретах шестериком, с двумя форейторами, с кучерами в русских армяках. Но им-то хорошо в таких экипажах по Тверской носиться, да чтобы мальчишки-форейторы кричали: «Пади-и-и!» с пронзительным визгом – сколько хватит дыханья, а в Рижской крепости запряжка шестериком выйдет в длину не менее пяти сажен, и как же ей поворачивать на улочках, иная из которых хорошо коли в полторы сажени шириной будет?
Маликульмульк шел, наслаждаясь скрипом свеженького, чистенького снежка, и разом думал о княгинином экипаже и о пиеске «Пирог». Сложность была не только в том, что домашний театр в замке трудно устроить; кого прикажете нанимать в артисты? В Зубриловке приедет знакомое семейство в гости на месячишко-другой, так дамы и девицы сражаются за роли. Сколько же человек потребуется?
Сам он, положим, мог бы исполнить роль помещика Вспышкина или даже Ужимы, супруги его. Нет молодой актрисы, чтобы сыграла их дочку Прелесту, нет щеголя, чтобы достойно изобразил ее избранника Милона. Разве что Брискорн? Актер он, видать, неплохой, но вот беда – по-русски говорит не совсем гладко. Для инженерного полковника в гарнизоне его речь отменно прекрасна, а как прозвучит на подмостках? На роль жениха, Фатюева, нужен подлинный артист-комик – нешто самому взяться? Или предложить Брискорну – роль пресмешная, и немецкий выговор только добавит хохоту. Опять же – Брискорну за тридцать, не юный любовник… Зато Дашу, горничную Прелесты, отменно сыграет Тараторка. Ваньки нет! На этом Ваньке вся интрига строится. А крестьянина Потапа, который явится под занавес, кто угодно из дворни изобразит. Дворня… Фросю, что ли, завербовать в Прелесты? Горничная хороша собой (это Маликульмульк разглядел наконец после того, как пошел слух о его амурных шалостях с Фросей), ловка, шустра, хорошим манерам обучена. Нужно посовещаться с княгиней…
Маликульмульк время от времени пытался посмотреть правде в глаза – не той неземной и прекрасной правде, которая воцарится когда-нибудь среди благодарного человечества, а своей личной, иногда весьма неприглядной правде, выставлявшей перед ним зеркало – а из зеркала сонно таращился Косолапый Жанно с опухшей от долгого пребывания в постели рожей и весь усыпанный всякой мелкой дрянью. На сей раз правда изрекла следующее: просто тебе не хочется, голубчик, сесть и переносить на бумагу уже созревшую в голове комедию, вот и ищешь оправдания. Не хочется – а прочее от лукавого.
Занятый этими рассуждениями, Маликульмульк отвлекся от подсчета шагов и довольно быстро доставил себя в аптеку Слона. Он отворил дверь, на которой висел трогательный рождественский веночек из еловых лапок, бантиков и бумажных цветов, изготовленный фрау Струве или кем-то из аптекарских дочек. Тепло и ароматы объяли его, разнообразные ароматы трав, микстур, кофея, ванили, корицы, шоколада. Герр Струве сидел за прилавком и перекладывал пилюли из фаянсовой миски в стеклянный пузырек. Рядом с миской лежал можжевеловый венок, в который были вставлены четыре свечки. Их следовало зажечь в последнее воскресенье перед Рождеством.
– Рад видеть вас, герр Крылов, – сказал старый аптекарь. – Что, и вы готовитесь к Рождеству? Как это у русских полагается?
– Разумеется! Полагается перед праздником держать сорокадневный пост, – тут Маликульмульк покосился на большую чашку кофея со сливками, которой герр Струве скрашивал свои труды. – В последний день ничего не едят до звезды…
– То есть как?
– Пока на небе первая звезда не появится. Но и тогда пища самая простая… – не зная, как перевести на немецкий «сочиво», Маликульмульк заместо него употребил «сладкую кашу», а потом кратко рассказал о ночной службе в церкви. Герр Струве кивал, явно делая из этих сведений какие-то свои выводы. Может, даже соображал, каких микстур нужно запасти побольше к Святкам, когда отвыкшие от мясной пищи животы злоупотребят праздничной снедью.
– А какие приняты увеселения?
– Ее сиятельство устроит у себя большой прием. Я как раз иду в Дом Черноголовых искать итальянских музыкантов. Она хочет пригласить мальчика, дивное дитя, Никколо Манчини. Сказывали, истинный виртуоз.
Аптекарь нахмурился.
– Не смею давать советы ее сиятельству, герр Крылов, а будь моя воля – я бы первым делом позвал к мальчику хорошего врача. А врач бы прописал ему недели две отдыха в постели, вы уж мне поверьте.
– Вы его видели? – удивленно спросил Маликульмульк.
– Мне вовсе не обязательно его видеть – из Дома Черноголовых прислали человека за лекарствами для мальчика. У него был рецепт. Достаточно посмотреть на такой рецепт – и ясно, что у ребенка больное сердечко. Скажите об этом ее сиятельству госпоже княгине. Мальчик перенес долгую дорогу и слишком слаб, чтобы давать концерты. Я такие лекарства готовлю для пожилых людей, которые не уверены, что доживут до завтрашнего дня. Взять хотя бы мочегонное – видано ли где, чтобы ребенок принимал так много мочегонного? Это значит, что сердце отказывается разгонять кровь и на ногах образуются отеки. Вот вернейший признак больного сердца, герр Крылов! Увидите мальчика – прошу вас, посмотрите на его ноги. Кто-то должен вмешаться…
– Разумеется, я все скажу ее сиятельству. У вас ли герр Гриндель? – спросил наконец Маликульмульк.
Герр Струве тихонько рассмеялся.
– Ступайте к нему, ступайте! Он вас развеселит! Такого мое заведение еще не знавало! Я уж стал сомневаться, точно ли этот господин вздумал покупать мою аптеку. А супруга моя утверждает, что Давид Иероним влюблен в замужнюю даму и, желая проникнуть к ней в дом, решил наняться туда кухаркой… Моя супруга редко ошибается, герр Крылов!..
Маликульмульк, встревожившись, вошел во внутренние помещения аптеки. Карл Готлиб, младший из учеников, указал ему, где занимается опытами Гриндель, и тоже не мог удержаться от улыбки.
Молодой химик сидел в дальнем углу и чистил ланцетом большую картофелину. У ног его стояли две корзинки, с картофелем и с морковью. На столе, среди сосудов с наклейками и спиртовок, Маликульмульк увидел блюдо с яйцами.
– Добрый день, милый друг, – сказал он. – По-моему, тут недостает лишь сковородки.
– Добрый день, – рассеянно отвечал Давид Иероним. – Как только женщины со всем этим управляются? Не желал бы я быть женщиной… А вот приходится этим заниматься…
– Чем, позвольте спросить?
– Приношу жертву на алтарь дружбы, – Гриндель показал палец, обмотанный тряпочкой. – Но результат может быть великолепен!
И на лице, и в голосе была неподдельная радость.
Маликульмульк знал, что его приятель занимается своими опытами с большим азартом. Но чистить с азартом корнеплоды и ощущать восторг – в этом было нечто безумное.
– Может быть, вы объясните мне, для чего вам вся эта кулинария?
– Извольте! Вам никогда не казалось странным, каким образом растут и цветут деревья?
– Право, никогда над этим не задумывался… Корни питают их, сосут из земли соки… – Маликульмульк вдруг вообразил себе корни и листья, наделенные разумом, но не понимающие законов природы: листья, поди, тоже понятия не имеют, что кто-то копошится в земле ради их блага, но могут что-то предположить, а вот корни представляют ли себе, куда деваются плоды их трудов?
– Но как корни сосут соки из земли? – пылко спросил Давид Иероним. – Дерево ведь не существо, наделенное разумом. Есть некое физическое приспособление, позволяющее сокам подниматься ввысь. Вернее, выманивающее соки из земли и перемещающее их к цветам и листьям. Георг Фридрих полагает, будто близок к открытию этой тайны. Он прислал мне письмо, в котором описал опыты. Я должен проделать их самостоятельно, и если наши результаты сойдутся, значит, он на верном пути. Знаете, когда делаешь опыт в одиночестве, возможны ошибки. Особенно опасно, когда ждешь известного результата…
– Но при чем тут картофель? – удивился Маликульмульк.
– А вот глядите. Использовать картофель догадался Георг Фридрих. Вот сосуды – тут пресная вода, тут немного подсоленная, тут концентрация раствора выше, тут еще выше. В каждый из сосудов я положу кубик очищенного картофеля со стороной в дюйм и другой кубик, со стороной в полдюйма. А наутро погляжу, что получится. Опыт же с морковью немного сложнее.
– А что там может получиться? Соленая картошка? Думаете, это съедобно?
– Хм… – Давид Иероним задумался. – Вы правы – пора наконец пообедать.
Маликульмульк вздохнул с облегчением – если ученый помнит про обед, то он не безнадежен.
– Но что должно произойти с морковью? – спросил он Гринделя, когда они вышли из аптеки Слона и свернули за угол.
– Если бы я знал! Георг Фридрих описал мне условия опытов и просил к его приезду их завершить – или почти завершить, чтобы последние измерения произвести лично.
– Он будет здесь на Рождество?
– Да, он обещал мальчикам. Все-таки здесь празднуют веселее, чем в Дерпте. Будут концерты в Доме Черноголовых, спектакли в Немецком театре, балы в Дворянском собрании, на эспланаде – балаганы с увеселениями, катания на санях. Вы были сегодня на Ратушной площади?
– Нет еще. Но должен туда заглянуть – ее сиятельство просили узнать про музыкантов.
– Там уже ставят большую елку.
Они нарочно вышли на площадь, чтобы посмотреть, как у Дома Черноголовых на огороженном пятачке устанавливают дерево, закрепив его ствол в преогромной крестовине. Торговцы и маклеры, которых тут всегда было множество, почти все куда-то подевались, зато появились киоски для сластей, жареных колбасок и горячего вина. Их украшали гирляндами из еловых веток и лент. Был уже изготовлен и помост для музыкантов, которые будут играть рождественские гимны. Пахло хвоей и горячими пирожками. Горожане собирались компаниями, громко перекликались, звали убежавших детей, покупали им лакомства – это было непритязательное веселье немецкого городка, непременно связанное с едой и питьем; долгожданные дни, когда почтенный бюргер с утра объявляет супруге: сердце мое, сегодня мы должны веселиться. Но при этом все старательно обходили возвышавшуюся возле ратуши каменную плиту – «бесчестный камень», на котором издавна выставляли связанного преступника, повесив ему на шею доску с подробным описанием его злодеяний. Еще один замшелый обычай – они тут на каждом шагу, и один другого краше.
– Завтра к ели нельзя будет подойти из-за ребятишек, – сказал Давид Иероним. – Ее обычно украшают яблоками, свечками, фонариками, вешают и конфеты. Когда я был маленьким, дома всегда ставили елку, но на площади – совсем иное дело! Наверно, я никогда уже не попробую таких вкусных вафель, как те, которые для меня снимали с елки… и орехи в цветных бумажках… А раньше, говорят, ставили рождественские пирамиды – такие конусы из дощечек, украшенные зеленью и бумажными цветами. Тоже – радость малышам.
Слушая вполуха, Маликульмульк озирался по сторонам – побродить по гулянью, потолкаться в толпе он любил смолоду, но ему было внове это пряничное веселье. Он невольно улыбнулся, следя за суетой, и вдруг увидел лицо, которое тут было не менее инородно, чем лапландец в своих меховых одеяниях посреди африканского леса и голых дикарей.
Человек в черной шубе, крытой сукном, и в черной же меховой шапке наподобие треуха, стоял чуть в стороне от лотка и, хмурясь, глядел на Маликульмулька. Так смотрят на врага перед тем, как сказать ему уничижительные слова, а то и угостить оплеухой, подумал Маликульмульк. От природы наделенный большой силой, он не был драчлив, и всякая человеческая злость, чреватая кулачной расправой, ввергала его в растерянность – не меньшую, чем крик рассвирепевшей Варвары Васильевны. Он знал, что полагается давать сдачи, – знал теоретически, а на деле ему никогда еще не удавалось это сделать вовремя. Даже когда супруга драматурга Княжнина унизила его, совсем еще юного, ядовитым словечком, он рассчитался со всем семейством чуть погодя – и в полную меру своего таланта. Другое дело – что эта месть ему в конце концов вышла боком…
Маликульмульк был озадачен – сдается, он видел этого человека впервые. Разве что тот был из прошлой жизни – столичной, многолюдной, где каждый день видишь столько рож, рыл, харь и ряшек, что человеку их всех вовеки не упомнить. Или же из иной минувшей жизни – провинциальной, подчиненной расписанию ярмарок. Тоже – поди упомни тех, с кем за эти годы садился за карточный стол. Одно Маликульмульк знал твердо – в Риге он с этим господином еще не встречался.
Лицо было неприятное – тяжелое обрюзгшее лицо, как если бы незримая рука решительно провела по нему сверху вниз и потащила за собой все складки и морщины. На вид мужчине было под пятьдесят. Встретив взгляд Маликульмулька, он отвернулся и ушел за разукрашенный киоск. Все это вместе – недовольный взгляд, размышления Маликульмулька и отступление незнакомца – заняло несколько секунд.
– Вы зайдете со мной в Дом Черноголовых? – спросил Маликульмульк Давида Иеронима, указывая на высокий красный фронтон с причудливой лепниной, увенчанный большим флюгером: святой Георгий на коне пронзает небольшого, но злобного змея. Флюгер, как утверждали горожане, был серебряный с позолотой.
– Зайду, разумеется.
Они направились к высокому, ведущему прямо на второй этаж, крыльцу.
Про это здание Маликульмульк знал, что оно принадлежит торговому братству Черноголовых, да если бы и не знал – очень скоро бы догадался, что неспроста вся мебель и все стены дома украшены медальоном с головой мавра, Черной и курчавой. Именно головой – хотя кое-где попадался мавр в полный рост, в причудливом костюме, каким наделяли художники позапрошлого века жителей южных стран.
– Но отчего эти господа выбрали своим покровителем именно святого Маврикия? – спросил Маликульмульк. – Какое он имеет отношение к торговле? Он ведь, кажется, святой покровитель Мальтийского ордена, если память мне не изменяет…
– Боюсь, что ни малейшего, – отвечал Давид Иероним. – Братство было создано Бог весть когда – я химик, а не историк… Знаю, что в него входили молодые неженатые купцы и капитаны кораблей. А святой Маврикий командовал римским легионом и за верность Христу был казнен, ему отрубили голову. Могу только предположить, что у Черноголовых была в большой моде игра в рыцарство, потому в святые покровители они взяли военного человека.
Они вошли в сени, оттуда в другие и наконец оказались в зале. Этот зал занимал едва ли не весь этаж – вся рижская аристократия разместилась бы тут за столами, и еще осталось место для танцев молодежи. Сейчас столов не было, а служители расставляли тяжелые скамейки из темного дерева, украшенные неизменным мавритенком, и стулья. Гриндель спросил, как найти приезжих итальянцев, и служители указали на дверь, ведущую в большую пристройку.
За дверью оказалась комната, в которой артистам надлежало быть перед выходом к публике. Там имелось все необходимое для счастья: скамейки, столики с зеркалами, большая изразцовая печь, отменно натопленная. Однако музыканты еще не рисковали раздеться, а стояли и сидели в шубах и шапках.
– Дурака валять изволят, – вслух сказал по-русски Маликульмульк, вспомнив столичных театральных девок, умеющих такими кундштюками набивать себе цену.
Он уж собрался было обратиться к гостям на языке бессмертного Данте, но Давид Иероним опередил его и заговорил по-немецки. Он спросил, кто из почтенных господ синьор Манчини, и синьор тут же вышел навстречу, приветствуя его на языке своеобразном – вроде и по-немецки, но с французскими словами.
Маликульмульк не знал, благодарить приятеля или расстраиваться: он не чувствовал в себе готовности провести переговоры на итальянском, а попробовать хотелось!
Казалось бы, долю секунды упустил он, десятую долю секунды, ведь уже и рот приоткрылся. Но потом, вспоминая первую встречу с синьором Манчини и с Никколо Манчини, Маликульмульк не раз и не два говорил о своем промедлении:
– Промысел Божий.
* * *
Не всякий портовый город умеет завести у себя изящные искусства. Для этого у города должен быть хозяин, умеющий красиво тратить большие деньги. Взять Санкт-Петербург – российские государи заботились о его красоте и привлекательности, строили не только дворцы и храмы, но также театры, покровительствовали школам, где растят художников и артистов. Покойная государыня Екатерина сама изволила либретто для русских опер писать. И вот результат: туда стремятся приехать лучшие музыканты, лучшие певцы, а те, что похуже, опасаются.
В Риге хозяин – магистрат. И рассуждает он так: для чего заводить своих виртуозов, когда можно выписать любого заграничного? Сколько бы ни запросил – все выйдет дешевле, чем растить своих с сомнительной надеждой на успех, да и не каждый день нужны музыка с танцами. На Рождество, на Масленицу, ну, пожалуй, на яблочный праздник – Умуркумур. В остальное время каждый сам о себе позаботится – соберет приятелей на домашний концерт или пойдет в Немецкий театр на Большой Королевской.
Итальянцы в здешних краях бывали частенько – может, еще курляндский герцог Якоб первым выписал в Митаву итальянскую оперу, кто это теперь станет выяснять! Итальянцы – именно та диковинка, которая по душе добропорядочному бюргеру или айнвонеру. Не понять, что поют, из каких опер дуэты разыгрывают, а красиво! Конечно, есть и свои знатоки музыки, играть-то в приличных семьях учат почти всех детишек, есть настоящие любители – точнее сказать, настоящие дилетанты. От них-то и узнали в Риге про Никколо Манчини. Вся Европа восхищается виртуозом, чем Рига хуже? Впридачу позвали певцов с певицами, струнный квартет, думали о танцовщиках с танцовщицами, но посчитали – и решили, что везти полсотни прыгунов – накладно выйдет, да еще декорации им ставь, да еще без оркестра им не обойтись. А скрипач выйдет со своей скрипочкой, встанет в прекрасном зале Дома Черноголовых в удачном месте, чтобы звук получился мощный, и никаких излишеств ему не надо. Пусть исполнит скрипичную сонату Баха или Генделя, они рижанам известны. Пусть сыграет и что-то новомодное.
К тому же удалось заранее списаться с синьором Манчини-старшим и сберечь немного денег, поскольку он как раз поздней осенью возил свое дивное дитя в Бремен и Гамбург, оттуда повез в Берлин. Значит, и дорогу нужно оплачивать от Берлина, а не от самой Италии. А певицы, Аннунциата Пинелли и Дораличе Бенцони, должны прибыть из Пруссии вместе со своими музыкантами. Тоже экономия средств! Правда, никто их не слышал, и само то, что они месяцами где-то странствуют, говорит не в их пользу, ну да в Риге не так уж много истинных ценителей итальянского вокала. С певцами сложнее – Карло Риенци и Джакомо Сильвани, когда с ними договаривались, еще не были уверены в своих контрактах. Собирались в Нюрнберг и Байрейт, но еще ничего толком не решили.
Но вот наконец удалось собрать всех вместе, и итальянцы, сперва устроив восторженную встречу, затем звонкоголосо разругавшись в пух и прах, потом столь же бурно примирившись, приступили к репетициям. Певцы с певицами были давно знакомы, им доводилось выступать вместе, музыканты были опытны – что угодно исполнят с листа, и Николас Шварц, которого бургомистр Бульмеринг отправил в разведку, перебежал через Ратушную площадь, посидел немного в большом зале Дома Черноголовых, вернулся и доложил: играют, поют, не грызутся, как будто всем довольны. Составили наконец программы своих концертов – очень приличные программы, дуэты и арии из комических опер Чимарозы, Скарлатти, Перголези. Кроме того, оказалось, что все они знают зингшпиль Йозефа Гайдна «Аптекарь», притом способны спеть свои партии по-немецки. Там как раз четыре действующих лица, и итальянцев четверо, все соответствует. Есть и пикантный момент – партия Вольпино, молодого богатого купца, написана для меццо-сопрано, так что петь должна женщина, а женщина в мужском костюме – это всегда забавно и привлекательно.
Дня три спустя после прибытия артистов стали убирать зал для рождественских концертов, репетиции ненадолго прервали – и как раз в это время к итальянцам явился посланник от княгини Голицыной, этот огромный и неповоротливый начальник генерал-губернаторской канцелярии, первый после самого князя Голицына враг рижского магистрата, всегда готовый, не разбирая обстоятельств, вступиться за обиженного, имевшего довольно ума, чтобы сочинить кляузу и отправить ее в Рижский замок. А коли обиженный впридачу русский или латыш – так тем более!
Причина была проста – княгиня желала пригласить музыкантов на свой прием. Отчего бы и нет – ведь дама такого ранга обязана устраивать приемы и угощать гостей хорошей музыкой. Если не во вред концертам – так пусть итальянцы хоть поют, хоть пляшут в Рижском замке. Так решили ратманы почти единодушно – накануне Рождества никому не хотелось тратить время еще и на эти препирательства.
Маликульмульк вернулся в замок и попросил аудиенции у Варвары Васильевны.
– Комиссию вашу исполнил, – сказал он, – да только парнишка уж больно жалок. Они там, пока Дом Черноголовых не протопили до африканского жара, поют, не снимая шуб. Так девицы-итальянки бодры, веселы, певцы также, музыканты имеют бойкий вид, а это дивное дитя я видел издали – ваше сиятельство, совсем болен парнишка. Сидит в шубе, в валенках, в треухе, личико – с кулачок, вытянулось, одни глаза остались да еще нос. Может, этот Никколо Манчини и великий виртуоз, да только нездоров…
– И что ж, прикажешь мне его лечить? – спросила княгиня.
– Отчего бы нет? Коли вы, ваше сиятельство, с собой Христиана Антоновича привезли, а он доктор знатный, так пусть бы посмотрел парнишку.
– Откуда ты про его болезнь знаешь? Старик Манчини, что ли, жаловался?
– То-то и беда, что старик Манчини не жаловался. Ни словом не обмолвился… А правду мне сказал герр Струве, к нему за лекарствами для дивного дитяти присылали. Ему-то врать нет смысла. А старику Манчини соврать выгодно…
– Вот оно как? – спросила княгиня так, что Маликульмульк даже поежился. Он знал Варвару Васильевну не первый день – эта дама сильно не любила, когда ее пытались обмануть.
– Именно так, ваше сиятельство, а теперь позвольте откланяться – меня в канцелярии заждались.
С тем Маликульмульк и отбыл из гостиной, которая сейчас скорее напоминала поле боя – мебель отодвинута от стен, кресла перевернуты вверх ногами, люстры спущены, ковры скатаны, и горничные вовсю орудуют тряпками и щетками.
Он успел уловить тот краткий миг, когда между ним и княгиней возникло полное взаимопонимание. Она была мать, родившая десять сыновей, в том числе одного – неизлечимо больного. Он – был тем самым мальчиком со скрипкой, который в Твери замещал иногда должность «дивного дитяти»; невзирая на простуду, являлся в дом своего покровителя с подаренной им скрипочкой, чтобы играть все, чего попросят, и не денег ради – он от души был благодарен Николаю Петровичу Львову, председателю Тверской уголовной палаты: кто бы другой оплатил его уроки музыки, кто бы позволил учиться вместе со своими детишками?
Пока что он ничего иного не мог сделать для Никколо Манчини, которого и видел-то краем глаза. Когда начали договариваться с Манчини-старшим, налетели глазастые улыбчивые итальянки, защебетали на дурном немецком языке, тоже хотели получить приглашение в Рижский замок. Не сообразив, кто тут начальник генерал-губернаторской канцелярии, стали вовсю кокетничать с Гринделем, оно и понятно – Гриндель красавчик. Итальянкам было обещано замолвить словечко перед ее сиятельством. Но словечко прозвучит, когда Варвара Васильевна пройдет по вычищенным хоромам с белым платочком, проверяя, не осталась ли где пыль, убедится, что все сверкает, и сядет составлять список гостей, сочинять либретто приема. Тут-то, если выяснится, что в какую-то минуту приглашенных занять нечем, и можно вспомнить чересчур бойких итальянок.
А до того надобно закончить все дела в канцелярии – насколько это вообще возможно. Ибо созрел очередной плод на ветвистом древе спора между купцами Морозовыми и магистратом: опять Морозовы писали государю императору, просясь в Большую гильдию, и опять государь-император рекомендовал рижскому генерал-губернатору ходатайствовать за Морозовых перед магистратом. Вся эта история напоминала Маликульмульку сказку про белого бычка: исписывались даже не дести, а стопы бумаги, изводились ведра чернил и пуды сургуча, а в итоге каждый оставался при своем: магистрат при своей спеси, а Морозовы в прежнем состоянии.
Повозившись с бумагами и напомнив подчиненным, что всем надлежит явиться на праздничное богослужение в Петропавловский собор, Маликульмульк подумал – да и распустил их. Срочных дел вроде не было, а Морозовы подождут, пока Святки окончатся! Если же что-то не доделано – и после Святок времени хватит. В столице, чай, тоже все дела и заботы отложили до наступающего одна тысяча восемьсот второго года.
Подумал о столице – и встало перед глазами то лицо с Ратушной площади. Точно – оно попадалось в Санкт-Петербурге, да и давно – в театре, в типографии? В академической библиотеке? Господи, сколько тогда было разнообразных знакомцев! В столицу он приехал в восемьдесят третьем вместе с матерью, царствие небесное покойнице, и братцем Левушкой, совсем еще дитятей, поселились чуть ли не на болоте – в слободе Измайловского полка, среди небогатого люда – чиновников в отставке да мелочных торговцев. Самому было уже четырнадцать, и добрые люди пристроили канцеляристом в Петербуржскую Казенную палату. Про жалование и вспомнить стыдно – двадцать пять рублей серебром в год. Мало ли народу захаживало в палату, в которой, кроме всего прочего, занимались утверждением домов за владельцами и определением бывших крестьян в купечество и мещанство? Да там весь Санкт-Петербург перебывал!
Но нет – Маликульмульку все более казалось, что он встречал этого господина в типографии. Отчего-то же образовались в памяти знакомые типографские запахи? Нет, не в театре, куда он явился шестнадцатилетним – предлагать первое свое детище, комическую оперу «Кофейница»… и хватило же нахальства… Странное дело – как взглянуть со стороны, то нахалом он в юности был поразительным – диво еще, что сам музыку к той «Кофейнице» не сочинил и не стал ее навязывать театральной дирекции к либретто впридачу.
Вдруг он понял: это было в типографии Брейткопфа! Удивительный человек был Брейткопф, редкий чудак – содержал типографию и большую словолитню, торговал книгами и еще умудрялся основательно заниматься музыкой. Ведь отчего он взял «Кофейницу» и заплатил за нее целых шестьдесят рублей? Добрейший немец, не зная литературных достоинств пиески, тем не менее собирался написать к ней музыку и добиться постановки этой комической оперы на театре. Один чудак стоил другого – Маликульмульк не стал принимать шестидесяти рублей ни серебром, ни ассигнациями, а на все эти деньги набрал на складе книг.
Да, возможно, этот мрачный господин повстречался в брейткопфовой типографии – там тоже был настоящий проходной двор. И хватит о нем – странно, до чего же его тяжелый взгляд озадачил и смутил… как будто взглядом была выражена нешуточная угроза, причем не обычного свойства – ударить или даже натравить собак, а некого мистического – натравить бесов и ведьм, леших и водяных…
Ужинать Маликульмульк отправился к Голицыным.
– Что, братец, на Рождество от нас не сбежишь? – спросил князь. – Коли ты говел, так завтра все вместе и к причастию подошли бы.
Отказываться было нехорошо. Да и впрямь – коли самого толстые ноги никак до храма не донесут, так скажи спасибо добрым людям, что с собой позвали. Маликульмульк отправился вместе с Голицыными в домовую церковь Покрова Богородицы и честно отстоял службу.
Он пытался подвести итог года – и понимал, что год потрачен Бог весть на что. «Подщипа» – единственное, чем мог бы похвалиться, и та была написана задолго до минувшего Рождества. Триста шестьдесят пять дней вне жизни – с формальными ее признаками, но без ощущения сопричастности, канцелярия и приключения с игроцкой компанией не в счет, их бы вообще выкинуть из памяти вон…
Еще один бездарно прожитый год – разве что Косолапый Жанно, прожорливая, ленивая и напрочь лишенная самолюбия ипостась господина Крылова, торжествовал – съедено им было немало. Следовало просить Господа о прояснении души и прибавлении рассудка, об уничтожении лени и пробуждении сердца, но молитв таких Маликульмульк не знал. Попробовал своими словами – и слов подходящих не нашлось. Так и стоял в маленьком храме, вздыхая и крестясь. Не складывалось у него пока молитвы, не складывалось…
* * *
Сразу после Рождества он сходил в Дом Черноголовых послушать дивное дитя и доложил княгине: у парнишки великое будущее, но надобно пожалеть его и не заставлять играть весь вечер.
– Я сам в его годы был таков. Ростом – чуть не под притолоку, а мясо за костями не поспевало, слабость меня мучила, все никак не мог отдохнуть толком, – признался Маликульмульк Варваре Васильевне. – Оттого старался поменьше бегать, побольше сидеть да лежать.
– Вот мясо кости и догнало, – заметила она, – да и в полон взяло. Ну, стало быть, зовем прочих итальянцев.
О том, что кто-то способен отказаться от приглашения князя и княгини Голицыных, и речи быть не могло. Пусть хоть за полчаса до приема!
Маликульмульк послал курьера с запиской в Дом Черноголовых к Карло Риенци. Этот статный полноватый, чернокудрый, как положено итальянцу, тенор произвел на него наилучшее впечатление – он был поспокойнее своего товарища Джакомо Сильвани, имевшего очень подходящий для бродячего певца голос – бас-баритон. Хотел было написать по-итальянски, да застеснялся – кому охота позориться? Написал по-немецки – уж как-нибудь поймут!
И опять-таки не знал, что в этом сказался промысел Божий.
Когда княгининой свите сообщили, что играть и петь будут итальянцы, обрадовалась одна лишь простодушная Тараторка. Екатерина Николаевна чуть не разрыдалась – она ведь нарочно разучила какую-то сонатину на клавикордах. Прочим дамам тоже хотелось блистать – ведь званы и незнакомцы, а среди них, как знать, может оказаться жених. Но спорить с Варварой Васильевной не рискнули.
Несколько дней все только и занимались приемом – заказывали в «Петербурге» мороженое и местные сладости, пекли печенье по старым рецептам, которые Варвара Васильевна чуть ли не от прабабки унаследовала, привозили игристые вина, приглашали обычных музыкантов, чтобы молодежь потанцевала, поставили наконец в комнатах недостающую мебель; последним подвигом княгини была доставка к куаферу троих младших сыновей, чтобы их наконец подстригли. Оставалось только встретить экипаж, посланный за живыми цветами в теплицу аптечного сада, принадлежащего Коронной аптеке, собрать и расставить букеты. Глядя, как придворные дамы княгини колдуют над вазами, Маликульмульк понял, что это – немалое искусство.
Свечек Варвара Васильевна жалеть не велела – в канделябрах, в жирандолях, в люстре горели самые лучшие, самые яркие – спермацетовые. Все комнаты, назначенные для приема гостей, сверкали. Лакеи, в парадных ливреях, отменно причесанные и напудренные, стояли вдоль стен. Свита княгини, разряженная по-модному, также была наготове. Но прием начался не слишком удачно – Варвара Васильевна не учла, что две кареты в Южном дворе разъедутся с большим трудом.
Маликульмульк находился поблизости от хозяев Рижского замка. Он приехал заранее, чтобы горничные успели почистить и отпарить его фрак, а куафер княгини причесал его и напомадил вьющиеся волосы.
В должный час князь, в мундире и при орденах (Св. Георгия четвертого класса привез с первой турецкой войны, Св. Георгия второй степени привез со второй турецкой войны, потом прибавились ордена Св. Станислава первой степени, Белого орла и Св. Владимира первой степени), и нарядная княгиня в светло-зеленом платье с рукавами по локоток, отделанном изумительными кружевами и большим искусственным цветком, точь-в-точь как на картинке в «Costumes parisiens», вышли в гостиную, встали рядышком, ободряюще улыбнулись друг другу – и началось…
Маликульмульк давно уже не бывал на таких приемах и отвык от нарочито радостных голосов с ненатуральными интонациями. Да и от красивых женщин отвык – а в этот вечер каждая была красавицей на свой лад, и нескромные тонкие платья нежнейших оттенков палевого, жонкилевого, перваншевого, бланжевого, вердепешевого, гридеперлевого цветов подчеркивали стройный стан, высокую грудь, изящно округленное бедро и прочие соблазны. Маликульмульк только изумлялся моде, которая выгнала дам и девиц на люди в ночных сорочках. Удивлялся, не одобрял – но ведь не мог не смотреть!
Среди гостей была и фрау фон Витте с младшей дочкой и двумя племянницами. Приглашение это устроил Маликульмульк – полагал, что девицам стоило бы познакомиться с молодыми гарнизонными офицерами. Особые надежды он возлагал на Александра Максимовича Брискорна – он человек светский, разговорчивый, большой забавник, соберет вокруг девиц кавалеров, да и сам кавалер хоть куда – младший брат самого прокурора Карла Максимовича Брискорна, кстати. Заодно и пожилая дама, скучавшая без друзей, укативших на зиму в Дерпт, нашла бы достойное себя общество.
Фрау фон Витте Маликульмульку нравилась более прочих рижанок. Он даже нарочно подвел к ней Тараторку в надежде, что младшая из племянниц, Анна Матильда, и его ученица подружатся. Тараторке было необходимо завести наконец подружек – если два года назад ее мальчишеские ухватки были очаровательны, то сейчас она, при всех своих артистических талантах, могла показаться кавалерам смешной. Требовались юные девицы вовсе без талантов, но зато умеющие красиво нарядиться, изящно сесть и встать, щебетать и кокетничать, говорить милые глупости и при необходимости восхищенно молчать, – авось и Тараторка эти искусства переймет.
Но зловредная Тараторка завела с Брискорном разговор, вовсе не интересный для прочих, – о русских пьесах. Очевидно, хотела использовать полковника, чтобы получить наконец в руки желанную комедию «Пирог».
Маликульмульк поглядывал на часы. Когда настало время, назначенное для прибытия артистов, он пошел вниз – встречать.
Южный двор сохранился примерно в том же виде, что и при давних хозяевах замка, ливонских рыцарях. Он имел опоясывающую галерею – не такую долгую, как крестовая галерея Домского собора, куда Маликульмулька водил его учитель-немец Липке, но вполне пригодную для того, чтобы с десяток человек, выйдя из наемного экипажа, собрались у дверей, не боясь ветра и снегопада, в ожидании, пока швейцар их впустит. Маликульмульк полагал, что, стоя в галерее, получит троякое наслаждение: от тишины, потому что в гостиных княгини ему было с непривычки шумновато; от свежего воздуха; и, что несколько противоречило удовольствию от свежего воздуха, хорошим табачком. Трубку он набил заранее и полагал выкурить ее всю, глядя на падающий снег.
Оказалось, что не он первый додумался сбежать в галерею.
Маликульмульк заметил в противоположных ее концах, в самых углах, двуглавые силуэты – какие-то неведомые кавалеры вывели сюда своих дам, и парочки кутались – вдвоем в одну епанчу. Обнаружился незнакомый господин, также с трубкой, подальше два господина тихо ссорились по-немецки. Галерея жила своей жизнью, и Маликульмульк понял, что ждать итальянцев в общем-то и незачем – двери открыты. Но трубка – ради трубки он и остался.
Итальянцы явились в трех посланных за ними наемных экипажах. Кучера были знакомые, кормились при Рижском замке, знали особенности двора. Маликульмульк, делая последнюю затяжку, наблюдал, как мужчины помогают выйти закутанным в шубы и шали женщинам.
– Следуйте за мной, господа, – сказал он и повел артистов к лестнице для слуг – и не потому, что желал оскорбить их этим, а зная их причуды: итальянки вряд ли желали бы показаться перед публикой закутанными и взъерошенными, да еще и в валенках – они с перепугу берегли свои нежные ножки. Маликульмульк доставил музыкантов и певцов в три приготовленные для них комнаты – одна была для женщин, две для мужчин, причем певцов и дивное дитя с папашей поместили отдельно, а квартет – отдельно. Для услуг им дали казачка Гришку.
К итальянкам сразу же была приставлена горничная Фрося, знавшая немного по-французски, она повела их в комнату, где устроил свой штаб куафер княгини с приглашенным из города помощником – учеником француза Рамо. Туда могла зайти любая дама, обнаружив, что локон развился или растрепался, покосилась диадемка.
Маликульмульк ждал в коридоре, когда итальянцы сообщат, что готовы. Там его и отыскала Тараторка, одетая совсем как взрослая барышня и завитая. Розовое платье до самого пола с длинными рукавами было подпоясано под грудью пунцовой лентой, такая же лента была в волосах.
– Иван Андреич, скоро ли? – спросила она, подходя чересчур чинно, но при этом отчаянно играя худенькими плечиками. Маликульмульк понял, что это несносное создание передразнивает кого-то из племянниц фрау фон Витте.
– Скоро, – отвечал он. – У них волосы растрепались.
– А дивное дитя?
Маликульмульк хотел было ответить, но тут из мужской комнаты вышел синьор Манчини.
– Нам нужна горячая вода! Я должен приготовить питье для бедного Никколетто! – воскликнул он по-немецки, очень внятно. – Ваш человек не понимает! Горячее питье нам необходимо!
– Я тотчас пришлю человека! – обещала Тараторка и убежала.
– Мальчик плохо себя чувствует? – спросил Маликульмульк.
– Ему необходимо питье. Я боюсь, что он простыл… У вас, сударь, дети есть?
От этого вопроса Маликульмульк даже растерялся. Смог лишь головой помотать.
– Я безумно за него боюсь, я не позволяю ему выходить на улицу без шапки, – заговорил взволнованный итальянец. – Нам нужен кирпич, горячий кирпич, чтобы согреть его бедные ноги! Горячее питье, горячий кирпич! Я сказал ему: Никколетто, мне ничего не надо, только будь здоров и весел! Но эта проклятая скрипка пьет из него жизнь… он не может жить без своей скрипки… проклятый маркиз, он околдовал моего бедного мальчика!.. Если у вас есть дети, вы меня поймете!
При первой встрече в Доме Черноголовых Манчини-старший Маликульмульку не то чтобы не понравился – а не производил впечатления человека, способного отдаться музыке, пению, декламации, да хоть вышиванью в пяльцах. Взгляд у него был – как у менялы, что сидит за раскладным столиком на берегу Двины, недалеко от наплавного моста, и оценивает кучку монет, выложенную сошедшим с корабля путешественником или матросом. Люди с таким взглядом редко обладают иными талантами, кроме таланта ловко управляться с деньгами. Но он похвалился тем, что был первым учителем своего сына, и в это можно было поверить – человек с таким взглядом способен заставить ребенка часами водить смычком вверх-вниз, без чего не наживешь мастерства.
Странно было видеть это волнение пожилого – даже, пожалуй, старого человека, некрасивого до такой степени, что даже равнодушный к внешности Маликульмульк отметил эту особенность: жидкие волосы, почти седые, следовало бы укоротить вершка на полтора, длинный и утолщавшийся к кончику нос тоже не мешало бы обтесать перочинным ножичком, а узкое лицо со впалыми щеками нарумянить, как это делали щеголи еще десять лет назад, чтобы оно казалось более полным и здоровым. Никколо был на него похож, и это сходство казалось печальным, едва ли не трагическим: длинноносому мальчику, чьи черные волосы, почти достигавшие плеч, вились, а тонкое лицо было бледным, но чистым, почти фарфоровым, предстояло стать сущим пугалом, морщинистым и почти беззубым. У него и теперь улыбка, как заметил Маликульмульк, уже была щербата.
Из своей комнаты вышли итальянки, одетые чересчур нарядно – будет над чем посмеяться хозяйке дома. Княгиня Голицына, дама светская и воспитанная при дворе покойницы Екатерины, с одной стороны, нагляделась в столице на чрезмерную роскошь, а с другой – воспитала-таки хороший вкус. Синеглазая Аннунциата Пинелли, не очень похожая на итальянку, была помоложе, лет двадцати шести или восьми, личиком побелее и станом попышнее, она вырядилась в красное платье и в красный же тюрбан (Маликульмульк вспомнил: этот пронзительный оттенок назывался вермийон), а на высокой груди сверкало ожерелье мало чем поменьше печально известного французского, в полтысячи бриллиантов, из-за которого разыгрался столь громкий скандал. Дораличе Бенцони была особа лет тридцати, в платье кубового цвета, расшитом золотыми цветами, с высоким воротничком, малость мужиковатая – ее пальцы напомнили Маликульмульку те розовые сосиски-«франкфуртеры», которыми он вместе с Гринделем лакомился в «Лавровом венке». Она и смахивала ростом и плечищами на переодетого мужчину, но имела прекраснейшие в мире черные глаза в густых ресницах, природный румянец на смугловатом лице, зубки – чистые жемчуга. Обе певицы оказались удивительно грудасты. Кроме того, Дораличе была довольно коротко подстрижена, и Маликульмульк не мог понять: ее вороные кудри природного происхождения или куафер накрутил их своими щипцами. Каштановые локоны Аннунциаты – те точно были куаферовых рук делом. Количество перстней и браслетов у обеих артисток на глазок подсчитать было невозможно.
Маликульмульк пожалел, что не сходил на зингшпиль «Аптекарь» – Дораличе была, надо думать, премилым щеголем в роли Вольпино и хорошо гляделась рядом с Грилеттой-Аннунциатой.
– Куда нам идти? – спросила Дораличе. – И где наши музыканты?
– Подождите, прошу вас, – ответил Маликульмульк, видя, что по коридору бежит Тараторка, а за ней – поваренок Фролка с чайником и тремя кружками, надетыми на пальцы.
– Вот, Иван Андреич! – воскликнула запыхавшаяся Тараторка. – Кипяток! Как раз вовремя поспел!
– Ступай туда, – Маликульмульк указал на дверь, Тараторка быстро отворила ее, и раздался дружный вскрик – Фролка со своим чайником чуть не сбил с ног и не обварил Карло Риенци и Джакомо Сильвани, уже готовых присоединиться к Дораличе и Аннунциате. Итальянцы были одеты в модные фраки, гладко выбриты, припудрены и тоже блистали драгоценностями – мало того, что надели по три перстня на руку, так и к часам подвесили множество брелоков.
Фролка проскочил в комнату, и Маликульмульк услышал возгласы старого Манчини.
– Я провожу вас в гостиные, – сказал он итальянцам, рассудив, что травы меньше десяти минут не будут завариваться, а держать все это время артистов в коридоре как-то нелепо.
Потом Маликульмульк наскоро представил всю четверку вокалистов их сиятельствам и пошел обратно – за музыкантами. Он постучал в мужскую комнату, отданную квартету, дверь отворилась, и первым вышел толстяк с виолончелью. За ним последовали виолончелист, альтист и скрипач, все – немолодые, с кислыми физиономиями, как будто приглашение к рижскому генерал-губернатору было для них хуже горькой редьки. Маликульмульк по столичным театрам знал сию самолюбивую и вечно недовольную публику – трудно смириться, что либо по гроб дней своих будешь исполнять партию третьей скрипки в каком-нибудь городишке, либо годами странствовать в диких краях, где хоть и играешь первую скрипку, да кто это оценит? Каждый музыкант нес под мышкой нотную тетрадь. Казачок Гришка замыкал шествие – он тащил пюпитры для нот.
Из второй мужской комнаты вышли старик Манчини и Никколо Манчини со скрипкой. Увидев эту скрипку, Маликульмульк насторожился – в столице он видывал такие прекрасные и дорогие инструменты, но тут, у бродячего виртуоза?!
– Гварнери? – спросил он неуверенно.
– Гварнери дель Джезу, – с гордостью подтвердил старый Манчини. – У моего мальчика лучшая скрипка из тех, что были в коллекции маркиза ди Негри. Вся Генуя знает, как мой Никколо получил эту скрипку. Три года назад он был представлен маркизу. Маркиз не верил, что мальчик гениален, да, гениален! Маркиз принес ноты, это был концерт Плейеля, вы знаете австрийца Плейеля? Сложный, безмерно сложный концерт. Маркиз засмеялся и сказал: если ты, обезьянка, сыграешь с листа эту вещь, то получишь скрипку Гварнери дель Джезу. Никколо кивнул, просмотрел ноты и заиграл – он играл без остановки и без единой ошибки! Маркиз – человек чести, он отдал Никколо скрипку!
Маликульмульк посмотрел на гениальное дитя – да, худые ноги в белых чулках ближе к лодыжкам заметно припухли. Мальчик стоял рядом с отцом, словно не слыша его выспренной речи, черные глаза были полуприкрыты тяжелыми веками, в лице – ни кровинки. Маликульмульк видывал отменных скрипачей, был знаком со знаменитым Иваном Хандошкиным, но такую отрешенность наблюдал впервые, и она его встревожила – мальчик явно был не от мира сего.
– Идите за мной, господа, – сказал Маликульмульк сперва по-немецки, потом, для надежности, по-французски. – Ты, Гришка, ступай вперед.
Он оставил обоих Манчини в малой гостиной на диване, а квартет повел в большую, по дороге махнув рукой певцам и певицам, что означало «не спешите». Он хотел сперва усадить музыкантов, зная по опыту – суета вокруг стульев и пюпитров привлекает публику, и к тому моменту, когда появятся певцы, уже не придется собирать слушателей по углам и закоулкам гостиных. Разве что картежников от стола не отцепить – ну так это и правильно. Но Аннунциата все же подошла.
– Кто будет объявлять номера? – спросила она.
– Я сам, сударыня.
– Очень хорошо, вы представительный мужчина! Первым номером у нас дуэт Каролины и графа Робинзона из «Тайного брака». Каролина – я, Робинзон – синьор Сильвани.
Маликульмульк сверился с бумажкой, куда заранее записал все номера, и кивнул. Аннунциата улыбнулась ему.
Лакеи быстро расставили стулья, любители музыки уселись, в первом ряду были, разумеется, их сиятельства. Маликульмульк объявил дуэт, и концерт начался.
Певцы пели именно так, как положено в гостиных, не форсируя голос, не впадая в чрезмерную патетику. Маликульмульк читал по бумажке, добавляя обязательные комплименты: «наша очаровательная гостья… известный всей Европе тенор… блистали при дворе покойного французского короля…» Аплодисменты были беззвучные – это не балаган на эспланаде, это прием в Рижском замке.
Наконец дошло и до дивного дитяти. Никколо вышел без всякого стеснения со скрипкой под мышкой и приготовился играть, но начал не сразу – собирался с силами, с духом, с памятью, наверно. Маликульмулька поразили невероятно растянутые пальцы мальчика, лежащие на грифе скрипки, и как-то диковинно вывернутый вправо локоть под скрипкой. Самому ему такое и в голову бы не пришло – но он сообразил, для чего это потребно: чтобы легко и непринужденно переходить от низких к высоким позициям. Стоял Никколо тоже своеобразно – не так, как все знакомые Маликульмульку скрипачи, слегка расставив ноги и опираясь одинаково на обе. Нет, мальчик и тут изобрел свое – он опирался на левую ногу, правая была выставлена вперед и даже чуть присогнута.
Старик Манчини стоял в полудюжине шагов от него, рядом с квартетом, и держал кружку с питьем – на всякий случай.
Никколо начал со знаменитых скрипичных сонат Арканджело Корелли, знакомых Маликульмульку – и одновременно незнакомых, потому что мальчик усложнил их всякими мелкими, но очень заметными кундштюками – это были шалости виртуоза, все сверкающие двойные ноты, рулады, стаккато, пиццикато левой рукой. Затем последовали не менее известные дилетантам этюды профессора Парижской консерватории Родольфа Крейцера. Сам скрипач-виртуоз, он собрал в них множество трудных пассажей. Но Крейцер принадлежал к французской классической скрипичной школе, а Никколо Манчини – нет, его исполнение было неожиданно страстным, взволнованным, как будто кундштюков, требующих внимания, в этой музыке не было вовсе. Никколо не блистал техникой – он собственной ловкости, пожалуй, сам не замечал, впав в какой-то почти божественный экстаз.
Доиграв последний этюд, мальчик поклонился. Так и было задумано – чтобы дать ему отдохнуть, по плану полагалось несколько вокальных номеров. Но княгиня расстроила план.
– Изумительно! – сказала она по-французски. – А что, с листа наш виртуоз так же ловко разбирает?
Маликульмульк приготовился переводить на немецкий, но старик Манчини понял.
– О, да, да! Я прошу дать любые ноты! Мой Никколо справится, я уверен!
– Иван Андреич, тебе ведь присылали из столицы новинки, помнишь? – сказала княгиня уже по-русски. – Если ты их к себе в берлогу не уволок, то они в гостиной. Что там такое было?
– Там дуэт для пианофорте и скрипки госпожи Скиатти и ее же соната для пианофорте. Сонату я отдал Екатерине Николаевне, – и Маликульмульк для старого Манчини перешел на немецкий. – У нас есть ноты дочери славного скрипача Скиатти, Екатерины Скиатти-Мейер. Она отменная сочинительница. Не любопытно ли вам и вашему сыну?
– О, да, да, любопытно! Велите принести! Вы убедитесь!
По безмолвному приказу Варвары Васильевны стоявшая рядом приживалка Наталья Борисовна пошла за нотами и скоро принесла кипу в полтора фунта весом.
Маликульмульк сам собирался разучить скрипичную партию, чтобы исполнить дуэт с Екатериной Николаевной. Он понимал, что никакого блеска от их совместной игры ждать не приходится – вот если бы с самой Скиатти! Та настолько выделялась среди музицирующих дам, что была приглашена преподавать в Смольном институте.
Катерина Николаевна быстро нашла ноты.
– Ты, сударыня, уже начала разучивать? – спросила княгиня.
– Я свою партию прошла, ваше сиятельство.
– Аккомпанировать сможешь?
– Да, ваше сиятельство… – Екатерина Николаевна немного растерялась.
– Я буду переворачивать вам ноты, – сказал стоявший рядом с ней полковник Брискорн. Сказал он это тем особенным голосом, который сразу показывает любопытным: эти двое не только насчет нот сговорятся. Екатерина Николаевна улыбнулась полковнику, но как-то испуганно – казалось, внимание такого великолепного кавалера ее смущало и даже тяготило.
Брискорн передал вторую нотную тетрадку старому Манчини, а тот – сыну.
– Мой бедный Никколо впервые будет играть вместе со столь очаровательной дамой, – произнес по-немецки Манчини и тут же объяснил сыну по-итальянски его задачу. Никколо просмотрел ноты, молча кивнул и выжидающе посмотрел на Катерину Ивановну, чьи пальцы уже нависли над клавиатурой. Она кивнула ему и заиграла.
Маликульмульк невольно улыбался, слыша, как мальчик подстраивается под перепуганную аккомпаниаторшу. Да и не он один – но гости милосердно наградили обоих исполнителей аплодисментами. Старик Манчини увел сына прочь – отдыхать. Брискорн же увел Екатерину Николаевну. Она, видя, что обошлось почти без ошибок, радовалась, как дитя, и пылко благодарила полковника за поддержку.
Немного погодя опять запели Бенцони и Пинелли, Риенци и Сильвани. Маликульмульк почти их не слушал – он ждал, когда Никколо возьмет в руки скрипку.
Наконец старый Манчини привел его и, отозвав в сторонку Маликульмулька, сказал: мальчик непременно хочет сыграть очень сложную сонату Плейеля, а вслед за ней – «Дьявольскую трель» Джузеппе Тартини.
– Ого… – прошептал Маликульмульк. Тут уже не было речи о виртуозности, виртуозность – необходимое условие, но в музыке Тартини было нечто демоническое – и управится ли с этой черной страстью ребенок?
Вспомнилось – еще в столице кто-то из музыкантов, с которыми Маликульмульку довелось играть квартеты Боккерини, рассказывал: Тартини продал душу дьяволу в обмен на вдохновение, и далее дьявол, являясь ему во снах, исполнял дивные, тревожные, изысканные мелодии, композитору оставалось лишь проснуться и, не перекрестя лба, их записать.
Никколо вышел, словно в полудреме, но первый же удар смычка оживил его, и началось то священное безумие, о котором Маликульмульк мечтал – да только оно все никак к нему не снисходило. Мальчик играл свою музыку – или же музыка, словно огненная жидкость, бьющая из глубин земных, нашла свой сосуд.
Последние звуки «Дьявольской трели» словно бы улетели вместе с душой Никколо – он едва не выронил скрипку и смычок. Старый Манчини подхватил его и почти унес. Брискорн и еще несколько офицеров предложили свою помощь, но старик отказался.
– Не к добру такая игра, – сказала по-итальянски стоявшая рядом с Маликульмульком Дораличе Бенцони. – Старый черт не понимает, что однажды это плохо кончится.
– Будем молиться Мадонне, – ответила, крестясь, Аннунциата Пинелли. – Ступай, голубка моя.
В завершение концерта Дораличе и Риенци спели дуэт Лизетты и Паолино все из того же «Тайного брака» Чимарозы, а разрумянившаяся Аннунциата очень бойко исполнила арию Блондхен про нежность и ласку из Моцартова «Похищения из сераля». Все это было хорошо, красиво, но после скрипки Никколо Манчини – увы, не завладело общим вниманием. Тем концерт итальянских виртуозов и завершился, к большому облегчению Маликульмулька. Артисты остались в гостиной, но теперь они в присмотре не нуждались.
Маликульмульк радостно махнул рукой на их светскую жизнь и, убедившись, что пюпитры с нотами убраны, пошел беседовать с фрау де Витте, слушать предания о великолепных, щедрых, таинственных и горделивых курляндских дворянах.
Прием близился к концу – большая часть гостей должна была покинуть замок, а немногие избранные – остаться на ужин. И в гостиных уже стало попросторнее.
– Слава те Господи! – вслух сказал проголодавшийся Маликульмульк. Оказалось – рано.
К нему скорым шагом подошел лакей Степан, любимчик княгини, и прошептал:
– Иван Андреич, там у итальянцев неладно. Шум, гам. Как бы их сиятельства не осерчали.
– Иду, – тут же сказал Маликульмульк. Степан пошел сзади, и правильно сделал. В той из мужских комнат, которая была отдана квартету, буянил виолончелист. Где и когда он успел напиться – никто не понял. Вроде бы крепких напитков гостям не разносили – но, насколько Маликульмульк знал актерскую братию, музыкант мог притащить флягу с собой, и хорошо еще, что нализался после выступления – мог хлебнуть и перед началом, для сугубой бодрости.
Маликульмульк оглядел комнату и обнаружил еще одно несчастье – скрипач Баретти заснул, сидя на стуле, уложив голову – на сложенные руки, а руки – на хрупкий туалетный столик. Нужно было срочно избавляться от виртуозов.
– Ты, Степа, пошли кого-нибудь за экипажем и скорее возвращайся, – попросил, потому что приказывать так и не выучился, Маликульмульк. Наемные экипажи стояли в переулке у «Петербурга» – орманов попросили быть к десяти часам вечера.
Степан кивнул и исчез.
– Успокойтесь ради Бога, – сказал по-французски Маликульмульк виолончелисту, которого уже унимали его товарищи, тоже не совсем трезвые. – Вы во дворце его сиятельства князя Голицына, а не в трактире.
– Я – артист! Я играл французскому королю! – отвечал на это Баретти. – Я играл испанскому королю! Меня Моцарт благословил! Я играл его квартеты – он бил в ладоши!..
Итальянцы принялись ругать его на свой лад – половины слов Маликульмульк не понял, но догадался, что итальянские соленые слова не хуже русских. Ему стало неприятно – не замечая грязи в ее материальном проявлении, он испытывал едва ли не боль от грязи словесной. К счастью, появился догадливый Степан, он привел с собой другого крепкого лакея, Андрюшку, и вдвоем они стали заворачивать Баретти в шубу.
Маликульмульк молча смотрел на притихших итальянцев.
– Вы ведь ничего не скажете их сиятельствам? – робко спросил по-немецки…
– Не скажу.
Не дожидаясь, пока виртуозов выпроводят, Маликульмульк поспешил к гостям – убедиться, что хоть певцы и певицы не буянят. Он их не нашел – очевидно, они, люди благовоспитанные, не желали выглядеть назойливыми и вернулись в свои комнаты. Тогда Маликульмульк еще раз прошел по гостиным, его остановили знакомые офицеры, потом подошла возмущенная Тараторка – княгиня приказала ей отправляться в ее комнату и ложиться спать. Тараторка требовала, чтобы «милый, добрый Иван Андреич» немедленно пошел к Варваре Васильевне и уговорил ее не прогонять в постель взрослую девицу. Маликульмульк отвечал, что княгине не до нее, и был прав – Варвара Васильевна беседовала с бургомистром Барклаем де Толли и его супругой. Нужно же было хоть с кем-то в магистрате поддерживать хорошие отношения. Она как-то встречалась с двоюродным братом бургомистра Михелем Андреасом Барклаем де Толли (в Санкт-Петербурге этого кузена звали Михаилом Богдановичем, и сейчас, как выяснилось, он был уже генерал-майором). Сейчас воспоминания очень пригодились.
– Ну, Иван Андреич! – ныла Тараторка. – Подождем немножко и подойдем к Варваре Васильевне! Вас она послушает, вас она любит!
Это было бесстыжей лестью. Княгиня просто зачислила Маликульмулька в штат своей прислуги – и, как полагалось доброй барыне, заботилась о нем, приправляя заботу то ворчанием, то сердитым словцом. Но объяснять это Тараторке он не желал.
– Иван Андреич, – тихо сказал Степан, заглядывая в дверь гостиной. – Подите скорее к итальянцам, опять беда стряслась. Я-то не пойму, о чем они трещат, а парнишка плачет, старик охает, бабы визжат.
– Пойдем, Иван Андреич! – обрадовалась Тараторка. Появилось обстоятельство, позволяющее ей подольше остаться в обществе, а не брести в свою по-спартански убранную комнатку, к птичкам, давно спящим в своих клетках.
Маликульмульк вздохнул – казалось бы, все было так благополучно! Так нет – обязательно под занавес – какая-то пакость.
Пакость оказалась увесистая. Из комнаты, отведенной певцам, Никколо Манчини и его отцу, пропала драгоценная скрипка.
Глава 2
Повеяло чертовщиной
В каждом мире – свои сокровища. Для музыканта главное сокровище – инструмент. Нельзя сыграть Тартини на дешевой скрипке немецкой работы.
У самого Маликульмулька скрипка была работы Ивана Батова, одна из первых, еще той поры, когда Батов работал в мастерской Владимирова, и то – ее пропажа оказалась бы весьма чувствительна. А тут – инструмент работы самого Гварнери!
При мысли, что придется докладывать о краже князю и княгине, Маликульмулька прошиб холодный пот. Князь – это бы полбеды, княгинин гнев куда страшнее.
Певцы и певицы собрались в комнате, Аннунциата поила Никколо водой, Дораличе стояла, уперев руки в бока, похожая на базарную торговку, вздумавшую, будто ее хотят обмануть. Риенци и Сильвани стояли возле старика Манчини, словно готовясь его защищать. А старик выглядел, как осужденный, который уже приведен на эшафот и смирился со своей участью.
– Когда вы в последний раз видели скрипку? – спросил его Маликульмульк.
– Когда? Мы после концерта остались в гостиной, господа хотели поглядеть на скрипку и услышать ее историю. Потом они стали уговаривать Никколо сыграть еще что-нибудь, но я видел – мой мальчик устал. Я сказал ему: мой Никколо, давай отнесем скрипку в комнату, иначе эти люди не дадут тебе покоя. Мы пошли вместе. Мы видели, как люди господина князя выводят пьяного дурака Баретти. Мы уступили им дорогу, а потом вошли в комнату. Там не было ни души. Я побоялся оставлять скрипку в комнате, которая не запирается, но Никколо сказал: мы спрячем ее среди шуб, никто не догадается копаться в шубах. Мы положили ее в футляр и очень хорошо спрятали. Потом мы вернулись в гостиную совсем ненадолго. К нам подошел синьор Риенци и предложил вместе ехать в гостиницу. Мы согласились и пошли обратно в комнату. С нами пошел и синьор Сильвани. Мы совсем недолго были в гостиной! Я дал моему Никколо питье, он выпил и сел на диван отдохнуть. Синьор Сильвани вышел, потом вернулся, взял свою шубу, а футляр стоял под ней, прислоненный к стене. Мне казалось, что он стоял ближе к окну. Я открыл футляр и увидел одни покрывала.
– Да, это именно так и было, – подтвердил Риенци. – Я тоже увидел, они лежали так…
Он сделал несколько движений, как будто комкал ткань руками.
– Вот тут лежала она, – старик Манчини со вздохом указал на раскрытый футляр, очень старый и потертый футляр из буйволовой кожи с бронзовыми позолоченными застежками. – Маркиз велел заворачивать нашу красавицу в три покрывала – сперва шелковое, затем бархатное и поверх всего – замшевое, он сам дал нам эти три покрывала. Он сказал: береги скрипку, обезьянка… И у него было такое лицо, я испугался – у него было лицо, как у купца, который надул покупателя и радуется… Не плачь, мой Никколетто, на все воля Божья…
– Мы непременно найдем скрипку, – сказал Маликульмульк. – Ее еще не успели вынести, она где-то в замке.
– Нет, ее не надо искать, – горестно сказал старик Манчини. – Она улетела.
– Что значит – улетела?
– Она выпила из моего мальчика жизнь и улетела… Маркиз заклял ее, эту скрипку, она вернулась к нему, полная сил! Это была адская скрипка, синьоры! – воскликнул итальянец. – Она отняла у меня моего бедного мальчика… Это судьба, так Бог велел… Я молился, я плакал… все напрасно…
Маликульмульк растерялся. Он посмотрел на Риенци, на Сильвани – оба кивали с таким видом, будто подтверждали мистическое исчезновение скрипки. Тогда он посмотрел на певиц. Аннунциата обнимала Никколо и что-то нашептывала ему в ухо. Дораличе хмурилась.
– Вы тоже считаете, что скрипку унесли злые духи? – спросил ее Маликульмульк.
– Да, синьор. Маркиз ди Негри – дурной человек. Он собирает скрипки, чтобы… чтобы… – тут ее знания немецкого языка оказалось недостаточным, и она коснулась плеча Карло Риенци.
– Это бывает, – сказал певец. – Флейта, или скрипка, или даже клавикорды пьют жизнь из человека, оттого они так дивно звучат. Есть люди, которые платят, чтобы голос звучал… Они поют, как ангелы, и делаются все слабее, все слабее… и умирают…
Сильвани сделал жест, понятный всякому: он беззвучно пригласил Маликульмулька выйти из комнаты.
– Бедный мальчик скоро умрет, – сказал он. – Тут никто не поможет, кроме Пресвятой Девы. Скрипка забрала его жизнь и вернулась к хозяину.
– Вы верите во все это?
– Как я могу не верить в то, что вижу своими глазами? Всякий разумный человек обойдет палаццо ди Негри за три квартала. Только старый чудак Манчини мог отважиться и привести туда мальчика.
– Отчего же? – спросил Маликульмульк.
– Все знают, что маркиз дружит с бесами. Он оживляет покойников, и они ему служат…
– Покойников?
– Да. Вы люди образованные, в это не верите. А мы, артисты, мы люди простые, мы это знаем. Ему нужна жизненная сила, чтобы воскрешать хорошеньких девушек и злодеев, которых судьи отравляют на виселицу. Эти старые скрипки закляты, и дьяволы помогают маркизу находить их и покупать. А потом он их, как охотничьих псов, спускает – и они приносят ему добычу. А часть добычи оставляют себе, оттого их голоса так сладостны. Говорят даже, что он натягивает на скрипки струны, сделанные из человеческих кишок. Отчего, как вы полагаете, никто не хочет ездить вместе с Манчини? Все боятся скрипки маркиза ди Негри!
Высказав все это по-немецки довольно бойко, Сильвани перекрестился.
Маликульмульк был сильно озадачен этой историей. Он видел, что певец искренне верит в злых духов и поднятые из могил трупы. Но что сказать по этому поводу – не знал.
Зато Тараторка была сильно перепугана и даже ухватилась за Маликульмульков рукав.
– Не говорите ничего его сиятельству, – попросил Сильвани. – Не надо огорчать доброго князя. Они оба умрут – сперва Никколо, потом Джузеппе. Джузеппе не сможет его пережить.
– Нет, нет, они не умрут! Его можно вылечить! – воскликнула по-немецки Тараторка. – У нас хороший доктор, я скажу ее сиятельству, он поможет, он непременно поможет! Я сейчас приведу его!
Не успел Маликульмульк строго спросить ее, где это она выучилась подслушивать, как девочка убежала.
– Не уезжайте, – сказал он тогда певцу. – Я обязан доложить об этом их сиятельствам. Я, простите, в злых духов не очень верю.
– Но кто же еще мог вынести скрипку? Она была спрятана, она оставалась без надзора не более четверти часа, и в этой части замка, мне кажется, посторонние не бывают, она для прислуги и для бродячих артистов – вроде нас, – Сильвани произнес это так, что Маликульмульк сразу вспомнил и столицу, и театральный народ со всей его гордостью, которая была оборотной стороной унижения; но если бы только это – актерская гордость умудрялась сделать из унижения нечто вроде дойной коровы для себя, черпала в нем силы и средства, чтобы заставить богатых знакомцев устыдиться за то, что они благополучны и ни перед кем не должны пресмыкаться. Знакомый кундштюк, и лучший способ с ним справиться – не обращать на него внимания.
– Нет, наши люди этого сделать не могли… – и тут Маликульмульк задумался, вспомнив изгнанного кучера Терентия. Иногда совершенно невозможно понять ход мыслей подневольного человека, да не просто человека – а состоящего в барской дворне, живущего в странном мирке со своими сокровищами и своим кипением страстей. Терентий мог бы стянуть скрипку из совершенно непостижимых соображений – а кто-то иной, поумнее, догадался бы, что ее можно выгодно продать. И выбрал отличное время – когда в замке полно народу, причем такого, с которым хозяину и хозяйке приходится раскланиваться и церемониться.
А куда понесет дворовый человек дорогую скрипку продавать? Не на рынок же. Это даже Терентию было бы ясно.
Страшная мысль пришла тут в голову Маликульмульку: дворня цены скрипке работы Гварнери дель Джезу не ведает, но ведает кто-то другой, сумевший подкупить одного из лакеев или даже горничных.
– Будьте тут, не уезжайте, – сказал Маликульмульк и пошел искать дворецкого, Егора Анисимовича. Сразу идти к князю и княгине он побоялся – довольно было и того, что их уже наверняка отыскала перепуганная Тараторка.
Егор Анисимович в парадной ливрее, благообразный до умиления, стоял у входа в буфетную и заведовал лакеями, разносившими прохладительные напитки. Время от времени к нему подходили посланцы повара Трофима – в столовой уже накрывали стол для скромного позднего ужина на тридцать персон, приглашенных особо. Поскольку княгиня была занята, серебро и дорогой фарфор должен был выдавать дворецкий, он же единолично распоряжался корзинами с шампанским.
– Господи Иисусе! – прошептал дворецкий, узнав новость. – Пропали мы…
– Как же быть?
Они обменялись взглядом – и во взгляде этом была целая речь: согнать всех гостей в одну комнату и не выпускать, пока дворня не обшарит замок и не найдет проклятую скрипку; если же пропажа не сыщется – значит, ее вынес тот, кто уже успел откланяться, и нужно по списку гостей установить этого беглеца. Но разве ж князь допустит, чтобы у него на приеме случилось такое безобразие?
– Поищу их сиятельство, – решил дворецкий, и опять же без слов было ясно: речь о князе.
Маликульмульк остался у двери, а Егор Анисимович вдоль стенки, огибая группы нарядных гостей, отправился на поиски князя Голицына. Вернулся он еще более расстроенный – того нигде не было.
– Я пойду в столовую, – сказал Маликульмульк. – Там побуду. Глядишь, он найдется – так ты за мной пошлешь.
Он полагал просто посидеть на стуле вдали от шума и обдумать неприятное положение. Но именно там он и обнаружил князя. Голицын сидел смирно в уголке и следил, как расставляют на длинном столе посуду. Вид у него был отрешенный. Маликульмульк подошел и невольно загородил от него своей мощной фигурой половину стола.
– Что, братец, опростоволосились мы? – спросил Сергей Федорович, привычно щуря левый глаз. – Чему только эту Машку учили? Врывается, чуть не плачет, ну – малое дитя. Хорошо еще, на весь замок не прокричала, что на приеме у Голицыных итальянцев обокрали. Дивлюсь еще, что сами итальянцы с воплями в гостиную не вломились. Княгиня рвать и метать готова, а нельзя. Я, вишь, сюда от нее сбежал…
– Ваше сиятельство, это кто-то из дворни, уж не обессудьте, – сказал Маликульмульк. – Комнаты итальянцам отведены были на отшибе, но мимо них сподручно кушанья из поварни носить, свернешь в сторонку – и вот они.
– Что тебе известно про это дело? С чего ты взял, будто наши людишки согрешили?
Маликульмульк рассказал все.
– Кто-то из лакеев или даже из кухонных мужиков мог видеть ненароком, что оба Манчини вошли в комнату со скрипкой, а вышли без оной. А коли кто-то из гостей вздумал выследить скрипача, то почем ему знать, как разместили итальянцев? Квартет в это время был в своей комнате, собирал пожитки, в гостиных его, выходит, не было. Вор же не знал, что квартет помещен отдельно, а певцы и оба Манчини – отдельно. А дворовые люди, во-первых, знали это, а во-вторых, пробегая мимо, видели, кто вошел, а кто вышел.
– Резонно… – отвечал князь, сильно недовольный всей этой историей. – А для чего им такая скрипка? Если они пойдут ее продавать, то тут же их с этой скрипкой схватят и в управу благочиния препроводят. Музыкальные торговцы не дураки.
– А для того, может статься, что кому-то из них большие деньги за эту скрипку пообещали.
– Магистрат? – насторожился князь и даже чуть приподнялся над стулом.
– Магистрат? – удивился Маликульмульк и вдруг сообразил: – А отчего бы и нет? Месть мелкая и подлая, однако ж месть. Сплетен и ехидства будет на всю Ригу – у Голицыных бродячего музыканта обокрали. С них станется!
– Нет, мои людишки, может, и дураки, да верные, – подумав, возразил князь. – Да и не так долго они тут живут, чтобы к кому-то немцы ключик подобрали. Хотя, пожалуй… один-то немец в моей дворне есть…
Речь шла о враче – Христиане Антоновиче Шмидте. Это был один из тех столичных докторов-немцев, что, весь век проведя в России, по-русски и дюжины слов не нахватались. К счастью, по-французски он говорил сносно. Кто-то рекомендовал его княгине как знатока детских болезней, когда младшие мальчики были совсем крошки. Он был принят на службу, стал домочадцем, поселился в Зубриловке – и считался своим человеком в доме. Однако ж немец. Как знать, не сыскалась ли в Риге у него родня. Старику за семьдесят – одному Богу ведомо, откуда он взялся в столице и где странствовал в молодости.
– А в замке ли он? – спросил Маликульмульк. – В гостиных я его не видел, кажись…
– Да ему там и нечего делать. Ступай-ка, братец, загляни к нему в комнату. И сейчас возвращайся.
Маликульмульк поклонился и отправился исполнять приказание. Право, чем дольше слоняться по замковым коридорам – тем больше надежды, что первый гнев княгини пройдет и уже можно будет явиться к ней на глаза. Он знал эту породу женщин – смолоду бойких, а к середине жизни и под старость заматеревших, грозных и опасных. Он боялся таких женщин – боялся иногда до пота, крупными каплями выскакивавшего на лбу, до самых стыдных проявлений человеческой натуры боялся.
Он шел, а слуги, тащившие тарелки и блюда, боязливо уступали ему дорогу. Собьет этакий медведище с ног – и не заметит. Чем дальше от гостиных – тем ему делалось легче. Даже пришло в голову, что неплохо бы спрятаться в канцелярии. Там сейчас холодно, да тихо. Выкурить трубку и хорошенько подумать о случившемся.
В каждой беде есть виновник. Пока не сыщут настоящего – всякий на сию роль годится. Кто ходил приглашать итальянцев? Кто ввел их в дом? Кто должен был присматривать за ними? То-то… На него выльют первый ушат грязи. А потом, когда все утрясется, приласкают: приходи, Иван Андреич, книжку вслух почитать, мы без тебя соскучились!
Сладко быть Косолапым Жанно, у которого брань на вороту не виснет. Только не ждите от Косолапого, чтобы он написал обещанную пиеску. Его дело – сидеть за столом и есть за троих, потом – курить трубочку, забывая стряхнуть с себя клочки табака, потом – прочитать Лафонтенову басенку о причудливых зверях. И все довольны, и сам он – сыт и доволен, более ни в чем не нуждаясь…
Сладко спать в берлоге. И смотреть во сне картинки, на которых – юный господин Крылов во всем блеске скандальной славы, овеянный радужными надеждами, возомнивший себя философом, издателем, драматургом, поэтом, музыкантом, только что не певицей Лизонькой Сандуновой. Все миновало – и даже мечты о Большой Игре, обуревавшие этой осенью, малость попритихли. Даже философом сам себя Маликульмульк уже не считает – философу место в старой башне, а он как раз из башни сбежал.
Но сейчас придется пробудить в себе философа. Ибо потребна тонкость разума, тонкость и стремительность.
Какой сукин сын утащил адскую скрипку итальянского некроманта?
Маликульмульк опомнился перед самой докторской дверью. Постучал – ответа не было. Герр Шмидт или отсутствовал, или лег спать, да и пора бы – полночь близится!
А может, затаился? Прячет под тюфяк скрипку работы Гварнери дель Джезу? Нет – стоя на шатком табурете, укладывает ее на высокий шкаф. Хоть бы догадался завернуть в полотенце, что ли!
Тут пробудившийся философ задал себе вопрос: отчего похититель вынул скрипку из футляра? Не поленился, не пожалел времени, размотал три покрывала, хотя быстрее и безопаснее всего было бы унести вместе с футляром. Что значит сия причуда?
Он еще постучал в дверь. Никто не отозвался. Подозрения возникли самые неприятные – герр Шмидт должен быть готов примчаться на призыв княгини в любое время, да не в ночном колпаке, а в напудренном паричке.
И Маликульмульк пошел обратно в столовую – докладывать князю, что доктор куда-то подевался.
В гостиной князя уже не было – туда вот-вот должны были явиться гости, приглашенные к ужину. Маликульмульк догадался и поспешил к комнатам итальянцев. Там он и нашел князя вместе с его личным секретарем Денисовым.
Голицын говорил по-немецки, этот язык он знал превосходно, а певцы слушали понурясь. Маликульмульк прибыл к концу речи, но смысл ее уловил сразу: Голицын готов был отпустить итальянцев восвояси, уплатив им за выступление, но с одним условием – их вещи должны быть обысканы. Когда будет твердая уверенность, что никто из них не прячет драгоценную скрипку в своем имуществе, – тогда прибудут экипажи, и господа артисты поедут в свою гостиницу.
Князь при необходимости бывал неумолим. Маликульмульку не выпало воевать вместе с ним против турок, но он видывал князя за шахматной доской. Да и в стычках с магистратом князь показал себя серьезным противником. У итальянцев не было иного выхода – они показали свои шубы, а певицы открыли баул, один на двоих. Скрипки там, понятное дело, не нашлось. Тогда Голицын велел Денисову расплатиться с артистами, прибавив сколько полагается за беспокойство, повернулся и ушел. Этот обыск был устроен скорее ради очистки совести – теперь Голицыну было неловко, но он уже хотя бы знал, что похититель – либо кто-то из дворни, либо кто-то из гостей, и неизвестно, что хуже.
Маликульмульк остался – он пригласил сюда итальянцев, он считал своим долгом извиниться перед ними и проводить их хотя бы до дверей.
Жалко было глядеть, как Никколо складывает покрывальца своей скрипки, как запирает их в футляре. Старый Манчини подошел к нему, обнял, поцеловал и, повернувшись к Маликульмульку, сказал по-немецки:
– Это мой младший сынок, он родился таким слабеньким… Жена еле выходила его… Пресвятая Дева, что же я скажу моей бедной жене?
– Завтра же к вам пришлют хорошего доктора, – ответил Маликульмульк. – И пропажа скрипки – дело рук человеческих. Она найдется, уверяю вас.
– Нет, она уже никогда не найдется. Ее унесли духи, которые на посылках у маркиза ди Негри. Она полна жизни, а мой бедный сынок отдал ей душу… Прощайте, синьор.
– Прощайте, – сказал по-итальянски Никколо и посмотрел в глаза Маликульмульку огромными несчастными глазами – черными, как полагается итальянцу. Он и на вид был совсем хвор – еле держался на ногах.
– Мы обойдемся без провожатых, – буркнул Риенци. – Мы сами отлично усадим наших дам в экипаж, если он уже подан. Будь проклят этот замок – он погубил мальчика.
– Поезжайте сперва вы вчетвером и присылайте за нами экипаж, – по-итальянски сказал певцу Манчини. – Никколо должен выпить лекарство и немного посидеть, я хочу убедиться, что оно подействовало. Потом я привезу его.
– Тебе не следовало соглашаться на это выступление, Джузеппе, – по-итальянски же ответил Сильвани. – Никколо играл прекрасно, лучше он уже не сыграет никогда. Скрипка поняла, что больше ей здесь делать нечего, она взяла все и может возвращаться к своему сумасшедшему хозяину. Если какой-нибудь висельник восстанет теперь из могилы и будет убивать врагов маркиза – это твоя вина, Джузеппе!
Маликульмульк хотел по-итальянски же возразить, но не нашел нужных слов.
Певцы с нарочитой галантностью пропустили в дверь дам. Дораличе шла, как гренадер, задрав нос и показывая максимальную степень презрения к Рижскому замку и его обитателям. Аннунциата держалась поблизости от Никколо. Уже в коридоре она обернулась и посмотрела на Маликульмулька – он стоял в дверях и глядел вслед артистам.
Взгляд был испуганный и тревожный.
* * *
Маликульмульк остался ночевать в замке и утром был зван к завтраку.
Княгиня уже несколько остыла, но горничная Глашка, питавшая к философу некоторую склонность (совершенно невинную!) сказала тихонько, что ночью, после отъезда гостей, шуму было много. Все гостиные и прилегающие к ним помещения на всякий случай обыскали.
– Я готова биться об заклад, что это работа магистратских немцев! – сказала Варвара Васильевна. – Не удивлюсь, если сегодня же в гнусной газетенке появится известие о краже.
Она имела в виду «Rigasche Anzeigen», которую не читала – как большинство дам, не хотела пачкать пальцы в типографской краске, однако приписывала этому изданию все слухи и сплетни, гулявшие по Лифляндии и Курляндии.
– Это опасная шутка, душенька, – возразил князь. – Если скрипка будет найдена и выяснится изобретатель этой проделки, судьба его будет печальна.
– А если не будет найдена? Иван Андреич, что ты там толковал про нечистую силу?
– Ваше сиятельство, итальянцы все как один полагают, будто человек, подаривший мальчику скрипку, связан с нечистым. Якобы скрипка должна была выпить из мальчика все силы и непостижимым путем вернуться к хозяину.
– Что ж его отец, видя, как угасает дитя, не отправил тотчас скрипку обратно к тому колдуну? – спросила возмущенная княгиня. – У Голицыных, слава Богу, довольно богатства, чтобы возместить стоимость проклятой скрипки, если она пропала бесследно! Но человек, убивающий собственное дитя ради денег… Такого человека следует проучить, и проучить жестоко! Степка! Приведи немедля Шмидта! Я пошлю его к итальянцам, пусть посмотрит мальчишку! А и ты, Иван Андреич, хорош! Тебе было велено заниматься итальянцами – где ты бродил?! Отчего не с ними был?!
Маликульмульк уставился в тарелку. Он понимал, что Варваре Васильевне опять нужно выкричаться. Но умом-то понимал, а судорога, прижимающая локти к бокам и вдавливающая голову в плечи, к уму отношения не имеет – ишь, все тело поджалось, до самых тайных уголков. Мужской крик так не действовал – этого Маликульмульк наслушался за карточными столами вдосталь. А женский внушал дичайший страх, терпеть этот страх не было мочи – он вдруг вскочил и, опрокинув стул, выбежал из столовой.
Свою вину он видел ясно – должен был, должен был! Сопровождать дивное дитя с его скрипкой чуть ли не в нужник! Следить за каждым шагом! Двери перед дитятей распахивать!
А когда скрипочку оставили ненадолго в комнате – сесть у дверей на табуретку и никого не пущать! Кстати, где же болтался казачок Гришка? Это ведь ему следовало быть при итальянцах неотлучно.
Вина и негодование перемешались в голове – от сознания, что совесть все же нечиста, Маликульмульк взялся преувеличивать все, до чего дотянулась возмущенная память, и таким образом делать из себя почти что невинную жертву княгининой злобы. К счастью, хватило его ненадолго.
Он забрался в башню, в свою разоренную и потому не запертую комнату. Там он почувствовал себя в безопасности, забрался в амбразуру и кое-как умостился на узком подоконнике. Немилосердно дуло, но он раскурил трубочку и почувствовал себя гораздо лучше. Дует – и ладно, главное, что княгиня не полезет сюда по шаткой и узкой лестнице.
Но в конце концов полегчало, да и сквозняк выжил его из убежища, Маликульмульк побрел вниз. Там, в сводчатых сенях, его и отыскал взволнованный Степан.
– Иван Андреич, вы вчера лекаря нашего не встречали? Все с ног сбились, их сиятельство кричать изволят…
– Нет, – подумав, отвечал Маликульмульк. – Я даже в комнату к нему стучался – не было… А нынче – стучать пробовали?
– Стучали, так комната заперта. И никто ничего не слыхал.
Маликульмульк подошел к окну, глядевшему в Северный двор, уперся ладонями в подоконник и нахмурился; странным образом сдвинутые брови помогали размышлять. Князь посылал его поискать Христиана Антоновича сразу, как только стало ясно, что скрипка пропала. В гостиных доктора не было, в комнате не было, не на поварню же он пошел! Хотя и сие возможно: понимая, что к позднему роскошному ужину его не пригласят, Шмидт мог потихоньку поужинать на поварне, чтобы не лечь спать голодным. Сам Маликульмульк частенько туда заходил.
Он отправился на поварню – все ж таки лучше ходить и что-то узнавать, чем сидеть без дела. И оказалось, что старичка доктора там ни вечером, ни утром не видели. Это уже становилось любопытно – ради какой же прелестницы Христиан Антонович не ночевал в замке? Сие – комическая сторона вопроса. А серьезная – когда и для чего он ускользнул из замка?
Чтобы аппетиту, разыгравшемуся от волнений, зря не пропадать, Маликульмульк немного ослабил поводья своей прожорливой ипостаси, Косолапому Жанно, которого уже дня три пытался удерживать в каких-то границах. А то бы и в парадный фрак было не влезть, не говоря уж о панталонах.
– Слава те Господи! – сказал Косолапый. – А что, Трофимушка, не осталось ли каши?
Поскольку пост окончился, кашу опять варили скоромную, заправляли шкварками и салом. Трофим велел вывалить два половника в большую миску, и Косолапый Жанно приник к этой миске с вожделением.
Он уж собирался просить добавки, но на поварню прибыл гонец от княгини. Варвара Васильевна сообразила наконец, где искать пропажу. Делать нечего – Маликульмульк отправился к ней в кабинет в надежде, что она уже малость поостыла. Не тут-то было – ее сиятельство, уже без крика, но с сердитой физиономией, желали знать, чем это занимался во время приема Косолапый Жанно, раз не удосужился присмотреть за музыкантами. И вспомнили заодно, что Шмидт так и не нашелся.
– Ваше сиятельство, на поварне его со вчерашнего дня не видали. Он и ужинать не приходил, – сообщил Маликульмульк. – Боюсь – не попал ли герр Шмидт в беду.
– Какая еще беда? Я другого боюсь – не выследил ли он для кого-то скрипку. Недаром он так радовался, узнав, что мы в Ригу на жительство перебираемся! Помяни мое слово – у него есть знакомства в магистрате. И он-то доподлинно знал, где будут помещены проклятые итальянцы! И все ходы-выходы в том крыле замка знал!
Маликульмульк хотел было возразить – старичок не в тех годах, чтобы изучать средневековые закоулки, ему бы посидеть у себя в комнатке, в тепле и покое. Но не стал – возражений княгиня обычно не любила.
Тут в кабинет заглянул Гришка.
– Чего тебе? – сердито спросила Варвара Васильевна.
– Ваше сиятельство, лекарь сыскался!
– Где ж он? Вели идти ко мне!
– Он в наемном экипаже прибыл, сам хворый! Прикажете привести?
– Пусть хоть на носилках принесут!
Христиана Антоновича доставили в кабинет, поддерживая с двух сторон, – он повредил ногу.
– Доброе утро, ваше сиятельство, – жалобно сказал он по-французски.
– Где ж ты, мой друг, пропадать изволишь? – нелюбезно спросила княгиня.
– Меня обокрали, едва не убили…
История вышла такая: зная, что во время приема всем будет не до него, Христиан Антонович самовольно, никому не доложившись, решил навестить свою старенькую вдовую кузину, жившую тут же, в крепости, на покое при дочке и внучках. Он для такого случая купил гостинцы и принарядился – в новую меховую шапку и в замечательную шубу, которую князь Голицын и двух зим не проносил – для рижской погоды она показалась ему тяжеловата, и он велел купить новую, а эта оказалась в самый раз зябнущему от старости Шмидту, и сама княгиня ему сие сокровище вручила – о домочадцах она, как всякая русская барыня, привыкла заботиться едва ли не по-матерински. Эту долгополую лисью шубу, крытую дорогим и приметным синим сукном, отделанную шнурами, он уже надевал несколько раз для прогулок и выступал в ней по замковой площади очень гордо.
Кузина жила в самом конце Господской улицы, неподалеку от почтамта. Человеку, чтобы не хворать, нужен променад – и Христиан Антонович отправился туда пешком, бережно неся узелок с гостинцами. Он рассудил так: поужинать у кузины с семейством, а затем неторопливо вернуться обратно в замок, также пешком. Все соответствовало плану – вот только, когда он уже вышел из дома кузины и прошел шагов с полсотни, на него напали злоумышленники, забили ему рот снегом, повалили, сдернули с головы шапку и вытряхнули старичка из шубы. Он остался лежать на снегу, а как попытался встать – понял, что с коленом неладно. Кое-как, ползком, он вернулся обратно к кузине. Отыскать извозчика с санями в этой части крепости и в такое время было невозможно, бежать в часть женщины побоялись – ну как в темноте и на них нападут? До утра доктор оставался у кузины, там же обнаружилось, что у него жар. Но он требовал доставить себя обратно в замок – и к обеду, завернувшись в одеяла, все-таки прибыл.
Выслушав эту печальную историю, Варвара Васильевна помрачнела. И шубы ей было жалко, и доктора. И зло брало – да что ж за город такой?!. Раз лишь собрались повеселиться – и тут же столько злоключений! Велев Христиану Антоновичу отправляться к себе в комнату и лечиться, она задержала Маликульмулька в кабинете.
– Ступай, Иван Андреич, к князю в кабинет, доложи, пусть вызовет обер-полицмейстера да взгреет его хорошенько! Чтобы тот хорошего сыщика прислал. И надо ж, чтобы обе эти беды – в один вечер!
Маликульмульк ничего не ответил. От слов княгини у него зародилась мысль – совпадение злоключений не случайно, что-то их объединяет. И что бы это могло быть – он придумал почти сразу. Да только выдумка нуждалась в проверке.
– Ваше сиятельство, а не может ли быть так, что эти две беды между собой связаны? – спросил Маликульмульк.
– Это как же?
– А так – некто, отняв шубу у Христиана Антоновича, нахлобучил шапку да проскочил мимо охраны. Солдаты, стоя на посту, видели, что доктор вышел, а теперь вон – вошел. Темно, метель – кто приглядываться станет? Шуба вышла – и шуба вошла. Таким образом в замке во время приема оказался совершенно посторонний человек, который давно уже положил глаз на скрипку Гварнери.
– А как он ушел из замка?
– При общем разъезде мог выскочить. И вынести скрипку под шубой. Ведь гостей не обыскивали – он мог присоединиться к компании тех же гарнизонных офицеров и проскочить мимо часовых вместе с ними, благо они в Цитадель, как мне кажется, вернулись пешком…
– Допросить часовых! – воскликнула княгиня. – Немедленно! Ступай, Иван Андреич, к князю! Коли ты прав и на след скрипки напал – сумею наградить!
– Напал-то напал, – пробормотал Маликульмульк, – да как заставить полицию искать того злоумышленника? Отопрутся – невозможно-де изловить того, кто мелькнул и пропал. И будут правы.
– Злоумышленник не дурак, постарается избавиться от шубы, – резонно заметила княгиня. – Пусть сыщика ко мне пришлют, я все приметы ее знаю! Найдется шуба – найдется и вор. Ступай скорее, медлитель! Фабий Кунктатор!
Но это уже не было руганью – в устах Варвары Васильевны это было тонкой шуткой. Женщина образованная, да еще вынужденная следить за образованием сыновей, всех поочередно, она просто не имела возможности забыть римскую историю и всех прославленных полководцев; но, как всякая светская дама, она запоминала не общий ход древних событий, а какие-то отдельные сведения, связанные с именами: Гай Юлий Цезарь и мартовские иды, Антоний и Клеопатра, Ганнибал и слоны, полководец Максим Фабий Кунктатор – и его потрясающая медлительность, как будто он надеялся, что армия Ганнибала как-то изничтожится сама собой…
Выслушав Маликульмулька, князь Голицын невольно рассмеялся.
– Так, выходит, главная виновница – моя шуба? И с нее весь спрос? Мысль диковинная – но княгиня права, такое возможно… Хорошо, ступай-ка, братец, подготовь письмо к коменданту – пусть пришлют в канцелярию вчерашних часовых.
С этими часовыми насилу управились – они были смертельно перепуганы приказанием явиться к самому генерал-губернатору. Было их четверо – двое стояли у Северных ворот, двое – у Южных в особых полосатых будках, предохранявших от снега и дождя. Солдат, которые обыкновенно несли караул у замка, старались занимать только этой службой – они должны были знать всех, кто проходит или проезжает в ворота, в лицо.
В канцелярии было пусто – ради Святок князь пожалел канцеляристов и велел отдыхать до Васильева дня. Все равно – вряд ли из столицы придут в эти дни какие-то важные депеши и циркуляры, двор и государь веселятся, всем не до дел. А если магистрат изобретет очередную пакость – так пусть ждет с этой пакостью, пока князь Голицын догуляет Святки.
Гарнизонные солдаты побаивались князя не потому, что имели на то основания: он, взяв под свое начало край, в коем девяносто лет не было войн, да и не предвиделось, пока не был строг с гарнизоном. Их смущал и пугал левый прищуренный глаз, придававший княжескому лицу, довольно благообразному, какое-то изощренное ехидство. Голицын выдумал этот прищур потому, что левый глаз немилосердно косил, и полагал, что так оно будет лучше. Судя по тому, что одна из первых придворных красавиц влюбилась в него и настояла на браке, выдумка оказалась удачной, да и брак – прочным.
Часовые эти были – молодцы, один к одному, из недавно расформированной гренадерской роты. Их уже обмундировали на новый лад – в белые штаны и камзолы, без петлиц на рукавах зеленых мундиров и обшивки на шляпах, зато с оранжевыми обшлагами, как полагалось издавна в Булгаковском полку, который ныне назывался просто Рижским гарнизонным. А вот шинели были павловские, добротные, и зимние цигейковые жилеты под мундир – тоже павловские.
– Немца-доктора все помнят? – спросил князь. – Того, что в шубе, крытой синим сукном, ходит?
– Никак нет, ваше сиятельство! – бодро ответил тот из солдат, что посмелее. – И знать не знаем!
– Шмидт редко выходит, и может статься, что именно эти молодцы его ни разу не встречали, – догадался Маликульмульк.
– Так, значит, они его и не впустили бы в замок, – сказал князь. – Но я этих ребятушек знаю – толку от них не сразу добьешься. Сам служил – изведал, каково с солдатом беседу вести. Так что спросим еще раз, попроще. В замке живет немец-старичок, моего роста. Иногда выходит на прогулку. Припомни-ка, братец, иные приметы, кроме шубы. Трость он носит?
– Как же без трости! Носит, конечно, – подтвердил Маликульмульк. – Седенький, волос не пудрит…
И задумался – хоть тресни, не мог описать словами личность Шмидта. Стоило столько лет литературе посвятить!.. Вдруг его осенило. Несколько лет назад он считался неплохим рисовальщиком. Как-то получилось, что в странствиях своих он рисование забросил – дивно еще, что скрипку не проиграл. Тут же Маликульмульк отыскал карандаш и набросал давно знакомое лицо на четвертушке бумаги.
– Ах, этот? Этого знаем, – подтвердили солдаты. – Этот по площади гулять изволит.
– Слава те Господи! – с некоторой иронией заметил князь. – Как выпал снег, он стал выходить в богатой лисьей шубе. Шуба синим сукном крыта – вспомнили?
– Синим? – и тут осмелевшие часовые даже заспорили. Почему-то одному казалось, что шуба была зеленая, другому – что вовсе черная. Князь жестом удержал Маликульмулька от язвительных замечаний.
– Это и с посланными в разведку случается, – тихо произнес он. – Дело житейское.
– Ваше сиятельство, разрешите доложить, я этого господина вчера видел, как он из ворот выходил, – вспомнил наконец самый спокойный из часовых. – Точно – был в шубе. Уж стемнело, какого цвета шуба – Бог весть, а лицо я видел, ей-Богу.
– Вспоминай дальше, голубчик. Ушел он перед тем, как стали съезжаться гости. А когда вернулся? – спросил князь.
– А он и не возвращался, ваше сиятельство.
– Точно ли не возвращался?
– Христом Богом! – часовой перекрестился.
– Ну, вот и рухнула ваша с княгиней выдумка, – сказал князь Маликульмульку. – Досадно.
– Самому досадно, ваше сиятельство, – Маликульмульк громко вздохнул. – Ну что, отпустим их с Богом?
– Да, конечно, ступайте в казармы, – велел солдатам князь.
Маликульмульк вышел вслед за ними и проводил до лестницы. Тут какая-то вышняя сила задержала его – вместо того чтобы вернуться, он немного задержался и услышал речи солдат, спустившихся на один пролет и уверенных, что господин начальник канцелярии их подслушать не может.
– Что ж ты, Иванец, не сказал про того мазурика в шубе? – спросил кто-то из незримых часовых.
– Да ну его! Расскажешь – ввек потом не расхлебаешь. Отчего не задержал да отчего не доложил.
– Так шуба-то – доподлинно синяя была?
– Синяя, я чай. Молчи, Байков, мало ли господ в таких шубах ходят? Молчи, понял, дурак?
Маликульмульк не умел приказывать людям. Но тут, хошь не хошь, приходилось.
– А ну-ка стойте! – крикнул он не очень уверенно. – Воротитесь сейчас же!
Незримые солдаты вмиг замолчали. Но несколько раз скрипнула лестница – видать, они, как дети малые, пытались спуститься на цыпочках.
Маликульмульк своей тяжкой поступью сбежал к ним.
– Что за мазурик в шубе? – спросил он, пытаясь придать голосу и взору суровости.
– Да хотел один проскочить в Северные ворота, да кто ж его пустит? – отвечал бойкий Иванец. – Он чушь городил, да и мы не лыком шиты – остался на площади, да и с шубой своей вместе.
– Так для чего ж это скрывать было?
– А для того, что сказывал, будто в замке его ждут, и поименно называл его сиятельство, ее сиятельство да господ офицеров.
– И не впустили?
– Не велено. У Южных ворот вон вместе с Байковым их сиятельств человек стоял с бумагой, по бумаге впускал. Мы ему туда идти сказали.
– Данилов, что ли? Говори, Байков!
– Может, и Данилов, – помедлив, ответил солдат. – Мы его знаем, он с их сиятельством часто выезжает. Да только ко мне тот господин в шубе не подходил. Может, передумал. А может, Боже упаси…
– Что?
– Может, к кому-то в экипаж напросился. Мы-то в экипажи не глядели, а тот господин только у кучера спрашивал, кого везет. Вот оно и получается…
– Доложить-то следовало, теперь сами видим…
– Так русский человек задним умом крепок…
– Значит, этот господин мог попасть в замок? – спросил Маликульмульк.
– Получается, что мог…
– Раз уж так сюда рвался…
– Вот ведь какие вы чудаки… Пошли наверх. Да пошли, чего вы стали?
Маликульмульку с большим трудом удалось уговорить испуганных часовых. И то – не благородные соображения повлияли, а обещание, что их сиятельство даст полтину на пропой.
– Положение начинает проясняться, – сказал, выслушав часовых, Голицын. – Коли он и впрямь напросился в карету, значит – человек здешний и с нашими немцами хорошо знаком.
– Отчего ж с немцами, а не с гарнизонными офицерами?
– Те бы личность, приглашения не имеющую, с собой в замок не взяли… по крайней мере, я желал бы в это верить… – князь усмехнулся, но как-то горестно, без задора.
– Ваше сиятельство, нужно спросить вашего Никитку и Юшку – они шубы у гостей принимали. Может, вспомнят шубу-то – вы ж ее сами носили?
– Но прежде всего нужно послать в Управу благочиния. Напиши-ка ты, братец, записочку на имя обер-полицмейстера, а я подмахну. Пусть оба дела заодно расследуют. Вот ведь чертова скрипка… Может, и впрямь в ад упорхнула? Злые духи унесли?
Маликульмульк лишь пожал плотными круглыми плечищами. Будучи вольтерьянцем и либертином, но уж никак не масоном, он признавал Господа как некое верховное существо, но место злым и добрым духам, сильфам, ундинам и гномам, определял в фантастических сказках, готических романах и собственной «Почте духов», не более.
Он сел писать записку в Управу благочиния, а князь пошел в свой кабинет.
Отправив с курьером записку, Маликульмульк задумался – что же теперь предпринять? По всему выходило, что он бессилен: полицейские сыщики умеют добывать сведения, это их ремесло. И, может статься, они уже что-то отыскали, потянули за ниточку, ведь приказ искать скрипку был получен с утра. Получен – а дальше?
Вражда с магистратом, которая уже укоренилась в Маликульмульковой душе, тут же дала ответ. Дальше – полицейские, которых магистрат давно уж прикормил, посмеются меж собой, до чего же поганая история случилась с генерал-губернатором, а действовать будут, как прикажут кормильцы-ратманы. Ибо генерал-губернатор сегодня сидит в Рижском замке, а завтра его отправят турок воевать, ратманы же и четыре бургомистра избираются пожизненно; и чья благосклонность важнее?
А тот же Бульмеринг, да что вредный Бульмеринг – тот же Барклай де Толли, так сладко ворковавший вчера с княгиней, узнав о похищении скрипки, не заорет: «Что за безобразие?! Сыскать вора немедля!», – а скажет в приватной обстановке: ах, как жаль бедного князя Голицына, ах, как неудачно завершился прием… И – все, других распоряжений умному полицейскому не требуется. Вот шубу, пожалуй, искать станут, ибо шуба пропала не в замке, а в крепости. Даже найти могут…
Поразмыслив, Маликульмульк понял, что лучше бы убраться из замка, пока княгиня о нем не вспомнила. Угодно ей считать его виновником покражи скрипки – тут ничего не поделаешь, будет считать. И единственное, что можно предпринять, – скрыться с глаз долой. Маликульмульк даже придумал, куда пойти. За всей суетой, связанной с приемом, он совсем забыл про Гринделя. А к тому наверняка уж приехал Паррот. В обществе благовоспитанных людей можно немного прийти в себя.
Перед тем как покинуть втихомолку замок, Маликульмульк заглянул к Христиану Антоновичу. Старичок лежал совсем один, под двумя перинами, всеми забытый – кому дело до больного доктора, когда хозяйка буянить изволит? Пообещав принести лекарства, Маликульмульк вышел Северными воротами и поспешил к аптеке Слона.
Большая Замковая, по которой он шел, была улица, для Рижской крепости довольно широкая и богатая. Маликульмульк с удовольствием поглядывал на витрины дорогих лавок и даже на женщин, хорошо одетых и оживленных, что невольно замедляли шаг у этих витрин. Родилась отличная мысль: пригласить Гринделя с Парротом пообедать. А если с Парротом его дети – тем лучше. Любопытно поглядеть, каких мальчиков воспитал этот человек.
Вдруг две прехорошенькие бюргерши, шедшие навстречу Маликульмульку, переглянулись, подтолкнули друг дружку локотком и перебежали на другую сторону Большой Замковой. Маликульмульк удивился – такого с ним еще не случалось. На всякий случай он оглянулся – не идет ли следом урод, испугавший красоток. И увидел мужчину в черной шубе и черной шапке, мрачного, как выходец с того света. Этот господин так глядел исподлобья, словно собирался непременно сегодня кого-то зарезать, только еще не сделал выбора.
Маликульмульк невольно ускорил шаг – меряться грозными взорами ему не хотелось. И лишь пройдя, почти пробежав, два десятка шагов, вспомнил: да ведь этого господина он уже встречал на Ратушной площади. И до того, в столице, в типографии Брейткопфа, коли память не врет.
Вроде он ничем этого хмурого господина не обидел, и тот его не обидел. Врагов своих Маликульмульк знал в лицо и поименно, список этот держал в голове лет семь по меньшей мере и вычеркнул пока лишь два имени – покойную государыню Екатерину, которая обошлась с ним неожиданно мягко – если вспомнить все его петушиные наскоки, и Якова Борисовича Княжнина, царствие ему небесное. Прочих прощать пока не собирался. Смерть давнего неприятеля была загадочна – чуть ли не после пыток в застенках Тайной канцелярии скончался, угодив туда из-за своей трагедии «Вадим». Правда иль нет – уже не докопаешься, да и мятежную трагедию государыня велела публично сжечь два года спустя после смерти автора. Однако ж два затейника, Крылов и Клушин, в журнале «Меркурий» целый панегирик Княжнину тиснули – хотя пьеса обоим не понравилась. До чего ж велика была страсть противоречить – и самому не верится, что считался когда-то записным бунтовщиком… все перегорело, один дым да зола, и тело, утратившее дух, шепчет: ну что еще осталось, кроме как позволить добрым людям кормить себя и забыть навеки и о прошлом, и о будущем?..
Решив, что чудак, возможно, страдает несварением желудка, Маликульмульк дошел до угла, свернул к Домскому собору, обогнул его и оказался на Новой улице, а там уж до аптеки было – менее полусотни шагов.
Уже взявшись за дверную ручку, он обернулся.
Господин в черном выглядывал из-за угла. Стало быть, проводил. Вот это уже занятно, ибо Маликульмульк – не барышня на выданье и даже не хорошенькая вдовушка.
– Добрый день, милый друг! – приветствовал его Давид Иероним. – Заходите, расстегивайте шубу! Карл Готлиб, кофею для герра Крылова!
– Добрый день, но прежде всего дело. У нас в замке доктор заболел, нужно лекарство от жара. Про клюквенный морс я и сам знаю. Микстур, шариков каких-нибудь, травок…
– А он сам не сказал вам, что надобно?
– Он в жару, не смог выписать рецепт. Я бы еще взял для него бальзама, белого или черного. Они на таком множестве трав настояны, что должны помочь.
– Я слыхал, у вас есть средство наподобие наших бальзамов.
– Еще бы не быть. В Москве в москательных рядах продается смесь разных трав в фунтовых картузах, – сказал Маликульмульк. – И туда ж подмешано померанцевых корок. Называется – набор. Если на этом наборе настоять водку, то выйдет тот самый знаменитый «Ерофеич», который вошел в моду при покойной государыне, кто только им не лечился… Но я не привез набора, а если бы и привез – нет времени готовить настойку.
– Сейчас найду вам все нужное. Говорите, жар?
Маликульмульк, усевшись в кресло, наконец вздохнул с облегчением. Здесь он чувствовал себя как в раю – хотя для Косолапого Жанно раем была бы поварня в «Петербурге», но для философа Маликульмулька – именно это небольшое помещение, теплое и чистенькое, пропахшее травяными ароматами, с рядами белых фаянсовых банок на полках, и на каждой банке – надпись причудливыми немецкими буквами или просто картинка. Здесь было хорошо, здесь было безопасно, никто не посмел бы не то что закричать – а сердитое слово сказать.
– Паррот, надеюсь, еще не уехал? – спросил Маликульмульк.
– Нет, я жду его. Мы сегодня немного поработаем.
– Он придет с детьми?
– Да, конечно. Мальчики будут помогать. Я сам слишком поздно попал в лабораторию и до сих пор это ощущаю. Ремесло следует любить с детства. Вы ведь рано начали сочинять?
– Да, примерно в том возрасте, что сыновья Паррота.
– Вот видите.
Давид Иероним знать не желал, что Маликульмульк более не пишет. Было ли это с его стороны простой бездумной любезностью, истинным милосердием или попыткой пробудить в Маликульмульке совесть, – понять по его приветливому лицу было совершенно невозможно.
– Чем завершились ваши опыты с соленым картофелем?
– Подождите, придет Георг Фридрих – он объяснит, чем они завершились. Главное – наши результаты совпали. Мы вместе начали новую серию опытов. Карл Готлиб! Ты не заснул ли часом?
Мальчик отозвался из-за двери – обещал немедля подать кофей со штруделем. Слово «штрудель» очень обрадовало Косолапого Жанно, чуть ли не до истечения слюнок на подбородок. И Косолапый был прав – следовало срочно заесть все неприятности чем-то вкусным.
– Карл Готлиб! – крикнул он. – Ступай сюда! Я дам тебе денег – выбежишь на Ратушную площадь и купишь пряников и перечного печенья!
– Но сперва – кофей! – распорядился Давид Иероним. – Не хотите вместе со мной заглянуть к герру Струве? Я предупреждал его, что ему нельзя есть жирное, да он и сам это знает. Извольте радоваться – любящая супруга уговорила его съесть огромный кусок жареного поросенка. Хорошенький подарок на Рождество! Вот еще один случай в мою копилку.
– Что вы собираете?
– Неприятности, которые дамы причиняют мужчинам, – и тут Гриндель рассмеялся. Маликульмульк отметил – Давид Иероним впервые дал понять, что его одиночество объясняется давним и неудачным любовным приключением. Но думать об этом не стал, потому что вспомнилась Варвара Васильевна. А где княгиня – там и скандальная пропажа дорогой скрипки…
Встал вопрос: рассказывать ли про эту беду Гринделю и Парроту?
Как бы ни хотела княгиня утаить неприятность от рижан, а раз привлекли к розыску Управу благочиния – к вечеру об этом будет знать вся крепость, наутро – предместья. Догадавшись, что прием в Рижском замке обсуждается всеми водовозами, Варвара Васильевна снова придет в бешенство и ткнет перстом в виновника кражи, в разгильдяя, который не уследил за синьорами Манчини и скрипкой в их руках.
Давид Иероним простодушен, но добр и умен. Паррот строг и в строгости своей жесток – не терпит рядом с собой пороков. Но Паррот способен стать опорой слабому, этого у него не отнимешь. Однажды эти двое бескорыстно помогли недотепе-философу; может статься, и от смерти спасли.
Стало быть – осталось лишь дождаться.
Паррот со своими мальчиками пришел, когда были съедены и штрудель, и пряники, а сюртук Маликульмулька покрылся едва ли не вершковым слоем крошек от перечного печенья.
– Герр Крылов? С минувшим Рождеством вас, – сказал Паррот. – Давид Иероним, собирайся, мы идем в «Лавровый венок». Присоединяйтесь, Крылов. Мы обошли все балаганы на эспланаде и так проголодались, что съели бы жареного кабана.
Крылов улыбнулся мальчикам – Вильгельму Фридриху, которому в январе должно было исполниться двенадцать, и десятилетнему Иоганну Фридриху. Оба уродились в отца – эта нездешняя смуглость, которой не даст летний загар, эти очертания щек и черные внимательные глаза; мальчики должны были вырасти красавцами. Надо же, как распорядилась судьба: Паррот всего на год старше, а сыновья уже большие. Еще лет пять-шесть – взрослые, а он – еще молод, бодр и крепок, с таким сухим телосложением люди долго живут без болезней. А ведь когда Георг Фридрих женился, наверняка нашлись умники, твердившие: «Куда ты торопишься?» Маликульмульк должен был жениться смолоду – хотя неведомо, удержала бы его Анюта от карт. Когда все, во что ни ткни пальцем, разладилось, ни одна мечта не сбылась, может ли даже самая добродетельная жена удержать мужа от единственного, в чем ему видится развлечение и даже спасение? А ведь Анюта была тогда почти ребенком, и под силу ли ей было справиться? Господь уберег Анюту от мужа-философа, нахватавшегося карточных кундштюков у бывалых шулеров…
– Я рад вас видеть, Георг Фридрих, – сказал Маликульмульк. – Присядьте, я хочу кое-что рассказать вам и Давиду Иерониму.
– Похоже, дело серьезное? – спросил Паррот.
– Увы. Попал я в лабет, – сказал Маликульмульк, нарочно употребив французское картежное словцо.
– Ла бет? То есть животное? Скотина? – уточнил Гриндель. Маликульмульк усмехнулся.
– Сейчас видно, что вы не играете в бостон. Когда в бостоне кто из игроков оконфузится, обремизится, то именно так прочие говорят. Либо – «посадили в лабет».
– Так вы, любезный друг, сами туда попали или вас посадили? Тут, согласитесь, большая разница.
Маликульмульк рассмеялся – но смех получился невеселый.
– Сам, надо полагать…
Он не думал, что на рассказ о пропаже скрипки уйдет менее двух минут. Видимо, твердый и спокойный взгляд Паррота препятствовал многословию. Опять же – и вопросов физик не задавал, пока Маликульмульк не замолчал.
– Стало быть, злые духи унесли скрипку работы Гварнери дель Джезу? – спросил Паррот.
– Итальянцы уверены в этом. А мы… мы не знаем, с какого конца взяться за дело. Вынести инструмент мог кто-то из гостей – но ему пришлось бы красться по коридорам, где ходит только дворня, без всякой уверенности в успехе. Мог подкупленный дворовый человек – но Голицыны в своих людях уверены, впрочем… впрочем, ничего в этом сверхъестественного нет. Мог – тот подлец, что отнял шубу у бедного Шмидта и пытался пробраться в замок, притворившись доктором. На полицию надежды мало – разве что случайно нападет на след похитителя шубы.
– Какая отвратительная история! – воскликнул Давид Иероним, слушавший Маликульмулька, приоткрыв рот. – Его сиятельству только такой неприятности недоставало…
– Да, это может оказаться интригой против Голицына, – согласился Паррот. – Но уж больно мудрено. Давайте вообразим вашу беду в виде веревки. На одном конце – итальянец, лишившийся скрипки. Смею напомнить, что обокрали все же не князя, а скрипача. А на другом – некто, желавший любой ценой получить скрипку работы Гварнери дель Джезу. Давид Иероним, как вы полагаете, играли ль когда в Доме Черноголовых на столь дорогом инструменте?
– Понятия не имею. Тут не меня нужно спрашивать. Если хочешь, я зайду в Дом Черноголовых – там наверняка кто-то есть.
– Нет, в Дом Черноголовых зайду я с мальчиками. Разбойники, вам хочется узнать про украденную скрипку?
Они дружно закивали.
– Ну вот, сами и будете спрашивать. По дороге придумаем вопросы… Вилли, что в науке главное?
– Правильно поставить вопрос!
Паррот кинул взгляд на Маликульмулька, но что это был за взгляд! Никакая философия не нашла бы аргумента против отцовской гордости – и Маликульмульк снова подумал, что жизнь не заладилась именно с того дня, когда он грубо ответил на письмо родителей Анюты. Были бы сыновья – он удержался бы от карточной игры… впрочем, теперь это все уже не имеет никакого значения…
– Ты, Давид Иероним, загляни-ка к фрау фон Витте. Она дама светская, сообразит, у кого спрашивать о скрипках. Кроме того, она знает наперечет и лифляндских, и курляндских меломанов… Не удивляйтесь, Крылов, ради того, чтобы послушать дивное дитя, любители могли приехать и из Вольмара, и из Либавы, о Митаве уж молчу. Путешествовать в такую погоду – одно удовольствие. Значит, договорились?
– А я? – жалобно спросил Маликульмульк.
– А вы – в «Лавровый венок», заказывать обед. Для моих разбойников пусть приготовят жареную зайчатину. Мне – тарелку «винеров» с тушеной капустой.
– Мне – «франкфуртеров», – добавил Гриндель. – На месте разберетесь, какое блюдо лучше всего удалось, и его тоже закажете. И по кружке глинтвейна.
– И две миски горячего пивного супа, – сказав это, Паррот строго посмотрел на мальчиков. Они запечалились – как, наверно, все на свете ребятишки, Вильгельм Фридрих и Иоганн Фридрих не любили похлебок.
– И свиных ребрышек, – сжалившись, добавил Паррот. – Карл Готлиб! Позови Теодора Пауля, пусть останется пока за прилавком.
Гринделя нисколько не смутило, что друг распоряжается вместо него в аптеке. Все пятеро вышли – и разом глубоко вдохнули: морозный воздух и легкая метелица были прекрасны.
На Ратушной площади еще стояли киоски, маленький Иоганн Фридрих устремился туда, где толпились дети, Паррот пошел следом, и пока Маликульмульк провожал его взглядом, куда-то подевался Гриндель. Маликульмульк завертел головой – и встретил взгляд.
Господин в черном стоял у ратуши и глядел на него.
С этим нужно было что-то делать. Философу, допустим, начхать, что за ним бродит по крепости некое привидение с постной рожей. Но начальник генерал-губернаторской канцелярии должен разобраться, что это значит. В городе, где замок – едва ль не на осадном положении и магистрат ждет от князя Голицына промашек, на которые можно многословно жаловаться в столицу, волей-неволей приходится осторожничать.
Решение Маликульмульк принял быстро: хватит притворяться, будто нет никакого преследователя, а нужно просто подойти и спросить, что ему надобно. Если же господин в черном не сумеет дать внятных объяснений – за шиворот свести его в часть! (Во время странствий Маликульмульку как-то пришлось выставлять из комнаты проигравшегося и вздумавшего лезть на всех с кулаками дуралея, и он знал про себя, что как следует ударить – вряд ли сможет, сидит в нем странный и порой обременительный запрет на удары, а куда-то отволочь, пустив в ход не злость, а всего лишь природную силищу, – вполне!)
Он медленно пошел к господину в черном. Тот ждал, не двигаясь с места. И когда Маликульмульк приблизился, губы дернулись, приоткрылись – родилась явно непривычная этому лицу улыбка.
– Чем я привлек ваше внимание, сударь? – сердито спросил Маликульмульк, отчего-то по-русски. – Отчего вы ходите за мной следом? Чего вы от меня хотите?
– Теперь я вижу, что не ошибся и это действительно вы, господин Крылов. Простите великодушно – я не мог поверить, что вы явились в Ригу в столь значительном чине. Я собрал сведения, убедился, что это точно вы. Я искренне рад за вас. Вы мне всегда были симпатичны.
– Но кто вы? – Маликульмульк был удивлен до крайности и словами, и русской речью. – Мы, кажется, встречались в столице у Брейткопфа, но это было, это было…
– Именно так – и было даже недавно, сие слово не подходит. Коли вы занимались переводами, то должны помнить, как трудно порой из полудюжины слов найти истинное, не так ли?
Маликульмульк немного смутился. Ему показалось, что господин в черном намекает на куски из книги известного либертина, маркиза д’Аржана, которые он старательно перевел и вставил в свою «Почту духов».
– Да, пожалуй, – отвечал он. – Коли недавно, то когда же?
– Вы еще не догадались? Я полагал, что вы, испытав то же, что и я, ощутили это чувство, сопровождающее миг… Или вы не столь остро воспринимаете события? Да, есть счастливцы, которые умирают в бессознательном состоянии и не ощущают мук, которые испытывает тело, когда душа прорывается сквозь плоть ввысь…
– Вы говорите странные вещи, – уже начиная беспокоиться, произнес Маликульмульк.
– Нет, ничуть. Я вижу в вас друга, товарища по былым несчастьям и сподвижника в жизни нынешней. Еще немного – и вы все поймете.
– Да кто же вы, сударь?
– Вы не можете вспомнить мое прозвание – значит, невелика ему цена. Допустим, я Иванов. Но я помогу вам – мы не у Брейткопфа встречались, а у Рахманинова в типографии, когда вы, господин Крылов, затевали с ним издавать «Почту духов». Теперь начинаете припоминать?
Маликульмульк не ответил. Воспоминание действительно возникло, очень яркое, и тут же стало таять, да и не таять – а распадаться на кусочки, и несколько сердцевинных, вылетев первыми, сделали мгновенную картинку неразборчивой и бессмысленной. Нужно было снова собрать их вместе – вернуться к озарению через усилие ума, пронизывающего память в поисках кусочков-беглецов.
– Ничего, мы еще встретимся и обо всем потолкуем, – пообещал господин в черном. – Мне, честно вам скажу, не слишком приятно будет вспоминать минувшую жизнь. Но ради друга чего не сделаешь… ради друга, который прошел тем же путем… Мы просто обречены сделаться друзьями.
Во взгляде были печаль и нежность.
– Кто вы и откуда? – не на шутку встревожившись, спросил Маликульмульк.
– Я ж ясно толкую – с того света…
Глава 3
Нежданный помощник
В «Лавровом венке» собралось немало народа, и Маликульмульк, не зная, как уберечь места за столом, снял шубу и уложил ее на скамью и стул. Да и от шубы приходилось отгонять нахалов. Молодые рижские бюргеры и айнвонеры на досуге были очень шумливы и даже дерзки. Кельнер, выслушав его, сгинул, и Маликульмульк чувствовал себя неловко: Паррот подумает, что генерал-губернаторскому секретарю нельзя доверить даже заказ тушеной капусты.
Пришел Гриндель, уселся рядом и доложил: фрау де Витте уехала в Митаву, но дома ее старшая племянница. Девушка утверждает, что в последние три-четыре года никто в Доме Черноголовых на прославленных скрипках не играл. Приезд Никколо Манчини с его инструментом вызвал волнение среди рижских меломанов – и даже людям, равнодушным к музыке, захотелось послушать, как звучит пресловутый шедевр Гварнери дель Джезу.
– Правда, я не знаю, что нам это дает, – сказал Давид Иероним. – Разве что составить список из нескольких сотен фамилий, куда войдут люди, посетившие концерты Манчини, чтобы услышать не только виртуоза, но и звучание скрипки.
– И я не знаю, для чего это герру Парроту. Где ж он пропадает?
– Не волнуйтесь, все равно кушанье еще не подано.
Паррот с мальчиками явился, когда капуста с «винерами» и миски с горячим пивным супом уже стояли на столе. Паррот хмурился, дети были безмерно счастливы.
– Что вы там видели, Ганс? – спросил Гриндель младшего.
– Итальянскую певицу! – доложил мальчик. – Она сама подошла к нам! Мы искали господина Манчини, и она сказала, что он с сыном в гостинице. Тогда мы спросили, не нашлась ли скрипка. Она сказала – нет, не нашлась, и спросила нас, на чем мы играем. Там стоят клавикорды, я сыграл песенку о розе, а она пела – по-немецки! Я два раза сбился, но она…
– Хватит, Ганс, садись и ешь, – велел ему озабоченный отец. – И ты ешь. Нельзя же питаться одними пирожками. Послушайте, Крылов, в краже скрипки явно замешаны итальянцы – итальянка чересчур страстно пыталась нам помочь. А дамы так себя ведут, когда хотят выпытать сведения.
– Которая из двух? – спросил Маликульмульк. – Одна – высокая, как гренадер, и черноволосая, другая – обычного дамского роста, а волосы у нее чуть темнее, чем у Давида Иеронима. И она белокожая, что удивительно…
– Вторая. Вилли придумал хороший вопрос: не предлагал ли кто-то за скрипку хороших денег? Я задал его. Она сказала, что не предлагали, итальянцы уже догадались расспросить об этом Джузеппе Манчини. Я хотел поговорить со служителями, которые переставляли скамейки. Это почтенные старики, которые там кормятся чуть не со шведских времен и знают все слухи. Но любезная итальянка меня к ним близко не подпустила, а все твердила какую-то ерунду. Ешьте, пока не остыло!
– У вас – итальянка, а у меня – выходец с того света, – сказал Маликульмульк. – Давид Иероним, как в Риге обращаются с сумасшедшими? Где их держат, кроме смирительного дома в Цитадели?
– В богадельнях, конечно. Вот возле Иоанновской церкви – Николаевская богадельня… Полагаете, сбежал? Во что он был одет? – с большим любопытством спросил химик.
– Одет-то он как раз был прилично. И говорил по-русски как столичный житель.
– И представился выходцем с того света?
– Да.
– Как он догадался, что с вами следует говорить по-русски? – спросил Паррот, не донеся до рта горячий лоснящийся «винер».
– Это – самое занятное. Он выслеживал меня, чтобы со мной познакомиться.
– Давно ли?
– Вы полагаете, это связано со скрипкой? Впервые я его заметил перед Рождеством, – ответил Маликульмульк. – А сегодня он соблаговолил ко мне подойти – сперва проводив меня от замка до аптеки.
– Ешьте суп, он сытный и полезный, – велел детям Паррот. – Кто не съест всю миску, тот не получит свиных ребрышек. Мог ли кто-то из итальянцев тайно вынести скрипку из замка?
– Нет, их прежде, чем отпустить, обыскали.
– Всех? И женщин?
– Нет, не всех, – подумав, сказал Маликульмульк. – Квартет, который всюду ездит с дамами-итальянками, уехал раньше, когда скрипка еще была на месте. Точнее, его пришлось выпроводить раньше, потому что музыканты напились.
Он усмехнулся и добавил по-русски: «в зюзю». А потом кое-как перевел эту самую «зюзю» на немецкий, изрядно насмешив мальчиков.
– Кто бы ни был вор, он не стал уносить скрипку только потому, что ему нравится воровать, хотя и такое случается, – Паррот задумался. – Нет, здесь мы ни до чего хорошего не договоримся, слишком шумно. Отчего люди полагают, будто для радости необходим шум, – никто не знает?
– Предлагаю поставить опыт, – тут же отвечал Давид Иероним. – Только нужен прибор, измеряющий количество счастья. Нечто вроде барометра. Он может висеть над головой у испытуемого.
Маликульмульк невольно усмехнулся – вспомнил кусочек из собственной повести «Ночи». Вот тоже печальный праздник скоро пора справлять – десять лет, как начало «Ночей» написано и напечатано в «Зрителе». Странным выдался вечер, когда он, вдохновившись галантными французскими фривольностями д’Аржана, писал, усмехаясь: «Кричи, что хочешь, господин рассудок, – отвечало сердце, – а у меня есть своя маленькая философия, которая, право, не уступит твоей. Твой барометр измеряет сухая математика; но мой барометр не менее справедлив в своих переменах… – Прекрасно, любезное сердце, прекрасно! и если твоя философия не столь глубока, то по крайней мере она заманчива и приятна… и я отныне с пользой буду наблюдать, когда опускается и поднимается твой барометр…»
Он собирался ввернуть словесный пассаж на грани непристойности: кто ж в свете не знает, что на модном наречии именуется барометром? Но мысль проскользнула мимо эротических затей, и на бумагу выскочило слово «любовь»…
Какая странная перекличка возникла у десятилетней давности строчек со словами Гринделя – и со взглядом Паррота. Можно было биться об заклад – все трое подумали разом об одном и том же.
И при этом Паррот даже не стал искать утешения во взгляде на своих черноглазых мальчиков, обреченно доедавших пивной суп. Всем троим не повезло – и все трое старались держаться достойно. Паррот хотя бы мог, как подумал Маликульмульк, жить воспоминаниями о супруге, скончавшейся шесть лет назад. Было же счастье, родились дети!.. А вот у некоторых обалдуев – ничего, решительно ничего…
Потом вышли на улицу. Маликульмульк нарочно искал взором выходца с того света по фамилии Иванов. Но тот решил, видно, что для одного дня потрясений будущему другу хватит.
– Кто украл скрипку – сейчас не так важно, важно выяснить, у кого она могла оказаться. Это механически даст нам и имя вора, – сказал Паррот. – Если в здешних краях творение Гварнери дель Джезу – невиданная диковинка, чье-то слабое меломанское сердце могло не выдержать. Вот если бы дорогие скрипки приезжали сюда каждый день, меломан рассудил бы так: не удалось купить сегодня, куплю через два месяца. А сейчас он рассудил иначе: это мой единственный в жизни шанс приобрести великолепную скрипку! И действовал соответственно.
– Есть еще предположение, что кто-то из господ ратманов решил устроить пакость князю, – напомнил Маликульмульк.
– Эти чудаки упрямы и высокомерны, но они осторожны. И сплели бы более сложную интригу. Нет, это какой-то обезумевший дилетант. Но мне его трудно понять. Ведь стоит ему достать ворованную скрипку и заиграть – слушатели придут в восторг от инструмента, полезут его разглядывать и, чего доброго, обо всем догадаются. Разве что он будет играть наедине с самим собой…
– Для истинного дилетанта это не трагедия. Только наедине с собой он сможет насладиться скрипкой в полную меру – тебе ли, любезный друг, этого не понять…
– Да, пожалуй, ты прав…
Маликульмульк вздохнул – вернется ли когда эта радость исследователя, в одиночестве своем препарирующего пороки человеческие, собственную душу, да хоть кусок мокрой соленой картошки, наподобие Гринделя с Парротом?
– А есть еще радость набить брюхо горячей, жирной и вкусной едой, – напомнил Косолапый Жанно, – чтобы все чувства твои погрузились в сладостную дрему. Тогда на грани между утратившей очертания явью и тяжелым смутным сном, полным странных событий, начнут возникать хрупкие и мимолетные образы, а все благодаря чему? Благодаря количеству отменной пищи…
Косолапому Жанно хотелось в кресло, в большое кресло, и чтобы рядом стоял столик для курительных принадлежностей. Он страдал из-за того, что в новом жилище этой роскоши не было, а попросить княгиню, чтобы велела перевезти туда кресло из башни, было как-то неловко. Приходилось совершать моцион – оно вроде полезно после обеда, но обременительно. Он даже немного отстал от приятелей.
Дай волю Косолапому – он бы вообще перестал передвигать ноги и остановился посреди улицы. Идти совершенно не хотелось – с каждым шагом приближался Рижский замок, приближалась сердитая Варвара Васильевна. Там уже наверняка действуют полицейские сыщики, задают вопросы, пугают дворню. А что дворня знает? Она знает, что делалось в гостиных и на поварне, по коридорам лакеи пробегали, не глядя по сторонам. И результат допроса может быть один – княгиня разозлится еще больше. А на чью голову это выплеснется? Вот то-то, и прав Косолапый Жанно, спасаясь в спячке…
Меж тем физик и химик, как следовало ожидать, заговорили о своих опытах и о максимальной точности при взвешивании.
– Ну конечно, твои аптекарские весы тут незаменимы, но при условии, что ты очень точно нарезал кубики из картофеля, – донеслось до Косолапого Жанно. – А пока мы можем сравнивать результаты лишь в первом приближении. Итак, взаимодействие картофеля с дистиллированной водой…
– Шагать и дремать, это же совсем просто, – мысленно пробормотал он. – И таким способом отогнать неприятные мысли о скрипке. Хотя – вот вопрос для ученого: возможно ли для человека совсем не думать? Если он, конечно, не лежит без сознания, как раненый на поле боя или кокетка в обмороке. Сейчас попытаемся произвести опыт…
Главное было – чтобы на оживленной Известковой улице не столкнуться с дамой. Мужчина, скорее всего, устоит на ногах, столкнувшись с семипудовой глыбой, а дама непременно поскользнется и сядет на грязный снег…
– В следующей серии опытов надо будет отмерять одинаковое количество воды и сравнивать – всосал ли картофель ровно столько жидкости, сколько пропало из сосуда, – говорил Гриндель. – Я предлагаю брать кубики не более половины дюйма и помещать их в пробирку, чтобы понижение уровня воды было более заметным…
Странным образом эти рассуждения способствовали той самой дреме, которой добивался Косолапый Жанно. Он шел следом за приятелями, опустив голову, но не позволял себе отставать. Доносились слова:
– Но та оболочка яйца, которая находится под скорлупой, обладает ли свойствами мембраны… она лопнет… она не может лопнуть… если дистиллированная вода, всасываясь, увеличивает объем… можем ли мы на примере яйца говорить о равновесии, если не знаем свойств оболочки… в опытах с картофелем равновесие сперва было достигнуто во втором и в третьем сосудах… а теперь поместим соленый картофель в дистиллированную воду…
Эти речи могли заморочить и более трезвую голову – хотя можно ли считать глинтвейн настоящим спиртным напитком? Ведь его и детям пробовать дают, особенно им нравится вынутое из глинтвейна разваренное яблоко с красной мякотью.
Какое удивительное родство душ, вдруг осознал Маликульмульк, – все трое занимаются вещами, которые обычным людям ни к чему. Двое исследуют всасывательные способности картофеля и морковки, третий все никак не соберется составить вместе тысячу слов, чтобы образовалось развлечение для ее сиятельства.
– Хей, Крылов! – позвал Гриндель. – Гляньте-ка – лавка старого Мирбаха открыта. Вот кто знает богатых дилетантов наперечет!
Маликульмульк опомнился.
– Где? – только и спросил он.
– Поглядите налево. Вон, видите, где мальчик тащит опрокинутые санки? А чуть подальше – дверь, над которой медная труба? Вон, вон, почти на углу… там он и сидит. Только что оттуда вышла фройлен Лехер с женихом. Вся молодежь ходит к Мирбаху за нотами. Вот он – настоящий дилетант.
– Крылов, вы сейчас в состоянии говорить о деле? – спросил проницательный Паррот. И неудивительно – он видел перед собой размякшего и бессловесного Косолапого Жанно.
– Да, – собравшись с силами, отвечал Маликульмульк.
– Тогда ступайте, – сказал Давид Иероним. – Если вашу адскую скрипку пожелал иметь какой-нибудь курляндский меломан, то будьте уверены – приехав в Ригу на Рождество, он первым делом заглянул к Мирбаху. Старик, кстати, отменно переписывает ноты – имейте в виду. Вы для начала познакомьтесь с ним, попросите оказать вам услугу. А когда придете расплачиваться – не скупитесь. И он сам охотно расскажет о своих богатых покупателях.
– Да, это хорошая мысль, – согласился Маликульмульк. – Так что же, мы сейчас расстанемся?
– Да. Мы пойдем в аптеку. А вы, коли угодно, потом загляните туда. По-моему, вам не помешала бы чашка крепкого кофея, – заметил Паррот и сразу отвернулся, высматривая своих мальчиков.
– И заберете лекарство для доктора госпожи княгини, – напомнил Давид Иероним.
Маликульмульк поклонился и свернул на Большую Сарайную. Как-то так вышло, что до сих пор он про лавку Мирбаха не знал, да и необходимости в ней не было – ноты он получал из столицы, а запас канифоли для скрипки, взятый в Москве, еще не иссяк.
Хотя многие прочие лавки по случаю праздничных дней были закрыты, старый Мирбах именно теперь надеялся на хороших покупателей – в город съехались богатые господа, во многих домах устраивают концерты, говорят о музыке, советуют друг другу новинки. Он припас ноты и маленькие инструменты для детей, открыл свою узкую тесную лавку и правильно сделал – ни минуты она не была пустой.
Когда Маликульмульк сбил снег с сапог о нарочно устроенный при каменном порожке скребок и вошел в узкую дверь, над которой покачивалась на кронштейне и двух цепочках тусклая медная труба, в лавке были двое: пожилая дама выбирала в подарок маленькую флейту, а господин, стоя к нему спиной, расплачивался. Господин повернулся – и Маликульмульк увидел знакомый нечеловеческий профиль, скошенный лоб, как на старой французской гравюре, крупный нос. Он окаменел: это действительно был Леонард фон Димшиц, или Дишлер, или Бог его ведает кто. Шулер выглядел, как всегда, прескверно – страдалец, который и трех дней не проживет, да и только. Увидев генерал-губернаторского секретаря, он тоже на миг растерялся.
– Добрый день, господин Крылов, – первым сказал картежник.
– Добрый день, – ответил Маликульмульк.
– Счастливого Рождества.
– И вам также.
Оба смотрели друг на друга очень настороженно. И оба не знали, как себя вести.
– Я в Риге проездом, – сказал наконец фон Димшиц.
– Да, разумеется, – брякнул Маликульмульк и смутился: нехорошо было напоминать человеку, пусть даже шулеру, о давешних неприятностях. И так ведь ясно, что ему пришлось куда-то уехать после ареста Мея и полумертвого фон Гомберга.
– Всегда прихожу сюда за канифолью, – словно бы оправдываясь, произнес фон Димшиц, и тут Маликульмульк вспомнил: да ведь у этого человека есть скрипка!
– Да, это правильно…
– У герра Мирбаха всегда хорошая канифоль, и мягкая, и твердая, а главное, свежая.
Герр Мирбах, присматривая одним глазом за покупательницей, явственно навострил уши. Толстый молодой господин, которому в лавке было тесновато, оказался скрипачом, и даже если он в Риге будет бывать проездом, упускать его не надо. Он слишком хорошо одет, чтобы его упускать.
– Я взял на пробу американскую канифоль, – сообщил хозяин лавки. – Могу предложить кусочек, извольте сравнить.
Он выставил несколько картонных коробочек, в которых лежали куски, блестящие на сколах, как янтарь.
– Французская, – сказал Маликульмульк, указав на нежно-золотистую канифоль.
– Бордоская, – уточнил герр Мирбах и улыбнулся.
Маликульмульк тоже улыбнулся: до чего же приятно состоять в братстве людей, умеющих отличить австрийскую смолу от смолы из Шварцвальда.
– А в Лифляндии разве не варят свою канифоль? – спросил он. – Здесь ведь растут сосны, и в немалом количестве. Я сам видел.
– Лифляндия – равнинная местность, и проще рубить сосны на корабельную древесину. Смолу добывают в горах, где лесорубам слишком трудно спускать бревна вниз, – объяснил герр Мирбах. – Вот хороший прозрачный кусочек, господин может взять. Только пусть не забудет сперва протереть смычок спиртом и хорошо высушить волос. Потом господин расскажет, как понравилось.
Мирбах стал заворачивать канифоль в бумажку, а Маликульмульк обвел взглядом лавку. Вот тут он хотел бы остаться навеки – на полках выстроились скрипки и альты, при них – смычки, рядом сверкала медными боками валторна, за ней виднелся гобой, в углу на столе были сложены футляры, справа и слева от хозяина лежали на прилавке высокие стопки нот.
– А это что за диковинка? – спросил он, указывая на довольно крупный инструмент со сдвоенными струнами.
– А это, изволите видеть, испанская гитара. Входит в моду в гостиных, очень удобна для господ – ничего сложного на ней не сыграть, одни милые пустячки.
Маликульмульк был в растерянности – он не хотел расспрашивать торговца при фон Димшице, но и упускать картежника не желал. Однако выбирать не приходилось.
– А скажите, герр Мирбах, можно ли у вас приобрести хорошую дорогую скрипку? – спросил он. – Или при вашем посредничестве купить скрипку у кого-то из здешних дилетантов.
– Господину она нужна для себя? – Мирбах явно пытался соотнести имущественное положение покупателя (одежда дорогая, а вот руки – без единого перстня) с ценами на инструменты.
– Нет, это поручение ее сиятельства княгини Голицыной.
– О! Госпожи княгини?! – Мирбах пришел в подлинный восторг. – Для нее возможно выписать скрипку из Ганновера или Бремена, я знаю, что там недавно продавалась скрипка самого Якоба Штайнера. Но даже если это работа кого-то из его учеников – уже достаточно хорошая репутация для инструмента. Скрипки Штайнера славились еще до того, как лучшими мастерами в Европе признали итальянцев. Господин прикажет написать моему приятелю в Бремен?
– Нельзя ли найти поближе? В Митаве, к примеру? – спросил Маликульмульк.
– Да, господин прав – шли слухи о хорошей скрипке, которую привезло одно французское семейство и вынуждено было с ней расстаться. Если только ее не приобрел господин барон фон дер Лауниц.
– Он известный дилетант? – кажется, чересчур бойко спросил Маликульмульк.
– Да, и притом богатый человек. Он нанимает лучших учителей для своих внуков и ищет хорошие инструменты.
Маликульмульк задумался – следовало как-то ловко выспросить насчет барона, но так, чтобы это не выглядело подозрительно. Торговец, поставляющий дорогие инструменты в богатые дома, – не разносчик горячих бубликов из Московского форштадта, он непременно должен быть хитер. Опять же, и возраст – ему под семьдесят, возраст либо разжижения мозгов, либо тонкой хитрости…