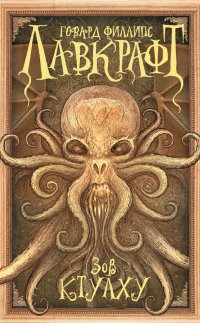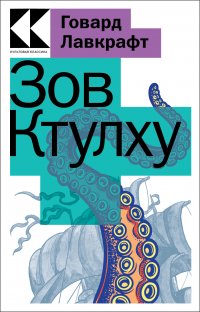Читать онлайн Хребты безумия бесплатно
- Все книги автора: Говард Филлипс Лавкрафт
© Брилова Л., перевод на русский язык, 2023
© Володарская Л., перевод на русский язык. Наследник, 2023
© Дорогокупля В., перевод на русский язык, 2023
© Чарный В., перевод на русский язык, 2023 (Белая птица)
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023 (Pocket book)
Безымянный город
Приближаясь к безымянному городу, я ощущал проклятие, тяготевшее над ним. Путь вел меня через выжженную долину, полную ужасов, и в свете луны я увидел, как зловеще он вздымался над песками, словно труп, наспех присыпанный землей. Страхом сочились обветшалые, вековечные стены этого свидетеля потопа и пращура старейшей из пирамид, и незримая аура толкала меня прочь, призывая отступиться от древних и гибельных тайн, которые не дозволено видеть смертным и завесу которых ни один из них не отважился приподнять.
В отдаленной части Аравийской пустыни лежит этот город без имени, рассыпаясь в прах, и молчат его стены, почти скрытые песками бессчетных веков. Он был здесь еще до того, как заложили Мемфис, до того, как в печах обжигали кирпичи Вавилона. Нет легенды столь древней, что сохранила бы его настоящее имя, неоткуда узнать, кипела ли в нем жизнь, но чей-то шепот у ночного костра, бормотание старух в шатрах шейхов могли поведать, что ни одно из племен пустыни не смело приблизиться к нему, и никто не знал почему. Этот город видел во сне поэт-безумец, Абдул Альхазред, прежде чем сложил загадочные строки:
- Не мертво то, что в вечности покой
- Сумело обрести, со сменою эпох поправши
- саму смерть.
Мне следовало бы догадаться, что арабы не зря сторонятся этого места, живущего в преданиях, но не виденного никем из живущих, но я, отринув все предрассудки, пустился к цели неторной дорогой, оседлав верблюда. Лишь я один узрел его, лишь на моем лице отпечатался весь ужас, что открылся мне, и меня одного бросает в дрожь, едва ночной ветер стучится в окно. Приблизившись к нему, я ощутил его взгляд из пугающих глубин бесконечного сна, лучом луны оледенивший мое сердце в этой жаркой пустыне. Окинув его взглядом, я позабыл о всякой радости, свойственной первооткрывателю, и спешился с верблюда, решив войти в город на заре.
Тянулись часы, наконец небо на востоке посерело, поблекли звезды, и горизонт зарозовел, зазолотился. Завыл ветер, взметнув песок над древними камнями, хотя на небе не было ни облака, и бескрайние дюны были бестревожны. Внезапно над краем пустыни вознеслось слепящее солнце, видневшееся сквозь песчаную бурю, уносившуюся за горизонт, и я, дрожа, словно объятый лихорадкой, услышал мелодичный лязг металла из далеких глубин, приветствовавший огненный диск, как колоссы Мемнона с берегов Нила. В ушах звенело, и в смятении, охватившем меня, я медленно правил верблюдом сквозь пески, приближаясь к безмолвному городу, который из всех живущих видел лишь я один.
Скитаясь меж бесформенных руин, я не мог отыскать ни единого барельефа, ни одной надписи, что поведала бы мне о людях – людях ли? – что возвели эти стены и жили здесь так давно. Мне становилось не по себе от того, насколько древним было все вокруг, и я тщился обнаружить хоть какой-то признак того, что город действительно был создан силами людей. Сами пропорции зданий, черты их вселяли в меня тревогу. Я взял с собой немало инструментов и принялся за раскопки, но продвигался крайне медленно, не обнаружив ничего стоящего. Когда спустилась ночь и взошла луна, я ощутил дуновение ледяного ветра, и страх погнал меня прочь из развалин. Когда я покидал пределы древних стен, песчаный вихрь забурлил за моими плечами, танцуя на серых камнях, хотя пустыня вокруг была спокойной, и сияла луна.
Вереница кошмарных снов мучила меня до самого пробуждения, когда на заре я вновь услышал тот металлический звук. Я увидел, как лучи красного солнца пронизали песчаный вихрь, рассеявшийся над стенами города, заметив, что пустыня вокруг была по-прежнему спокойна. Снова я отправился к руинам, мрачно гнездившимся среди песка, словно великан-людоед в укрывище, и снова мои поиски реликвий забытой расы не принесли плода. В полдень я прекратил раскопки, а затем принялся отмечать направления стен и улиц, очертания исчезнувших зданий. Некогда город этот был в самом деле велик, и я гадал о природе подобного величия. Воображение мое создавало картины времен, что изгладились даже из памяти халдеев, я вспоминал Проклятый Сарнат в земле Мнар на заре человечества, вспоминал Иб, высеченный из серого камня до прихода людей.
В своих исканиях я с радостью обнаружил место, где каменное ложе подобием скалы возносилось над песком, обещая мне доступ к тайнам допотопной расы. На возвышении этом я безошибочно различал приземистые каменные дома или сооружения культа, залы которых еще могли хранить следы бесследно минувших эпох, когда все, что когда-то украшало стены снаружи, исчезло под натиском песка и ветров.
Слишком узки, почти скрыты песками были темные провалы рядом со мной, но мне удалось расчистить один из них при помощи заступа и протиснуться в него, освещая путь к ожидавшим меня тайнам при помощи факела. Оказавшись внутри, я понял, что здание, куда я проник, было храмом, и стены его носили знаки, оставленные расой, населявшей город до того, как пустыня стала пустыней. Здесь были примитивные алтари, колонны и ниши, все необычно низкие, и хоть я не заметил ни скульптур, ни фресок, множество камней помечали символы, высеченные чьей-то рукой. Потолок был настолько низким, что я с трудом стоял на коленях, но зал был настолько большим, что свет моего факела не достигал его края. Добравшись до отдаленных уголков его, я содрогнулся: некоторые из алтарей и символов намекали на позабытые, отвратительные, необъяснимые ритуалы, и я задумывался о природе людей, создавших этот храм и проводивших их. Осмотрев все помещение, я выполз наружу, воодушевленный тем, что могли скрывать другие подобные храмы.
Близилась ночь, но увиденное пробудило во мне любопытство, пересилившее страх, и я не бежал от длинных теней, смутивших мой разум в свете луны, когда я впервые увидел безымянный город. В сумерках я расчистил другой завал, и с новым факелом пробрался внутрь, вновь увидев неясные символы на камнях, мало чем отличавшиеся от тех, что я видел в предыдущем храме. Зала была столь же низкой, но намного меньше, и заканчивалась очень узким проходом, уставленным загадочными алтарями. Я осматривал их, когда вой ветра и крик верблюда снаружи нарушили тишину, понудив разузнать, что могло испугать животное.
Ярким лунным светом были залиты руины безыскусных строений и плотное облако песка, взметнувшееся с порывистым, но уже ослабевавшим ветром над одним из холмов передо мной.
Я знал, что верблюда встревожил этот холодный ветер, и хотел уже увести его в укрытие, когда заметил, что ветер над холмом вдруг совершенно стих. Это поразило и испугало меня, но я немедленно вспомнил о столь же внезапно возникавших песчаных бурях, увиденных мной на восходе, заключив, что для здешних мест это обыденное явление. Я решил, что ветер дул из расщелины, что вела в пещеру, и осмотрел песок, чтобы проследить его направление, определив, что он исходил из храма к югу от меня, едва различимого. Я побрел к нему, сражаясь с песчаным ветром, и он становился все ближе, возвышаясь над окружающими строениями, а вход в него был не так сильно занесен спекшимся песком. Сразу войти я не сумел – ледяной ветер необычайной силы едва не погасил мой факел. Этот загадочный поток все струился наружу, яростным дыханием взметая песок, разбрасывая его над причудливыми руинами. Вскоре он ослаб, и песок осыпался, и вновь настала тишина, но что-то таилось меж призрачных камней, и когда я взглянул на луну, казалось, она трепетала, словно в отражении встревоженных вод. Беспричинный страх овладел мной, но жажда знаний была сильнее, и едва утих ветер, я устремился навстречу породившей его черной расщелине.
Снаружи этот храм выглядел больше всех, что я уже обыскал, вероятно, он был высечен в пещере, раз вход в него нес ветер из подземных глубин. Здесь я мог стоять в полный рост, но жертвенники и алтари были все такими же низкими. На стенах и под потолком я впервые увидел следы изобразительного искусства древней расы, причудливо вьющиеся мазки, почти истершиеся в прах, а на двух алтарях со все нараставшим волнением обнаружил прихотливо сплетенный резной узор. В свете моего факела крыша имела слишком правильный вид, вряд ли природа ее была естественной, и я дивился искусству доисторических камнетесов. Их мастерство было неоспоримо.
Следующая яркая вспышка моего чудесного путеводного огня указала мне столь желанный путь в исторгавшие ветер глубины, и я предательски ослаб, увидев, что то была рукотворная дверь, врезанная в скалу. Я осветил себе путь, уводивший вниз по крохотным, крутым ступеням. Они всегда являются мне в моих снах, эти ступени – я постиг их назначение. Тогда они даже не казались мне ступенями – лишь слабой опорой для ног на крутом спуске. Мой разум одолевали безумные мысли, слова и предостережения арабских прорицателей будто бы неслись над пустыней из ведомых людям земель в землю, на которую никто из них не осмеливался ступить. Всего лишь миг, и сомнения мои отступили, и я, миновав портал, начал осторожно спускаться по крутым ступеням лестницы.
Только в ужасных наркотических грезах или умопомрачении мог кому-либо привидеться подобный спуск. Узкий проход, которому не было конца, вел меня вниз, словно на дно ужасного призрачного колодца, и свет факела над моей головой не достигал глубин, навстречу которым я шел. Я потерял счет времени, забыв свериться с часами, и ужаснулся, осознав, сколь долгим был мой спуск. Ступени меняли направление и крутизну, наконец я достиг узкого прямого прохода, держа факел над головой и ощупывая камни пола ступнями. Здесь нельзя было встать даже на колени. Затем я снова почувствовал крутизну бессчетных ступеней под ногами, когда слабеющее пламя моего факела наконец угасло. Когда я заметил это, я все еще держал его над головой, как если бы он все еще горел. Мне не давал покоя инстинкт искателя необычного и неизвестного, тот, что заставил меня скитаться по земле, в ее далеких, древних, запретных уголках.
Во тьме мне виделись фрагменты желанного сокровища, дьявольского знания, изречения безумного араба Альхазреда, вселяющие ужас апокрифические сочинения Дамаския, печально известные строки из немыслимого «Образа Мира» Готье де Меца. Я вновь и вновь цитировал их, бормоча об Афрасиабе и демонах, плывших с ним по течению Окса, вновь и вновь нараспев читал одну и ту же строчку из лорда Дансени: «Безответная чернота бездны». Когда спуск стал почти что отвесным, я начал напевать что-то из Томаса Мора, пока не устрашился собственных слов:
- О бездна черных волн, о мрак,
- Что полнится, как ведьмы варевом,
- Полночным зельем в лунном зареве,
- Склонясь над ней, искал для переправы сил,
- На самом горизонте мглы я зрил
- Блестящий, будто из стекла, причал,
- Вознесшийся над пеленою вод,
- Там смертный трон, покрытый скверной, тьму
- венчал,
- Исторгнут бездной, нечестивый плод.
Казалось, время перестало существовать, когда под ногами я вновь ощутил ровный пол, оказавшись в помещении, где потолок был чуть выше, чем в двух храмах где-то невообразимо далеко наверху. Стоять в полный рост я не мог, лишь ползти на коленях, и так, окруженный тьмой, я двигался неизвестно куда. Скоро я понял, что попал в узкий проход, в нишах стен которого стояли ящики из полированного дерева и стекла. Эти находки в подобном месте эпохи палеозоя вселяли ужас, и я содрогнулся. Ящики эти были горизонтально расставлены с равными промежутками, имели продолговатую форму, и омерзительным образом походили на гробы. Пытаясь сдвинуть два-три из них с места, чтобы осмотреть тщательнее, я обнаружил, что они надежно закреплены.
Проход казался длинным, и я устремился вперед, и то, как я двигался во мраке, ужаснуло бы любого наблюдателя: ползком, от стены к стене, ощупывая их и эти ящики, чтобы убедиться, что я держусь намеченного пути. Я уже привык ориентироваться при помощи осязания, почти забыв о тьме вокруг, и чувства рисовали мне бесконечный ряд из дерева и стекла так живо, как если бы я видел его. А затем, в единый миг смятения, я увидел.
Не могу сказать, когда мои видения слились с реальностью, но я приближался к источнику неведомого подземного свечения и различал смутные очертания прохода и ящиков. Все выглядело так, как я и представлял, пока свечение было слабым, но стоило ему усилиться, как я понял, насколько слабым было мое воображение. Зала эта была не грубым реликварием прошлого, как храмы там, наверху, но памятником неописуемой, необычайной искусности. Насыщенные, словно живые, фантастически смелые узоры и картины сплетались в сеть настенной росписи, которую нельзя было описать словами. Ящики из необычного золотистого дерева с крышками прозрачнейшего стекла заключали в себе мумифицированных существ, чей облик превосходил самые безумные видения.
Доподлинно передать то, как выглядели эти твари, невозможно. Они походили на ящеров, и в то же время в очертаниях тел угадывалось и что-то от крокодилов, что-то тюленье, и то, с чем не приходилось встречаться ни одному из палеонтологов. Размерами они приближались к человеку небольшого роста, конечности венчали подобия ступней с подобными человеческим пальцами. Но причудливей всего были их головы, нарушавшие все известные законы природы. Сравнить их было не с чем – в один миг я вспомнил черепа кошек, лягушек, мифических сатиров и людские. У самого Зевса не было такого колоссального, мощного лба, а рога, отсутствие носа и челюсти аллигатора ставили их обладателей вне всяческих классификаций. Я некоторое время сомневался в подлинности мумий, подозревая, что то были искусно сделанные идолы, но вскоре решил, что это в самом деле некий вид эпохи палеогена, когда в городе еще теплилась жизнь. Их нелепый облик еще сильнее подчеркивали дорогие одежды на некоторых телах, затейливо украшенные золотом, каменьями и неизвестными сверкающими металлами.
Эти пресмыкающиеся твари, должно быть, значили очень много для тех, кто сотворил эти ошеломляющие фрески и роспись на стенах и потолке. С непревзойденным мастерством художник отразил мир их городов и садов, где все было создано для их удобства, и я не мог отвязаться от мысли, что картины их жизни были аллегорией, иносказательно повествующей о развитии той расы, что поклонялась им. Я убеждал себя в том, что эти создания были для них тем же, чем волчица для римлян или тотемное животное для индейского племени.
Передо мной предстала поразительная история безымянного города, история могучей метрополии на морском берегу, владычествовавшей над миром до того, как из океанских вод поднялся африканский континент, о времени невзгод, наставшем, когда море ушло и плодородная долина превратилась в пустыню. Я видел победоносные войны, поражения и бедствия и, наконец, ужасную борьбу с пустыней, когда тысячи жителей города, здесь изображенных в виде рептилий, были вынуждены невероятным образом пробиваться сквозь земную твердь навстречу новому миру, о котором гласили пророчества. Все это выглядело настолько же невероятно, насколько было правдоподобным, и несомненной была связь этой повести с моим умопомрачительным спуском в эти глубины. На фресках я частично узнавал проход, который преодолел.
Продолжая двигаться ползком навстречу свечению, я осматривал картины заката той эпохи – исход расы, что десять миллионов лет царила в безымянном городе и долине, расы, чей дух был надломлен, исторгнутый из той колыбели, что знали их тела, куда они пришли на заре земных лет, высекая в девственных скалах эти святыни, которые никогда не переставали чтить. Свет становился ярче, и теперь я мог пристально изучать фрески, памятуя о том, что эти немыслимые рептилии изображали неизвестную расу людей, и подумать над обычаями тех, кто населял безымянный город. Многое казалось мне загадочным, необъяснимым. Цивилизация, владевшая письменной речью, достигла больших высот, нежели неизмеримо более поздние Египет и Халдея, но на полотнах ее жизни загадочным образом отсутствовали некоторые подробности. Я не мог найти ни сюжетов о смерти от естественных причин, ни о погребальных ритуалах, за исключением посвященных войнам, насилию и болезням, и не мог понять причины, стоявшей за подобными недомолвками. Видимо, взлелеянная идея иллюзорной вечной жизни служила вдохновением этим художникам прошлого.
Близился конец прохода, и попадавшиеся мне фрески становились все более насыщенными и изощренными, основываясь на контрасте меж опустевшим безымянным городом, превращавшимся в руины, и новой обетованной землей в подземных глубинах, к которой раса проложила этот путь. На них город в пустынной долине был залит лунным светом, над павшими стенами сиял ее золотой нимб, приоткрывая непревзойденное величие минувших времен, изображенное призрачным, ускользающим. Сцены новой, райской жизни, диковинность которых граничила с неправдоподобием, запечатлели потаенный мир вечного дня, чудесных городов, холмов и долин неземной красоты. Увидев последнюю фреску, я подумал, что искусство перестало служить ее создателю. В манере живописца сквозил недостаток мастерства, а то, что он запечатлел, было несравнимо даже с самыми невероятными из ранних работ. То была летопись упадка древнего народа, в своем изгнании ожесточившегося против верхнего мира. Телесный упадок людей, изображенных в виде священных рептилий, все нарастал, но дух их расы, витавший над пустынными руинами в свете луны, становился сильнее. Истощенные жрецы, представленные рептилиями в вычурных одеяниях, слали проклятия земному воздуху наверху и всем, кто им дышал, а одна из последних, чудовищных сцен изображала примитивного вида человека, быть может, выходца из древнего Ирема, Города Колонн, разорванного на части существами старшей расы. Я вспоминал, как боятся арабы безымянного города, и был рад тому, что на этом сюжете роспись на стенах и потолке оборвалась.
Наблюдая страницы истории на этих стенах, я почти добрался до конца этой залы с низким потолком, и увидел врата, из которых исходило свечение. Подобравшись еще ближе, я закричал от изумления – настолько ошеломительным было зрелище, открывшееся мне. Не освещенные залы лежали передо мной, нет, то была единая, бескрайняя сияющая бездна, подобная морю облаков в лучах солнца, что может открыться тому, кто покорил вершину Эвереста. За моей спиной остался проход столь тесный, что я едва мог передвигаться ползком, а впереди лежал необъятный подземный сверкающий океан.
Вниз в эту бездну вела еще одна крутая лестница, подобная тем, по которым я уже спускался, но на глубине в несколько футов я уже не мог ничего разглядеть за мерцающей дымкой. По левую руку от меня была массивная, необычайно толстая дверь из бронзы, украшенная фантастическими барельефами, закрыв которую можно было отрезать весь этот подземный мир света от склепов и проходов, проложенных в скале. Еще раз взглянув на ступени, я не отважился идти по ним дальше. Коснувшись двери, я не сдвинул ее и на волос. Тогда я опустился на каменный пол: смертельная усталость одолевала меня, но даже она не могла унять мой бурлящий ум, полный самых невероятных предположений.
Так я лежал, закрыв глаза, предоставленный собственным мыслям, и многое из увиденного на фресках обретало новый, ужасный смысл – сцены, изображавшие безымянный город в дни его славы, зелень долины вокруг, далекие земли, куда ходили с караванами его купцы. Аллегорические образы ползучих тварей не давали мне покоя, ведь их образы присутствовали на каждой из важнейших страниц истории, и я не мог понять почему. Безымянный город изображался так, словно был создан для рептилий. Я думал над тем, каковы были его настоящие размеры и как велик он был, и над загадками его руин, в которых побывал. Любопытным было то, что и храмы, и их коридоры были настолько низкими, и, без сомнений, те, кто создал их, подобным образом чтили богоподобных пресмыкающихся, передвигаясь в них так же, как и рептилии. Видимо, самая суть религиозных отправлений состояла в этой имитации. Но ни одна из теорий не объясняла того, почему и проходы меж залами были столь низкими, ведь там совершенно нельзя было выпрямиться. Страх вновь овладел мной, едва я вспомнил отвратительные мумии, что были совсем рядом. Разум порой рождает занятные ассоциации, и я задрожал при одной мысли о том, что помимо несчастного, разорванного на куски на той последней фреске, среди всех реликвий и следов доисторической эпохи лишь я один был человеком.
Но, по обыкновению, страх, гнездившийся в моем мятежном естестве, сменился любознательностью: сияющая бездна и то, что могло таиться в ней, было вызовом, достойным величайшего исследователя. Я не сомневался в том, что крутые ступени вели в мир загадок и тайн, и надеялся найти там памятники, созданные рукой человека, которые тщетно искал в темных проходах. Их стены украшали картины невероятных городов и долин здесь, в подземелье, и воображение уже рисовало мне картины колоссального великолепия руин, ожидавших там, внизу.
На самом деле, боялся я не будущего, а прошлого. Даже все кошмары моего пути ползком среди мертвых рептилий и допотопных фресок, на глубине многих миль под известным мне миром, приведшего меня в иной мир, мир туманного, призрачного света, не могли сравниться со смертным ужасом, что внушал мне древний дух этого места. Древний столь неизмеримо, что, казалось, им пропитаны были эти камни, эти храмы безымянного города, свидетеля времен океанов и континентов, забытых человечеством, но невероятным образом сохранившихся на стенах, где порой мелькали смутно знакомые очертания. О том, что случилось со времен написания последнего из этих полотен, после краха презиравшей смерть расы, не мог поведать никто из людей. В этих кавернах и в сверкающей подо мной пучине некогда бурлила жизнь, теперь же я был один среди памятников прошлого, и я дрожал при мысли о том, сколько бессчетных веков они несли здесь свою безмолвную стражу.
Внезапно я вновь был сражен вспышкой ужаса, подобной тому, что объял меня при первом взгляде на смертную пустынную долину и безымянный город под холодной луной, и невзирая на изнеможение, я резко поднялся с пола, уставившись на черный туннель, уводивший наверх, к внешнему миру. Мной овладело то же предчувствие, как и в те ночи, когда я избегал городских стен, необъяснимое, не дававшее мне покоя. Мгновением позже я пережил еще большее потрясение, отчетливо услышав звук, нарушивший абсолютную, гробовую тишину, царившую в этих глубинах. Раздался стон, глубокий, гулкий, словно голос сонмища обреченных душ, исходивший оттуда, куда был устремлен мой взгляд. Он становился все громче, жутким эхом отзываясь в узких туннелях, и я ощутил нараставший поток холодного воздуха, вероятно, струившегося из туннелей, что вели в город наверху. Его дуновение освежило меня, и я немедленно вспомнил о бурях, что поднимались над зевом подземной бездны, стоило солнцу закатиться или взойти над горизонтом, ведь именно этот ветер открыл мне тайну этих туннелей. Взглянув на часы, я понял, что близился рассвет, и приготовился выдержать ураганный натиск ветра, что стремился обратно, чтобы вечером вновь вырваться наружу. Страх мой притупился – явления природы развеяли мрачные мысли о неизведанном.
Все неистовее становился ночной ветер, струясь навстречу земным глубинам. Я пал ничком, вцепившись в дверь, из страха быть сметенным в сияющую бездну. Однако ветер был столь силен, что я и в самом деле мог сорваться в пропасть, и в воображении моем теснились все новые ужасные картины. Натиск разъяренной стихии порождал во мне неописуемые чувства, и вновь я сравнивал себя с тем несчастным на страшной фреске, растерзанным в клочья неведомой расой, ведь в демоническом шквале, что терзал мое тело, словно когтями, я ощущал мстительный гнев, порожденный его бесплодными усилиями. Остатки рассудка покидали меня – я яростно кричал, и крик этот тонул в завываниях призраков бури. Я пытался ползти, противиться убийственному течению, но безрезультатно – медленно и неотвратимо я соскальзывал навстречу неизвестному. И вот уже разум мой сдался, и я, простершись ниц, вновь и вновь повторял загадочные строки безумца Альхазреда, кому город без имени являлся в кошмарах:
- Не мертво то, что в вечности покой
- Сумело обрести, со сменою эпох поправши
- саму смерть.
Одним лишь неумолимым, зловещим богам пустыни ведомо, что на самом деле случилось тогда, в минуты моей неописуемой борьбы во тьме, какая преисподняя исторгла меня назад, в мир живых, где я никогда не смогу забыть, дрожа на ночном ветру, пока не уйду в забвение, или меня не поглотит нечто более ужасное. Чудовищным, невозможным, невероятным было то, что я видел, – неподвластным человеческому рассудку, разве лишь в самые черные, предрассветные часы бессонных ночей.
Я упомянул, что сила ветра была поистине адской, демонической, и в его отвратительном вое слышалась вся нескрываемая злоба времен, что канули в небытие. Этот хаотический сонм голосов в бесформенном потоке, бурлившем передо мной, мой пульсирующий мозг превращал в членораздельную речь, что звучала уже за моей спиной, и в той неизмеримо глубокой могиле, где бессчетные века покоились эти реликты, вне мира живых, где занималась заря, я услыхал ужасные проклятия и нечеловеческий рык тварей. Обернувшись, над светящейся призрачной бездной я увидел силуэты, неразличимые во тьме туннеля – стремительный поток кошмарных, дьявольских тварей во всеоружии, чьи морды искажала ненависть, бесплотных демонов, что могли принадлежать лишь к одной расе – рептилий безымянного города.
Когда утихла буря, меня швырнуло навстречу омерзительной тьме земного чрева – за последней из тварей с лязгом затворилась великая дверь из бронзы, и оглушительный грохот металла возносился все выше, приветствуя взошедшее солнце, словно колоссы Мемнона на нильских берегах.
1921
Гипнос
Что касается сна, этого мрачного и своенравного властителя наших ночей, то безрассудство, с каким люди предаются ему еженощно, нельзя объяснить ничем иным, кроме как неведением относительно поджидающей их опасности.
Бодлер
Да хранят меня всемилостивые боги – если только они существуют – в те часы, когда ни усилие воли, ни придуманные людьми хитроумные снадобья не могут уберечь меня от погружения в бездну сна. Смерть милосерднее, ибо она уводит в края, откуда нет возврата; но для тех, кому довелось вернуться из мрачных глубин сна и сохранить в памяти все там увиденное, никогда уже не будет покоя. Я поступил как последний глупец в своем неистовом стремлении постичь тайны, не предназначенные для людей; глупцом – или богом – был мой единственный друг, указавший мне этот путь и вступивший на него раньше меня, чтобы в финале пасть жертвой ужасов, которые, возможно, предстоит испытать и мне.
Я помню, как впервые встретил его на перроне вокзала в окружении толпы зевак. Он лежал без сознания, скованный судорогой, из-за чего его некрупная худощавая фигура, облаченная в темный костюм, казалась окаменевшей. На вид ему можно было дать лет сорок, судя по глубоким складкам на изможденном, но притом безукоризненно овальном и красивом лице, а также по седым прядям в коротко подстриженной бороде и густых волнистых волосах, от природы черных как смоль. Его лоб идеальных пропорций цветом и чистотой был подобен пентелийскому мрамору.
Наметанным глазом скульптора я тотчас углядел в этом человеке сходство со статуей какого-нибудь античного бога, извлеченной из-под руин эллинского храма и чудесным образом оживленной только ради того, чтобы в наш тусклый безыскусный век мы могли с трепетом ощутить величие и силу всесокрушающего времени. А когда он раскрыл свои огромные, черные, лихорадочно горящие глаза, я вдруг отчетливо понял, что в этом человеке обрету своего первого и единственного друга, ибо прежде у меня никогда не было друзей. Именно такие глаза должны были видеть все величие и весь ужас иных миров за пределами обычного сознания и реальности – миров, о которых я мог лишь грезить безо всякой надежды лицезреть их воочию. Я разогнал зевак и пригласил незнакомца к себе домой, выразив надежду, что он станет моим учителем и проводником в сфере загадочного и необъяснимого.
Он слегка кивнул в знак согласия, не произнеся ни слова. Как выяснилось позднее, он обладал на редкость звучным и красивым голосом, в котором гармонично сочетались густое пение виол и нежный звон хрусталя. Много ночей и дней мы провели в беседах, пока я высекал из камня его бюсты или вырезал из слоновой кости миниатюры, стремясь запечатлеть в них различные выражения его лица.
Я не в состоянии описать то, чем мы занимались, поскольку эти занятия имели слишком мало общего с обыденной жизнью. Объектом нашего изучения была неизмеримая и устрашающая вселенная, лежащая вне познаваемых материй, времен и пространств, – вселенная, о существовании которой мы можем лишь догадываться по тем редким, особенным снам, которые никогда не посещают заурядных людей и лишь пару раз в жизни могут привидеться людям с богатым и ярким воображением. Мир нашего повседневного существования соотносится с этой вселенной, как соотносится мыльный пузырь с трубочкой, из которой его выдувает клоун, всегда могущий по своей прихоти втянуть пузырь обратно. Ученые мужи могут иметь кое-какие догадки на сей счет, но, как правило, они избегают об этом думать. Мудрецы пытались толковать такие сны, что вызывало лишь смех у бессмертных богов. А смертные в свою очередь насмехались над одним человеком с восточными глазами, утверждавшим, что время и пространство суть вещи относительные. Впрочем, и этот человек не был уверен в своих словах, а только высказал предположение. Я же мечтал зайти дальше простых догадок и предположений, к чему также стремился мой друг, преуспев лишь отчасти. А теперь мы объединили наши усилия и с помощью разных экзотических снадобий открыли для себя манящий и запретный мир сновидений, которые посещали нас в мастерской на верхнем этаже башни моего старинного особняка в графстве Кент.
Всякий раз пробуждение было мучительным, но самой мучительной из пыток оказалась неспособность выразить словами то, что я узнал и увидел, странствуя в мире снов, поскольку ни один язык не обладает подходящим для этого набором понятий и символов. Все наши сновидческие открытия относились к сфере особого рода ощущений, абсолютно несовместимых с нервной системой и органами восприятия человека, а пространственно-временные элементы этих ощущений попросту не имели конкретного, четко определяемого содержания. Человеческая речь в лучшем случае способна передать лишь общий характер того, что с нами происходило, назвав это погружением или полетом, ибо какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и сиюминутного, воспаряя над ужасными темными безднами и преодолевая незримые, но воспринимаемые преграды – нечто вроде густых вязких облаков. Эти бестелесные полеты сквозь тьму совершались нами иногда поодиночке, а иногда совместно. В последних случаях мой друг неизменно опережал меня, и я догадывался о его присутствии только по возникающим в памяти образам, когда мне вдруг являлось его лицо в ореоле странного золотого сияния: пугающе прекрасное и юношески свежее, с лучистыми глазами и высоким олимпийским лбом, оттененное черными волосами и бородой без признаков седины.
Мы в ту пору совсем не следили за временем, которое представлялось нам просто иллюзией, и далеко не сразу отметили одну особенность, так или иначе с этим связанную, а именно: мы перестали стареть. Амбиции наши были воистину чудовищны и нечестивы – ни боги, ни демоны не решились бы на открытия и завоевания, которые мы планировали. Меня пробирает дрожь при одном лишь воспоминании об этом, и я не рискну передать в деталях суть наших тогдашних планов. Скажу лишь, что однажды мой друг написал на листе бумаги желание, которое он не отважился произнести вслух, а я по прочтении написанного немедля сжег этот листок и опасливо оглянулся на звездное небо за окном. Я могу позволить себе лишь намек: его замысел предполагал ни много ни мало установление власти над всей видимой частью вселенной и за ее пределами, возможность управлять движением планет и звезд, а также судьбами всех живых существ. Лично я, могу поклясться, не разделял этих его устремлений, а если мой друг в каком-либо разговоре или письме утверждал обратное, это неправда. Мне никогда не хватило бы сил и смелости, чтобы затеять настоящую битву в таинственных сферах, а без такой битвы нельзя было рассчитывать на конечный успех.
В одну из ночей ветры неведомых пространств унесли нас в бескрайнюю пустоту за пределами бытия и мысли. Нас переполняли самые фантастические, непередаваемые ощущения, тогда вызывавшие эйфорию, а ныне почти изгладившиеся из моей памяти; да и те воспоминания, что сохранились, я все равно не смогу передать словами. Мы преодолели множество вязких преград и наконец достигли самых удаленных областей, до той поры нам недоступных. Мой друг, по своему обыкновению, вырвался далеко вперед, и, когда мы неслись сквозь жуткий океан первозданного эфира, в моей памяти возникло его слишком юное лицо, на сей раз искаженное гримасой какого-то зловещего ликования. Внезапно этот образ потускнел и исчез, а еще через миг я наткнулся на непреодолимое препятствие. Оно напоминало те, что попадались нам прежде, но было гораздо плотнее – какая-то липкая тягучая масса, если только подобные определения применимы к нематериальным объектам.
Итак, я был остановлен барьером, который мой друг и наставник успешно преодолел. Я хотел было предпринять новую попытку, но тут закончилось действие наркотика, и я открыл глаза у себя в мастерской. В углу напротив лежал мой друг, мраморно-бледный и бесчувственный; его осунувшееся лицо показалось мне особенно прекрасным в золотисто-зеленом свете луны. Спустя недолгое время тело в углу шевельнулось – и не дай мне бог еще раз когда-нибудь услышать и увидеть то, что за этим последовало! Мне не под силу описать его истошный вопль и адские видения, отразившиеся в его глазах. Я лишился чувств и пришел в себя оттого, что мой друг отчаянно тряс меня за плечо, боясь остаться наедине со своими кошмарами.
На том и закончились наши добровольные странствия в мире снов. Глубоко потрясенный и чуть не до смерти напуганный, мой друг, побывавший за последней чертой, предостерег меня от новых подобных попыток. Он так и не решился рассказать мне, что он там видел, но, основываясь на своем страшном опыте, настоял, чтобы мы впредь как можно меньше спали, даже если ради этого придется использовать сильнодействующие стимуляторы. Вскоре я убедился в его правоте: стоило мне задремать, как меня охватывал невыразимый ужас. И всякий раз после краткого вынужденного сна я ощущал себя разбитым и постаревшим; что же касается моего друга, то его процесс старения шел с потрясающей быстротой. Тяжко было наблюдать, как у него ежедневно появляются все новые морщины и седые волосы. Наш образ жизни теперь совершенно переменился. Прежде бывший затворником, мой друг – кстати, так ни разу и не обмолвившийся о своем настоящем имени и происхождении – теперь панически боялся одиночества. По ночам он не мог оставаться один, да и компании из нескольких человек ему было недостаточно, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно. Единственным его утешением стали шумные многолюдные сборища и буйные пирушки, так что мы сделались завсегдатаями мест, где обычно гуляла веселая молодежь. В большинстве случаев наши внешность и возраст вызывали насмешки, больно меня задевавшие, но мой спутник считал их меньшим злом по сравнению с одиночеством. Более всего он страшился остаться один среди ночи под звездным небом, а если ему все же случалось ночной порой очутиться вне дома, то и дело затравленно взглядывал вверх, словно ожидая нападения оттуда каких-то чудовищ. При этом я заметил, что в разные времена года его внимание приковывают разные точки на небосводе. Весенними вечерами такая точка находилась низко над северо-восточным горизонтом, летом он высматривал ее почти прямо над головой, осенью – на северо-западе, а зимой – на востоке, правда, лишь ранним утром. Вечера в середине зимы были для него самым спокойным периодом. Прошло два года, прежде чем я догадался связать его страх с конкретным объектом и стал искать на небосводе точку, чья позиция менялась бы на протяжении года в соответствии с направлением его взглядов, – и таковая обнаружилась в районе созвездия Северная Корона.
К тому времени мы уже перебрались в Лондон, где снимали комнату под мастерскую и были по-прежнему неразлучны, но избегали говорить о тех днях, когда мы пытались разгадать тайны миров, находящихся за пределами нашей реальности. Мы оба сильно постарели и подорвали свое здоровье в результате злоупотребления наркотиками, беспорядочного образа жизни и нервного истощения; редеющие волосы и борода моего друга сделались снежно-белыми. Мы приучили себя не спать более одного-двух часов подряд, дабы не оставаться надолго во власти забвения, представлявшего для нас смертельную угрозу.
И вот наступил туманный и дождливый январь, когда наши сбережения подошли к концу и не на что было купить стимулирующие препараты. Я давно уже распродал все свои мраморные бюсты и миниатюры из слоновой кости, а для изготовления новых у меня не было исходных материалов – как, впрочем, не было и сил работать, даже имейся у меня материал. Мы оба ужасно страдали, а однажды ночью мой друг прилег на кушетку и, не выдержав, забылся сном, настолько тяжелым и глубоким, что мне никак не удавалось его пробудить. Я отчетливо помню эту сцену: запущенная мрачная комната под самой крышей, по которой беспрестанно барабанит дождь; тикают единственные настенные часы, что сопровождается неслышным, но воображаемым тиканьем наших наручных часов, лежащих на туалетном столике; поскрипывает незакрытый ставень на одном из нижних этажей; смутно слышатся звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; и самое жуткое среди всего этого – глубокое мерное дыхание моего друга, как будто отсчитывающее секунды агонии его духа, унесенного в далекие запретные сферы.
Мое напряженное бдение становилось все более гнетущим; череда мимолетных впечатлений и ассоциаций стремительно проносилась в моем расстроенном воображении. Откуда-то донесся бой часов – не наших настенных, поскольку они были без боя, – и это дало новое направление моим мрачным фантазиям: часы – время – пространство – бесконечность… Тут я вернулся к реальности, вдруг очень явственно представив себе, как где-то за скатом крыши, за дождем и туманом над северо-восточным горизонтом именно сейчас восходит Северная Корона. Это сияющее звездное полукольцо, наводившее такой ужас на моего друга, пусть сейчас и незримое, тянуло к нам свои лучи через космическую бездну. Внезапно мой обострившийся слух уловил новый звук в уже привычной какофонии шумов – это был низкий несмолкающий вой, жалобный, издевательский и зовущий одновременно, и доносился он издалека, с северо-востока.
Но не этот отдаленный вой приковал меня к месту и оставил в моей душе печать страха, от которой мне не избавиться вовеки; не он стал причиной моих последующих воплей и конвульсий, которые побудили соседей вызвать полицию и взломать дверь мастерской. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел: в темной комнате с запертой дверью и плотно зашторенным окном вдруг из северо-восточного угла вырвался зловещий золотисто-красный луч, который не рассеивал окружающую тьму, а только высветил откинутую на подушку голову спящего. И в этом свете я увидел то же самое юное лицо, какое являлось мне во время сновидческих полетов сквозь пространство и время, когда мой друг раньше меня преодолевал все преграды, пока не проник за последний барьер, в самое средоточие ночных кошмаров.
Между тем голова его приподнялась с подушки, глубоко запавшие черные глаза раскрылись в ужасе, а тонкие бескровные губы искривились словно в попытке издать крик, который, однако, так и не прозвучал. И в этом мертвенно-бледном, высвеченном из тьмы и застывшем как маска лице отразился предельный, абсолютный ужас, какой только может существовать во вселенной. Мы оба не издали ни звука, а между тем далекий вой все нарастал. Когда же я проследил за направлением его взгляда и на мгновение увидел источник зловещего луча, этого мгновения оказалось достаточно: я тотчас издал пронзительный вопль и забился в припадке, как эпилептик, переполошив соседей и побудив их вызвать полицию. При всем желании я не смог бы описать, что именно мне довелось увидеть в тот момент; а что бы ни увидел мой бедный друг, он уже никогда не расскажет. Мне же впредь не остается ничего иного, как по возможности дольше не поддаваться властителю снов – коварному и ненасытному Гипносу, а также губительным силам звездного неба и безумным амбициям познания и философии.
До сих пор подробности этой истории являются загадкой не только для меня, но и для всех окружающих, поголовно ставших жертвами непонятной забывчивости, если только не группового помешательства. С какой-то стати они в один голос утверждают, что у меня никогда не было никакого друга и что вся моя злосчастная жизнь была без остатка заполнена искусством, философией и безумными фантазиями. В ту ночь соседи и полицейские попытались меня утихомирить, а затем вызвали врача, давшего мне успокоительное, но при этом все они дружно проигнорировали иные последствия разыгравшейся там трагедии. Их, в частности, нисколько не озаботила участь моего несчастного друга; совсем напротив – то, что они обнаружили на кушетке, вызвало с их стороны бурю восторгов и похвал в мой адрес, отчего меня едва не стошнило. За восторгами последовала и громкая слава, ныне с презрением отвергаемая мной: лысым седобородым стариком, жалким, разбитым, усохшим и вечно одурманенным наркотиками, – когда я часами сижу, любуясь и вознося молитвы предмету, найденному тогда в мастерской.
Ибо они утверждают, что я не продал самое последнее из своих творений, и без устали восторгаются им – холодным, окаменевшим и навсегда умолкшим после прикосновения запредельного света. Это все, что осталось от моего друга и наставника, приведшего меня к безумию и катастрофе, – божественный мраморный образ, достойный резца лучших мастеров древней Эллады; неподвластное времени прекраснейшее юное лицо в обрамлении бородки, с приоткрытыми в улыбке губами, высоким чистым лбом и густыми вьющимися кудрями, покрытыми венком из полевых маков. Говорят, это я изваял по памяти самого себя, каким я был в двадцать пять лет, однако на мраморном основании бюста начертано лишь одно имя – ГИПНОС.
1922
Праздник
Efficiut Daemones, ut quae non sunt, sic tamen quasi sint, conspicienda hominibus exhibeant.
Laclanlius
Я оказался далеко от дома, на восточном побережье, и море меня зачаровало. В сумерках слышно было, как оно тяжело бьется о камни, и я знал, что оно скрыто от меня всего лишь одной горой, на которой причудливо извивались и корчились ивы на фоне проясняющегося неба с первыми вечерними звездами. Повинуясь воле моих предков, призвавших меня в расположенный у подножия горы старый город, я шел по одинокой, убранной первым снежком дороге туда, где Альдебаран сверкал между деревьями над самым древним городом, которого я еще ни разу не видел, но о котором часто мечтал.
Был канун праздника Юлтайд, и, хотя теперь его называют Рождеством, все в глубине души знают, что он старше Вифлеема и Вавилона, старше Мемфиса и вообще человечества. Приближался Юлтайд, и я наконец-то приехал в старый приморский город, в котором мои предки жили и праздновали запрещенный праздник, наказав своим сыновьям праздновать его раз в сто лет, чтобы не угасла память об их тайных знаниях. История моей семьи началась давно, гораздо раньше, чем те триста лет, когда была заселена здешняя земля. Да и странными были мои предки. Диковатые и малоразговорчивые, они явились из тихих южных садов, в которых росли орхидеи, и говорили на другом языке, прежде чем выучились языку голубоглазых рыбаков. Теперь мои родичи рассеяны, и их объединяют лишь таинственные обряды, которых они не понимают. Я единственный, исполняя завет, приехал в тот вечер в старый рыбачий город, ибо помнят только бедные и одинокие.
В наступивших сумерках я увидел раскинувшийся у подножия горы зимний Кингспорт – заснеженный город с древними флюгерами и шпилями, с островерхими крышами и колпаками дымовых труб, с пристанями и мостами, с ивовыми деревьями и кладбищами, с нескончаемым лабиринтом крутых узких улочек и увенчанной церковью головокружительной горой посередине, на которую время не посмело посягнуть, с бесчисленными стоящими на разных уровнях и под разными углами, словно разбросанные детские кубики, домами в колониальном стиле. Над посеребренными зимой двускатными крышами парила на седых крыльях древность. Окошки над дверьми и небольшие окна на фасадах домов высвечивали в морозных сумерках цепочку до Ориона и других таких же исстари известных звезд. А там, где гнили пристани, тяжело билось о камни море, невидимое и вечное море, из которого в незапамятные времена вышли люди.
Возле дороги, где она круто шла вверх, неожиданно выросла куда более высокая гора – совершенно голая и даже не припорошенная снегом, и я увидел кладбище с черными надгробиями, вылезавшими, как привидения, из белого покрывала и похожими на гниющие ногти гигантского трупа. На дороге я не заметил никаких следов и не встретил ни одного человека, но иногда мне казалось, будто я слышу в порывах ветра далекий скрип виселицы. В 1692 году здесь казнили за колдовство четверых моих предков, но я не знаю, где именно.
Когда дорога вывела меня на склон горы, смотрящий на море, я ожидал услышать веселый вечерний гомон, но кругом царило безмолвие. Я подумал, что у здешних пуритан могут быть собственные рождественские обычаи и не исключено, что они теперь погружены в тихие молитвы. Итак, не слыша никаких доказательств предрождественского веселья и не видя ни одного человека, я продолжал путь мимо домов, из которых не доносилось ни звука, но в которых горел свет, мимо кирпичных оград, туда, где на безлюдных и немощеных улицах, скудно освещенных занавешенными окнами, поскрипывали на соленом морском ветру вывески старинных лавок и кабаков и поблескивали смешные дверные молотки.
Я видел карты города и знал, как выйти к дому моих предков. Мне говорили, что меня узнают и приветят, ведь деревенские обычаи долговечнее городских, и я торопливо шагал по Бэк-стрит к Серкл-корт, а потом по свежему нетронутому снежку на единственной уложенной камнем площади к Грин-лейн, где она сворачивает за рынок. Старые карты меня не подвели, хотя с троллейбусной линией в Аркхеме что-то напутали, потому что я не заметил над головой никаких проводов. Впрочем, снег все равно запорошил бы рельсы. Я был рад, что пошел пешком, потому что сверху заснеженный город выглядел удивительно красиво, а теперь мне еще не терпелось постучать в построенный до 1650 года дом моих предков со старинной двускатной крышей и выступающим верхним этажом – седьмой дом слева по Грин-лейн.
Когда я приблизился к нему, в ромбовидных окнах горел свет, и по их очертаниям я понял, что дом остался в точности таким, каким был в прежние времена. Верхний этаж нависал над узкой, поросшей травой улицей, почти соприкасаясь с верхним этажом дома напротив, так что я оказался почти что в туннеле, когда остановился возле каменного крылечка, на которое не падал снег. Тротуаров тут не было, и к входным дверям многих домов вели высокие, в два пролета лестницы с железными перилами. Для меня это было странное зрелище. Прежде я не бывал в Новой Англии и ничего подобного никогда не видел, но мне понравилось, и понравилось бы еще больше, если бы на снегу были следы, по улицам ходили люди и хоть на нескольких окнах не были опущены занавески.
Когда я стукнул в дверь старинным железным молотком, то почувствовал страх. Наверное, он уже копился во мне из-за непонятного моего наследства, из-за холодного вечера и из-за тишины в этом древнем городке со странными обычаями. Когда же на мой стук ответили, я совсем перепугался, потому что не слышал шагов перед тем, как дверь со скрипом отворилась. Но страх скоро прошел, такое у стоявшего в дверях старика в халате и шлепанцах было милое лицо. Показав мне знаком, что он немой, старик написал забавное старинное «добро пожаловать» на восковой дощечке, которую не забыл с собой прихватить.
Он провел меня в освещенную свечами комнату с низким потолком и массивными нависающими балками, уставленную темной мебелью семнадцатого столетия. Прошлое здесь было как живое, во всех своих подробностях. Я увидел пещерообразную печь и прялку, возле которой спиной ко мне сидела, согнувшись, старуха в огромной шали и чепце мешком и молча работала, несмотря на приближающийся праздник. В комнате почти неуловимо пахло сыростью, и я удивился, почему никому не приходит в голову разжечь огонь. Мне показалось, что кто-то сидит на скамье с высокой спинкой, поставленной слева против занавешенных окошек, хотя я не был в этом уверен. Увиденное мне не очень понравилось, и я вновь ощутил исчезнувший было страх, причем страх становился тем сильнее, чем дольше я всматривался в благостное лицо старика, поначалу успокоившее меня, а теперь ужасавшее своей благостью. Застывшие в неподвижности глаза и восковая кожа навели меня на мысль, что это и не лицо вовсе, а дьявольская маска. Тем временем слабые ручки, почему-то в перчатках, в самых милых выражениях писали на дощечке просьбу немного подождать, потому что пока еще не время идти на праздник.
Показав мне на кресло и на кучу книг, старик ушел, а я сел к столу, решив и вправду почитать, и увидел, что все книги старые и порченные временем. Среди них были давнее издание «Чудес науки» старика Морристера, чудовищный том «Saducismus Triumphatus’ Джозефа Гланвиля, напечатанный в 1681 году, ужасная «Daemonolatreia» Ремигия, увидевшая свет в 1595 году в Лионе, и, самое страшное, никогда не упоминаемый «Necronomicon» безумного араба Абдула Альхазреда в запрещенном переводе на латынь Оляуса Вормия. Эту книгу я никогда в глаза не видел, но о ней шепотом рассказывали самые отвратительные вещи. Никто со мной не заговаривал, и я слышал только какой-то скрип с улицы и жужжание колеса, потому что молчавшая старуха в колпаке ни на мгновение не прерывала своей работы. И комната, и книги, и люди внушали мне болезненное беспокойство, однако легенды моих предков более или менее подготовили меня к необычным празднествам, поэтому я решил ждать. Итак, я взялся за чтение «Necronomicon» и скоро был совершенно поглощен проклятой книгой, мысль и содержание которой были слишком отвратительны для здравомыслящего человека и мне не нравились, как вдруг мне показалось, будто закрыли одно окно напротив скамьи, тайком распахнутое незадолго до этого. Но прежде я услышал жужжание, однако не жужжание старухиной прялки. Это продолжалось недолго. Старуха все так же, не отрываясь, пряла, старинные часы громко отбивали время, и я, забыв о людях на скамье, вновь погрузился в страшное чтение, как вдруг в комнату вошел старик в свободном старинном одеянии и уселся на скамье так, что я не мог его видеть. Ожидание становилось все более неприятным, и богохульная книга у меня в руках лишь усиливала мое волнение. Но вот пробило одиннадцать часов. Старик встал, скользнул к стоявшему в уголке массивному резному сундуку и достал из него два плаща с капюшонами. Один он надел сам, а другой накинул на старуху, покончившую наконец со своей бесконечной пряжей. Оба направились к входной двери. Старуха еле плелась да еще хромала, а старик, подхватив ту самую книгу, которую я читал, кивнул мне, натягивая капюшон на свое неподвижное лицо или маску.
Мы вышли в не освещенный луной лабиринт старинных улочек, как раз когда один за другим гасли огни за занавешенными окнами и Сириус – Песья Звезда – злобно глядел на толпу закутанных в плащи людей, появляющихся из дверей и образующих чудовищные процессии. Они заполонили все улицы и медленно двигались мимо скрипящих вывесок и допотопных фронтонов, мимо соломенных крыш и ромбовидных окон, разделяясь на отдельные ручейки, когда попадали в узкие проходы между домами, и снова соединяясь в поток, заполняющий все пространство под нависающими верхними этажами ветхих домов и скользящий по площадям и церковным дворам в неверном свете фонарей, напоминавших жутковато-пьяные созвездия.
Я следовал в молчаливой толпе за моими немыми проводниками. Меня пихали локтями, которые казались мне непонятно мягкими, прижимали к ненормально податливым животам и грудям, но я не видел ни одного лица и не слышал ни одного слова. Вверх, вверх, вверх тянулись жутковатые колонны, и я заметил, что они сходятся в одной точке, сводя вместе все обезумевшие улицы на вершине самого высокого холма в центре города, где стояла большая белая церковь. Я обратил на нее внимание, когда в нарождающихся сумерках смотрел с горы на Кингспорт и содрогался, потому что Альдебаран, как мне показалось, несколько мгновений балансировал на вершине призрачного шпиля.
Возле церкви было много свободного пространства, половину которого занимал церковный двор с призрачными колоннами, а половину – мощеная площадь, порывами ветра почти полностью очищенная от снега и ограниченная угрюмой чередой старых домов с двускатными крышами и нависающими верхними этажами. Над могилами плясали огни смерти, освещая отвратительную перспективу, в которой не было места теням. Из той части церковного двора, где дома не загораживали обзор, я увидел сверкание звезд над портом, хотя сам город был погружен во тьму. Правда, время от времени на какой-нибудь улочке зажигался фонарь и извилистым путем спешил к толпе, безмолвно исчезавшей в церкви. Я ждал, пока все скроются в черном проеме, включая опоздавших. Старик тянул меня за рукав, но я решил быть последним. Переступая порог переполненного храма, перед тем как оказаться в пугающе-неведомой тьме, я оглянулся на оставляемый мною мир, и в эту минуту фосфоресцирующий нездоровый свет с церковного двора осветил всю вершину. Я содрогнулся. Хотя сильный ветер смел почти весь снег, все же его немного осталось возле двери, но когда я посмотрел назад, то не увидел на нем ни одного следа, даже моих следов не было.
Внутри церковь была почти погружена во мрак, несмотря на зажженные фонари, ибо большая часть толпы, бесшумно пройдя между высокими скамьями, уже исчезла в люке, который отвратительно разинул пасть перед самой кафедрой проповедника. Я молча шел следом за всеми к стертым ступеням темного душного склепа. Извилистая очередь ночных ходоков была ужасна, но, когда я увидел, как они друг за другом исчезают в старинном склепе, она показалась мне еще ужаснее. Потом я обратил внимание, что лестница круто идет вниз, а мгновением позже сам вместе со всеми шагал по зловещим ступеням из шершавого камня в сырость и непонятную вонь, и узкая винтовая лестница бесконечно вилась в глубь холма, оставляя позади мокрый камень и осыпающийся известняк. Спуск происходил в пугающей тишине, а немного погодя я заметил, что стены и лестница вроде бы стали другими, словно вырубленными в каменной глыбе. Но больше всего меня пугали бесшумные шаги множества ног и отсутствие даже самого тихого эха. Оказавшись еще ниже, я увидел боковые проходы или норы, которые выходили в нашу таинственную шахту из неведомой тьмы. Скоро их стало очень много, и подземные катакомбы начали вызывать у меня ощущение непонятной угрозы, тем более что едкий гнилой запах сделался почти непереносимым. Я понимал, что мы идем под горой и под Кингспортом, и содрогался от ужаса, осознавая, насколько город стар и сколько зла скопилось под ним.
Неожиданно появился слабый неверный свет, и я услышал коварный плеск не знающих солнца вод. Меня вновь охватила дрожь, ибо мне не нравилось все происходившее, и я горько пожалел о том, что мои предки позаботились известить меня о своем празднике. Когда лестница и шахта несколько расширились, я услыхал новый звук, тоненький жалобный стон флейты, и передо мной раскинулся беспредельный простор подземного мира – необъятный ноздреватый берег, освещенный столпом бледно-зеленого пламени и омываемый широкой маслянистой рекой, которая поднималась из неведомой бездны, чтобы влиться в черные воды вечного океана.
Задыхаясь и почти теряя сознание, я смотрел на этот нечестивый Эреб гигантских поганок, лепрозоидный огонь и болотистый поток и видел, как люди в капюшонах встают полукругом возле огненной колонны. Вот он, Юлтайд, который старше человека и переживет человека, доисторический обряд, посвященный солнцестоянию и весне, побеждающей снег, обряд огня и вечной зелени, света и музыки. Он совершался в адском подземелье на моих глазах. Пришедшие кланялись больному пламени и бросали в воду горсти клейкого сока растений, сверкающего зеленью на зеленом свету. Я это видел и видел, как нечто бесформенное, расположившееся в отдалении, беззвучно дует в рожок, но, когда оно дуло в него, мне казалось, я слышу приглушенное губительное хлопанье невидимых крыльев во враждебной мне и непроницаемой тьме. Но больше всего меня испугал выбрасываемый из немыслимых глубин, словно из жерла вулкана, огненный столб без тени, какая полагается здоровому пламени, покрывающий отвратительной ядовитой прозеленью азотистый камень. От этого огня не исходило тепло, наоборот, в нем был холод смерти и тления.
Старик, который привел меня, теперь стоял возле самого огненного столба и, повернувшись лицом к толпе, неуклюже изображал ритуальное действо. В определенные моменты все низко ему кланялись, особенно когда он поднимал над головой отвратительный «Necronomicon», и я тоже кланялся вместе со всеми, потому что меня призвали сюда мои предки. Потом старик подал знак едва заметному в темноте музыканту, и он сменил свое почти неслышное гудение на другое, тоже почти неслышное, но в ином ключе, отчего я неожиданно ощутил еще больший ужас и низко наклонился к покрытой лишаями земле, потеряв голову от страха, но не перед этим миром и не перед каким-либо другим, а перед безумными пространствами между звездами.
Из немыслимой тьмы позади гангренозного ледяного пламени, из адских бездн, по которым шел путь маслянистой реки, нежданно и неслышно явилась пляшущая орда покорных дрессированных гибридных существ с крыльями, каких никогда не видел и даже не мог бы вообразить ни один нормальный человек. Это не были ни вороны, ни кроты, ни канюки, ни муравьи, ни любительницы крови – летучие мыши, ни изуродованные люди. Я не могу вспомнить, да и зачем? Хромая, шлепали они на перепончатых лапах, помогая себе такими же перепончатыми крыльями, и едва приблизились к празднующей толпе, как существа в плащах с капюшонами стали хватать их и громоздиться на них, и один за другим они скакали прочь по берегу неосвещенной реки, исчезая в ужасных ямах и штольнях, где ядовитые ручьи вскармливали страшные запретные потоки.
Старуха, которая пряла в доме, исчезла вместе с толпой, а старик остался, но только потому, что я отказался последовать за всеми, когда он показал мне на одно из крылатых существ. У меня подогнулись колени, стоило мне заметить, что музыкант исчез, зато рядом терпеливо ждут два зверя. Я отпрянул, и старик, достав стило и восковую дощечку, написал, что он представляет моих предков, которые в этих древних местах учредили культ Юла, что мне было назначено возвратиться сюда и что тайные обряды еще впереди. Все это он написал старинным письмом, а так как я еще медлил, то он достал из складок своего широкого одеяния перстень с печаткой и часы – и то и другое с фамильным гербом, – желая убедить меня в том, что он в самом деле тот, за кого себя выдает. Лучше бы он этого не делал, ибо известные мне семейные документы сообщали о часах, положенных в могилу моего прапрапрапрадедушки в 1698 году.
Тогда старик откинул капюшон и показал мне на фамильные черты своего лица, отчего я задрожал еще сильнее, так как не сомневался, что вижу дьявольскую восковую маску. Крылатые звери принялись нетерпеливо возить лапами по лишайнику, и, насколько я заметил, старик тоже стал проявлять нешуточное беспокойство. Когда же один из зверей двинулся было прочь, старик стремительно обернулся и схватил его, но с того, что было его лицом, слетела маска. И тогда, так как это чудовище из ночного кошмара загораживало каменную лестницу, по которой мы спустились в подземелье, я бросился в маслянистую адскую реку, которая, бурля, вливалась в море. Я бросился в гнилое варево подземных кошмаров прежде, чем мои истошные крики привлекли ко мне внимание скрытых в чумных водах черных легионов.
В больнице мне рассказали, что меня случайно заметили на рассвете в порту Кингспорта – полузамерзшего, но из последних сил цеплявшегося за доску, посланную мне счастливым случаем. Еще мне рассказали, что на развилке я свернул не в ту сторону и свалился с утеса в Орандж-Пойнт, о чем им стало известно из моих следов на снегу. Я не мог спорить, потому что утром все было не таким, как вечером. Все было не таким. В огромные окна я видел море крыш, и лишь одна из пяти сохранилась от прежних времен, а с улицы доносился шум троллейбусов и машин. Они утверждали, что я в Кингспорте, и я не мог им ничего возразить. Но когда, услышав, что больница расположена возле старой церкви на Центральном холме, я потерял сознание, меня перевезли в Аркхем в больницу Святой Марии, где мне могли обеспечить лучший уход. Здесь мне понравилось, потому что врачи оказались людьми терпимыми и с широкими взглядами и даже достали для меня из библиотеки Мискатоникского университета строго хранимую там книгу «Necronomicon» Абдула Альхазреда. Правда, они говорили об «остром психозе» и советовали мне выбросить из головы все беспокойные мысли.
Итак, я прочитал страшную главу, вдвойне содрогаясь, потому что не узнал из нее ничего нового. Я сам все видел, что бы ни говорили следы на снегу, но совсем забыл, где видел. И не было никого в часы моего бодрствования, кто бы мог напомнить мне, где я это видел, однако над моими снами властвует страх из-за слов, которые я не смею повторить. Тем не менее я стараюсь быть храбрым и процитирую здесь один-единственный параграф, в меру моих способностей переведенный мною на английский язык с весьма странной вульгарной латыни.
«Подземные каверны, – пишет сумасшедший араб, – существуют не для любопытных глаз, ибо их чудеса ужасны. Проклята та земля, на которой мертвые мысли живут в новых воплощениях, и порочен тот разум, что не имеет головы. Мудро сказал Ибн Скакабао, что счастлива та могила, в которой не лежит колдун, и счастлив тот ночной город, в котором все колдуны обращены в прах. В старину говорили, что душа, купленная дьяволом, не спешит из кладбищенской глины, но кормит и учит червя, который ест, пока из гнили не появится ужасный росток жизни, пока бездумные мусорщики не навощат его искусно, чтобы рассердить, и не раздуют, чтобы раздражить.
Огромные норы роют втайне там, где нужно быть земным порам и где научаются ходить те, кто должен ползать».
Модель Пикмана
Не посчитай, что я спятил, Элиот, на свете встречаются люди и не с такими причудами. Вот дедушка Оливера никогда не ездит в автомобилях – что б тебе и над ним не посмеяться? Ну не по душе мне треклятая подземка, так это мое личное дело, к тому же мы гораздо быстрее добрались на такси. А иначе вышли бы на Парк-стрит и потом тащились пешком в гору.
Согласен, при нашей встрече в прошлом году я не был таким дерганым, но нервы – это одно, а душевная болезнь – совсем другое. Видит бог, причин было более чем достаточно, и если я сохранил здравый рассудок, то мне, можно сказать, повезло. Да что ты, в самом деле, пристал, как с ножом к горлу? Прежде ты не был таким любопытным.
Ну ладно, если тебе так приспичило, слушай. Наверное, ты имеешь право знать, ты ведь писал мне, беспокоился, прямо как отец родной, когда я перестал посещать клуб любителей живописи и порвал с Пикманом. Теперь, после того как он исчез, я порой бываю в клубе, но нервы у меня уже не те.
Нет, я понятия не имею, что случилось с Пикманом, не хочу даже и гадать. Тебе, наверное, приходило в голову, что я прекратил с ним общаться неспроста, мне кое-что о нем известно. Именно поэтому мне не хочется даже задумываться о том, куда он подевался. Пусть выясняет полиция в меру своих возможностей, да только что они могут – они не знают даже про дом в Норт-Энде, который он снял под фамилией Питерс. Не уверен, что и сам найду его снова, да и не стану пытаться, даже при дневном свете! Зачем этот дом ему понадобился, мне известно – вернее, боюсь, что известно. Об этом речь впереди. И, думаю, еще до окончания рассказа ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию. Они захотят, чтобы я их туда отвел, но даже если бы я вспомнил дорогу, у меня не пойдут ноги. Там было такое… отчего я теперь не спускаюсь ни в метро, ни в подвалы – так что смейся, если тебе угодно.
Ты, конечно, знал еще тогда, что я порвал с Пикманом совсем не из-за тех глупостей, которые ему ставили в вину эти вздорные ханжи вроде доктора Рейда, Джо Майнота или Босуорта. Меня ничуть не шокирует мрачное искусство; если у человека есть дар, как у Пикмана, то, какого бы направления в искусстве он ни придерживался, я горжусь знакомством с ним. В Бостоне не было живописца лучше, чем Ричард Аптон Пикман. Я говорил это с самого начала, повторяю и теперь; я не колебался и в тот раз, когда он выставил эту самую «Трапезу гуля». Тогда, если помнишь, от него отвернулся Майнот.
Чтобы творить на уровне Пикмана, требуются большое мастерство и глубокое понимание Природы. Какой-нибудь малеватель журнальных обложек наляпает там-сям ярких красок и назовет это кошмаром, или шабашем ведьм, или портретом дьявола, но только большой художник сумеет сделать такую картину на самом деле страшной и убедительной. Ибо лишь истинному художнику известна настоящая анатомия ужасного, физиология страха: с помощью каких линий и пропорций затронуть наши подспудные инстинкты, наследственную память о страхе; к каким обратиться цветовым контрастам и световым эффектам, дабы воспрянуло ото сна наше ощущение потусторонней угрозы. Излишне тебе рассказывать, почему картины Фюсли действительно вызывают трепет, а глядя на обложку дешевой книжки-страшилки, захочешь разве что посмеяться. Подобные люди умеют уловить нечто эдакое… нездешнее и дать и нам на миг это почувствовать. Этим умением владел Доре. Им сейчас владеет Сайм. Ангарола из Чикаго. Пикман владел им как никто другой до него и – дай бог – никто не будет владеть после.
Что они такое видят – не спрашивай. Знаешь, в обычном искусстве существует принципиальное различие между живыми, дышащими картинами, написанными с натуры или с модели, и убогими поделками, которые всякая мелюзга корысти ради штампует по стандарту в пустой студии. А вот подлинный мастер фантастической живописи, скажу я тебе, обладает неким видением, способностью создать в уме модель или сцену из призрачного мира, где он обитает. Так или иначе, картины Пикмана отличались от сладеньких придумок иных шарлатанов приблизительно так же, как творения художников, пишущих с натуры, от стряпни карикатуриста-заочника. Видеть бы мне то, что видел Пикман… но нет! Прежде чем вникнуть глубже, давай-ка опрокинем по стаканчику. Бог мой, да меня бы уже не было на этом свете, если бы я видел то же, что этот человек – вот только человек ли он?
Как ты помнишь, сильной стороной Пикмана было изображение лиц. Со времен Гойи он был единственный, кто умел создавать такие дьявольские физиономии и гримасы. Из предшественников Гойи этим мастерством владели средневековые искусники, создавшие горгулий и химер для собора Нотр-Дам и аббатства Мон-Сен-Мишель. Они верили во всякую всячину, а быть может, и видели эту всякую всячину: в истории Средневековья бывали очень странные периоды. Помню, как ты сам за год до своего отъезда спросил однажды Пикмана, откуда, черт возьми, он заимствует подобные идеи и образы. И разве не гнусный смешок ты услышал в ответ? Отчасти из-за этого смеха с Пикманом порвал Рейд. Он, как тебе известно, занялся недавно сравнительной патологией и теперь, кичась своей осведомленностью, рассуждает о том, что значат с точки зрения биологии и теории эволюции те или иные психологические и физические симптомы. Рейд говорил, что Пикман с каждым днем все больше отвращал его, а под конец чуть ли не пугал, что в его внешности и повадках появилось что-то мерзкое, нечеловеческое. Он много разглагольствовал о питании и сделал вывод, что Пикман наверняка завел себе необычные, в высшей степени извращенные привычки. Догадываюсь: если вы с Рейдом упоминали Пикмана в своей переписке, ты наверняка предположил, что Рейд просто насмотрелся картин Пикмана и у него разыгралось воображение. Я и сам как-то раз ему это сказал… в ту пору.
Но имей в виду, что я не порвал бы с Пикманом из-за его картин. Напротив, я все больше им восхищался: «Трапеза гуля» – это настоящий шедевр. Ты знаешь, конечно, что клуб отказался ее выставить, а Музей изящных искусств не принял в дар. Могу добавить: картину к тому же никто не купил, и она оставалась у Пикмана вплоть до того дня, когда он исчез. Теперь она у его отца в Салеме: тебе ведь известно, что Пикман происходит из старинного салемского рода; в 1692 году одна из его представительниц была повешена как ведьма.
Я частенько заглядывал к Пикману, особенно когда стал собирать материал для монографии о фантастическом жанре в искусстве. Скорее всего, именно эта картина навела меня на мысль к нему обратиться. Так или иначе, оказалось, что он просто кладезь сведений и идей. Пикман познакомил меня со всеми, что у него имелись, картинами и рисунками в этом жанре, и, ей-богу, если бы о них стало известно в клубе, его бы в два счета оттуда выкинули. Очень скоро он убедил меня и увлек; часами, как школьник, я выслушивал его дикие суждения об искусстве и философские теории, с какими прямая дорога в Данверский сумасшедший дом. Я смотрел на него как на идола, тогда как другие все больше его сторонились, и потому он стал мне доверять; однажды вечером он намекнул, что, если я пообещаю помалкивать и держать себя в руках, он покажет мне что-то необычное – такого я у него в доме еще не видел.
«Знаешь, – сказал он, – иные замыслы на Ньюбери-стрит непредставимы, да они здесь и не смогут возникнуть. Моя задача – ловить обертоны души, а откуда им взяться на ненатуральных улицах, в искусственном окружении? Бэк-Бэй – это не Бостон, Бэк-Бэй – это пока ничто, он слишком недавний, чтобы пропитаться воспоминаниями и обзавестись местными духами. Если здесь и водятся призраки, то это ручные духи приморских низин и мелководных бухточек, а мне нужны человеческие призраки – призраки существ высокоорганизованных, видевших геенну огненную и осознавших, что им открылось.
Художнику место в Норт-Энде. Эстету, если он истинный эстет, следует переехать в трущобы, где сохраняется множество традиций. Бог мой! Неужто не понятно, что такие места не были построены, а выросли сами по себе? Там жили, чувствовали, умирали поколение за поколением – в те времена, когда люди не боялись жить, чувствовать и умирать. Тебе известно, что в 1632 году на Коппс-Хилле находилась мельница и что добрая половина нынешних улиц была заложена в 1650 году? Я покажу тебе дома, которые простояли два с половиной века и больше, дома, повидавшие такое, от чего современный дом рассыпался бы в пыль. Что им, современным, известно о жизни и о силах, что за нею стоят? Ты говоришь, будто салемские ведьмы выдумка, но не сомневаюсь, моя прапрапрапрабабушка рассказала бы тебе много интересного. Ее вздернули на Висельном холме, под взглядом этого ханжи, Коттона Мэзера. Чего больше всего боялся треклятый Мэзер, так это как бы кто-нибудь не выбрался за окаянные рамки обыденности. Жаль, никто его не околдовал и не высосал ночью всю кровь!
Могу показать тебе его дом, и также другой, куда он боялся ступить, несмотря на все свои грозные речи. Ему было известно куда больше, чем он осмелился пересказать в своей дурацкой «Магналии» или наивных «Чудесах незримого мира». Слушай, а знаешь ли ты, что некогда под Норт-Эндом имелась сеть туннелей, соединявших разные дома и дававших тайный доступ на кладбище или к морю? Пусть на земле нас преследуют и гонят, под землю преследователям не проникнуть, откуда доносится ночами смех – не догадаться!
Из каждого десятка домов, что уцелели и стоят на своем месте с 1700 года, в восьми я берусь показать тебе в подполе кое-что интересное. Что ни месяц, читаешь в прессе: среди старых построек рабочие нашли то заделанную кирпичами арку, то колодец, ведущие неизвестно куда. Один такой дом, у Хенчман-стрит, был еще в прошлом году хорошо виден с эстакады надземки. Здесь прятались ведьмы, пираты, контрабандисты с добром, добытым при помощи колдовства и разбоя; говорю тебе, в старое время люди умели жить, умели раздвигать предписанные им границы. Людям было мало одного-единственного мира, умные и смелые шли дальше! А что сегодня? Сплошное размягчение мозгов: члены клуба, по идее знатоки, до дрожи пугаются, когда им показываешь картину, не отвечающую вкусам завсегдатаев чайных салонов на Бикон-стрит!
Единственное, чем хороши наши времена, – так это тем, что народ нынче слишком тупой, чтобы дотошно изучать прошлое. Что рассказывают о Норт-Энде карты, записи, путеводители? Тьфу! Да я не глядя берусь показать тебе три-четыре десятка переулков и кварталов к северу от Принс-стрит, не известных почти никому, кроме иностранцев, которых там видимо-невидимо. А всякие там итальяшки и прочие, разве они понимают, с чем имеют дело? Нет, Тербер, эти старинные местечки дремлют себе на роскошном ложе тайн, ужасов и необычных возможностей, и не найдется ни единой живой души, способной их понять и ими воспользоваться. То есть одна живая душа все же есть: в прошлом копаюсь я, и не первый день!
Слушай, ты же всем таким интересуешься. А если я скажу тебе, что завел там себе вторую студию, где охочусь за ночными призраками старинных страхов, где изображаю сюжеты, о которых на Ньюбери-стрит не решаюсь и думать? Разумеется, этих чертовых истеричек из клуба я не ставил в известность, в том числе и Рейда, чтоб он провалился. Придумал, тоже мне: я, мол, в своем роде чудовище, эволюционирую в обратную сторону. Да, Тербер, я давно уже понял: ужас так же заслуживает быть запечатленным в картинах, как и красота. Поэтому я взялся за розыски в тех местах, где, как я небезосновательно полагаю, обитает ужас.
Я нашел там местечко; из нынешних представителей нордической расы о нем, кроме меня, почти никто не знает. Если мерить расстояние, это в двух шагах от эстакады, но что касается истории человеческого духа, эти точки разделяют века и века. Мой выбор решило то, что в подвале имеется старый кирпичный колодец – из тех, о которых я говорил. Развалюха едва держится, так что других жильцов там не появится, а какие гроши я за нее плачу, стыдно и признаться. Окна заколочены, но тем лучше: для того, что я делаю, дневной свет нежелателен. Пишу я в подвале, где самая вдохновляющая атмосфера, но в моем распоряжении еще несколько меблированных комнат на первом этаже. Хозяин – один сицилиец, я назвался ему Питерсом.
Ну, если ты решился, отправляемся сегодня же вечером. Думаю, картины тебе понравятся: как уже было сказано, я дал себе волю, когда писал. Путь недалекий, иногда я даже добираюсь пешком; взять такси в такой район – значит привлечь к себе внимание. Можно доехать поездом от Саут-Стейшн до Бэттери-стрит, а там два шага пешком».
Что ж, Элиот, после этой речи мне ничего не оставалось, как только сделать над собой усилие, чтобы не бегом, а обычным шагом отправиться за первым, какой попадется, свободным кебом. На Саут-Стейшн мы сели в надземку и около полуночи, спустившись по ступеням на Бэттери-стрит, двинулись вдоль старой береговой линии мимо причала Конститьюшн. Я не следил за дорогой и не вспомню, в который мы свернули переулок, знаю только, что это был не Гриноу-лейн.
Наконец повернув, мы двинулись в горку по пустому переулку, старинней и обшарпанней которого я в жизни не видел; с фронтонов осыпалась краска, окна в частом переплете были побиты, остатки древних каминных труб сиротливо вырисовывались на фоне освещенного луной небосклона. Все дома, за исключением разве что двух-трех, стояли здесь еще со времен Коттона Мазера. Два раза мне попадались на глаза навесы, а однажды – островерхий силуэт крыши, какие были до мансардных, хотя местные знатоки древностей утверждают, будто таких в Бостоне не сохранилось.
Из этого переулка, освещенного тусклым фонарем, мы свернули в другой, где было так же тихо, дома стояли еще теснее, а фонарей не было вовсе. Через минуту-другую мы обогнули в темноте тупой угол дома по правую руку. Вскоре Пикман вынул электрический фонарик и осветил допотопную десятифиленчатую дверь, судя по всему, безнадежно источенную червями. Отперев ее, он провел меня в пустой коридор, отделанный роскошными некогда панелями из темного дуба – без особой, разумеется, затейливости в рисунке, но явственно напоминавшими о временах Эндроса, Фиппса и ведовства. Потом Пикман провел меня в комнату налево, зажег масляную лампу и предложил располагаться как дома.
Имей в виду, Элиот, я человек, что называется, искушенный, но, оглядев стены, признаюсь, оторопел. Там были картины Пикмана – те, которые на Ньюбери-стрит не только не напишешь, но даже не покажешь, и он был прав в том, что «дал себе волю». Ну-ка еще по стаканчику – мне, во всяком случае, позарез нужно выпить!
Не стану и пытаться описать тебе эти картины: от одного взгляда на них становилось дурно.
Это был такой смердящий, кощунственный ужас, что язык тут бессилен. Ты не обнаружил бы в них ни причудливой техники, как у Сидни Сайма, ни устрашающих транссатурнианских пейзажей и лунных грибов Кларка Эштона Смита. Задний план обычно составляли старые кладбища, лесные дебри, береговые утесы, кирпичные туннели, старинные комнаты, отделанные темным деревом, или просто каменные своды. Любимым местом действия было кладбище Коппс-Хилл, которое располагалось поблизости, в двух-трех кварталах.
Фигуры на переднем плане воплощали в себе безумие и уродство: Пикману особенно удавались мрачные, демонические портреты. Среди его персонажей было мало полноценных людей, их принадлежность к роду человеческому ограничивалась теми или иными отдельными чертами. Стояли они на двух ногах, но клонились вперед и слегка напоминали собак. Отталкивающего вида кожа походила во многих случаях на резину. Ну и мерзость! До сих пор они стоят у меня перед глазами! За какими занятиями они были изображены, в подробностях не выспрашивай. Обычно кормились, но чем – не скажу. Временами они были показаны группами на кладбище или в катакомбах, нередко – дерущимися из-за добычи, а вернее, из-за находок. И какую же дьявольскую выразительность Пикман умудрялся придать незрячим лицам их жертв! Его персонажи запрыгивали иной раз по ночам в открытые окна, сидели, скорчившись, на груди у спящих, тянулись к их шеям. На одной картине, изображавшей Висельный холм, они окружали кольцом казненную ведьму, в лице которой прослеживалось явственное с ними сходство.
Но только не подумай, будто мне сделалось дурно от жутких сюжетов и антуража. Мне не три года, я всякого навидался. Дело в их лицах, Элиот, в их треклятых лицах, что буквально жили на картине, бросая злобные взгляды и пуская слюни! Бог мой, они вправду казались живыми! Адское пламя, зажженное красками, бушевало на полотнах мерзкого колдуна; кисть его, обращенная в магический жезл, рождала на свет кошмары. Дай-ка, Элиот, мне графин!
Одна из картин называлась «Урок» – лучше бы мне никогда ее не видеть! Слушай… можешь вообразить кружок невиданных тварей, похожих на собак, что, сидя на корточках, учат малое дитя кормиться так же, как они? Наверное, это подмененный ребенок: помнишь старые россказни о том, как таинственный народец крадет человеческих детей, оставляя взамен в колыбелях собственное отродье? Пикман показал, что случается с украденными детьми, как они вырастают, и после этого я начал замечать зловещее сходство в лицах людей и нелюдей. Показывая разные степени вырождения, от легких его признаков до откровенной потери человекоподобия, он глумливо протягивал между ними нить эволюции. Собаковидные твари произошли от людей!
Я еще не успел задуматься о том, как бы он изобразил собственное отродье этих тварей, навязанных людям подменышей, как мой взгляд уперся в картину, отвечавшую на этот вопрос. На ней было старинное пуританское жилище: мощные потолочные балки, окно с решетками, скамья со спинкой, громоздкая мебель семнадцатого века; семья сидела кружком, отец читал из Библии. Все лица выражали почтительное достоинство, лишь одно кривилось в дьявольской усмешке. Оно принадлежало человеку молодому, но уже не юноше, который явно находился здесь на правах сына набожного главы семейства, но на самом деле происходил от нечистого племени. Это был подменыш, и Пикман, в духе высшей иронии, придал ему заметное сходство с собой самим.
Пикман успел зажечь лампу в соседней комнате, открыл дверь и, любезно ее придерживая, спросил, хочу ли я взглянуть на его «современные этюды». От страха и отвращения мне отказал язык, и я ничего из себя не смог выдавить, но Пикман, похоже, понял меня и остался очень доволен. Заверяю тебя еще раз, Элиот: я вовсе не мимоза и не шарахаюсь от всего, что хоть чуточку расходится с привычными вкусами. Я не юноша и достаточно искушен; думаю, ты, зная меня по Франции, понимаешь, что такого человека не так-то легко выбить из колеи. Помни также, что я уже пришел в себя и кое-как притерпелся к ужасным холстам, на которых Новая Англия была представлена как какой-то придаток преисподней. Так вот, несмотря на это, в соседней комнате я невольно вскрикнул и схватился за дверь, чтобы не упасть. В первой комнате толпы гулей и ведьм переполняли мир наших предков, в этой же они вторгались в нашу повседневную жизнь!
Боже, что это была за живопись! Один этюд назывался «Происшествие в метро», там стая этих мерзких тварей выбиралась из неизвестных катакомб через трещину в полу станции подземки «Бойлстон-стрит» и нападала на людей на платформе. Другой изображал танцы среди надгробий на Коппс-Хилл, фон был современный. На нескольких дело происходило в подвалах; монстры протискивались через дыры и проломы в каменной кладке, сидели на корточках за бочками и печами и, злобно сверкая глазами, поджидали, пока спустится по лестнице первая жертва.
На одном полотне, самого отталкивающего вида, было представлено поперечное сечение холма Бикон-Хилл, пронизанного сетью ходов, в которых кишели, подобно муравьиным армиям, зловонные монстры. Неоднократно встречались изображения танцев на современных кладбищах, а один сюжет почему-то поразил меня больше остальных: в неведомом сводчатом помещении несколько десятков тварей теснились вокруг одной, которая, держа в руках популярный путеводитель по Бостону, очевидно, что-то зачитывала из него вслух. Все указывали на один из ходов, морды были перекошены в пароксизме безудержного, оглушительного хохота – я почти что слышал его адское эхо. Название картины гласило: «Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло покоятся на кладбище Маунт-Оберн».
Постепенно успокаиваясь и приноравливаясь к второй комнате с ее собранием демонов и рожденных больной фантазией сцен, я попытался понять, что меня особенно в них отвращало. Прежде всего, сказал я себе, создания Пикмана свидетельствуют о полном бессердечии их творца, о воображении, не обузданном никакими человеческими чувствами. Так упиваться муками разума и плоти, деградацией смертной оболочки человека мог только закоренелый враг рода людского. Во-вторых, картины вселяли тем больший ужас именно вследствие мастерского исполнения. Это искусство было на редкость убедительным – глядя на картину, ты видел подлинных демонов и трепетал перед ними. Странно было то, что Пикман словно бы ни о чем не умалчивал и ничто не искажал. В рисунке не было ничего расплывчатого, условного: четкий контур, жизнеподобие, педантично-подробная прорисовка. А лица!
Ты видел их не через призму восприятия художника – это был пандемониум как он есть, изображенный кристально ясно и объективно. Богом клянусь, это чистая правда! В Пикмане не было ничего от фантазера, сочинителя, он даже не пытался воплотить на полотне мимолетные образы сна – нет, он холодно и насмешливо фиксировал некий прочно устоявшийся механистический мир ужасов, который был открыт ему полностью, с ясностью, не допускавшей иных толкований. Одному Создателю известно, что это был за мир и где являлись Пикману богохульственные образы, передвигавшиеся по нему шагом, рысью или ползком, но, гадая о том, откуда они взялись, в одном можно было не сомневаться: во всех аспектах своего искусства – и в замысле, и в исполнении – Пикман был полным и добросовестным реалистом, опиравшимся едва ли не на научное знание.
Хозяин повел меня теперь в подвал, где, собственно, располагалась его студия, и я готовил себя к тому, чтобы обнаружить на его неоконченных полотнах новые дьявольские сюрпризы. Когда мы добрались до подножия осклизлой лестницы, Пикман осветил фонариком угол обширного пространства и луч уперся в круглое кирпичное сооружение – очевидно, большой колодец в земляном полу. Мы приблизились, и я разглядел, что он достигает в поперечнике футов пяти, стенки, толщиной в добрый фут, поднимаются над грунтом дюймов на шесть и сделан колодец весьма основательно – работа семнадцатого века, если не ошибаюсь. Пикман пояснил, что это как раз то, о чем он рассказывал: вход в сеть туннелей, которые в былые годы пронизывали холм. Я заметил между прочим, что колодец не заложен кирпичом, а прикрыт тяжелой деревянной крышкой.
При мысли о том, что, если намеки Пикмана не были празднословием, через колодец можно попасть в места самые разные, меня пробрала легкая дрожь. Затем мы повернули, поднялись на одну ступеньку и, войдя в узкую дверь, оказались в довольно большой комнате с дощатым полом, оборудованной под студию. Ацетиленовая горелка давала достаточно света, чтобы можно было работать.
Неоконченные картины на мольбертах или у стен производили такое же отталкивающее впечатление, что и оконченные, которые я осмотрел наверху, и были так же тщательно выписаны. Наброски были подготовлены с большим старанием, карандашные линии свидетельствовали о том, что Пикман заботился о правильной перспективе и пропорциях. Он был великий художник – говорю это даже сейчас, когда мне многое стало известно. Я обратил внимание на большую фотокамеру на столе, и Пикман объяснил, что фотографирует сцены, которые собирается использовать как фон, чтобы рисовать их в студии с фотографий, а не выезжать со всеми принадлежностями на этюды. Пикман считал, что фотографии с успехом заменяют натуру или живую модель, и, по его словам, постоянно их использовал.
Мне было очень тревожно в окружении тошнотворных эскизов, наполовину законченных монстров, злобно пялившихся из всех углов, и, когда Пикман внезапно сдернул чехол с громадного полотна, которое стояло в тени, я – второй раз за вечер – не удержался от крика. По темным сводам старинного душного подземелья побежало многократное эхо, и я едва не откликнулся на него истерическим хохотом. Боже милостивый, Элиот, я не знал, где здесь правда, а где больное воображение. Казалось, никто из обитателей нашей планеты не мог бы измыслить ничего подобного.
Это было нечто колоссальных размеров и кощунственного облика, с горящими красными глазами; оно держало в костистых лапах другое нечто, прежде бывшее человеком, и глодало его голову, как ребенок грызет леденец. Наклонная поза чудовища наводила на мысль, что оно вот-вот уронит свою добычу, чтобы устремиться за более сочным куском. Но, черт возьми, неудержимый, панический страх нагоняло не само это исчадие ада с его собачьей мордой, острыми ушами, налитыми кровью глазами, уплощенным носом и слюнявой пастью. Самым страшным были не чешуйчатые лапы, тело с налипшими комьями земли, не задние ноги с подобием копыт – хотя человеку впечатлительному хватило бы и всего перечисленного, чтобы повредиться в уме.
Дело было в живописи, Элиот, проклятой, нечестивой, противоестественной живописи! Богом клянусь, в жизни не видел такой живой картины, она буквально дышала. Чудовище сверкало глазами и вгрызалось в добычу, и я понимал: пока действуют законы природы, никто не способен создать подобную картину без модели; художник должен был хотя бы мельком заглянуть в нижний мир, куда имеет доступ лишь тот из смертных, кто продал душу дьяволу.
К свободному участку полотна был приколот кнопкой скрученный листок, и я предположил, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон, столь же кошмарный, что и передний план. Я потянулся к листку, чтобы расправить и рассмотреть, но тут Пикман вздрогнул, словно его подстрелили. С того мгновения, когда мой испуганный крик пробудил в темном подземелье непривычное эхо, Пикман не переставал напряженно прислушиваться, теперь же он явно испугался, хотя не так, как я: причина страха была реальная. Он вытащил револьвер, сделал мне знак молчать, шагнул в основное подвальное помещение и закрыл за собой дверь.
Похоже, меня на мгновение просто парализовало. Вслед за Пикманом я прислушался: откуда-то донесся вроде бы слабый топот, откуда-то еще – взвизги и жалобный вой. Подумав о гигантских крысах, я содрогнулся. Потом послышался приглушенный стук, от которого у меня по коже побежали мурашки. Он был какой-то неуверенный, вороватый – не спрашивай, что это значит, я не могу объяснить. Словно тяжелый деревянный предмет бился о камень или кирпич. Дерево о кирпич – понимаешь, что это мне напомнило?
Те же звуки, теперь громче. Перестук, словно деревяшка отлетела в сторону. Резкий скрежет, бессвязный выкрик Пикмана, шесть оглушительных выстрелов – так стреляет в воздух, ради пущего эффекта, цирковой укротитель. Приглушенный вой или визг, удар. Снова стук дерева о кирпич. Наступила тишина, и дверь открылась. Признаюсь, я дернулся так, что едва устоял на ногах. Вошел Пикман с дымящимся револьвером, кляня на чем свет зажравшихся крыс, что шныряют в старинном колодце.
«Черт разберет, Тербер, где они находят корм, – ухмыльнулся он. – Эти древние туннели сообщаются с кладбищем, логовом ведьм и морским побережьем. Как бы то ни было, они оголодали: им до чертиков хотелось выбраться наружу. Наверно, их потревожил твой крик. В этих старинных домах все бы хорошо, если б не соседство грызунов, хотя временами мне думается, для атмосферы и колорита они не лишние».
Ну вот, Элиот, на том и завершилось наше ночное приключение. Пикман обещал показать мне дом и, видит небо, выполнил это обещание сполна. Обратно он повел меня через лабиринт переулков, вроде бы в другую сторону: первый фонарь я увидел на полузнакомой улице с однообразными рядами современных многоквартирных строений и старых домов. Это была Чартер-стрит, но откуда мы на нее вывернули, я не заметил, потому что голова у меня шла кругом. На поезд мы уже опоздали, пришлось идти пешком по Хановер-стрит. Этот путь мне запомнился. Мы шли по Тримонт, потом по Бикон; на углу Джой я простился с Пикманом и свернул за угол. После этого я и словом с ним не перемолвился.
Почему я с ним порвал? Не торопи события. Погоди, я позвоню, чтобы принесли кофе. Мы уже изрядно нагрузились другим напитком, но что касается меня, мне это было необходимо. Нет, дело не в картинах, которые я видел в студии, хотя из-за них Пикмана подвергли бы остракизму чуть ли не во всех домах и клубах Бостона; и, думаю, тебя больше не удивляет, что я избегаю метро и всяческих подвалов. Виною разрыва был один предмет, который я на следующее утро обнаружил у себя в кармане куртки. Ты ведь помнишь: к жуткому полотну в подполе был прикноплен свернутый листок, и я подумал, что это фотография, с которой Пикман собирался писать фон для своего чудовища. Когда произошел переполох, я как раз разворачивал бумажку и, наверное, машинально затолкал ее себе в карман. Ага, вот и кофе. Лучше черный, Элиот, сливками только испортишь.
Да, именно из-за этой бумажки я порвал с Пикманом – Ричардом Аптоном Пикманом, величайшим художником из всех, кого я знаю, и самым отвратительным ублюдком из всех, кто когда-либо перешагивал границы бытия, чтобы погрузиться в пучину бреда и безумия. Старина Рейд был прав, Элиот. Пикман был не вполне человеком. Он либо рожден под сенью тайны, либо нашел ключик к запретным вратам. Но это теперь не важно, он исчез – возвратился в мифическую мглу, где так любил блуждать. Да, распоряжусь-ка я, чтобы зажгли свет.
Только не спрашивай меня о сожженной бумаге; я не собираюсь делиться ни объяснениями, ни даже догадками. Не спрашивай и о том, что там была за возня в подполе, которую Пикман так старался приписать крысам. Знаешь, со старых салемских времен в мире уцелели некоторые тайны, а в рассказах Коттона Мазера встречаются и не такие чудеса. Тебе ведь известно, каким поразительным правдоподобием отличались картины Пикмана и как мы все гадали, откуда он взял эти лица.
Так вот, насчет листка: выяснилось, что никакая это не фотография фона. Все, что там было, – это чудовищная тварь, которую Пикман изображал на полотне. Это была его модель, а фоном служили стены подземной студии, видные во всех подробностях. Но, боже мой, Элиот, это была фотография с натуры.
1926
Таинственный дом в туманном поднебесье
Каждое утро на скалистый берег в Кингспорте выплывает из моря туман. Белый, пушистый, он поднимается из глубины, грезя о сырых пастбищах и пещерах Левиафана, к своим братьям-облакам. А потом в тихих летних дождях, падающих на крутые крыши, под которыми живут поэты, облака проговариваются об этих грезах, потому что людям худо жить без преданий о тайнах и чудесах, которыми по ночам обмениваются звезды. Когда сказкам становится тесно в гротах тритонов и раковины в приморских городах вспоминают давно забытые напевы, тогда собираются на небесах нетерпеливые туманы, и если подняться на скалу и посмотреть на море, то видна лишь одна таинственная белизна, словно скала стоит на краю земли, и тогда торжественные колокола бакенов начинают вовсю звонить в волшебном эфире.
В северной части старого Кингспорта скалы причудливо вздымаются ввысь, оставляя позади одну террасу за другой, пока самый северный уступ не повисает в небе, подобно серому застывшему облаку. В безграничном пространстве он – одинокое блеклое пятно, потому что берег крут там, где впадает в море, издалека неся свои воды и минуя Аркхем, великий Мискатоник, переполненный легендами лесов и не забывший еще о горах Новой Англии. Жители Кингспорта глядят на уступ, как жители в других местах глядят на Полярную звезду, и сверяют часы по тому, когда он прячет или открывает Большую Медведицу, Кассиопею и Дракона. Среди них есть еще одна звезда, правда есть, но ее тоже не видно, когда туман прячет звезды и солнце.
К некоторым скалам жители приморья питают особую нежность, как, например, к той, которую за утрированный силуэт называют Батюшкой Нептуном, или к той, которую за то, что она похожа на лестницу с колоннами, называют Дорогой, но ее они боятся, потому что она поднялась слишком высоко в небо. Португальские моряки, когда заходят в порт, осеняют себя крестом, едва завидя ее, а старые янки верят, будто лезть на нее страшнее смерти, даже если кому-то такое под силу. Тем не менее на этой скале стоит древний домишко, и полуночники могут видеть свет в его окошках.
Этот домишко там с незапамятных времен, и говорят, будто живет в нем тот, кто разговаривает с поднимающимися из глубины утренними туманами, и, возможно, он видит в океане то, что никто не видит, когда скала становится краем земли и торжественные бакены вовсю звонят в белом волшебном поднебесье. Так говорят люди, которые никогда не поднимаются на запретную скалу и даже не любят наводить на нее телескопы. Летние визитеры старательно обследовали ее с помощью своих всевидящих биноклей, но рассмотрели лишь старую серую крышу, островерхую и крытую дранкой, спускающуюся чуть ли не до серого фундамента, да загорающийся в сумерках мутный желтый свет в окошках под нею. Эти летние визитеры не верят, что один и тот же Некто уже много столетий живет в древнем домишке, однако коренные жители Кингспорта не обращают внимания на их ереси. Даже Страшный Старик, который разговаривает с серыми маятниками в бутылках, золотыми испанскими монетами столетней давности расплачивается за овощи в лавке и держит каменных идолов во дворе своего допотопного домишка на Водной улице, и тот говорит, что ничего не изменилось с того времени, когда его дед был мальчишкой, или с тех более давних времен, когда губернатором королевской провинции Массачусетс были Белчер, Ширли, Паунелл или Бернард.
В одно прекрасное лето в Кингспорт приехал философ. Звали его Томас Олни, и учил он всяким скучным вещам в колледже в Наррангассетт-Бей. Приехал он в Кингспорт с толстой женой и шкодливыми отпрысками, и в глазах у него была тоска, ибо он много лет видел одно и то же и думал одно и то же.
Он поглядел на диадему из туманов на голове Батюшки Нептуна и отправился по гигантским ступеням Дороги в таинственный белый мир. День за днем он лежал на скалах и с края земли вглядывался в загадочное поднебесье, вслушиваясь в призрачные колокола и отчаянные крики, по-видимому чаек. Потом, когда туман уходил ввысь и показывалось скучное море с дымом пароходов, он вздыхал и спускался в город, где ему нравилось бродить по узким крутым улочкам и изучать безумную пляску покосившихся крыш и ни на что не похожие двери, за которыми прожило жизнь не одно поколение крепких морских людей. Он даже познакомился с не любившим приезжих Страшным Стариком и был приглашен в его пугающе ветхий дом, низкие потолки и изъеденные жучками перекрытия которого эхом откликались на бурные монологи в темные полночные часы.
Естественно, Олни не мог не обратить внимания на серый одинокий дом, в который никто не входил и из которого никто не выходил, на вершине мрачной северной скалы, где не было ничего, кроме туманов и неба. Скала испокон века нависала над Кингспортом, и не было времени, когда о ее тайнах не шептались в кривых улочках Кингспорта. Сиплым голосом Страшный Старик рассказал Олни историю, которую когда-то ему рассказал отец, о молнии, однажды ночью вылетевшей из дома на скале и взмывшей в облака поднебесья, а бабушка Орна, чей домишко на Корабельной улице весь покрыт мхом и плющом, прокаркала ему, что ее бабушка слыхала от кого-то, будто из восточных туманов не то живые существа, не то тени ныряют в единственную узкую дверь недоступного жилища, ибо дверь расположена на ближней к океану стороне и видна лишь тем, кто вышел на корабле в открытое море.
В конце концов жадный ко всему новому и непонятному и не удерживаемый ни страхом коренных кингспортцев, ни ленью летних визитеров, Олни принял ужасное решение. Несмотря на консервативное воспитание, а может быть, благодаря ему, ибо от скучной жизни люди начинают тосковать и мечтать о необыкновенном, Олни поклялся страшной клятвой взойти на одинокую северную скалу и побывать в необыкновенно старом сером домишке, вознесшемся в небеса. Вполне возможно, его здравый смысл подсказывал ему, что дом должен быть обитаем, а если так, то люди, которые в нем живут, наверняка поднимаются наверх более легкой дорогой, которая должна идти вдоль реки Мискатоник. Не исключено, что они работают в Аркхеме, потому что знают, как не любят их обиталище в Кингспорте, или потому что не имеют возможности спуститься вниз с этой стороны. Олни начал свой поход с менее высоких скал, имея целью великана, нагло взмывшего вверх из желания поспорить с небесами и совершенно уверенного, что ни одному человеку не одолеть нависший над городом южный склон. С востока и севера скала на тысячи футов поднималась над морем отвесной стеной, так что оставался только западный склон со стороны Аркхема.
Ранним августовским утром Олни вышел из дома с целью отыскать дорогу на неприступную вершину и двинулся на северо-запад по живописной тропинке мимо Хуперова пруда и старой мельницы и дальше наверх к пастбищам над Мискатоником, с которых открывался чарующий вид на другой берег реки, где Аркхем притягивал взгляд своими белыми колокольнями в георгианском стиле. Здесь Олни нашел давно заброшенную дорогу в Аркхем, однако хоть какую-нибудь дорогу на побережье, как ни искал, отыскать не смог. Леса и луга покрывали высокие берега в устье реки, и ничто не говорило о присутствии человека, не видно было ни одного каменного дома, ни одной заблудившейся коровы – лишь высокая трава повсюду, да гигантские деревья, да заросли эрики, которые наверняка видел и первый пришедший сюда индеец. Медленно поднимаясь вверх с восточной стороны и оставляя слева устье реки на своем пути к морю, Олни замечал, что шагать становилось все труднее, пока не задумался о том, как жители этого малопривлекательного места общаются с внешним миром и часто ли позволяют себе выбираться на рынок в Аркхем.
Потом деревья расступились, и далеко внизу с правой стороны Олни увидел древние крыши и шпили Кингспорта. Даже Центральный холм казался с такой высоты карликом, и Олни разглядел лишь старое кладбище возле церковной больницы, под которым, по слухам, скрывались какие-то страшные пещеры или норы. Перед ним была лишь нетронутая трава и видимо-невидимо черники, а еще дальше – голый камень и узкий выступ со страшным серым обиталищем. Чем выше он поднимался, тем уже становилась скала и тем головокружительнее было его одиночество в поднебесье. На южной стороне далеко внизу лежал Кингспорт, на северной – на дне крутого обрыва, примерно в миле, было устье реки. Внезапно перед Олни разверзлась пропасть футов в десять, так что ему пришлось сначала повиснуть на руках, потом прыгать вниз, а потом карабкаться наверх, цепляясь за каждый мало-мальски подходящий выступ. Вот, значит, как путешествуют между небом и землей обитатели дома, наводящего на всех ужас!
Когда Олни выбрался из расщелины, предутренний туман уже сгущался, однако он еще ясно видел в вышине негостеприимный дом с серыми под стать скале стенами и сам утес, дерзко выставивший себя на фоне молочно-белых морских испарений. Тут он заметил, что с его стороны в доме нет двери, а есть только пара круглых решетчатых окошек с грязноватыми стеклами по моде семнадцатого века.
И больше ничего, кроме неба и белых облаков, закрывших от Олни землю. Он остался наедине со странным, непонятным домом. Опасливо обойдя его кругом, Олни обнаружил, что передняя стена дома находится на самой кромке скалы, так что до единственной узкой двери добраться можно только по воздуху, и тут его охватил страх, который никак нельзя было объяснить высотой. Поразило его то, что совершенно изъеденное червями дерево не рассыпалось в прах, а ни на что не похожие кирпичи сохраняли положенную для трубы форму.
Прижимаясь к стене, Олни подошел в густеющем тумане сначала к окнам на северной стороне, потом на западной и, наконец, на южной, но все они оказались запертыми. Однако он даже обрадовался этому, потому что чем дольше он смотрел на дом, тем меньше ему хотелось попасть внутрь. Вдруг его остановил какой-то шум. Он услыхал, как кто-то прогрохотал замком и проскрежетал засовом, а потом заскрипела, словно ее открывали медленно и с опаской, дверь. Все это происходило на стороне, обращенной к морю, которую Олни не мог видеть и на которой единственная узкая дверь выходила в туманное поднебесье на высоте нескольких тысяч футов над морем.
Потом раздались тяжелые шаги в доме, и Олни услышал, как открываются окна сначала на северной – противоположной от него – стороне, а после на западной, за углом. Следующей должна была наступить очередь окон с южной стороны, где он стоял под низко нависшей крышей, и, нужно сказать, ему стало не по себе при мысли о страшном доме с одной стороны и туманным простором – с другой. Когда шаги приблизились, он скользнул за угол на западную сторону и прижался к стене возле уже открытых окон.
Олни понял, что возвратился хозяин дома, однако он никак не мог явиться со стороны суши, но и воздушного корабля или воздушного шара тоже нигде не было видно. Вновь послышались шаги, и Олни метнулся на северную сторону, но не успел найти для себя убежище, как его тихо окликнули, и он понял, что должен предстать перед хозяином дома.
Из окошка на западной стороне высунулась голова с черной бородой и глазами, в которых запечатлелись и сверкали невиданные картины мира. Однако голос был ласковый и звучал не по-сегодняшнему, так что Олни даже не вздрогнул, когда коричневая рука потянулась ему на помощь. Он перелез через подоконник и оказался в комнате с низким потолком, обитыми черными дубовыми панелями стенами и резной мебелью времен Тюдоров. На мужчине были старинные одежды, и весь он был как будто в сиянии, сотканном из морских сказок и грез высоких галеонов. Потом Олни много чего не мог припомнить из поведанных ему чудес, да и о самом хозяине дома он ничего не узнал, но говорил, будто бы он ни на кого не похож и добрый, а еще будто бы он переполнен волшебством бесконечного времени и безграничного пространства. Маленькая комната казалась зеленой в сумеречном свете, и еще Олни заметил, что окна на восточной стене не только не были открыты, а даже, наоборот, были заперты, и толстые мутные стекла, похожие на донышки старых бутылок, не пускали внутрь туманный воздух.
Бородатый хозяин хоть и казался с виду молодым, но его глаза светились печалью многих давних тайн, а его рассказы о великолепной старине подтверждали, что местные жители, едва они здесь появились и обратили внимание на странный дом в вышине, были правы, когда думали, будто он накоротке с морскими туманами и небесными облаками. День шел своим чередом, а Олни все внимал рассказам о прежних временах и дальних странах. Он узнал, как короли Атлантиды сражались с осклизлыми тварями, выползавшими из щелей в морском дне, и как одиноким кораблям является ночью весь покрытый водорослями дворец Посейдона с колоннами, увидав который моряки смиряются с неизбежным. Они вспомнили о времени Титанов, однако хозяин несколько оробел, едва заговорил о смутном первоначальном хаосе еще до рождения богов, даже Старших богов, когда другие боги приходили плясать на утес Хатег-Кла в каменной пустыне близ Ултара, что за рекой Скай.
И в эту минуту раздался стук в дверь, в ту самую утыканную гвоздями старинную дубовую дверь, за которой не было ничего, кроме белого тумана. Олни от страха вскочил, но бородатый хозяин махнул ему рукой, приказывая сидеть тихо, а сам на цыпочках подкрался к двери и поглядел в крохотную дырочку. То, что он увидел, ему не понравилось, и, прижав палец к губам, он все так же на цыпочках отправился закрывать и запирать окна, прежде чем воротиться и вновь сесть на старинную скамью рядом с гостем. Олни заметил, как во всех окнах по очереди промелькнула черная тень, словно незваный визитер проверял перед уходом, нет ли где щели, и обрадовался, что хозяин не отозвался на стук. В беспредельном пространстве водятся разные существа, и искатель грез должен быть осторожен, чтобы не потревожить, себе на беду, недобрые силы.
В это время начали собираться тени: первыми появились маленькие пугливые – под столом, за ними в темных углах – те, что похрабрее. Бородатый хозяин, сделав нескольких загадочных молитвенных жестов, зажег свечи в причудливо изогнутых медных подсвечниках. То и дело он поглядывал на дверь, словно ждал кого-то, и в конце концов был вознагражден легким стуком, по-видимому сказавшим ему нечто очень старым и тайным кодом. На сей раз он даже не стал смотреть в дырку, а сразу снял засов и распахнул тяжелую дубовую дверь навстречу звездам и туману.
В комнату под звуки непонятной мелодии вплыли мечты и воспоминания утонувших богатырей земли. Золотые языки пламени сверкали в их кудрях-водорослях, и Олни не мог скрыть своего удивления, когда приветствовал их. Здесь же был Нептун с трезубцем в окружении юрких тритонов и фантастических нереид, а на спинах дельфинов в большой зубчатой раковине явился седой и страшный Ноденс – властелин великой бездны. Тритоны в своих раковинах издали непонятные звуки, и нереиды ударили в раковины неведомых существ, обитающих в черных морских пещерах, после чего седой Ноденс протянул высохшую руку и пригласил Олни и его хозяина в просторную раковину, где тотчас ракушки и гонги заиграли громкую приветственную музыку. Чудесная повозка умчалась вон из дома на беспредельный простор, но шум, поднятый ею, потерялся в раскатах грома.
В Кингспорте всю ночь не сводили глаз с высокой скалы, которую почти не было видно из-за бури и туманов, а когда ближе к рассвету потемнели мутные окошки, люди зашептались о кошмарах и несчастьях. Дети Олни и его толстая жена молились доброму и правильному баптистскому богу в надежде, что путешественник сумеет одолжить у кого-нибудь зонтик и галоши, если дождь утром не прекратится.
Потом выплыла из моря мокрая заря в венке из туманов, и бакены торжественно загудели в белом просторе. А в полдень протрубил над морем волшебный рог, когда совсем не промокший Олни начал легко спускаться со скалы по направлению к старому Кингспорту и в глазах у него сверкали видения дальних стран. Он не мог вспомнить, о чем грезил в хижине посреди неба, принадлежащей безымянному отшельнику, и не знал, как спустился со скалы, недоступной другим путешественникам. Да и говорить о своем пребывании наверху он мог разве лишь со Страшным Стариком, который потом долго и удивленно бурчал что-то в длинную седую бороду, клянясь всеми богами подряд, что человек, сошедший со скалы, не совсем тот самый, что на нее поднялся, мол, то ли под островерхой крышей дома, то ли среди немыслимых просторов зловещего белого тумана осталась тихо пребывать потерянная душа того, кто был Томасом Олни.
С тех пор прошло еще много тоскливых лет, когда, одолеваемый скукой и усталостью, философ работал, ел, спал и исправно, не жалуясь, исполнял свой долг. Больше он не стремился к волшебным далеким горам и не вздыхал о тайнах, которые, как зеленые рифы, выглядывают из бездонного моря. Он не печалился оттого, что дни похожи один на другой, а послушные его воле мысли вытеснили фантастические видения. Его добрая жена стала еще толще, дети выросли, поскучнели и стали подавать большие надежды, а сам он не упускает случая правильно и горделиво улыбнуться, когда того требуют обстоятельства. В глазах Олни не светится беспокойный огонек, и если ему случается услышать торжественные колокола или волшебный рог, то такое случается лишь ночью, когда оживают старые мечты. Он больше ни разу не приезжал в Кингспорт, потому что его жене и детям не понравились старые смешные дома, а еще больше не понравилась вода. Олни купил щеголеватый дом в Бристольских горах, где нет скал и в соседях у него цивилизованные горожане.