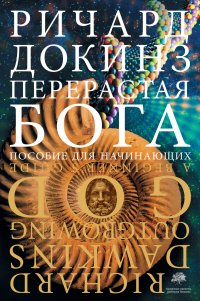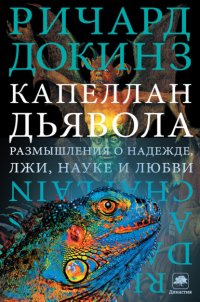
Читать онлайн Капеллан дьявола. Размышления о надежде, лжи, науке и любви бесплатно
- Все книги автора: Ричард Докинз
Династия
Фонд некоммерческих программ “Династия” основан в 2002 году Дмитрием Борисовичем Зиминым, почетным президентом компании “Вымпелком”.
Приоритетные направления деятельности Фонда – развитие фундаментальной науки и образования в России, популяризация науки и просвещение.
В рамках программы по популяризации науки Фондом запущено несколько проектов. В их числе – cайт elementy.ru, ставший одним из ведущих в русскоязычном Интернете тематических ресурсов, а также проект “Библиотека ‘Династии’” – издание современных научно-популярных книг, тщательно отобранных экспертами-учеными.
Книга, которую вы держите в руках, выпущена в рамках этого проекта.
Более подробную информацию о Фонде “Династия” вы найдете по адресу: www.dynastyfdn.ru.
Джульетте – по случаю ее восемнадцатилетия
Предисловие к американскому изданию
Эта книга – мое личное избранное из числа статей и лекций, выступлений и размышлений, рецензий на книги и предисловий к ним, панегириков и некрологов, которые я опубликовал (или, в некоторых случаях, не опубликовал) за последние двадцать пять лет. Они посвящены многим проблемам: поднимаемым дарвинизмом и в целом наукой, связанным с моралью, религией, образованием, правосудием, памятью об умерших, Африкой, историей науки, просто личным вопросам. Покойный Карл Саган назвал бы это любовными посланиями к науке и рационализму.
Хотя я готов признать, что в моих текстах иногда встречаются вспышки (вполне оправданного) раздражения, мне приятно сознавать, что по большей части я писал в позитивном ключе, кое-где даже с юмором. Там же, где я не мог сдержать эмоции, для этого имелось достаточно причин. Когда я давал волю гневу, я надеюсь, что умел его сдерживать. Когда говорил о грустном, надеюсь, что не доходил до отчаяния. Но в основном наука служит для меня источником живой радости, и я надеюсь, что это заметно по моей книге.
Книга состоит из семи частей, содержание и порядок которых определила, в тесном сотрудничестве со мной, Лата Менон. Помимо широкой эрудиции и разносторонней образованности, которых можно было ожидать от главного редактора всемирного английского издания энциклопедии “Энкарта”, Лата проявила незаурядный талант к составлению антологий. К каждому из семи разделов я написал введения, содержащие мои соображения о каждом из текстов, которые Лата сочла достойными воспроизведения, и о том, что связывает их друг с другом. Ее задача была не из легких, и я глубоко восхищен ее способностью одновременно держать в памяти намного больше моих сочинений, чем вошло в этот сборник, и ее мастерством, позволившим добиться более тонкого равновесия между ними, чем мне казалось возможным. Однако ответственность за материал, из которого ей пришлось выбирать, лежит, конечно, на мне самом.
У меня нет никакой возможности перечислить всех, помогавших мне в работе над каждым из этих текстов, написанных в течение двадцати пяти лет. В работе над сборником мне помогали: Вон Янь, Кристина Деблаз-Балльштадт, Майкл Довер, Лаура ван Дам, Кэтрин Брэдли, Энтони Читэм и, конечно, сама Лата Менон. Моя благодарность Чарльзу Симони за поддержку, отнюдь не только финансовую, не знает границ. А моя жена, Лалла Уорд, помогала мне, как и всегда, ободрением, советами и своим чутким слухом к музыке языка.
Ричард Докинз,2003 год
Часть I
Наука и чувства
Первый очерк в сборнике, “Капеллан дьявола”, публикуется впервые. Заглавие этого очерка, давшее название книге, разъясняется в нем самом. Второй очерк (“Что есть истина?”) стал моим вкладом в материалы одноименного симпозиума, опубликованные в журнале “Форбс Эй-эс-эй-пи”. Ученые склонны смотреть на истину прямолинейно, и запутанные рассуждения философов об ее реальности и значении вызывают у них раздражение. Добиться от природы раскрытия ее истин довольно трудно и без дополнительных преград, непрошено разбрасываемых на нашей дороге сторонними наблюдателями или навязчивыми попутчиками. В своем очерке я привожу доводы в пользу того, чтобы мыслить, по крайней мере, последовательно. Истины, касающиеся повседневной жизни, могут быть предметом философских сомнений в столь же большой (или малой) степени, как научные истины. Давайте избегать двойных стандартов.
Временами я боюсь превратиться в зануду, все время твердящего о двойных стандартах. Это началось еще в детстве, когда мой первый кумир, доктор Дулиттл[1] (неотступно вспоминавшийся мне при чтении “Путешествия натуралиста” кумира моих зрелых лет – Чарльза Дарвина) повысил мое осознание, выражаясь удачным термином из феминистского лексикона, проблемы нашего обращения с животными (лучше сказать – с другими животными; мы, конечно, тоже животные). Честь повышения осознания этой проблемы современным обществом более других по праву принадлежит Питеру Сингеру – австралийскому специалисту по этике, недавно переехавшему в Принстон. Цель его проекта “Гоминиды” (Great Ape Project) состоит в том, чтобы и другим гоминидам[2] были предоставлены, насколько это возможно, гражданские права, аналогичные человеческим. Если вы зададитесь вопросом, почему на первый взгляд это кажется нелепым, то чем крепче вы об этом задумаетесь, тем менее нелепым это вам покажется. Дешевые шутки вроде “Гориллам, стало быть, понадобятся особо прочные урны для голосования?” будут быстро отброшены, ведь мы предоставляем права, хотя и не даем права голоса, детям, умалишенным и членам Палаты лордов. Самым серьезным возражением против проекта “Гоминиды” будет вопрос: “И куда это нас заведет? К предоставлению прав устрицам?” (Замечание Бертрана Рассела по сходному поводу.) Где провести границу? В очерке “Разрывы в мышлении”, подготовленном для сборника, опубликованного в рамках проекта “Гоминиды”, я привожу эволюционные аргументы в пользу того, что нам, прежде всего, не следует заниматься проведением границ. Нет такого закона природы, согласно которому границы всегда должны быть отчетливыми.
В декабре 2000 года я оказался в числе тех, кого член парламента Дэвид Милибэнд (тогда глава стратегического аппарата премьер-министра, а ныне министр школьного образования[3]) пригласил принять участие в написании докладных по определенным вопросам, которые Тони Блэр должен был прочитать во время рождественских каникул. Моя сводка была посвящена теме “Наука, генетика, риск и этика”, и я воспроизвожу здесь этот прежде не публиковавшийся текст (я исключил раздел о риске и еще несколько отрывков, чтобы избежать перекрывания с другими очерками в этом сборнике).
Любое предложение хотя бы в малейшей степени ограничить право на суд присяжных встречается возмущенными воплями. В каждом из трех случаев, когда меня приглашали войти в состав коллегии присяжных, это был неприятный опыт, избавлявший меня от иллюзий. Через много лет два непомерно раздутых прессой процесса, проходивших в США, подтолкнули меня к выделению основной причины моего недоверия к этому институту, которую я изложил в очерке “Суд присяжных”.
Магические кристаллы входят в обязательный реквизит экстрасенсов, оккультистов, медиумов и других шарлатанов. Цель моей следующей статьи состояла в том, чтобы рассказать правду о магии кристаллов читателям одной из лондонских газет – “Санди телеграф”. Было время, когда лишь бульварные издания позволяли себе поддерживать суеверия вроде гадания или астрологии. Теперь же иные из ведущих газет, в том числе “Телеграф”, опустились до публикации постоянных астрологических колонок. По этой причине я и согласился написать для этой газеты статью “Истина и хрустальные шары”.
Следующий очерк, “Разоблачение постмодернизма”, направлен против шарлатанства другого сорта, более замысловатого. Закон сохранения трудности Докинза гласит, что обскурантизм в пределах любой учебной дисциплины расширяется, заполняя вакуум присущей ей внутренней простоты. Например, физика – действительно трудный и глубокий предмет, поэтому физикам нужно (что они и делают) усердно трудиться над тем, чтобы сделать свой язык как можно проще (“но не проще, чем можно”, как справедливо подчеркивал Эйнштейн). Преподаватели других дисциплин (тут неизбежно будут помянуты континентальные школы литературной критики и социологии) страдают от того, что Питер Б. Медавар (если не ошибаюсь) назвал “завистью к физике”. Они хотят, чтобы за ними тоже признавали глубину, но в действительности их предметы довольно просты и поверхностны, поэтому им приходится перегружать свой профессиональный язык в стремлении компенсировать неравенство. Физик Алан Сокал осуществил феерически смешной розыгрыш над “коллективным телом” редакции (а над чем же еще?) одного особо претенциозного социологического журнала. Впоследствии Сокал и его коллега Жан Брикмон опубликовали книгу “Интеллектуальные уловки”, в которой профессионально проанализировали эту эпидемию “модного нонсенса” (так было озаглавлено американское издание их книги). “Разоблачение постмодернизма” – моя рецензия на эту забавнейшую книгу, дающую вместе с тем серьезный повод для беспокойства.
К этому следует добавить, что хотя слово “постмодернизм” и употреблено в заглавии рецензии, предложенном мне редакцией журнала “Нейчур”, из этого не следует, что мне (или редакции) известно, что оно значит. По моему убеждению, оно не значит ровным счетом ничего – за исключением того, что понимают под этим словом специалисты по архитектуре, откуда оно и происходит. Когда же это слово используют в каком-либо другом значении, я советую сделать следующее. Немедленно прервите собеседника и спросите его (нейтральным тоном дружеского любопытства), что это значит – постмодернизм. Мне ни разу не довелось услышать в ответ ничего хотя бы отдаленно напоминающего пригодное для использования – или даже сколько-нибудь связное – определение. Наилучшим из возможных ответов будет нервное хихиканье и что-нибудь вроде: “Да, это ужасное слово, не правда ли, но вы же понимаете, о чем я”. Нет, не понимаю!
Как человека, всю жизнь работавшего преподавателем, меня очень беспокоит, что мы делаем с системой образования. Едва ли не каждый день мне приходится слышать ужасные истории об амбициозных родителях или амбициозных школах, которые лишают детей радостей детства. Причем начиная с безумно раннего возраста. Шестилетний мальчик получает “консультации психолога”, потому что “тревожится” по поводу снижения своей успеваемости по математике. Классная руководительница вызывает родителей маленькой девочки, чтобы посоветовать отправить ее на дополнительные занятия. Родители пытаются настаивать, что учить их ребенка – дело школы. Почему их дочь отстает от других? А потому, терпеливо доказывает учительница, что родители всех остальных детей в классе оплачивают их дополнительные занятия с репетиторами.
Под угрозой не только радости детства. Под угрозой и радости истинного образования: чтения ради приобщения к прекрасной книге, а не ради подготовки к экзамену, занятия предметом потому, что это интересно, а не потому, что это входит в программу, возможности увидеть, как горят глаза превосходного учителя – просто от любви к своему предмету. Очерк “Радость жить опасной жизнью: Сэндерсон из Аундла” – это попытка вызвать из прошлого дух как раз такого превосходного учителя.
Капеллан дьявола
В выражении “капеллан дьявола”[4], которое придумал Дарвин в 1856 году, когда писал своему другу Гукеру, доля шутки меньше половины:
Что за книгу мог бы написать капеллан дьявола о топорных, расточительных, неуклюжих, низких и ужасно жестоких делах природы!
От метода проб и ошибок, лишенного какого-либо плана и работающего в огромном масштабе естественного отбора, можно ожидать топорности, расточительности и неуклюжести. В расточительности уж точно сомневаться не приходится. Как я уже отмечал, изящество таких бегунов, как гепарды и газели, куплено дорогой ценой крови и страданий бессчетных предков и тех и других. Но хотя сам процесс, несомненно, и отличается топорностью и неуклюжестью, его результат оказывается прямой противоположностью. Ласточке ничуть не свойственна топорность, а акуле – неуклюжесть. Топорностью и неуклюжестью, по меркам человеческих чертежей, отличается лишь сам дарвиновский алгоритм, обеспечивший их эволюцию. Что до жестокости, вот еще одна цитата из Дарвина, из письма, адресатом которого был Аса Грей, написанного в 1860 году:
Я не могу убедить себя, что благой и всемогущий Бог мог умышленно создать наездников-ихневмонид с явным намерением, чтобы они питались внутри тела живых гусениц.
Жан Анри Фабр, французский современник Дарвина, описывал похожее поведение у роющей осы аммофилы:
В каждом сегменте тела личинки, как правило, имеется собственный нервный центр. Это, в частности, относится и к гусенице озимой совки – ритуальной жертве мохнатой аммофилы. Оса знакома с этой тайной анатомии: она колет гусеницу снова и снова, от одного конца тела до другого, сегмент за сегментом, ганглий за ганглием[5].
Наездники, о которых писал Дарвин, как и роющие осы, о которых писал Фабр, жалят свою жертву не для того, чтобы ее убить, а чтобы парализовать, обеспечив своей личинке запас свежего (живого) корма. Дарвин отчетливо понимал, что равнодушие к страданиям оказывается неотъемлемым следствием естественного отбора, хотя в других случаях он и пытался преуменьшить жестокость природы, предполагая, что убивающие укусы отличаются милосердной быстротой. Но капеллан дьявола не преминул бы с не меньшей быстротой заметить, что если в природе и есть милосердие, то лишь по воле случая. Природа не добра и не жестока: она безразлична. Любая доброта возникает из тех же условий, что и любая жестокость. По словам одного из самых вдумчивых последователей Дарвина, Джорджа Кристофера Уильямса[6],
чем, как не осуждением, должен встретить любой человек, обладающий малейшим чувством справедливости, систему, в которой основная цель жизни состоит в том, чтобы обойти своих ближних, передав собственные гены будущим поколениям, в которой эти успешные гены содержат послание, определяющее ход развития следующего поколения, в которой смысл этого послания всегда один – “используй окружающую среду, в том числе друзей и родственников, чтобы добиться наибольшего успеха для наших генов”, в которой если и есть что-то вроде золотого правила, оно гласит: “Играй по правилам, только если нарушать их невыгодно”?
Бернарду Шоу пришлось принять невнятную идею ламаркистской эволюции исключительно из-за моральных следствий дарвинизма. В предисловии к пенталогии “Назад к Мафусаилу” он писал:
Когда вы вполне постигаете его значение, сердце у вас в груди погружается в кучу песка. Он таит в себе чудовищный фатализм, гнусное и отвратительное низведение красоты и интеллекта, сил и замыслов, чести и высоких устремлений.
Ученик дьявола у Шоу был прямо-таки добрым малым по сравнению с “капелланом” Дарвина. Шоу не считал себя религиозным, но ему была свойственна инфантильная неспособность отличать желаемое от действительного. Это же свойство лежит сегодня в основе движения популистов, выступающих против эволюции[7]:
Все, что может дать эволюция, – идея “права сильного”. Когда Гитлер уничтожал десять миллионов ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей, он действовал в полном согласии с теорией эволюции и в полном несогласии со всем, что известно людям о добре и зле… Если учить детей, что они произошли от обезьян, они будут вести себя, как обезьяны.
Совсем другая возможная реакция на бессердечность естественного отбора состоит в том, чтобы радоваться ей – вместе с социальными дарвинистами, а также, как это ни странно, с Гербертом Уэллсом. В его описании Новой Республики, этой дарвинистской утопии, из “Предвидений”[8], есть строки, от которых кровь стынет в жилах.
…А как будет Новая Республика обращаться с низшими расами? Как поступит она с чернокожим?…с желтолицым?…с евреем?… с этими полчищами черных, и смуглых, и грязно-белых, и желтых людей, которые не соответствуют новым потребностям производительности? Что ж, мир есть мир, а не благотворительная организация, и я полагаю, что им предстоит исчезнуть…
…А этическая система этих людей Новой Республики, этическая система, которая будет господствовать во всемирном государстве, будет устроена так, чтобы прежде всего способствовать приплоду всего отличного, и производительного, и прекрасного, что есть в человечестве: прекрасных и сильных тел, ясных и острых умов… А тот метод, которым природа извечно пользовалась, устраивая мир, метод, не позволяющий слабости плодить слабость… есть смерть…
…У людей Новой Республики… будет идеал, который сделает убийство делом стоящим…
Джулиан Хаксли, коллега Уэллса, пытался, по сути, приглушить пессимизм “капеллана дьявола”, когда вырабатывал этическую систему, основанную на том, в чем ему виделись прогрессивные аспекты эволюции. В его очерке “Прогресс, биологический и иной”, открывающем сборник “Очерки биолога”[9], есть отрывки, которые выглядят почти призывом под знамена эволюции:
…лик [человечества] смотрит в том же направлении, что и основной поток эволюционирующей жизни, и его высшее предназначение, цель, необходимость стремления к которой оно так давно предощутило, состоит в том, чтобы открывать новые возможности для процесса, которым природа была поглощена на протяжении всех этих миллионов лет, чтобы внедрять все менее и менее расточительные методы, чтобы ускорять с помощью человеческого сознания то, что в прошлом было делом слепых бессознательных сил.
Я предпочитаю встать на сторону деда Джулиана – бодро и воинственно настроенного Томаса Г. Хаксли (Гексли): согласиться, в отличие от Шоу, с ведущей ролью естественного отбора в биологической эволюции, признать, в отличие от Джулиана, ее отталкивающие свойства и, в отличие от Уэллса, по-человечески бороться с ними. Вот что сказал Томас Генри Хаксли в 1893 году, выступая в Оксфорде с Роменсовской лекцией[10] на тему “Эволюция и этика”[11]:
Давайте поймем раз и навсегда, что этический прогресс общества строится не на подражании космическому процессу и тем более не на бегстве от него, а на противостоянии ему.
Именно это советует нам сегодня Джордж Кристофер Уильямс, и это же советую всем я. В зловещей проповеди “капеллана дьявола” я слышу призыв к оружию. Как ученый я остаюсь страстным дарвинистом, убежденным, что естественный отбор является если не единственной движущей силой эволюции, то, несомненно, единственной известной силой, способной создавать иллюзию замысла, которая так поражает любого, кто берется размышлять о природе. Но в то же время, оставаясь сторонником дарвинизма как ученый, я страстный антидарвинист в том, что касается политики и устройства наших человеческих дел. Мои предыдущие книги, такие как “Эгоистичный ген” и “Слепой часовщик”[12], превозносят несомненную фактическую правоту “капеллана дьявола” (если бы Дарвин решил продолжить список мрачных эпитетов в его обвинительной речи, он, возможно, включил бы туда “эгоистичных” и “слепых”). Но в то же время я всегда оставался верным заключительным словам моей первой книги: “Мы – единственные существа на земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов”.
Если вам кажется, что вы усмотрели здесь непоследовательность или даже противоречие, вы ошибаетесь. Нет никакой непоследовательности в том, чтобы как ученому оставаться сторонником дарвинизма и вместе с тем по-человечески быть его противником. Непоследовательности тут не больше, чем в том, чтобы изучать природу рака, занимаясь фундаментальной медициной, и вместе с тем бороться с раком, работая врачом. Объяснимые дарвиновские механизмы эволюции наделили нас мозгом, который увеличивался до тех пор, пока не приобрел способность разбираться в собственном происхождении, отвергать моральные следствия этих механизмов и бороться против них. Всякий раз, когда мы прибегаем к контрацепции, мы демонстрируем, что наш мозг может срывать планы дарвиновской эволюции. Если, как подсказывает моя жена, эгоистичные гены суть Франкенштейны, а все живое – созданный ими монстр, мы одни можем довершить этот сюжет, восстав против своего создателя. Мы видим почти полную противоположность строкам епископа Хебера: “И все в природе мило, / И только люди злы”[13]. Да, люди тоже бывают злыми, но мы – единственный остров, на котором можно укрыться от зла, сулимого “капелланом дьявола”: от жестокости и от топорной, неуклюжей расточительности природы.
Наш вид с его уникальным даром предвидения (продуктом той искусственной реальности, которую мы называем воображением) может строить планы, совершенно чуждые расточительности, которые, в случае успеха, позволят нам свести к минимуму топорность и неуклюжесть жизни. К тому же мы всегда можем находить утешение в благословенном даре понимания, даже если предметом нашего понимания будет недоброе послание “капеллана дьявола”. Можно представить себе, что “капеллан” возмужал и дополнил свою проповедь второй частью. Да, говорит этот “капеллан”, исторический процесс, который привел к вашему существованию, расточителен, жесток и низок. И все же радуйтесь своему существованию, ибо тот самый процесс в своей неуклюжести породил собственную противоположность. Конечно, эта противоположность невелика и локальна: всего один вид, и лишь меньшинство его представителей, но она дает нам надежду.
Тем более радуйтесь тому, что топорный и жестокий алгоритм естественного отбора создал устройство, способное вместить в себя сам этот алгоритм, способное к построению модели самого себя – и многого другого – в пределах внутреннего мира, заключенного у нас в головах. Хотя Джулиану Хаксли и досталось от меня на этих страницах, надо отметить, что в 1926 году он опубликовал стихотворение, в котором сказал кое-что из того, что хочу сказать и я (а также кое-что из того, чего я говорить не хочу):
- В твой детский ум ворвался мир вещей,
- Чтоб свет в прозрачной комнате зажечь.
- Случилось там немало странных встреч,
- И мысли-вещи размножались в ней.
- Пройдя через порог ее дверей,
- Плоть стала духом, породила речь,
- Чтоб после внутренний твой мир увлечь
- Делами во сто крат его важней.
- Там мертвецы с звездами говорят,
- Экватор – с полюсом, со светом – тень.
- Окно темницы мысли растворят
- И вырвутся из мрака в светлый день.
- Трудам Вселенной нужен был итог —
- И вот в умах людей был создан Бог[14].
Позднее Джулиан Хаксли писал в “Очерках гуманиста”[15]:
Наша земля – одно из тех редких мест в мироздании, где расцвел разум. Человек есть продукт почти трех миллиардов лет эволюции, в лице которого эволюционный процесс наконец осознал самого себя и свои возможности. Нравится нам это или нет, мы отвечаем за всю дальнейшую эволюцию нашей планеты.
Российско-американский генетик Феодосий Добржанский, который наряду с Джулианом Хаксли входит в число светил неодарвинизма (синтетической теории эволюции), высказывал сходную мысль[16]:
Породив человека, эволюционный процесс (очевидно, впервые и единственный раз за всю историю мироздания) осознал самое себя.
Капеллан дьявола мог бы сказать в заключение: возрадуйся, двуногий примат! Акула плавает лучше тебя, гепард – лучше бегает, стриж – лучше летает, капуцин – лучше лазает. Слон сильнее тебя, а секвойя – долговечнее. Но тебе достался самый ценный дар – дар понимания того жестокого, беспощадного процесса, который породил нас всех, дар отвращения к его последствиям, дар предвидения, совершенно чуждого неуклюжим кратковременным приемам естественного отбора, и дар способности вместить в себя само мироздание.
Мы одарены мозгом, который, если дать ему образование и предоставить свободу, способен моделировать Вселенную с ее физическими законами, в которые встроен дарвиновский алгоритм. Сам Дарвин сформулировал в знаменитых заключительных строках “Происхождения видов”:
Таким образом, из борьбы в природе, из голода и смерти непосредственно вытекает самый высокий результат, какой мы в состоянии себе представить, а именно – образование высших животных. Есть величие в этом воззрении, согласно которому жизнь с целым рядом ее возможностей первоначально была дана[17] немногим формам или всего одной; и между тем как наша планета продолжает вращаться согласно неизменному закону тяготения, из такого простого начала развилось и продолжает развиваться бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм.
В этом воззрении есть не только величие, хотя тем, кто прячется под одеялом невежества, оно может показаться зловещим и бездушным. Пронизывающие ветра понимания – “ветра, что дуют вдоль звездных дорог”, о которых писал Йейтс[18], – освежают и бодрят того, кто готов обратиться к ним лицом. В другом очерке я цитирую слова замечательного учителя, Фредерика Уильяма Сэндерсона, который призывал своих учеников “жить опасной жизнью…”:
Исполненной жаркого огня вдохновения, своевольной, революционной, энергичной, демонической, дионисийской, переполненной жгучим стремлением к творчеству – такой жизнью живет человек, рискующий безопасностью и счастьем ради роста и счастья.
Безопасность и счастье предполагали бы удовлетворенность простыми ответами и дешевыми утешениями, жизнь со всеми удобствами утешительной лжи. Демоническая альтернатива, к которой призывает мой возмужавший “капеллан дьявола”, рискованна. Она требует утраты утешительных иллюзий: сделав этот выбор, вы уже не сможете сосать соску веры в бессмертие. Рискуя этим, вы стремитесь обрести “рост и счастье” – радость сознания того, что вы повзрослели и приняли вызов своего существования, сознания того, что оно не вечно и потому тем более драгоценно[19].
Что есть истина?[20]
“Полузнайство ложь в себе таит”, – эта мысль никогда не казалась мне ни особенно глубокой, ни особенно мудрой[21], но когда речь идет о полузнайстве в вопросах философии (как это часто и бывает), она вполне уместна. Ученый, осмелившийся произнести слово на букву “и” (“истина”), рискует тут же столкнуться с возражениями философского свойства, какими-нибудь такими:
Абсолютной истины не существует. Когда вы утверждаете, что научный метод, в том числе математика и логика, есть привилегированный путь к познанию истины, вы прибегаете к личной вере. Человек другой культуры мог бы верить, что истина находится в кишках кролика или в исступленных пророчествах шамана, сидящего на столбе. Только ваша личная вера в науку заставляет вас предпочитать вашу разновидность истины другим.
Это направление поверхностной философии называют культурным релятивизмом. Оно представляет собой одно из проявлений модного нонсенса, который диагностировали в одноименной книге Алан Сокал и Жан Брикмон[22], или высшего суеверия, как это назвали Пол Гросс и Норман Левитт[23]. Его феминистскую разновидность убедительно разоблачили Дафна Патай и Норетта Кертджи, авторы книги “Проповедь феминизма: поучительные истории из удивительного мира женских исследований”[24]:
Студентам, изучающим предмет “женские исследования”, сегодня рассказывают, что логика – это орудие господства… а общепринятые нормы и методы научного исследования – проявления сексизма, потому что они не совместимы с “женскими способами познания”… Эти “субъективистки” видят в методах логики, анализа и абстрактного мышления “чужую территорию, принадлежащую мужчинам” и “ценят интуицию как более надежный и плодотворный подход к поиску истины”.
Как ученым отвечать тем, кто заявляет: наша “вера” в логику и научный метод является не более чем верой, а не “привилегированным” (их излюбленное слово) путем познания истины? Проще всего будет сказать, что наука позволяет получать результаты. Я писал в книге “Река, текущая из рая”[25]:
Покажите мне культурного релятивиста на высоте тридцать тысяч футов, и я покажу вам лицемера… Если вы летите на международный конгресс антропологов или литературных критиков, причина, по которой вы, вероятно, туда попадете, а не рухнете вниз, на пашню, состоит в том, что множество западных инженеров, получивших естественнонаучное образование, правильно решили свои задачи.
Наука подкрепляет свою претензию на знание истины своей впечатляющей способностью заставлять вещество и энергию прыгать по команде через кольцо, а также умением предсказывать, что и когда случится.
Но, может быть, лишь наша западная научная предвзятость заставляет нас поражаться точным предсказаниям, поражаться способности запускать ракеты, облетающие Юпитер и достигающие Сатурна или перехватывающие телескоп “Хаббл” и производящие его ремонт, поражаться самой логике? Что ж, давайте попробуем это признать и поразмышлять в социологическом, даже демократическом ключе. Предположим, на время мы согласимся относиться к научной истине как к одной из многих и поставим ее в один ряд с другими истинами: истиной тробрианцев, истиной кикуйю, истиной маори, истиной эскимосов, истиной навахо, истиной яномамо, истиной бушменов, истиной феминисток, истиной исламистов, истиной индуистов. Этот список можно продолжать без конца – из чего можно сделать один важный вывод.
Теоретически люди могли отвергать одну “истину” и принимать другую, если она казалась им лучше прежней. На каком основании они могли это делать? Зачем отвергать, например, истину кикуйю ради истины навахо? Такие случаи предпочтения лучшей истины случаются редко – за одним принципиально важным исключением. Научная истина – единственная в списке, в превосходстве которой люди убеждаются постоянно. Они сохраняют верность другим системам убеждений только по одной причине: их так воспитали, и ничего лучшего они не знают. Когда людям дают возможность “голосовать ногами”, настоящие врачи и им подобные преуспевают, а знахари сидят без дела. Даже те, кто не хочет или не может позволить себе естественнонаучное образование, предпочитают пользоваться благами технологий, которые стали возможны благодаря естественнонаучному образованию, полученному другими. Надо признать, что религиозные миссионеры тоже могут похвастаться успешным обращением в свою веру людей из всех слаборазвитых регионов планеты. Но миссионеры преуспевают не потому, что их религия лучше, а благодаря научно-технологическим достижениям, которые ставят ей в заслугу, что вполне простительно, но неправильно.
Христианский Бог, наверное, сильнее наших джу-джу, ведь представители Христа приходят с винтовками, телескопами, бензопилами, радиоприемниками, календарями, которые предсказывают затмения с точностью до минуты, и лекарствами, которые лечат.
Это что касается культурного релятивизма. Борцы за истину иного сорта предпочитают упомянуть Карла Поппера или (что более модно) Томаса Куна:
Абсолютной истины не существует. Ваши научные истины суть не более чем гипотезы, ложность которых до сих пор не была установлена в ходе проверок. Им на смену неизбежно придут другие. В худшем случае – после следующей научной революции сегодняшние “истины” покажутся старомодными и нелепыми, если не ложными. Лучшее, на что вы, ученые, можете рассчитывать, – это ряд приближений, в котором постепенно становится меньше ошибок, но устранить их полностью никогда не удастся.
Попперианское направление в стане борцов за истину обязано своим существованием случайности – тому, что философы науки с давних пор зациклены на одном эпизоде в ее истории: на сравнении теорий тяготения Ньютона и Эйнштейна. Ньютоновский закон, согласно которому сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния, на самом деле оказался приближением – частным случаем более общей формулы Эйнштейна[26]. Если ваши знания об истории науки ограничиваются этим примером, вы и в самом деле можете прийти к выводу, что все кажущиеся научные истины суть не более чем приближения, которым неизбежно придут на смену другие. Интересно, что в некотором смысле все, что мы воспринимаем с помощью органов чувств, те “реальные” вещи, которые мы “видим собственными глазами”, можно считать лишь гипотезами, ложность которых еще не была установлена. Этот подход можно с успехом применить к иллюзиям, таким как куб Неккера.
Эта плоская геометрическая фигура, нанесенная типографской краской на бумагу, совместима с двумя разными “гипотезами” об объеме. Поэтому мы видим в ней изображение куба, которое через несколько секунд “переворачивается”, превращаясь в изображение другого куба, затем возвращается в исходный вид, и так далее. Возможно, сведения, поступающие от органов чувств, всегда лишь подтверждают или опровергают наши мысленные “гипотезы” об окружающем мире[27].
Что ж, это интересная теория, точно так же, как и философская концепция, согласно которой наука движется вперед за счет предположений и их опровержения, и точно так же, как и аналогия между ними. Это направление мысли (согласно которому все наше восприятие есть лишь гипотетические модели у нас в мозгу) может заставить нас опасаться, что граница между реальностью и иллюзиями окажется размытой у наших потомков, жизнь которых будет еще больше поглощена компьютерами, способными создавать собственные правдоподобные модели окружающего. Но мы и так, не погружаясь в высокотехнологичный мир виртуальной реальности, знаем, что наши органы чувств легко обмануть. Если нашим представлениям о реальности не хватает скептической твердости, то фокусник (профессиональный иллюзионист) может убедить нас, что на наших глазах происходит что-то сверхъестественное. Надо сказать, что некоторым известным фокусникам, которые занимались именно этим, удавалось неплохо зарабатывать – намного больше, чем тем из них, кто честно признавал, что они фокусники[28]. Ученые, к сожалению, располагают не лучшим реквизитом для разоблачения таких шарлатанов, как телепаты, медиумы и сгибатели ложек. Эту работу лучше доверять профессионалам, то есть другим иллюзионистам. Урок, который мы можем извлечь из деятельности иллюзионистов (как честных, так и обманщиков), состоит в том, что безотчетно верить своим чувствам – не безупречный способ доискаться истины.
Но все это, похоже, нисколько не подрывает наших обычных представлений о том, что считать истинным, а что ложным. Если я выступаю на суде в качестве свидетеля и обвинитель, грозя пальцем, требует сказать: “Истинно или ложно утверждение, что вы были в Чикаго в ночь убийства?” – разговор со мной будет коротким, если я отвечу:
Что вы имеете в виду под словом “истинно”? Ложность гипотезы, согласно которой я был в эту ночь в Чикаго, пока не доказана, но со временем мы неизбежно убедимся, что эта гипотеза – не более чем приближение.
Или, возвращаясь к первому возражению, я не смогу рассчитывать на сочувствие присяжных, даже каких-нибудь бонгольских, если заявлю, что
я был эту ночь в Чикаго лишь в том смысле слова “в”, который принят в вашей западной науке. У бонгольцев в ходу совершенно другая концепция понятия “в”, согласно которой человек истинно находится “в” каком-либо месте только в том случае, если он является одним из посвященных старейшин, которые вправе нюхать табак с высушенной козлиной мошонки.
Утверждения, что Солнце горячее Земли или что стол, за которым я пишу, сделан из дерева, истинны. Это не гипотезы, ожидающие проверки, не временные приближения к вечно ускользающей истине, не какие-то местные истины, которые может отвергать другая культура. И то же самое можно с уверенностью сказать о многих научных истинах, даже если мы не можем увидеть их “собственными глазами”. Истинно, и всегда будет истинно, что молекула ДНК – это двойная спираль и что у вас и у шимпанзе (или у осьминога и кенгуру) когда-то, в достаточно далеком прошлом, были общие предки. Педант будет настаивать, что это лишь гипотезы, ложность которых может быть когда-нибудь доказана. Но этого никогда не случится. Строго говоря, та истина, что в юрском периоде не было людей, тоже всего лишь предположение, которое в любой момент может быть опровергнуто находкой единственного ископаемого, возраст которого будет убедительно показан целым рядом радиометрических методов. Это могло бы случиться. Хотите, поспорим? Эти утверждения, даже если номинально они остаются гипотезами, подвергающимися проверке, истинны ровно в том же смысле, в каком истинны обыкновенные факты нашей повседневной жизни, истинны в том же смысле, в каком истинно, что у вас есть голова или что мой стол сделан из дерева. Если научные истины и открыты для философских сомнений, то не более, чем истины здравого смысла. Давайте, по крайней мере, будем беспристрастны в своих философских возражениях.
Здесь наша научная концепция истины сталкивается с более серьезным затруднением. Наука и здравый смысл – отнюдь не синонимы. Томас Г. Хаксли, этот доблестный герой науки, сказал:
Наука есть не что иное, как обученный и дисциплинированный здравый смысл, от которого она отличается лишь тем же, чем ветеран может отличаться от новобранца, а ее методы отличаются от методов здравого смысла не более, чем искусство фехтования гвардейца отличается от умения дикаря владеть своей дубиной.
Но Хаксли говорил о методах, а не о выводах науки. Как подчеркивал Льюис Уолперт в книге “Противоестественное естество науки”[29], эти выводы бывают крайне неожиданными. Выводы квантовой теории настолько неожиданны, что иногда кажется, будто физики на грани безумия. Нас уверяют, что квант ведет себя как частица, когда проходит через одно отверстие, а не через другое, но одновременно ведет себя как волна, интерферируя с несуществующей копией самого себя, если открывается другое отверстие, через которое такая несуществующая копия могла бы пройти (если бы существовала). Хуже того, некоторые физики предполагают существование огромного числа параллельных, недоступных друг другу миров, которые непрерывно множатся, обеспечивая свершение каждого альтернативного квантового события, в то время как другие физики, столь же отчаянные, полагают, что квантовые события определяются задним числом в зависимости от нашего решения изучить их последствия. Квантовая теория поражает нас такой странностью, таким вызовом здравому смыслу, что даже великий Ричард Фейнман однажды заметил: “Я думаю, что смело могу утверждать: квантовую механику не понимает никто”. И все же множество прогнозов, с помощью которых проверяли квантовую теорию, выполнялись с такой необычайной точностью, что Фейнман сравнил ее с измерением расстояния между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом с точностью до толщины человеческого волоса. Судя по этим поразительно успешным прогнозам, квантовая теория, по крайней мере в каком-то ее варианте, не менее истинна, чем любые другие наши знания.
Современная физика учит нас, что истина не так проста, как нам кажется на первый взгляд – или как кажется нашему крайне ограниченному разуму, который эволюция приспособила иметь дело с объектами средних размеров, движущимися со средними скоростями, преодолевая средние расстояния на просторах Африки. Перед лицом этих глубоких и возвышенных тайн низкопробные интеллектуальные потуги позеров, изображающих из себя философов, выглядят не стоящими внимания взрослого человека.
Разрывы в мышлении[30]
Сэр,
Вы призываете делать пожертвования для спасения горилл. Это, конечно, весьма похвально. Но Вам, похоже, не приходило в голову, что на том же самом Африканском континенте страдают тысячи человеческих детей. Будет самое время подумать о гориллах, когда мы позаботимся обо всех этих ребятишках. Давайте же правильно расставлять приоритеты!
Это воображаемое письмо мог бы написать сегодня едва ли не любой человек, исполненный благих намерений. Иронизируя по этому поводу, я вовсе не хочу сказать, что нельзя убедительно обосновать приоритетность заботы о человеческих детях. Думаю, что можно, хотя можно обосновать и противоположную точку зрения. Я лишь хочу указать на машинальный, бездумный характер двойных стандартов специесизма (видизма, видового шовинизма)[31]. Для многих просто очевидно и не обсуждается, что люди имеют право на особое отношение. Чтобы в этом убедиться, взгляните на следующий вариант того же письма:
Сэр,
Вы призываете делать пожертвования для спасения горилл. Это, конечно, весьма похвально. Но Вам, похоже, не приходило в голову, что на том же самом Африканском континенте страдают тысячи трубкозубов. Будет самое время подумать о гориллах, когда мы спасем всех трубкозубов без исключения. Давайте же правильно расставлять приоритеты!
Второе письмо неизбежно вызовет вопрос: почему именно трубкозубов? Хороший вопрос, на который требуется получить удовлетворительный ответ, прежде чем принимать второе письмо всерьез. Но первое письмо, полагаю, не вызовет у большинства людей аналогичного вопроса: почему именно человеческих? Как я уже сказал, я не отрицаю, что на этот вопрос, в отличие от вопроса о трубкозубах, наверняка можно дать убедительный ответ. Я критикую лишь неспособность задуматься и осознать, что такой вопрос о людях вообще возникает.
За этой неспособностью кроется очень простое положение видового шовинизма: люди – это люди, а гориллы – это животные. Их, бесспорно, разделяет такая пропасть, что жизнь единственного человеческого ребенка стоит больше, чем жизни всех горилл на свете. “Стоимость” жизни животного – это лишь стоимость его замещения (для владельца или, в случае с редкими видами, для всего человечества). Но стоит навесить ярлык Homo sapiens даже на крошечный кусочек нечувствительной эмбриональной ткани, и ценность его жизни сразу достигает бесконечного, неисчислимого значения.
Этот образ мыслей характеризует дискретность. Все мы согласились бы, что женщина ростом шесть футов – высокая, а женщина ростом пять футов – невысокая[32]. Такие слова, как “высокий” и “невысокий”, подталкивают нас к искусственному делению мира на качественные категории, но это не означает, что в окружающем мире действительно присутствует дискретное распределение. Если бы вы сказали мне, что рост некой женщины пять футов девять дюймов, и попросили меня решить, следует ли в этом случае называть ее высокой, я пожал бы плечами и сказал бы: “Ее рост – пять футов девять дюймов, так чего вам еще нужно?” Но человек с дискретным мышлением, если представить его в немного карикатурном виде, готов будет добиваться судебного решения по этому вопросу (и, возможно, пойдет на немалые издержки). На самом деле про карикатурный вид можно было и не говорить. Южноафриканские суды в течение многих лет занимались очень прибыльным делом, вынося решения по вопросам о том, считать ли того или иного человека смешанных кровей белым, чернокожим или “цветным”[33].
Дискретное мышление вездесуще. Его влияние оказывается особенно серьезным, когда оно поражает юристов и религиозных людей (не только все судьи, но и многие политики – юристы, и всем политикам приходится бороться за голоса религиозных избирателей). Недавно, после одной из моих публичных лекций, меня подверг допросу один из присутствовавших в аудитории юристов. Он обрушил всю силу своего юридического мастерства на один примечательный эволюционный вопрос. Если в ходе эволюции из вида A возникает новый вид B, уверенно рассуждал он, то должен быть момент, когда мать принадлежит еще к старому виду A, а ее детеныш уже принадлежит к новому виду B. Представители разных видов не могут скрещиваться друг с другом. Стало быть, по-вашему получается, что детеныш может настолько сильно отличаться от родителей, что не сможет скрещиваться с им подобными. Разве это не демонстрирует, победоносно подытожил он, роковую ошибку в теории эволюции?
Но ведь это мы делим животных на дискретные виды. Согласно эволюционным представлениям о жизни, между всеми видами должны были существовать промежуточные формы, хотя большинство их уже вымерло, упростив нам обряд раздачи имен. Но вымерли далеко не все. Мой оппонент-юрист удивился бы (и был бы, я надеюсь, заинтригован), если бы узнал о так называемых “кольцевых видах”. Самые известные из них – это кольцо серебристых чаек и клуш. В Британии это отчетливо различающиеся виды, совсем по-разному окрашенные. Любой без труда отличит их друг от друга. Но если двигаться по ареалу серебристых чаек вокруг Северного полюса в западном направлении, до Северной Америки, а затем через Аляску и Сибирь обратно в Европу, мы отметим примечательный факт. “Серебристые чайки” постепенно становятся все меньше похожи на серебристых чаек и все больше похожи на клуш. В итоге оказывается, что наши европейские клуши на деле находятся на противоположном конце кольца, которое начинается с наших серебристых чаек. На каждом участке кольца эти птицы достаточно похожи на своих соседей, чтобы скрещиваться с ними. Исключение составляют концевые участки этого непрерывного ряда, сходящиеся в Европе. Здесь серебристые чайки и клуши никогда не скрещиваются друг с другом, хотя они и связаны огибающим планету непрерывным рядом скрещивающихся собратьев. Единственное, чем необычны такие кольцевые виды, это тем, что промежуточные стадии между ними по-прежнему существуют. Все пары близких видов могли когда-то быть кольцевыми видами. Когда-то промежуточные формы между ними должны были существовать. Просто в большинстве случаев к нашему времени они уже вымерли.
Юрист, приученный к дискретному мышлению, настаивает на том, чтобы относить каждую особь к какому-либо определенному виду. Он не допускает возможности, что особь может находиться посередине между двумя видами или на одной десятой пути от вида A до вида B. Сторонники движения “за жизнь” (pro-life) и другие участники бессмысленных споров о том, на каком именно этапе своего развития эмбрион “становится человеком”, демонстрируют то же дискретное мышление. Этим людям бесполезно объяснять, что в зависимости от того, какие свойства человека вас интересуют, эмбрион может быть “человеком наполовину” или “человеком на одну сотую”. Для дискретного мышления “человек” – понятие абсолютное. Никаких полумер нет и быть не может. И вот это – источник многих зол.
Термином “человекообразные обезьяны” (apes) обычно называют шимпанзе, горилл, орангутанов, гиббонов и сиамангов. Мы признаем, что похожи на человекообразных обезьян, но редко осознаем, что мы тоже человекообразные обезьяны. Наши общие предки с шимпанзе и гориллами жили намного позже, чем их общие предки с азиатскими человекообразными – гиббонами и орангутанами. Не существует такой естественной группы, которая включала бы шимпанзе, горилл и орангутанов, но не включала бы людей. Искусственность понятия “человекообразные обезьяны” в его обычном смысле, исключающем людей, видна из следующей диаграммы. На генеалогическом древе человекообразных обезьян люди находятся в самой гуще ветвей. Закрашенная область показывает искусственность традиционного понимания “человекообразных обезьян”.
На самом деле мы не просто человекообразные обезьяны – мы африканские человекообразные обезьяны. Группа “африканские человекообразные обезьяны”, если произвольно не исключать из нее людей, будет естественной группой. В закрашенной области нет никаких “изъятий”.
Все когда-либо существовавшие африканские человекообразные обезьяны (мы в том числе) связаны друг с другом неразрывными цепями родства. То же самое можно сказать и обо всех когда-либо существовавших животных и растениях, но там эти цепи гораздо длиннее. Согласно молекулярным данным, наш последний общий предок с шимпанзе жил (в Африке) от пяти до семи миллионов лет назад. По эволюционным меркам это не так много.
Бывают такие акции, во время которых тысячи людей берутся за руки и образуют живую цепь, например от одного побережья Соединенных Штатов до противоположного, в поддержку какой-нибудь кампании или благотворительной организации. Давайте представим себе такую цепь, протянутую вдоль экватора через нашу родину – через Африку. Пусть это будет особая цепь, в которой будут стоять дети и их родители (чтобы это представить, нам придется обмануть время). Вы на юге Сомали, стоите на берегу Индийского океана, лицом к северу, и сжимаете в левой руке правую руку своей матери. Она, в свою очередь, держит за руку свою мать – вашу бабушку. Ваша бабушка держит за руку свою мать, и так далее. Эта живая цепь тянется от океанского побережья в заросли кустарников, на запад – в сторону границы с Кенией.
Сколько нам придется пройти вдоль этой цепи, пока мы не дойдем до нашего общего предка с шимпанзе? На удивление мало. Если считать, что один человек занимает один ярд, мы придем к нашему с шимпанзе общему предку меньше чем через триста миль. Мы едва только начали пересекать континент – не прошли еще и половины пути до Восточно-Африканской рифтовой долины. Наша древняя прародительница стоит далеко к востоку от горы Кения и держит за руку целую цепь своих прямых потомков, которая заканчивается вами – на побережье Сомали.
За правую руку прародительницу держит ее дочь, от которой происходим все мы. Теперь наша прародительница поворачивается на восток, к побережью, и левой рукой берет руку другой своей дочери, от которой происходят все шимпанзе (конечно, это мог быть сын, но давайте для простоты опять представим себе только предков женского пола). Две сестры держат мать за руки. Теперь представим, что вторая дочь, прародительница шимпанзе, берет за руку свою дочь – и образуется новая цепь, которая тянется обратно к побережью. Двоюродные, троюродные и так далее сестры стоят рядом. К тому времени, когда вторая цепь достигнет моря, она будет состоять из современных шимпанзе. Вы стоите лицом к лицу со своей сестрой-шимпанзе и связаны с ней неразрывной цепью матерей, держащих за руки дочерей. Если вы пройдете вверх вдоль цепи как офицер вдоль шеренги солдат: мимо Homo erectus, Homo habilis, быть может мимо Australopithecus afarensis – и обратно вниз вдоль другой ее половины (промежуточные звенья со стороны шимпанзе остаются безымянными, потому что ископаемых остатков пока не удалось найти), вы нигде не встретите никакой отчетливой дискретности. Дочери будут так же сильно (или так же мало) похожи на своих матерей, как это всегда бывает. Матери будут любить своих дочерей и испытывать к ним материнские чувства, как это всегда и бывает. И эта живая цепь, неразрывно связывающая нас с шимпанзе, будет так коротка, что лишь ненамного удалится от побережья Африки, нашего родного континента.
Наша сложенная вдвое цепь из африканских человекообразных обезьян, протянутая во времени, являет собой что-то вроде кольца из чаек в пространстве, с той разницей, что в случае обезьян промежуточные стадии уже мертвы. Я клоню к тому, что с моральной точки зрения должно быть непринципиально, мертвы они или нет. Что если бы они не были мертвы? Что если бы удалось выжить ряду переходных форм, достаточному, чтобы связать нас с современными шимпанзе живой цепью не просто особей, держащихся за руки, а особей, скрещивающихся друг с другом? Помните песню “Я с тем танцевала, кто с той танцевал, кто раз танцевала с принцем Уэльским”? Мы не можем (успешно) скрещиваться с современными шимпанзе, но будь у нас всего горстка промежуточных форм, и мы могли бы спеть: “Я с тем размножалась, кто с той размножался, кто раз с шимпанзе размножалась”.
То, что этой горстки промежуточных форм больше нет, просто случайность. (Счастливая случайность, с некоторых точек зрения, но что до меня, то я был бы несказанно рад увидеть эти формы.) Если бы не эта случайность, наши законы и моральные принципы были бы совсем другими. Стоит нам найти единственного выжившего представителя этих форм, скажем реликтового австралопитека в лесу Будонго, и вся наша замечательная система этических норм рассыплется в прах. Границы, служащие нам для сегрегации нашего мира, разлетятся на мелкие куски. Расизм сольется с видовым шовинизмом в одно запутанное и ожесточенное целое. Апартеид приобретет для тех, кто в него верит, новый и, возможно, более актуальный смысл.
Но почему, мог бы спросить специалист по этике, это должно нас так волновать? Разве одно лишь дискретное мышление заставляет нас воздвигать барьеры? Что с того, что выжившие представители непрерывного ряда африканских человекообразных обезьян оставляют нам удобный разрыв между родом Homo и родом Pan? Ведь наше обращение с животными в любом случае не должно определяться тем, можем ли мы с ними скрещиваться. Если мы хотим оправдать свои двойные стандарты, если общество согласно с тем, что люди заслуживают лучшего обращения, чем, например, коровы (говядину можно готовить и есть, а человечину нельзя), для этого нужны основания получше родства. Действительно, эволюционно люди далеки от коров, но разве не важнее то, что мы мозговитее? Или (лучше), вслед за Иеремией Бентамом, сказать: разве не важнее, что люди в большей степени способны страдать? Или сказать, что коровы, даже если они страдают от боли не меньше, чем люди (какие, спрашивается, есть основания считать, что меньше?), не знают, что их ждет? Предположим, что у осьминогов в ходе эволюции развились мозг и чувства, сравнимые с нашими. Это вполне могло произойти. Одна эта возможность уже показывает непринципиальность родства. Так какой же смысл, спросит специалист по этике, подчеркивать непрерывность нашей связи с шимпанзе?
Да, в идеале нам, наверное, следовало бы найти лучшие основания, нежели родство, чтобы, например, предпочитать питание мясом других животных каннибализму. Но печальный факт состоит в том, что в настоящее время мораль зиждется почти исключительно на дискретном императиве видового шовинизма.
Если бы кому-то удалось вывести гибрид шимпанзе и человека, эта новость вызвала бы всеобщий шок. Епископы понесли бы околесицу, юристы потирали бы руки в предвкушении поживы, политики-консерваторы метали бы громы и молнии, а социалисты не знали бы, где им строить свои баррикады. Ученый, который это сделал, стал бы изгоем общества, проклинаемым проповедниками и желтой прессой, осужденным, быть может, фетвой какого-нибудь аятоллы. Это навсегда изменило бы политику, теологию, социологию и большинство направлений философии. В мире, который так потрясло бы столь незначительное событие, как гибридизация, действительно торжествует видовой шовинизм и правит дискретное мышление.
Я доказывал здесь прискорбность воздвигаемого в наших мыслях дискретного разрыва между людьми и “человекообразными обезьянами”. Я также доказывал, что нынешнее положение этого почитаемого разрыва условно и определяется эволюционной случайностью. Если бы случайности выживаний и вымираний были другими, этот разрыв проходил бы в другом месте. К этическим принципам, основанным на прихоти случайностей, не следует относиться с таким почтением, будто они незыблемы и вечны.
Наука, генетика и этика
Докладная для Тони Блэра
Членов правительства можно простить за то, что в ученых они видят прежде всего то разжигателей, то тушителей паники в обществе. В наши дни, если ученый выступает в газете, то обычно лишь затем, чтобы высказать свое веское суждение об опасности пищевых добавок, мобильных телефонов, загара или линий электропередач. Полагаю, это неизбежно, учитывая столь же простительную зацикленность граждан на личной безопасности, а также их склонность возлагать ответственность за нее на правительство. Но жаль, что ученым в итоге приходится выступать лишь в негативной роли. К тому же это создает обманчивое ощущение, что их авторитет определяется знанием фактов. На самом деле ученые замечательны не столько своими знаниями, сколько своим методом получения этих знаний – методом, которым любой человек может с успехом пользоваться.
Еще важнее то, что в итоге за рамками остается культурная и эстетическая ценность науки. Это выглядит так, как если бы некто встретился с Пикассо и посвятил весь разговор тому, как может быть опасно слизывать краску с кисти. Или встретился с Брэдманом[34] и говорил с ним только о том, какую защитную раковину лучше всего надевать под брюки. В науке, как и в живописи (или, как сказали бы некоторые, как и в крикете), есть своя высокая эстетика. В науке есть поэзия. Науке может быть свойственна духовность, даже религиозность в том смысле этого слова, который не связан со сверхъестественным.
В короткой докладной, конечно, нет смысла пытаться осветить эту тему всесторонне. Это в любом случае сделают на ваших служебных совещаниях. Вместо этого я решил выбрать несколько разных тем, которые считаю интересными, и посвятить им что-то вроде кратких зарисовок. Будь у меня больше места, я коснулся бы и других тем (таких как нанотехнологии, которые в XXI веке будут, подозреваю, у всех на слуху).
Генетика
Сложно преувеличить то чувство интеллектуального восторга, которое царит в генетике со времени открытия Уотсона и Крика. Генетика стала, по сути, разделом информационных технологий. Генетический код точно так же, как компьютерные коды, имеет истинно цифровую природу. Это не какая-то смутная аналогия, а истина в буквальном смысле. Кроме того, в отличие от компьютерных кодов, генетический код универсален. В выпускаемых сегодня компьютерах используется целый ряд несовместимых друг с другом машинных языков, определяемых интегральной схемой процессора. Генетический же код, за немногими очень небольшими исключениями, идентичен у всех живых существ на нашей планете, от серных бактерий до гигантских секвой, от грибов до людей. Все живые существа, по крайней мере на нашей планете, “одной марки”.
Из этого следуют поразительные вещи. Это значит, что подпрограмму (а ген – это именно подпрограмма) можно копировать (copy) у одного вида и вставлять (paste) в другой, у которого она будет работать точно так же, как у первого вида. Именно поэтому известный ген “антифриза”, который изначально возник у арктических рыб, может защищать помидоры от морозов. Точно так же программист из НАСА, которому нужна удобная подпрограмма вычисления квадратных корней для ракетной системы наведения, может заимствовать ее из бухгалтерской электронной таблицы. Квадратный корень – он и есть квадратный корень. Подпрограмма, которая его рассчитывает, будет служить управлению ракетами ничуть не хуже, чем подготовке бизнес-планов.
Откуда же берется широко распространенная безотчетная враждебность, доходящая до отвращения, ко всем “трансгенным” заимствованиям? Подозреваю, что она восходит к ошибочным представлениям, сложившимся еще до открытия Уотсона и Крика. В их основе лежат трогательные, но ошибочные рассуждения, которые заставляют предполагать, что рыбьему гену может сопутствовать какой-то рыбий “дух”. Ведь должен же он нести в себе что-то рыбье? Ведь это “противоестественно” – помещать рыбий ген, который всегда “предназначался” лишь для работы в клетках рыбы, в чуждую ему среду клеток помидора! Но никто почему-то не считает, что подпрограмма для вычисления квадратных корней, которую используют в ракетной системе наведения, несет в себе некий “бухгалтерский дух”? Сама идея “духа” в этом смысле слова не просто ошибочна, но в корне ошибочна, и тем самым интересна. Кстати, отрадно сознавать, что большинство молодых людей в наши дни разбирается в компьютерных программах гораздо лучше тех, кто старше, и, должно быть, сразу бы меня поняли. Нынешний луддизм в отношении генной инженерии, быть может, умрет естественной смертью вместе с компьютерно безграмотным поколением.
Так что же, значит, опасения принца Чарльза, лорда Мелчетта[35] и их соратников не стоят ровным счетом ничего? Я бы не стал заходить так далеко, хотя я уверен в их неадекватности[36]. Аналогия с подпрограммой для вычисления квадратных корней, быть может, некорректна в следующем отношении. Что если для ракетной программы наведения нужен не квадратный корень, а другая функция, не совсем идентичная своему аналогу из области бухгалтерии? Предположим, что эти функции достаточно похожи, чтобы подпрограмму действительно можно было в целом заимствовать, но какие-то ее детали нуждались бы в тонкой настройке. В этом случае, возможно, если мы просто заимствуем подпрограмму в сыром виде, ракета полетит не туда. Возвращаясь к биологии, хотя гены и представляют собой однозначные цифровые подпрограммы, они не однозначны в том эффекте, который они оказывают на развитие организма, потому как при этом происходит их взаимодействие со средой – в том числе, что особенно важно, со средой, определяемой другими генами. Возможно, что рыбий ген “антифриза” дает оптимальный эффект лишь при взаимодействии с другими генами рыбы. Брошенный в чуждый генетический климат помидора, он может работать неправильно, если не произвести его тонкую настройку (что вполне осуществимо), чтобы связать его с собственными генами помидора.
Это значит, что обе стороны в этом споре могут обосновать свою позицию и, чтобы их рассудить, нужно вникнуть в тонкости дела. Специалисты по генной инженерии правы, утверждая, что мы можем сэкономить время и силы, воспользовавшись плодами миллионов лет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, позволивших дарвиновскому естественному отбору разработать биологический антифриз (или какое угодно другое нужное нам свойство). Но предсказатели связанных с генной инженерией катастроф тоже были бы не так уж не правы, если бы смягчили свою позицию, отказавшись от эмоционального, нутром чувствуемого неприятия в пользу рационального призыва к проведению строгих проверок безопасности генетически модифицированных организмов. Ни один авторитетный ученый не стал бы противником такого призыва. Подобные проверки обязательно должны проходить все новые продукты, а не только генетически модифицированные.
Одна из опасностей истерии вокруг генетически модифицированных продуктов, во многом не осознаваемая сегодня, связана с тем, что не следует кричать “волк!”, когда волка нет. Я опасаюсь, что если громогласные предупреждения “зеленых” об опасности ГМО окажутся беспочвенными, это может помешать людям прислушиваться к другим, более серьезным предупреждениям. Эволюция устойчивости к антибиотикам у бактерий – страшный “волк”, опасность которого доказана. Но зловещая поступь этой несомненной опасности едва ли не тонет в хоре криков по поводу генетически модифицированных продуктов, опасность которых – не более чем предположение. Точнее говоря, генетические модификации, как и любые другие, хороши, если они производятся в хорошем направлении, и плохи, если в плохом – как и вся селекция, как и сам естественный отбор. Весь фокус в том, чтобы установить правильные ДНК-программы. Осознание того, что это не более чем программы, написанные на том же языке, что и язык собственной ДНК организма, приблизит нас к тому, чтобы рассеять “нутряные” страхи, из которых проистекает большинство споров о ГМО.
Говоря о страхах, которые люди “чувствуют нутром”, я не могу не привести излюбленную цитату из безвременно ушедшего от нас Карла Сагана. Когда ему задали какой-то вопрос из области футурологии, он ответил, что для ответа на этот вопрос недостаточно данных. Человек, задавший вопрос, стал уговаривать Сагана: “А что вы чувствуете нутром?” В ответ прозвучало бессмертное: “Я стараюсь не думать нутром”. Склонность думать нутром – одна из главных проблем, с которыми нам приходится бороться в отношении общества к науке. Я еще вернусь к этому в разделе “Этика”. А пока – еще несколько замечаний о будущем генетики, особенно в свете результатов проекта “Геном человека”.
Проект “Геном человека”, который будет завершен в ближайшее время, – важное достижение науки XX века. Это большой успех, но это далеко не все. Мы взяли “жесткий диск” человека и прочитали всю до последнего бита информацию, записанную чем-то вроде двоичного кода (11000101000010000111…), что бы она ни значила для всего “программного обеспечения” нашего организма. За этим проектом в XXI веке должен последовать проект “Эмбриология человека”, который позволит, по сути, расшифровать все высокоуровневые программы, основанные на многочисленных командах в машинном коде. Другим, менее сложным делом будут проекты по прочтению геномов разных других видов (таких, как проект по прочтению генома растения Arabidopsis, о завершении которого было объявлено в день написания этих строк). Это можно будет сделать легче и быстрее, чем получилось с геномом человека, не потому, что у других организмов геномы проще и меньше нашего, но потому, что методы работы быстро совершенствуются в результате накопления коллективного опыта ученых.
Но с таким накоплением опыта связано одно прискорбное обстоятельство. Учитывая нынешнюю скорость технического прогресса, теперь, задним числом, получается, что когда был запущен проект “Геном человека”, его вообще не стоило запускать. Было бы лучше несколько лет ничего не делать и начать работу лишь два года назад! На самом деле примерно так и поступила конкурирующая фирма доктора Крейга Вентера. Ошибка подхода “вообще не стоит начинать” состоит в том, что новые технологии не могут появиться и “обогнать” старые без опыта, накопленного в ходе разработки этих старых технологий[37].
Проект “Геном человека” в неявной форме преуменьшает важность различий между индивидуумами. Но за одним интересным исключением, которое составляют однояйцевые близнецы, геном каждого человека уникален, и вы можете поинтересоваться, чей геном секвенируют в ходе этого проекта. Удостоилось ли этой чести какое-нибудь высокопоставленное лицо? Случайный человек с улицы? Или даже анонимный клон клеток из лабораторной культуры? Это важно знать. У меня карие глаза, а у вас голубые. Я не могу сворачивать язык в трубочку, а вы с вероятностью 50 % умеете это делать. Какой вариант гена сворачивания языка войдет в опубликованный геном человека? Каким будет канонический цвет глаз? Ответ состоит в том, что для тех немногих “букв” записанного в ДНК текста, которые различаются у разных индивидуумов, в канонический геном войдет вариант, преобладающий у группы людей, специально отобранных так, чтобы неплохо представлять человеческое разнообразие. Но само разнообразие при этом отмечаться не будет.
Проект “Разнообразие генома человека”, реализуемый в настоящее время, напротив, хотя и строится на основании результатов проекта “Геном человека”, посвящен тем сравнительно немногочисленным нуклеотидам, которые различаются у разных людей, а также у представителей разных групп. Кстати, на удивление малая доля этих различий приходится на различия между расами. К сожалению, этот факт ускользнул от внимания защитников различных этнических групп, особенно в Америке. Они выдвинули немало возражений политического свойства, мешающих реализации этого проекта, который они считают эксплуататорским и отдающим евгеникой.
Изучение человеческой изменчивости сулит огромную выгоду медицине. До сих пор почти все медицинские предписания исходили из предположения, что все пациенты более или менее одинаковы и что для каждой болезни можно найти один, оптимальный способ лечения. Врачи завтрашнего дня в этом отношении будут больше похожи на ветеринаров. Наши врачи работают только с одним биологическим видом, но в будущем они научатся разделять Homo sapiens на генотипы, как ветеринар делит своих пациентов на виды. Для особых нужд (переливание крови) врачи уже делят людей на несколько генетических типов (по системе AB0, резус-фактору и так далее). В XXI веке в медкарте пациента будут содержаться результаты многочисленных генетических анализов – не полный геном (в ближайшем будущем это все еще будет слишком дорого), но чем дальше, тем больше данных по различным участкам генома, которых будет намного больше, чем определяющих группу крови. Дело в том, что для некоторых болезней может быть не меньше оптимальных способов лечения, чем бывает разных генотипов в определенном локусе, и даже больше, потому что генетические локусы могут взаимодействовать