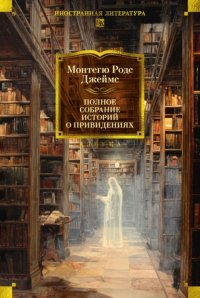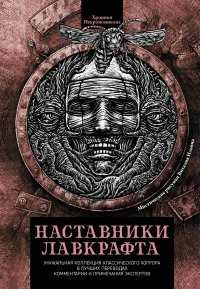Читать онлайн Комната с призраками бесплатно
- Все книги автора: Монтегю Родс Джеймс
© Жданова Т. Л., перевод на русский язык, 2021
© Шокин Г. О., перевод на русский язык, 2021
© Марков А. В., вступительная статья, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
Радио, сокрушающее ад: о прозе М. Р. Джеймса
Роман с привидениями, роман тайн, роман со скелетами в шкафу, вообще черный роман – жанр довольно привычный, и причины его появления вполне ясны: с одной стороны, вымывание религиозности из быта XVIII века, пробудившее ответное внимание к кладбищам и всему ужасному; с другой стороны – расширение круга читателей и читательниц, благодаря чему исповедальность, вместе с признаниями в собственных страхах, и стала проникать в литературу. В 1789 году одновременно вышли и полное посмертное издание «Исповеди» Руссо, и первый готический роман Анны Радклиф. Фиксация ужасов и поиск чего-то задуманного, искусственного, а потому непримиримо-страшного в естественном мире – часть одного и того же эффекта письма как исповеди.
Но жанр страшного рассказа гораздо менее привычен, хоть и не менее распространен. Монтегю Родс Джеймс (1862–1936) создал стандарт такого произведения, и уже для совсем другой эпохи – эпохи психоанализа, теории относительности и формального изучения искусства. В 1904 году, когда вышел первый авторский сборник Джеймса, был синтезирован адреналин и появились первые электрические розетки; оба эти – как будто незаметные – события позволили использовать прежние огромные инфраструктуры, медицинскую и электрическую, в частных целях. Уже не система определяла, как в ней будут работать лекарства и приборы, но конечный пользователь. Этот переворот, сопоставимый с появлением смартфонов в нашу эпоху, один из ключей к новому готическому рассказу.
В рассказах Джеймса духи могут не так много: передвигать предметы, оставлять следы своего присутствия, внушать представление о своей неимоверной силе. Читая рассказы Джеймса, мы видим, как шла на спад и заканчивалась эпоха спиритизма, когда духи могли присутствовать везде в качестве той самой всеобщей инфраструктуры, разговаривать за столом с людьми разных сословий и вообще напоминать о своем присутствии, если кто-то запамятовал. Спиритизм подразумевал повышение статуса: вот, казалось бы, простой конторский работник, но если он общается с духами, допущен в их общество, значит, он не такой уж никчемный человек. Впрочем, в эпоху новых изобретений, когда каждый может включить в розетку лампу, сесть на велосипед, а то и на самолет, такое прибавление уже оказалось не таким существенным.
Поэтому духи у Джеймса, образно говоря, пробивают дыру в мироздании там, где оказывается слишком много повторений. Там, где жизнь выглядит однообразной, более того, однообразно документируется – одним и тем же календарем, теми же жестами, теми же повторяющимися ритуалами, – появляются призраки. Поэтому готический рассказ, в отличие от романа, устроен не как столкновение характеров, а как быстро несущаяся к финалу конструкция, увлекающая, как полет на самолете. Это действие потустороннего, которое неотменимо потому, что без него вся наша жизнь окажется рутиной, не двинется с места.
Кем же был этот писатель, чье наследие восхищало Борхеса и вдохновляло Стивена Кинга? Послужной список его кажется довольно обычным: историк, кабинетный ученый, профессор, потом – ректор Королевского колледжа в Кембридже, а после и ректор Итона. Сын англиканского священника, знавший в детстве деревенскую жизнь, он помещал действие своих рассказов в привычные ему локаци: пригородную ферму или кембриджские корпуса. В этом одна из особенностей страшного рассказа: не характер героя определяет пространство, а характер призраков; от героя требуется не проявлять характер, а просто реагировать.
В готическом романе порывистый герой оказывается в одном месте, а меланхолический – совсем в другом; в страшном рассказе всем надлежит оставаться на своих местах, как в лаборатории: «Тихо, идет эксперимент!» Дело не в том, что страшный рассказ вовсе лишен мечты или меланхолии, но в том, что он представляет собой опыт мимикрии: почти по Дарвину. Чтобы избавиться от власти призраков, герою предстоит научиться думать, как призрак: точно так же следователь учится думать как преступник. И одновременно нужно вывести призрака на чистую воду, показать ограниченность его действия, а для этого следует вести себя как почтенный сотрудник лаборатории, умеющий показать – и министру, и частному наблюдателю, – как меняются цвета и состояния в пробирке.
Такая двойная мимикрия – задача с двумя неизвестными, которая решается в пространстве страшного рассказа. Поэтому и невозможно оторваться от прозы Джеймса: вот мы рассматриваем, как ведет себя призрак, а вот уже следим за характером очевидцев или их друзей. Мы заворожены, как дети бывают заворожены калейдоскопом, а взрослые – мерцанием лабораторных приборов и одновременно чистотой халатов и столов, превышающей чинность любого блистательного светского мероприятия.
Эпоха Джеймса и была эпохой лабораторной светскости, символами которой могут считаться Бертран Рассел, коллега Джеймса по Кембриджу, перенесший принципы лабораторной проверки в университет, в область математики и других фундаментальных наук, или Бернард Шоу, устроивший психологические и социальные лаборатории в своих пьесах. Впрочем, Джеймс был человеком совсем другого склада: он не особенно спешил отдавать долг современности с ее суетой. По духу он был археологом – в широком смысле: с детства любил подолгу рассматривать древности, сочинять истории каждой вещи, а после представлять, какая произошла бы катастрофа, если бы, например, с лица земли исчезли египетские пирамиды.
В каком-то смысле он продолжал Флобера, который ставил такие мысленные опыты: Карфаген исчез почти бесследно, но, чтобы выяснить, что именно исчезло, давайте напишем «Саламбо»… Различие между Джеймсом и Флобером только в том, что Джеймс говорит не об исчезнувшем, а о том, что вполне зримо, у чего есть и свидетели, и союзники, и сторонники.
Именно за это Джеймса превозносил Лавкрафт, считавший его гением ужасного в повседневности. Великий американец не понимал, как можно так тихо, из уютной повседневности, прийти к ужасу возможного уничтожения Вселенной, по сути – к ужасу черной дыры; этот термин в физике появился только через три десятилетия после смерти Лавкрафта, но уравнения гравитационного поля Эйнштейна уже подразумевали возможность такого явления или, по крайней мере, такой модели. Лавкрафт считал Джеймса тонким психологом, тщательно рассчитывающим воздействие на воображение и нервы читателя. Но на самом деле Джеймс был археологом, понимающим, сколь много очередная находка рассказывает не только о себе и своей эпохе, но и о стройности нашего мира, в котором всегда найдется место находкам, лишний раз подтверждающим его стройность.
Лавкрафту Джеймс казался, если приводить музыкальные аналогии, кем-то вроде Шопена, который может создать сразу столько образов, что душа любого читателя капитулирует. Но Джеймс был вроде Шуберта – автора «Зимнего пути», как бы более старшим композитором, который создает не образы, а то самое ощущение провала во времени, чистого действия музыкальной стихии, превращающего невозможное в возможное.
Но вернемся к биографии Джеймса. Как исследователь, он занимался различными редкостями древней истории. Его диссертация была посвящена Апокалипсису Петра – раннехристианскому сочинению, не вошедшему в Новый Завет, но повлиявшему на канонические образы Рая и Ада во всем христианском искусстве. Рай появляется там, где звучит свободное и неповторимое слово проповеди и призыва. Ад – это теснота, где грешники буквально стоят друг у друга на голове, подавляя друг друга своими повседневными привычками. Рай – это речь, преображающая себя, это проповедь, которую невозможно повторить, но которой нельзя не изумляться; ты продолжаешь ее запоминать, даже если не расслышал ее вполне. Ад – это неумение слышать другого, это мир, в котором все хотят быть начальниками, не убирают сор злых мыслей за собой и тем отравляют окружающее пространство. Конечно, тонкость исследователя и позволила Джеймсу создать эти образы катастрофы среди повседневности и при этом показать, в каких случаях возникает адский опыт, а в каких он не возникает и не возникнет.
В английском языке появился термин «джеймсианский»: так можно назвать и стиль его рассказа, и героя, слегка наивного джентльмена, «антиквария», нашедшего какую-то древность, скажем, старинную книгу, и вызвавшего злых духов. Заметим, что добрых духов у Джеймса нет – этим он отличается от всей английской романтической традиции, от комедий Шекспира до прозы А.-С. Байетт и другого современного фэнтези, где появляются разные добрые Мелюзины, Паки, прочие Саламандры и эльфы с феями. В этом смысле, кстати, мир Роулинг стоит ближе к Джеймсу, чем к Байетт, – он утверждает автономию жизни эльфов и других существ, иначе говоря, они являются частью повествования, своего рода обстоятельствами образа действия, и не входят в порядок взросления героя. Так и в мире Джеймса может быть сколько угодно добра как образа действия, но если дух явился в нашу повседневность, добрым он не станет, и, в отличие от текстов Роулинг, у Джеймса не будет никаких правил, ставящих границы для разных волшебных сред. Роулинг – писательница эпохи квантовой теории и других теорий самодостаточных полей и сред, тогда как Джеймс – писатель эпохи электричества и радио, проникавших повсеместно.
Наконец, нужно понимать, что рассказы Джеймса – это рождественские страшные рассказы, рассчитанные на чтение у камина. Единственное новое, что привнес Джеймс в эту английскую традицию, продолжающуюся от Диккенса до наших дней, это, собственно, понимание о том, кто чтец этого рассказа. Это уже не человек, способный рассказывать такие истории, не режиссер, не опытный свидетель, умеющий оказаться на расстоянии от собственного свидетельства. Это тот же самый «антикварий», с широко раскрытыми глазами смотрящий на то, что сам читает, заикающийся и иногда поеживающийся от страха, так что всем слушателям приходится подсесть ближе к камину.
Собственно, рассказы этого автора и создали особую «джеймсианскую» манеру чтения – по радио и по телевизору. Это не чтение с листа, из немного потрепанной книги; это чтение перед микрофоном и камерой, невольно усиливающих страхи – слушатель почувствует дрожь в голосе, и ее невозможно скрыть, как трудно скрыть, например, нотки обиды в голосе. Такой чистый человек, который пугает при чтении чужого рассказа и которому страшно, и стал чтецом рассказов Джеймса, и актерское джеймсианство можно проследить вплоть до наших дней в работе ведущих британских исполнителей. Трудно сказать, видели бы мы Фрая и Камбербэтча в их нынешнем амплуа, если бы не было Джеймса, можно сказать только, что не будь его – и Англия, и мир имели бы другой облик.
Александр Марков, профессор РГГУ и ВлГУ
Комната с призраками
Предисловие
В соответствии с последней модой я публикую все мои четыре книги о призраках под одной обложкой и добавляю к ним еще несколько историй[1].
Меня поставили в известность, что читатели получают от них удовольствие, следовательно, я достиг той цели, ради которой я их писал, и подробно объяснять в предисловии, зачем я их писал, не обязательно. Тем не менее издатели требуют предисловие, и мне кажется, что его можно посвятить ответам на те вопросы, которые мне обычно задают.
Первый: рассказываю ли я о своих личных приключениях?
Отвечаю: нет: за исключением единственного, специально оговоренного случая, где сон соответствует предположению.
Другой вопрос: пересказываю ли я чужие истории?
Нет.
Может быть, позаимствовал из литературы?
Кратко ответить на этот вопрос трудно. Разные писатели описывали ужасающих пауков (к примеру, Эркман-Шатрин в своем восхитительном рассказе «L’Araignee Crabe» – «Крабовый паук») и оживающие картины. С судебной лексикой конца XVII века и речью судьи Джеффриса я ознакомился в архиве Государственного суда, ну и тому подобное. Более всего изобилуют вопросы, касающиеся географии. Ежели кого-либо интересует, где происходит действие моих историй, сообщаю, что Сент-Бертран-де-Комманж и Виборг существуют на самом деле; в «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать» я подразумевал Феликстоу; в «Школьной истории» – Темпл Гроу в Ист-Шин; в «Трактате Миддот» – библиотеку Кембриджского университета, а в «Мартиновом подворье» – Сэмпфорд-Куртнэй в Девоне; Барчестерский и Саутминстерский соборы являются гибридами Кентерберийского, Солсберийского и Херефордского соборов; что Херефордшир в рассказе «Вид с холма» – воображаемое место действия, а Сибург из «Предупреждения любопытствующим» – это Олдборо в Суффолке.
Сейчас я не в состоянии сказать так сразу, обязан ли я какой-либо иной литературе или местным легендам – письменным ли, устным, – хочу только объяснить, что старался вынудить своих призраков вести себя сообразно правилам фольклора. Что же касается того, что на страницах моей книги попадаются абзацы, свидетельствующие о моей якобы эрудиции, то должен сообщить, что чаще всего я прибегаю к чистому вымыслу; например, книга, которую я цитирую в «Сокровище аббата Фомы», в природе не существует.
Меня также спрашивают, руководствуюсь ли я какими-либо правилами, сочиняя истории о призраках.
Никаких, о которых следовало бы упомянуть либо рассказать заново. Некоторыми мыслями на этот счет я поделился в предисловии к «Призракам и чудесам» (Серия «Мировая классика», Оксфорд, 1924). Рецепта успеха такого рода литературы не имеется, как, впрочем, и другой литературы. Главным судьей, как сказал доктор Джонсон, является читательская аудитория: если она довольна – прекрасно, если же нет – то какой смысл доказывать ей, почему она обязана быть довольна.
Следующий вопрос: верю ли я в призраков?
Отвечаю: принимая во внимание факты, я готов признать их в том случае, если они убедительны.
И последнее: собираюсь ли я написать еще истории о призраках?
Боюсь, что мне придется ответить: скорее всего, нет.
Так как нынче мы все в высшей степени склонны к библиографии, я хочу изложить факты, касающиеся некоторых моих книг и их содержания.
«Истории о призраках давних времен» была опубликована (как и остальные) господами Арнольд в 1904 году. Первое издание включало четыре иллюстрации покойного Джеймса МакБрайда. В эту книгу вошел рассказ «Альбом каноника Алберика», написанный в 1894 году и вскоре опубликованный в «Нэшнл Ревью». «Потерянные сердца» впервые появились в печати в «Пэлл Мэлл Мэгэзин». Что же касается следующих пяти рассказов, которые я читал друзьям во время Рождества в Кингз-Колледже в Кембридже, я помню лишь, что «Номер 13» я написал в 1899 году, а «Сокровище аббата Фомы» придумал летом 1904 года.
Вторая книга «Еще одни истории о призраках» увидела свет в 1911 году. Она состояла из семи рассказов, шесть из которых были продуктом Рождества; самый первый рассказ («Школьная история») я сочинил в честь Певческой школы Кингз-Колледж. «Хор Барчестерского собора» был опубликован в «Контемпорэри Ревью»; «Мистер Хамфриз и его наследство» был написан специально для этой книги.
В третью книгу «Тощий призрак и другие» вошло пять рассказов. Опубликована она была в 1919 году.
Гонорар за вошедшие в нее «Случай из истории собора» и «Истории об исчезновении и возвращении» был пожертвован «Кембридж Ревью».
Первый из шести рассказов книги «Предупреждение любопытствующим», опубликованной в 1925 году, «Кукольный дом с привидениями» был написан для библиотеки Кукольного Дома Ее Величества Королевы, впоследствии он появился на страницах «Эмпайр Ревью». «Необычный молитвенник» впервые увидел свет в «Атлантик Мантли», главный рассказ в «Лондон Меркьюри», и еще один, кажется, «Соседская межа», в быстро исчезнувшей «Итонской хронике». В подобных быстро улетучившихся изданиях впервые появились все, за исключением одного, специально написанные для этой книги произведения (не все они строго соответствуют жанру рассказа). Одно из этих произведений, «Крысы», придуманное для «Наобум», было включено леди Цинтией Асквит в книгу «Ставни». Исключением является «Стенающий колодец», который был написан для отряда бойскаутов Итонского колледжа и был прочитан им на костре у залива Уорбэрроу в августе 1927 года. Позже он был выпущен отдельным изданием и ограниченным тиражом Робертом Готорном Харди и Кирлом Ленгом в издательстве «Милл Хаус Пресс» в Стэнфорде Дингл.
В сборниках подобного рода были напечатаны то ли четыре, то ли пять рассказов, а четыре рассказа из моей первой книги были переведены на норвежский Ранхильдом Ундсетом и вышли в 1919 году под названием «Aander og Trolddom» – «Призраки и колдовство».
М. Р. Джеймс
Альбом каноника Альберика
Захиревший городок Сент-Бертран-де-Комманж расположен на отрогах Пиренеев, недалеко от Тулузы и от Баньер-де-Люшон. До революции в нем находилась резиденция епископа, и туристы приезжают сюда полюбоваться собором.
Весной 1883 года в это старинное местечко наведался англичанин – я не в состоянии удостаивать это место названием «город», так как в нем обитают менее тысячи человек. Англичанин вообще-то был из Кембриджа, но приехал сюда из Тулузы специально для того, чтобы ознакомиться с церковью Святого Бертрана. В Тулузе он оставил двух друзей; они были менее любознательными археологами и обещали присоединиться к нему следующим утром. На обзор церкви им хватило бы полчаса. Потом все трое собирались продолжить свое путешествие к Ошу.
В тот день наш англичанин приехал рано. Он хотел записать в свой блокнот все данные о замечательной церкви, возвышающейся на небольшом холме Комманж, и сфотографировать каждый ее уголок. Дабы осуществить сие намерение, было необходимо на целый день заполучить местного церковного старосту.
Церковный староста, или ризничий (последний термин, даже если он ошибочен, в данном случае более предпочтителен), был прислан грубоватой леди – хозяйкой гостиницы «Красная Шапочка»; и, когда он появился, англичанин неожиданно для себя увидел в нем интересный объект для изучения. Этот сдержанный, морщинистый человечек был любопытен не своей внешностью – выглядел он, как любой другой французский церковнослужитель, – создавалось впечатление, что он почему-то крадется, вернее, что его кто-то преследует и что он чем-то удручен. Он беспрестанно оглядывался и нервно вздрагивал, словно ждал, что вот-вот в него вцепится враг.
Англичанин никак не мог определить, считать ли его человеком, одержимым навязчивой идеей или чувством вины, либо мужем, находящимся под башмаком невыносимой жены. Оценив вероятность обоих предположений, англичанин пришел к выводу, что последнее более правдоподобно; тем не менее казалось, что существует более грозный враг, чем сварливая жена.
Но вскоре англичанин (назовем его Деннистоун) настолько был поглощен своим занятием – записыванием и фотографированием, – что мог кидать взгляды на ризничего лишь мельком.
И когда бы он не бросал на него взор, тот постоянно находился неподалеку, то стоял, прислонившись спиной к стене, то сидел на одном из великолепных кресел. Вскоре Деннистоун стал беспокоиться. Сначала ему казалось, что он оторвал старика от его dejeuner[2], потом он начал подозревать, что с ним ведут себя так, будто он собирается улизнуть с посохом из слоновой кости, принадлежавшим святому Бертрану, или похитить пыльное чучело крокодила, что висело над купелью. Раздражение охватило Деннистоуна.
– Не хотите ли вы пойти домой? – наконец не выдержал он. – Я вполне могу справиться один; если желаете, можете меня запереть. Мне понадобится по крайней мере еще два часа, а вы, должно быть, замерзли?
– Святые небеса! – воскликнул человечек, которого, казалось, охватил необъяснимый ужас от подобного предположения. – О таком даже на минуту подумать немыслимо. Оставить мсье в церкви одного? Нет, нет; два ли, три часа – мне все равно. Я уже позавтракал, и мне вовсе не холодно, благодарю за любезность, мсье.
«Ну что ж, мой малыш, – молвил про себя Денни-стоун, – тебя предупредили – за последствия придется отвечать самому».
По истечении двух часов кресла, огромный полуразрушенный орган, занавес хоров – дар епископа Жана де Молеона, осколки стекла, остатки гобеленов и предметы, хранящиеся в сокровищнице, были тщательно изучены. Ризничий продолжал следовать за Деннистоуном по пятам, время от времени резко оглядываясь, словно его кто-то жалил. И тут один из необычных звуков, время от времени раздававшихся в пустом здании, резанул слух Деннистоуна. Странные звуки бывают порой.
– Внезапно, – рассказывал мне Деннистоун, – мне послышался – в чем могу поклясться – тоненький металлический смех, который шел из высокой башни. Я вопросительно поглядел на моего ризничего. Губы у того побелели. «Это он… это… никого нет. Дверь заперта», – все, что он сказал, и мы целую минуту глядели друг на друга.
Еще один небольшой инцидент крайне поразил Деннистоуна. Он рассматривал большую потемневшую картину за алтарем – она изображала деяния святого Бертрана. На ней почти ничего было невозможно различить, но под ней была надпись на латинском, которая гласила:
Qualiter S. Bertrandus liberavit hominem quem dialbolus diu volebat strangulare.
(Как святой Бертран спас человека, которого Дьявол долго пытался уничтожить.))
Деннистоун с улыбкой повернулся к ризничему и хотел было пошутить по этому поводу, как, к полному своему смущению, обнаружил, что старик стоит на коленях, вперившись в картину с выражением мольбы и муки на лице.
Он сильно стиснул руки, а по его щекам потоками текли слезы. Разумеется, Деннистоун сделал вид, что ничего не заметил, но его все не покидал вопрос: «Почему подобная мазня так сильно действует на людей?» Тут ему показалось, что он нашел разгадку необычного поведения человечка – сей вопрос мучил его целый день, – этот человек – мономаньяк, но в чем заключается его мономания?
Было уже почти пять часов; короткий день угасал, и внутренний интерьер церкви стал приобретать таинственные очертания. А доносившиеся целый день откуда-то звуки – приглушенные шаги и отдаленные голоса, – казалось, участились и усилились. Правда, это, скорее всего, обостренное чувство слуха да еще полумрак сильно действовали на воображение.
И тут впервые ризничий стал проявлять признаки спешки и нетерпения. Когда фотокамера и блокнот были наконец упакованы, он издал вздох облегчения и быстрым кивком головы указал Деннистоуну на западный выход, под башней.
Настало время звонить к молитве к Пресвятой Богородице. Несколько рывков за тугую веревку, и высоко в башне заговорил огромный колокол Бертран, голос его поднимался над соснами, спускался к долинам и, громыхая вместе с горными потоками, призывал жителей этих пустынных гор вспомнить и произнести вновь приветственные слова той, что зовется Благословеннейшей среди женщин.
После этого городок, казалось, впервые за день охватила полная тишина.
Деннистоун же с ризничим покинули церковь. На ступенях они разговорились.
– Мсье, по-видимому, интересуется старыми книгами в ризнице.
– Именно так. Я как раз хотел вас спросить, есть ли в городе библиотека.
– Нет, мсье; вероятно, прежде тут была библиотека Капитула, но сейчас наше местечко стало таким маленьким… – Тут он смолк, словно мучась сомнениями, потом продолжил, будто собравшись с силами: – Но если мсье – amateur des veiux livres[3], у меня дома есть кое-что, что может его заинтересовать. Это меньше чем в ста ярдах.
Деннистоун всегда лелеял мечту в каком-нибудь заброшенном уголке Франции найти бесценный манускрипт.
Чувство радости охватило его, но оно тут же исчезло. Скорее всего, это скучный молитвенник издания Плантана около 1580 года. Вряд ли коллекционеры давным-давно не обшарили вдоль и поперек местечко, находящееся так близко к Тулузе. Однако отказываться глупо, а то потом будешь корить себя всю оставшуюся жизнь.
И они двинулись в путь. По дороге Деннистоуну пришло на ум, что ризничий как-то странно себя ведет: сначала он мучился сомнениями, а потом его вдруг охватила решимость.
И Деннистоун испугался – а не хотят ли его, приняв за богатого англичанина, заманить в трущобы и убить? И он решил затеять с ризничим разговор, во время которого довольно неуклюже сообщил, что завтра рано поутру к нему присоединятся двое друзей. К его изумлению, ризничий тут же почувствовал облегчение – беспокойство, мучавшее его, исчезло.
– Это прекрасно, – бодро произнес он, – это просто замечательно. Мсье будет путешествовать в компании со своими друзьями, они всегда будут рядом. Да, в компании путешествовать хорошо… иногда.
Последнее слово было добавлено по размышлении, после этого бедняга снова впал в тоску.
Вскоре они подошли к каменному дому – он был гораздо больше расположенных по соседству. На двери был вырезан герб – герб Альберика де Молеона, потомка по боковой линии, как объяснил мне Деннистоун, епископа Жана де Молеона. Этот Альберик де Молеон был каноником Комманжа с 1680 по 1701 годы. Здание, как и остальные в Комманже, имело обветшалый вид, верхние его окна были закрыты ставнями.
На ступеньках ризничий на минуту остановился.
– Может быть, – сказал он, – может быть, у мсье все-таки нет времени?
В то же мгновение дверь приоткрылась, и из-за нее высунулось лицо – гораздо моложе, чем у ризничего, но с тем же горестным выражением. Правда, вызвано оно было не страхом за себя, а сильной тревогой за другого человека. Оказалось, что обладательница лица является дочерью ризничего. И если бы не то выражение, о котором я упомянул, ее можно было бы назвать красавицей. При виде отца, сопровождаемого крепким незнакомцем, она просияла. Отец с дочерью обменялись несколькими репликами, из которых Деннистоун уловил лишь слова, произнесенные ризничим: «Он смеялся в церкви», – и на лице девушки появился ужас.
Но через минуту они оказались в гостиной – крохотной, с высоким потолком комнате с каменным полом. В огромном очаге горел огонь, отбрасывая дрожащие тени. Гигантский крест, почти достигавший потолка, придавал комнате вид молельни; сам крест был черным, а фигура, нарисованная на нем, естественных цветов. Под крестом стоял старый, массивный сундук, и, когда была принесена лампа и поставлены стулья, ризничий подошел к этому сундуку и, как показалось Деннистоуну, с растущими волнением и нервозностью вынул оттуда большую книгу, завернутую в белую скатерть, на которой был вышит красными нитками аляповатый крест.
Еще до того, как книгу развернули, Деннистоун обратил внимание на ее размер. «Молитвенник не такой большой, – подумал он. – И на осьмогласкник не похоже. Неужели действительно что-то стоящее?»
Тут наконец книга предстала его глазам, и Денни-стоун понял, что он видит нечто более чем стоящее. Огромный фолиант, примерно конца семнадцатого века, с тисненными золотом гербами каноника Альберика де Молеона на переплете. В книге было около ста пятидесяти страниц, почти к каждой был приклеен лист иллюстрированного манускрипта. О таком Деннистоун даже не мечтал. Десять листов из копии Книги Бытия да еще с рисунками датировались не позднее 700 года от Рождества Христова. Помимо этого полное собрание иллюстраций к Псалтырю английского происхождения – самое лучшее, какое могло существовать в тринадцатом веке; но наибольшую ценность представляли двадцать листов, исписанных унциалом на латыни. Увидев их, он тут же понял, что это ранний, никому не известный трактат, принадлежащий перу какого-то Отца Церкви. Возможно ли, что это – отрывок из копии Папия «Изречения Господни», которая находится в Ниме и датируется XII веком?»[4] Не важно – он уже решился, – книгу необходимо забрать и отвезти в Кембридж, даже если придется потратить на нее все имеющиеся в наличии деньги и остаться в Сент-Бертране в ожидании перевода. Он взглянул на ризничего в надежде увидеть на лице последнего намек на то, что книга продается. Тот был бледен, губы его шевелились.
– Если мсье соизволит посмотреть в конце, – произнес он.
И мсье соизволил. Пролистав книгу, причем на каждом листе ему попадались все новые и новые сокровища, он обнаружил в конце два листочка бумаги, более позднего времени, чем предыдущие, которые необыкновенно поразили его. По всей вероятности, подумал он, они относятся к времени бесчестного каноника Альберика, явно ограбившего библиотеку епархии Сент-Бертрана, дабы составить столь бесценный альбом. На первом листке был аккуратно начерчен план – человеку, знакомому с окрестностями, было нетрудно распознать нефы и галереи церкви Святого Бертрана. По углам были нарисованы любопытные астрономические знаки и написаны слова на древнееврейском языке, а в северо-западном углу галереи золотой краской был начерчен крестик. Под планом располагался следующий текст на латыни:
Responsa 12mi Dec. 1694. Interrogatum est: Inveniamme?
Responsum est: Invenies. Fiamme dives?
Fies. Vivamne invidendus? Vives. Moriarne in lecto meo? Ita.
(Ответы от 12 декабря 1694 года. Спросили: найду ли я это? Ответ: найдешь. Стану ли я богатым?
Станешь. Стану ли я объектом зависти? Станешь.
Умру ли я в своей кровати? Да.)
«Замечательный образчик плана с кладом сильно напоминает тот, что приводит мистер старший каноник Квотермен в „Старинном соборе Cвятого Павла“», – заметил Деннистоун и перевернул листок.
То, что он увидел, сильно поразило его, и, как часто говаривал он мне, гораздо сильнее, чем он мог себе вообразить. И хотя рисунок, который он увидел, больше не существует, в наличии имеется фотография (она у меня), которая полностью подтверждает его заявление. Данный рисунок был выполнен сепией и принадлежал к концу семнадцатого века. С первого взгляда представлялось, что на нем изображена библейская сцена, так как архитектура (рисунок представлял собой какой-то интерьер) и фигуры носили тот полуградиционный отпечаток, который был свойствен художникам двухсотлетней давности, иллюстрировавшим Библию. Справа властитель на троне, от которого спускались вниз двенадцать ступеней, над властителем балдахин, по обеим сторонам трона львы – очевидно, это был царь Соломон. Он наклонился вперед, повелительно вытянув скипетр; лицо его выражало ужас и отвращение, тем не менее оно оставалось властным и уверенным. Однако левая часть рисунка была на редкость необычной. Именно она представляла собой главный интерес. На мозаичном полу перед троном стояла группка из четырех воинов, окружавшая скорченную фигуру, описание которой будет дано чуть позже. Пятый воин лежал на полу мертвый, со свернутой шеей и вылезшими из орбит глазами. Четверо стражников глядели на царя. Их лица выражали еще больший ужас; создавалось впечатление, что лишь безоговорочная вера в своего повелителя удерживает их от бегства. Ужас их был вызван тем самым скорчившимся существом, что находилось между ними. У меня совершенно нет слов, чтобы выразить впечатление, какое вызывала эта фигура у любого, кто глядел на рисунок. Помнится, однажды я показал фотографию рисунка некоему преподавателю морфологии – человеку сверхразумному, так бы я сказал, и напрочь лишенному воображения.
Оставшуюся часть вечера он наотрез отказывался оставаться один, а позже рассказал мне, что потом он несколько ночей подряд не выключал свет, когда ложился спать. Тем не менее я попробую описать эту фигуру хотя бы в общих чертах. Поначалу вашим глазам предстает нечто грубое, заросшее спутанными черными волосами; вглядевшись, вы видите, что волосы покрывают кошмарно тощее тело – чуть ли не скелет, – но с выпирающими, походящими на проволоку мускулами. Желтовато-бледные руки с отвратительными длинными ногтями, как и тело, покрыты длинной грубой шерстью. Огненно-желтые глаза с необыкновенно черными зрачками устремлены на царя с выражением дикой ненависти. Представьте себе одного из пожирающих птиц пауков Южной Америки, перевоплотившегося в человека, который лишь приближается к разумному существу, и вы получите лишь слабое представление о том ужасе, который вызывает это страшное изображение. Кому бы я не показывал рисунок, все говорили одно и то же: «Это взято из жизни».
Как только Деннистоун опомнился от потрясения и непреодолимого страха, он украдкой бросил взгляд на хозяев. Ризничий закрыл глаза руками; дочь его не сводила глаз с креста на стене и лихорадочно перебирала четки. Наконец раздался вопрос:
– Эта книга продается?
После некоторого колебания, а затем появления признаков решимости – как то было и прежде – последовал вежливый ответ:
– Если мсье угодно.
– И сколько вы за нее просите?
– Двести пятьдесят франков.
Подобный ответ сбивал с толку. Даже у коллекционеров порой бывает совесть, а Деннистоун был гораздо порядочнее коллекционеров.
– Послушайте! – повторял он снова и снова. – Ваша книга стоит гораздо больше, чем двести пятьдесят франков, уверяю вас… гораздо больше.
Но ответ не менялся:
– Двести пятьдесят франков, и все.
Отказаться от такой удачи было невозможно. Деньги были, заплачены, расписка получена, бокал вина за совершение сделки выпит, и прямо на глазах ризничий превратился в другого человека. Он выпрямился и перестал оглядываться с подозрительным видом, он даже заулыбался – вернее, попытался улыбаться. Деннистоун встал.
– Окажите мне честь разрешить проводить мсье до гостиницы, – предложил ризничий.
– Нет, нет, благодарю! Тут и ста ярдов нет. Я прекрасно знаю дорогу, да и луна светит.
Трижды, четырежды прозвучала настойчивая просьба, столько же раз прозвучал и отказ.
– В таком случае мсье вызовет меня, если… если потребуется. Держитесь середины дороги, а то по краям она такая неровная.
– Конечно, конечно, – ответил Деннистоун, которому не терпелось поскорее изучить приобретенное сокровище. И он вышел в коридор с книгой под мышкой.
Там его ожидала хозяйская дочь – по-видимому, для того, чтобы, подобно Гиезию[5], «попросить кое-что» у чужеземца, что постеснялся потребовать отец.
– Серебряный крест на цепочке; может быть, мсье будет любезен принять его?
По чести говоря, Деннистоун не нуждался в такого рода предметах.
– Что мадмуазель за него хочет?
– Ничего… совсем ничего. Примите в подарок, мсье.
Голос ее звучал искренне, поэтому Деннистоуну пришлось произнести тысячу благодарностей и позволить повесить себе на шею крестик. Создавалось впечатление, что он оказал такую огромную услугу и отцу, и дочери, что они не знали, как и отблагодарить за нее. Когда он двинулся в путь, они стояли около двери и глядели ему вслед и все так же продолжали глядеть, когда он, дойдя до ступеней «Красной Шапочки», помахал им в последний раз.
После ужина Деннистоун заперся в спальне наедине со своим приобретением. После того как он рассказал хозяйке, что был в гостях у ризничего и купил у него старую книгу, она стала проявлять к нему особый интерес. Ему также показалось, что он слышал торопливый разговор между ней и ризничим в коридоре перед salle a manger[6]; беседа закончилась словами, что «Пьер и Бертран будут ночевать в доме».
По мере того как текло время, его охватывало чувство неловкости – вероятно, перенервничал от радости. Что бы там ни было, но ему чудилось, что кто-то стоит у него позади и что ему было бы спокойнее находиться к стене спиной. Эта покупка, конечно, пробила брешь в его наличности, но какое это имело значение в сравнении с ее ценностью? Итак, как я уже говорил, он сидел один у себя в спальне, разглядывая сокровища каноника Альберика, и каждая минута, проведенная таким образом, становилась все более и более чудесной.
– Благословен будь, каноник Альберик! – воскликнул Деннистоун который обладал привычкой разговаривать сам с собой. – Интересно, где он теперь? О господи! Как бы мне хотелось, чтобы хозяйка научилась улыбаться более весело, а то создается впечатление, что в доме находится мертвец. Интересно, к какому времени относится крестик, что столь настоятельно вручила мне девушка? Скорее всего, к девятнадцатому веку. Да, так. Не очень приятно носить его на шее – слишком уж он тяжел. Похоже, что его много лет носил ее отец. Надо бы его почистить, прежде чем убрать.
Только он снял крестик и положил его на стол, как внимание его привлек какой-то предмет, лежащий на красной скатерти близ левого локтя.
В голове у него с непостижимой скоростью пронеслось несколько предположений, что бы это могло быть.
– Перочистка? Нет, в доме таковых не имеется. Крыса? Нет, слишком черное. Большущий паук? Сильно надеюсь, что ошибся… нет. Боже мой! Рука, как на рисунке!
И он тут же схватил ее. Бледная, желтоватая кожа, покрывавшая кости и на редкость крепкие сухожилия; грубые черные волосы, гораздо длиннее, чем они бывают у человека; ногти, растущие прямо от кончиков пальцев, – скрюченные, острые, серые, ороговевшие и потрескавшиеся.
Он выпрыгнул из кресла. И от необъяснимого смертельного ужаса у него сжалось сердце. За креслом стали возникать очертания того, чья левая рука покоилась на столе. Правая же рука, скрючившись, была поднята над головой. На руке болтались черные лохмотья, а саму ее покрывали жесткие волосы, точно такие, как на рисунке. Узкая нижняя челюсть животного; черные губы не прикрывали зубов; нос отсутствовал; на фоне огненно-желтых глаз зрачки казались необыкновенно черными. Но самым страшным в видении, представшем Деннистоуну, были торжествующая ненависть и жажда убийства. В этих глазах даже разум светился – разум уже не животного, но еще и не человека.
Этот кошмар возбудил в Деннистоуне чувство невероятного страха и безумного отвращения.
Что было делать? Что?
Он не помнит точно, что сказал, только помнит, что начал говорить и вцепился в серебряный крестик, а демон двинулся к нему, тогда он стал кричать… кричать звериным голосом, словно от несусветной боли.
Гостиничная прислуга – два крепыша-коротыша, Пьер и Бертран – ворвались в комнату. Они ничего не увидели, только ощутили, как нечто, пробегая между ними, оттолкнуло их в стороны.
Деннистоуна они обнаружили лежащим в обмороке. Они всю ночь просидели вместе с ним, а в девять часов утра в Сент-Бертран приехали его друзья. Сам он, будучи все еще в сильном потрясении, уже почти пришел в себя. Рассказу его они поверили, особенно после того, как увидели рисунок и поговорили с ризничим.
Человечек, якобы по делу, явился в гостиницу на рассвете и выслушал рассказ хозяйки обо всем происшедшем с глубочайшим интересом. Удивления он не выказал.
– Это он… это он! Я и сам его видел, – было единственное, что он сказал; а все расспросы были удостоены фразой: «Deux fois je l’ai vu; mille fois je l’ai senti»[7].
Он отказался объяснять происхождение книги и рассказывать о том, что испытал сам.
– Я скоро засну вечным сном[8], и меня ожидает сладчайший покой. Зачем вы тревожите меня? – возвестил он.
Мы так никогда и не узнали, что именно доставляло ему или канонику Альберику де Молеону такие муки. На обороте устрашающего рисунка было написано несколько строчек, которые, возможно, прольют свет на случившееся:
Contradictio Salomonis cum demonio nocturno.
Albericus de Mauleone delineavit.
V. Deus in adiutorium. Ps. Qui habitat.
Sancte Bertrande, demoniorum effugator, intercede pro me miserrimo.
Primum undi nocte 12mi Dec. 1694: uidebo mox ultimum.
Peccaui et passus sum, plura adhuc passurus. Dec. 29, 1701.[9]
Я так до конца и не понял, каково мнение Деннистоуна по поводу тех событий, которые я описал. Как-то раз он привел мне цитату из Экклезиаста: «И есть духи, что сотворены ради отмщенья, и в ярости своей наносят удары тяжкие».
А в другой раз он заметил: «Исаия был очень мудрым человеком; не он ли рассказывал о ночных чудищах, обитавших на руинах Вавилона? В нынешние времена такое существует за гранью понимания».
Меня сильно поразило еще одно его высказывание, с которым я полностью согласен.
В прошлом году мы ездили в Комманж посмотреть на надгробную плиту каноника Альберика де Молеона. Это громадное мраморное сооружение изображает каноника в большом парике и в сутане, на постаменте которого эпитафия, прославляющая его эрудиции. Деннистоун имел краткий разговор с викарием церкви Святого Бертрана, и, когда мы отъехали от городка, он сказал мне:
– Очень хочется, чтобы я оказался прав: вам известно, что я пресвитерианец… но я… я верю, что останки Альберика де Молеона заслуживают мессы и отпевания. – Потом он добавил с чуть различимой интонацией северного британца: – Я и не подозревал, что так дорого заплачу за это.
В данный момент книга находится в Кембридже, в Уэнтьортском собрании. Рисунок Деннистоун сначала сфотографировал, а затем сжег в день своего отъезда из Комманжа.
Потерянные сердца
В сентябре 1811 года – дату я установил позднее – у двери Асуорби Холл, что находится в самом центре графства Линкольншир, остановилась почтовая карета. Ее единственный пассажир, маленький мальчик, тут же выскочил наружу и за короткий промежуток времени, пока, позвонив в колокольчик, он ждал, когда откроют дверь, с огромным любопытством оглядел все вокруг. И увидел высокое квадратное здание из красного кирпича, возведенное во времена правления королевы Анны. Каменные колонны крыльца были выполнены в безупречном классическом стиле и построены в 1790 году. Множество высоких узких окон состояли из маленьких стеклышек в частых переплетах. Фасад украшало круглое окно. От центрального здания и к правому, и к левому крылу тянулись застекленные галереи с колоннами. Во флигелях находились конюшни и служебные помещения, но над каждым крылом возвышался покрытый орнаментом купол с золотистым флюгером.
В окнах бесчисленным количеством огней отражался вечерний закат. Напротив дома простирался дубовый парк, который окаймляли выделявшиеся на фоне неба ели. Часы на схоронившейся среди деревьев в конце парка церкви – лишь золотистый флюгер сверкал на солнце – били шесть, ветер приглушал их мягкий бой. И у мальчика, стоящего на крыльце, возникло приподнятое настроение, правда с примесью грусти, столь уместной в осенний вечер.
Почтовая карета доставила его из Уорикшира, где шесть месяцев тому назад он остался сиротой. Теперь же, благодаря любезному приглашению его старшего кузена мистера Эбни, он приехал жить в Асуорби.
Приглашение было довольно неожиданным, так как мистер Эбни слыл анахоретом, привыкшим к ничем не нарушаемому образу жизни, и появление в доме маленького мальчика могло сильно изменить эту жизнь. Ко всему прочему и о характере, и о том, чем занимался мистер Эбни, было мало что известно.
Известный кембриджский профессор греческого говорил, что никто не знает так много о религиозных верованиях позднего язычества, как владелец Асуорби.
Разумеется, в его библиотеке имелись все существующие в то время книги о сверхъестественном, орфических стихах, ритуалах Митры и неоплатониках. В мраморном зале стояла статуя, изображающая Митру убивающим быка и приобретенная в Леванте за огромную сумму. Ее нынешний владелец одарил описанием статуи «Джентльмен’з Мегезин» и написал замечательную серию статей для «Критикал Музеум» о языческих обрядах и верованиях Восточной Римской Империи. Одним словом, его считали человеком, поглощенным лишь своими книгами, и посему живущие по соседству были крайне удивлены, узнав, что ему не только известно о существовании кузена-сироты, Стивена Эллиота, но и то, что он выказал желание поселить его в Асуорби Холл.
Во всяком случае, чего бы там не ожидали от мистера Эбни – высокого, худощавого, сурового – его соседи, он оказал своему юному кузену радушный прием. Как только распахнулась парадная дверь, он выскочил из библиотеки, потирая от ликования руки.
– Как ты, мой мальчик? Как поживаешь? Сколько тебе лет, мой мальчик? – вопросил он. – Надеюсь, ты не очень устал и не откажешься поужинать?
– Спасибо, сэр, – ответил мастер Эллиот. – У меня все хорошо.
– Ну что за мальчик, – восхитился мистер Эбни. – Сколько тебе лет, мой мальчик?
Стивену показалось странным, что хозяин задал один и тот же вопрос дважды в первые две минуты их знакомства.
– В следующий день моего рождения мне исполнится двенадцать, сэр, – сообщил он.
– А когда твой день рождения, мой дорогой мальчик? Одиннадцатого сентября, не так ли? Это хорошо… очень хорошо. Значит, почти через год, правильно? Я люблю – ха-ха! – заносить подобные детали в записную книжку. Точно двенадцать? Ты уверен?
– Абсолютно уверен, сэр.
– Прекрасно, прекрасно! Паркс, отведи его в комнату миссис Банч, и пусть он выпьет чаю… или поужинает.
– Слушаюсь, сэр, – ответил степенный мистер Паркс и сопроводил Стивена в нижний этаж.
Из всех, с кем Стивен познакомился в Асуорби, миссис Банч оказалась самой приятной и человечной. С ней он почувствовал себя совсем как дома, и через четверть часа они стали закадычными друзьями, каковыми и остались впоследствии. Миссис Банч появилась на свет неподалеку примерно за пятьдесят пять лет до появления Стивена в Асуорби и пребывала в усадьбе двадцать лет. Таким образом, если кому и были известны все входы и выходы в доме, да и вся округа, так это миссис Банч, и она никоим образом не отказывалась поделиться своими знаниями со всеми желающими.
Стивен обладал предприимчивым и любознательным складом ума и сильно интересовался всем, что касалось Асуорби Холла и его парка. Посему он задавал кучу вопросов: «Кто построил храм в конце лавровой аллеи? Кто тот старик на картине на лестнице, который положил руку на череп?» Эти и тому подобные загадки разрешала миссис Банч, обладавшая прекрасной памятью. Правда, иной раз предоставленная Стивену информация не устраивала его.
Как-то раз ноябрьским вечером Стивен сидел у камина в комнате экономки и предавался раздумьям.
– А мистер Эбни хороший человек, он попадет в рай? – неожиданно спросил он с присущей детям верой в то, что взрослые обладают способностью давать ответы на вопросы, на которые может ответствовать лишь Высший Судия.
– Хороший? Благослови дитя, Господи! – воскликнула миссис Банч. – Да хозяин – самая добрая душа на свете! Разве я не рассказывала тебе о маленьком мальчике, которого он семь лет назад почти что на улице подобрал? И о маленькой девочке, которая появилась здесь через два года, как я устроилась сюда на работу?
– Нет. Пожалуйста, расскажите миссис Банч… прямо сейчас!
– Ну, ладно, – согласилась миссис Банч, – о девочке я немного могу рассказать. Помню, как однажды хозяин привел ее с собой после прогулки и приказал миссис Эллис – тогда она была экономкой – всячески заботиться о ней. У бедняжечки и пожитков никаких не было – она сама мне так и сказала, – и жила она у нас около трех недель. И потом, однажды утром, то ли потому что цыганская кровь ее взыграла, то ли еще почему, только она пропала прежде, чем мы глаза успели продрать, и ничего с тех пор я больше о ней не слыхивала. Хозяин безумно разволновался и обшарил все пруды; но, по моему разумению, она убежала с цыганами – они перед этим всю ночь с песнями таскались вокруг дома, да и Паркс слышал их крики в лесу в тот день. Боже мой, Боже мой! она была хорошим ребенком, такая тихая; только я очень удивилась: она была так привязана к дому… странно.
– А мальчик? – спросил Стивен.
– Этот бедняжечка! – вздохнула миссис Банч. – Он был иностранцем – называл себя Джеванни. Однажды зимой он подошел к дому, играя на шарманке, и хозяин тут же подобрал его и спросил, откуда он пришел, сколько ему лет, как же он дошел, где его родители, ну и так далее – добрая душа. Но с ним случилось то же самое. Этих иностранцев столько развелось. В общем, как-то утром он тоже пропал. Мы целый год гадали, почему он ушел и что он такое сделал, ведь его шарманка так и осталась лежать на полке.
Оставшуюся часть вечера любопытный Стивен провел в дополнительных расспросах, адресованных миссис Банч и в попытках извлечь из шарманки хоть какую-нибудь мелодию.
В ту же ночь ему приснился странный сон. На верхнем этаже, где находилась его спальня, в конце коридора располагалась заброшенная ванная. Ее держали закрытой, но верхняя часть двери была застекленной, и, так как муслиновая занавеска, которая должна была там висеть, давным-давно отсутствовала, сквозь стекло справа у стены можно было увидеть утопленную в полу ванну, с изголовьем у окна.
Той ночью, о которой я повествую, Стивен, как ему снилось, глядел сквозь это стекло. В окно светила луна, и он увидел в ванне фигуру. Ее описание напомнило то, что я созерцал собственными глазами в знаменитой усыпальнице церкви Святого Михаила в Дублине, обладающей жутковатым свойством уберегать трупы от разложения. Свинцового цвета существо, невыразимо тощее и жалкое, было завернуто в одеяние, напоминавшее простыню, тонкие губы расплывались в слабой ужасающей улыбке, руки крепко прижимались к сердцу.
Внезапно его губы издали отдаленный, еле слышный стон, руки зашевелились. Охваченный ужасом, Стивен отпрянул от двери и проснулся. И оказался действительно стоящим на холодном дощатом полу коридора, освещенный луной. С отвагой, которая, как мне думается, вовсе не присуща мальчишкам его возраста, он двинулся к ванной, чтобы удостовериться, существует ли существо из его сна наяву. Его не оказалось, и он отправился спать.
На следующее утро миссис Банч была так потрясена его рассказом, что вернула муслиновую занавеску обратно на дверь ванной. Сверх того, мистер Эбни, которому Стивен поведал за завтраком о том, что он пережил, крайне заинтересовался его историей и сделал несколько записей в своей, как он называл, «книжке».
Приближалось весеннее равноденствие, о чем кузену часто напоминал мистер Эбни, добавляя, что в древние времена это время считалось критическим для юных душ, поэтому Стивен должен быть необыкновенно осторожен и закрывать по ночам окно в спальне, и у Цензоринуса по этому поводу имеются ценные замечания. Два события, случившиеся в это время, сильно потрясли Стивена.
Первое произошло после на редкость тревожной и томительной ночи, хотя он и не помнит, чтобы ему снилось нечто особенное.
Вечером миссис Банч штопала его ночную рубашку.
– Что же это такое, мастер Стивен! – с раздражением воскликнула она. – Каким образом вам удалось разодрать рубашку прямо на клочки? Сами посмотрите, сэр, что нам, бедным слугам, приходится из-за вас чинить и латать!
Одежде и впрямь был нанесен существенный и явно безответственный урон – чтобы зашить все дыры, требовалась очень опытная игла. Все прорехи сконцентрировались на левой части груди – длинные параллельные разрывы, около шести дюймов в длину; некоторые из них не до конца прорвали материю. Стивен был в полном недоумении по поводу их происхождения; он не сомневался, что прошлой ночью их не было.
– Но, миссис Банч, – заметил он, – они точно такие же, что и снаружи на моей двери в спальню; и уверяю вас, что с ними я ничего общего не имею.
Миссис Банч посмотрела на него раскрыв рот, а затем, схватив свечу, поспешно отбыла из комнаты. Было слышно, как она поднимается наверх. Через несколько минут она вернулась.
– Что ж, – доложила она, – мастер Стивен, странно очень, как это такие царапины могли туда попасть – для кошки или собаки это слишком высоко, и крысе туда не достать. Будто китайцы царапали своими длинными ногтями – так говаривал мой дядя, торговец чаем, когда я была еще девочкой. На вашем месте я не стала бы говорить об этом хозяину, дорогой мой. Просто заприте дверь на ключ, когда отправитесь спать.
– Я и так ее всегда запираю, миссис Банч. Как только помолюсь.
– Вот хороший мальчик. Всегда молитесь, тогда никто не сможет причинить вам зло.
С этими словами миссис Банч вновь принялась латать рубашку. Время от времени она предавалась размышлениям. Это было вечером в пятницу в марте 1812 года.
Тем же вечером привычный дуэт Стивена и миссис Банч неожиданно превратился в трио. К ним присоединился мистер Паркс, дворецкий. Обыкновенно он представлял себя самому себе у себя в кладовой. Он был настолько взволнован, что не заметил Стивена; более того, он даже говорил не так медленно, как обычно.
– Хозяин пусть сам берет себе вино по вечерам, – было первое, что он заявил. – Я буду ходить туда только днем или вовсе не стану туда ходить, миссис Банч. Понятия не имею, что там такое. То ли крысы, то ли ветер гуляет по этим подвалам, только я уже не так молод, чтобы спокойно переживать то, что я пережил.
– Ну мистер Паркс, в Асуорби Холле крысы… вот уж неожиданность!
– Вы совершенно правы, миссис Банч. К тому же я часто слышал от моряков на верфях, будто крысы могут разговаривать. Раньше-то я в это не верил, но сегодня… если бы я унизился до того, чтобы прислонить ухо к двери дальнего погреба, я бы наверняка услышал, о чем они говорят.
– О боже, мистер Паркс, своими причудами вы выведете меня из себя! Говорящие крысы в винном погребе – надо же!
– Послушайте, миссис Банч, у меня нет никакого желания спорить с вами, но только, если вы пойдете к дальнему погребу и приложите ухо к двери, вы тут же мне поверите.
– Что за чушь вы несете, мистер Паркс… здесь же ребенок! Напугаете еще мастера Стивена так, что он всякое соображение потеряет!
– Как? Мастер Стивен? – Только тут Паркс заметил мальчика. – Мастер Стивен прекрасно понимает, что я просто шучу, миссис Банч.
На самом же деле мастер Стивен прекрасно понял, что Паркс вовсе не шутил. Ситуация, хоть и не совсем забавная, очень заинтересовала его, но все попытки склонить дворецкого дать более полный отчет о происшедшем в винном погребе оказались тщетными.
Теперь перейдем к 24 марта 1812 года. В этот день Стивен оказался свидетелем нечто странного. Где бы он ни находился – в доме ли, в саду, – ветер навевал на него тревогу. Когда Стивен стоял у изгороди и смотрел на парк, ему почудилось, будто мимо него на ветру проплывает бесконечная процессия невидимых людей. Бесцельно несомые сбивающим с ног ветром, они тщетно прилагали усилия остановиться, ухватиться за что-либо, что прервало бы их полет и дало бы возможность вернуться вновь в мир живых, от которого они оказались оторванными. После завтрака мистер Эбни сказал:
– Стивен, мальчик мой, как ты думаешь, ты бы смог прийти ко мне в кабинет поздно вечером, в одиннадцать? До этого времени я буду занят, а мне хочется показать тебе кое-что важное для твоего будущего. Ты даже не представляешь, насколько это важно для тебя. Я думаю, не стоит говорить об этом миссис Банч или кому-либо другому; просто пойдешь к себе, как обычно.
Вот радость-то! Стивен с готовностью ухватился за возможность досидеть до одиннадцати часов. Вечером по пути наверх он заглянул в библиотеку и увидел, что жаровня, которая прежде всегда стояла в углу, на этот раз оказалась передвинутой к камину. На столе стояла позолоченная чаша с красным вином, рядом с ней лежали какие-то исписанные листы бумаги. Мистер Эбни сыпал в чашу порошок из круглой серебряной коробочки. Стивена он не заметил.
Ветер стих, стояла тихая ночь, светила полная луна. Примерно в десять часов Стивен стоял у открытого окна и глядел наружу. Несмотря на кажущееся спокойствие ночи, загадочные жители далеких, залитых лунным светом лесов до сих пор не обрели покой. Время от времени от озера доносились странные вопли затерянных и отчаявшихся бродяг. Возможно, это кричала сова или какая-нибудь водяная птица; правда, звук этот не очень напоминал их крики. Кажется, они приближались. Вот они уже звучат у ближнего берега озера. Еще несколько секунд, и они плывут над кустарником. Потом все стихло. Но, как только Стивен решил закрыть окно и продолжить чтение «Робинзона Крузо», он увидел, что на усыпанной гравием дороге, что тянулась по парку вдоль дома, стоят две фигуры – мальчик и девочка. Они стояли рядышком и глядели на окна. Девочка почему-то сильно напомнила ему фигуру из его сна. Мальчик же вызвал у него безумное чувство страха.
В то время как девочка просто стояла, чуть улыбаясь и прижав руки к сердцу, мальчик – тощий, с черными волосами и в тряпье – простирал в воздух руки, словно угрожая. Одновременно этот жест выражал неутомимый голод и тоску. Эти почти бесцветные руки освещала луна, и Стивен заметил ужасающе длинные ногти, сквозь которые просвечивал свет. Простиравший руки мальчик представлял собой устрашающее зрелище. На левой части его груди зияла черная дыра; и мозг – не уши – Стивена пронзили голодные и одинокие крики, которые прежде звучали в Асуорбийском лесу. Еще секунда, и кошмарная парочка быстро и бесшумно двинулась в путь по сухому гравию и исчезла из вида.
Несмотря на безумный страх, Стивен решил взять свечу и спуститься в кабинет мистера Эбни: час назначенного свидания приближался. Кабинет, или библиотека, находился недалеко от парадного зала, и Стивену, подстегиваемому ужасом, не потребовалось много времени, чтобы добраться туда. Но войти внутрь оказалось нелегким занятием. Дверь была не заперта – в этом он не сомневался, – ключ, как обычно, торчал снаружи. Он несколько раз постучал, но никто ему не ответил. Мистер Эбни был занят: он разговаривал. Что такое! Кажется, он кричит? И почему крик его переходит в хрип? Неужели и он увидел таинственных деток? Но вот все стихло, и под неистовыми толчками Стивена дверь наконец подалась.
На столе в кабинете мистера Эбни Стивен Эллиот нашел кое-какие бумаги, в которых он обнаружил объяснение происшедшему, когда стал постарше и смог понять суть написанного. Ниже приводится самая важная часть текста:
Повсеместно древние – в чьей мудрости в подобных вопросах я настолько убедился, что доверяю и этому утверждению, – верили в то, что при определенной процедуре, каковая в наше время может показаться варварской, человек в состоянии достичь необыкновенной власти над духами. Например, поглощая личности некоторого количества своих друзей, особь может приобрести полную власть над духами, что управляют силами нашей Вселенной.
Маг Симон утверждал, что умеет летать по воздуху, становиться невидимым или же принимать любую форму, какую только пожелает, посредством души мальчика, которого, если употреблять клеветническое слово, приведенное автором «Признаний Клементины», он «убил». Более того, в работах Гермеса Трисмегиста я нашел еще более убедительные доказательства того, что подобного результата возможно достичь быстрее, если поглотить сердце не менее трех человеческих существ, возрастом до двадцати одного года.
Чтобы удостовериться в правдивости данного рецепта, последние двадцать лет я употребил, выбирая для своего эксперимента corpora villa[10] – таких людей, отсутствие которых не нанесет урон обществу.
На первой стадии своего опыта я изъял Фебу Стэнли – девочку цыганского происхождения – 24 марта 1792 года. На второй стадии – бродячего итальянца, Джованни Паоли, ночью 22 марта 1805 года. Заключительной «жертвой» – употребление подобного слова совершенно несовместимо с моими убеждениями – станет мой кузен, Стивен Эллиот. Это совершится 24 марта 1812 года.
Лучший способ достичь желаемого поглощения – это вынуть сердце из живого объекта, сжечь сердце дотла и смешать пепел с пинтой красного вина, предпочтительно портвейна.
Останки первых двух, по крайней мере, было легко спрятать, для этого вполне подошли заброшенная ванная и винный погреб.
Несколько досаждают души объектов, которые на обычном языке удостоены именем «привидения». Но человек философского склада ума – лишь такому подвластен подобный эксперимент – мало придает значения жалким попыткам этих существ ему отомстить.
С глубочайшим удовлетворением я намереваюсь расширить границы своего существования в том случае, если эксперимент завершится успешно. Я не только окажусь вне досягаемости человеческой справедливости (так называемой), но и вне самой смерти.
Мистера Эбни нашли сидящим на стуле, с откинутой назад головой.
На его лице отпечаталось выражение бешенства, страха и смертельной боли. Слева на груди зияла ужасная рваная рана, открывающая сердце. Крови на руках не было, длинный нож, лежащий на столе, был абсолютно чистым. Подобные раны могла нанести дикая кошка. Окно в кабинете стояло открытым, и, по заключению коронера, мистер Эбни погиб в результате нападения какого-то дикого животного.
Но, изучив бумаги, часть которых я процитировал, Стефен Эллиот пришел к совершенно иному заключению.
Меццо-тинто[11]
Насколько я помню, я уже рассказывал вам о приключениях, которые выпали на долю моего друга Деннистоуна во время поисков предметов искусства для музея в Кембридже.
Для печати он предоставил довольно скудный отчет; но многим его друзьям было, разумеется, известно о его злоключениях. Среди них был и джентльмен, который в то время возглавлял музей искусств в другом университете. Поэтому неудивительно, что вся эта история произвела неизгладимое впечатление на человека, чья профессия совпадала с родом занятий Деннистоуна. Вот почему он стремился выяснить все детали этого столь невероятного дела и, конечно, полагал, что самому ему вряд ли представится случай пережить подобное. Тем не менее мысль, что приобретать старинные рукописи – а этим занималась Шелбернанская библиотека – ему не требуется, некоторым образом успокаивала его. Пусть начальство, если хочет, обшаривает темные закоулки Европы. Ему было вполне достаточно того, что в то время он обязан был ограничиться изучением большого, непревзойденного собрания английского ландшафтного рисунка и гравюр, принадлежащих музею. Однако, как оказалось, даже столь привычный и знакомый архив может иметь свои загадки, и с такой одной мистеру Уильямсу и пришлось столкнуться.
Те, кто занимается коллекционированием пейзажей, хорошо знакомы с лондонским агентом по продаже, чья помощь в подобном деле просто неоценима. Мистер Дж. У. Бритнелл постоянно выпускает восхитительные каталоги гравюр, планов и старинных эскизов поместий, церквей и городков Англии и Уэльса. Эти каталоги, безусловно, являлись главным источником знаний мистера Уильямса, но в его музее уже имелась огромная коллекция ландшафтных рисунков, и он, хотя и числился постоянным клиентом мистера Бритнелла, приобретал не редкости, а искал что-нибудь, что могло просто пополнить его собрания.
Итак, в феврале прошлого года на рабочем столе мистера Уильямса оказался каталог из заведения мистера Бритнелла. К каталогу было приложено письмо (напечатанное на машинке) от самого агента. Оно гласило:
Уважаемый сэр!
Прошу обратить Ваше внимание на № 978 в прилагаемом каталоге. Был бы крайне Вам благодарен, если бы Вы согласились ознакомиться с ним.
С совершенным почтением,
Дж. У. Бритнелл
Обратить внимание на № 978 в прилагаемом каталоге было делом одной минуты. В указанном месте он обнаружил следующее описание:
978 – Неизвестное ранее, любопытное меццо-тинто.
Вид поместья начала века. 15 х 10 дюймов; черная рама. 2,25 фунта.
Вроде ничего особенного, но цена почему-то высокая. Тем не менее мистер Бритнелл, прекрасно знавший свое дело и своего покупателя, явно придавал гравюре большое значение. И мистер Уильямс написал открытку с просьбой прислать указанный предмет для ознакомления, а заодно и несколько других гравюр и эскизов, которые он нашел в каталоге. А затем он без особого вдохновения обратился к своим повседневным обязанностям.
Любая посылка, как водится, приходит днем позже, чем вы ее ожидаете. И в этом смысле мистер Бритнелл не оказался – если можно так выразиться – исключением из правил. Посылка прибыла в музей в субботу во второй половине дня, когда мистер Уильямс уже ушел; курьер доставил ее на квартиру мистера Уильямса в колледже, предполагая, что содержимое может оказаться настолько важным, что откладывать его просмотр до воскресенья не следует. Там и обнаружил ее мистер Уильямс, приведя с собой домой товарища выпить чашечку чая.
Предмет, который нас интересует, оказался довольно большим, в черной раме меццо-тинто, краткое описание которого я уже процитировал из каталога мистера Бритнелла. Необходимо привести несколько других деталей, хотя подозреваю, что они не дадут точного представления о гравюре. Похожие картинки в наше время можно обнаружить в гостиных старых отелей либо в коридорах безмятежных деревенских домиков.
Наша гравюра была весьма посредственным меццо-тинто, а посредственное меццо-тинто, пожалуй, самая ужасная гравюра на свете. На ней был изображен фасадом к зрителю не очень большой господский дом с тремя рядами подъемных окон в обрамлении кладки из дикого камня, с длинной террасой то ли с шарами, то ли с вазами по углам и с маленьким крыльцом в центре. По обеим сторонам дома росли деревья, а перед домом простирался широкий газон. На узеньких полях была выгравирована надпись «Автор А. У. Ф.» – и более ничего. Создавалось впечатление, что гравюра была выполнена непрофессионалом. И мистер Уильямс никак не мог понять, почему мистер Бритнелл оценил предмет такого рода в 2,25 фунта. С чувством презрения он перевернул ее. На обороте оказался бумажный ярлык, левая часть которого отсутствовала. Можно было лишь прочитать окончания двух слов: «-нгли Холл» и «-ссекс».
По-видимому, стоит установить нарисованное место по географическому справочнику, а потом вернуть гравюру мистеру Бритнеллу, высказав несколько замечаний по поводу компетенции этого джентльмена.
Он зажег свечи, так как было уже темно, приготовил чай и пригласил к столу своего товарища, с которым обыкновенно играл в гольф (я возлагаю надежды, что правление университета, о котором я повествую, снисходительно относится к занятию подобного рода и считает его видом расслабления). Таким образом, чаепитие сопровождалось беседой, которую игроки в гольф могут придумать сами, тем же читателям, что в гольф не играют, я, как совестливый писатель, не стану ее навязывать.
Заключение, к которому пришли друзья, гласило, что существуют удары лучше остальных и что ни один из троков ни разу в жизни не испытывал той удачи, на каковую имеет право любое человеческое существо. И тут товарищ – назовем его профессором Бинксом – взял гравюру и спросил:
– Это что за место, Уильямс?
– Именно это я собираюсь выяснить, – ответил Уильямс, двинувшись к полке за географическим справочником. – Взгляните на оборот. Какой-то – нгли Холл то ли в Суссексе, то ли в Эссексе. Пол названия отсутствует, как вы видите. Полагаю, вам не знакомо это место?
– От Бритнелла? Я угадал? – сказал Бинкс. – Для музея?
– Я, может быть, и купил бы ее, но только за пять шиллингов, – заявил Уильямс, – но по совершенно непонятной причине он требует за нее две гинеи. Непостижимо. Гравюра-то никудышная, на ней даже фигур нет.
– Двух гиней, по моему мнению, она не стоит, – согласился Бинкс, – но сработана она не так уж и плохо. Лунный свет хорош, и, по-моему, фигуры на ней есть, вернее, фигура – у переднего края, совсем близко.
– Дайте-ка, я взгляну, – попросил Уильямс. – Да, свет дан хорошо. И где ваша фигура? Правда! Голова прямо у края.
И действительно там была голова то ли мужчины, то ли женщины – черное пятно прямо у ближнего края. Изображение было неясным, а голова, обращенная к зрителю затылком, глядела на дом.
Раньше Уильямс не видел ее.
– И все же, – заметил он, – хоть эта вещичка и лучше, чем я думал, двух гиней из музейных денег за картину неизвестного мне места я не дам.
У профессора Бинкса было чем заняться, и посему он вскоре удалился. А Уильямс до того времени, как ему надо было идти в университет, тщетно пытался идентифицировать место на картинке. «Если бы перед – нг сохранилась гласная, было бы легче, – думал он, – а так это может быть все что угодно, от Гестингли до Лэнгли. С таким окончанием названий полным-полно. А в этой проклятой книге нет ни указателя, ни конечных слогов».
В университете Уильямсу следовало появиться в семь. Подробно останавливаться на этом нет нужды; в общем, он встретился там с коллегами, с которыми днем играл в гольф, поэтому спешу вам сообщить, что слова, которыми они обменивались через стол, не имеют ничего общего с описываемым – они просто обсуждали гольф.
Кажется, час, а то и больше провели они после обеда в комнате, что зовется общей. Поздно вечером часть из них отправилась к Уильямсу и, как я подозреваю, играла в вист и покуривала табак.
В перерыве между этим занятием Уильямс взял меццо-тинто со стола и, даже не взглянув на нее, протянул человеку, интересовавшемуся искусством. При этом он сообщил ему, каким образом она к нему попала, и добавил несколько деталей, которые нам уже известны.
Небрежно взяв ее в руки, джентльмен глянул на нее, а затем произнес с интересом:
– Какая прекрасная работа, Уильямс; по всей вероятности, относится к периоду романтизма. Свет выполнен в превосходной манере, по моему разумению, и фигура хотя и слишком нелепая, но очень впечатляет.
– Да, правда? – откликнулся Уильямс, который как раз в эту минуту был сильно занят – подавал компании виски с содовой – и потому не мог подойти и посмотреть сам.
Было уже совсем поздно, и гости как раз собирались уходить. После их отбытия Уильямсу было необходимо написать пару писем и доделать кое-какую работу. Наконец, где-то уже после полуночи, он решил закруглиться, зажег свечу и выключил лампу. Картина лежала на столе там, куда положил ее гость, последним рассматривавший ее.
Выключая лампу, Уильямс бросил на нее взгляд. И чуть не уронил свечу.
Потом он утверждал, что если бы в тот момент он остался в темноте, то упал бы в обморок. Но так как этого не произошло, ему удалось поставить свечу на стол и хорошенечко рассмотреть картину. Ошибки быть не могло – и хотя это, без сомнений, было просто невозможно, но это все-таки было.
Посредине газона, напротив неопознанного дома, находилась фигура, которой в пять часов того же дня в этом месте не было.
Она на четвереньках ползла к дому и облачена была в непонятное черное одеяние с белым крестом на спине.
Мне не известен идеальный способ разрешения подобной ситуации. Могу лишь доложить вам, что предпринял мистер Уильямс. Он схватил картину за угол и, пробежав по коридору, отнес ее в другую комнату. Там он ее затолкал в комод, запер комнату на ключ и улегся спать. Но прежде он написал подробный отчет, под которым подписался, о тех изменениях, которые претерпела картина, оказавшаяся в его владении.
Он долго не мог заснуть, но его утешила мысль, что поведение картины не зависит от его непрофессионализма. Очевидно, человек, рассматривавший ее сегодня, увидел то же самое, в ином случае Уильямсу пришлось бы прийти к выводу, что что-то серьезное происходит или с его глазами, или с его мозгами.
Когда сие предположение, к счастью, было отвергнуто, Уильямс решил сделать на следующий день два дела. Необходимо очень осторожно вынуть картину из комода, причем при свидетеле, и осуществить окончательную попытку установить, что это за дом. По этой причине надо пригласить к завтраку соседа Нисбета, а потом потратить утро на изучение географического справочника.
Нисбет был ничем не занят и прибыл в 9.30. Вынужден сообщить, что хозяин оказался одет не полностью, несмотря на столь поздний час. Во время завтрака Уильямс ничего не сказал о меццо-тинто, лишь упомянул, что хочет представить на суд Нисбета картину. Но те, кто знаком с университетской жизнью, в состоянии вообразить, сколько восхитительных тем могут затронуть в беседе за воскресным завтраком два члена Совета Кентерберийского колледжа. Все же мне придется признаться, что Уильямс был невнимателен, так как его мысли, что естественно, возвращались к картине, каковая в тот момент покоилась в комоде в комнате напротив.
Наконец утренние трубки были выкурены и настал момент, которого он так ждал. С необыкновенным – почти трепетным – волнением он побежал в комнату напротив, открыл комод, извлек картину и, не глядя на нее, вернулся обратно и сунул гравюру Нисбету в руки.
– А теперь, – молвил он, – Нисбет, мне бы хотелось, чтобы вы описали мне, что вы видите на картине. Только очень подробно. Зачем, я вам потом объясню.
– Ладно, – повиновался Нисбет. – Я вижу помещичий дом… английский, я полагаю… освещенный лунным светом.
– Лунным светом? Вы уверены?
– Абсолютно. Луна на ущербе – если вы нуждаетесь в деталях, – на небе облака.
– Отлично. Продолжайте. Клянусь, – произнес Уильямс в сторону, – что, когда я увидел картинку впервые, луны не было.
– Ну, здесь не так уж много, что описывать, – продолжал Нисбет. – У дома один… два… три ряда окон, пять в каждом ряду, за исключением первого – там вместо окна крыльцо, и…
– А фигуры? – полюбопытствовал Уильямс с растущим интересом.
– Тут нет никаких фигур, – ответил Нисбет, – но…
– Что! На газоне фигуры нет?
– Ни следа.
– Вы можете в этом поклясться?
– Разумеется. Но здесь еще одна деталь.
– Какая?
– Одно из окон первого этажа – слева от двери – открыто.
– Правда? О господи! Он, должно быть, влез туда, – воскликнул, сильно волнуясь, Уильямс и, бросившись к дивану, где сидел Нисбет, вырвал у него картину из рук, дабы удостовериться самому.
Нисбет говорил правду. Фигура отсутствовала, окно было открыто. Уильямс, потеряв от изумления дар речи, ринулся к письменному столу и стал писать. Затем он дал Нисбету два листа бумаги, первый из которых попросил подписать – то было описание картины, с которым вы только что ознакомились, а второй прочитать – он заключал рассказ Уильямса, написанный предыдущей ночью.
– Что это может значить? – вопросил Нисбет.
– Я бы и сам хотел это знать, – сказал Уильямс. – Во всяком случае я должен сделать одну вещь… нет, три вещи. Я должен выяснить у Гарвуда (это был ночной гость, рассматривавший картину), что видел он, потом эту штуку надо сфотографировать прежде, чем она снова изменится, а потом надо установить место.
– Я могу ее сфотографировать, – предложил Нисбет, – чем я и займусь. Но, знаете, такое ощущение, что мы присутствуем при какой-то трагедии. Вопрос в том: случилось ли она уже или еще случится? Необходимо установить место. Да, – продолжал он, снова разглядывая картину, – думаю, вы правы: он залез внутрь. И, если я не ошибаюсь, дьявол веселится в одной из комнат наверху.
– Вот что, – решил Уильямс, – покажу-ка я картину старине Грину. (Это был старший член Совета колледжа, который много лет выполнял обязанности казначея.) – Он наверняка знает, где это. У нас и в Эссексе, и в Суссексе есть владения, а он частенько наведывается в эти графства.
– Да, он, наверное, знает, – согласился Нисбет. – Только я сначала сфотографирую ее. Но послушайте, а ведь Грина сегодня нет. Его не было уже вчера вечером, и он, кажется, говорил, что уедет на воскресенье.
– Действительно, – вспомнил Уильямс, – он уехал в Брайтон. Ладно, вы пока фотографируйте, а я схожу к Гарвуду и возьму его описание, только не сводите с нее глаз, пока меня не будет. Я начинаю думать, что две гинеи совсем не непомерная цена за нее.
Вскоре он вернулся, причем вместе с Гарвудом. Гарвуд утверждал следующее: фигура, когда он ее видел, находилась прямо у края картины и через газон она не проходила. Он помнил белую отметину на ее спине, но крест ли то был, сказать он точно не мог.
Это заявление тоже было занесено на бумагу и подписано, тем временем Нисбет возобновил фотографирование.
– Так, и что вы собираетесь делать? – поинтересовался он. – Сидеть и глазеть на нее целый день?
– Нет, я думаю, – ответил Уильямс. – Я просто пытаюсь представить, что будет дальше. Понимаете, за время между прошлым вечером и нынешнем утром могло многое произойти, но этот тип лишь забрался в дом. Он вполне мог успеть все сделать и уйти, но то, что окно открыто, по-моему, означает, что он еще внутри. Поэтому мы вполне можем оставить ее в покое. К тому же мне кажется, что днем она мало изменится или не изменится вовсе. Мы можем пойти погулять и вернуться к чаю или когда стемнеет. Оставим ее на столе и запрем дверь. Тогда никто не сможет сюда зайти, кроме моего уборщика.
Все трое пришли к выводу, что план этот хорош; последующее время они провели вместе, но ни словом не обмолвились о картине при посторонних – при любом слухе об эксперименте на их головы тут же свалилось бы Спиритическое общество.
Дадим им передых до пяти вечера.
Примерно в вышеуказанное время все трое поднимались по лестнице Уильямса. Увидев, что дверь в квартиру открыта, они слегка забеспокоились, но тут же вспомнили, что по воскресеньям уборка происходит на час раньше, чем в будни.
Тем не менее их ожидал сюрприз. Первое, что они увидели, – картина стоит прислоненной к кипе книг на столе, то есть так, как и была оставлена; второе – уборщик Уильямса сидит на стуле напротив, вперившись в нее с неописуемым ужасом.
Как такое могло случиться? Мистер Филчер[12] (это имя не я придумал) славился своей безупречной репутацией и служил образцом для подражания себе подобным не только в родном колледже, но и в тех, что имелись по соседству. Ему никак не было свойственно сидеть на стуле своего хозяина, тем более обращать особое внимание на хозяйские мебель или картины. Да и он и сам понял это. Когда все трое вошли, он резко обернулся и с заметным усилием встал. А затем произнес:
– Прощу прощения, сэр, за то, что осмелился сесть.
– Ничего, ничего, Роберт, – прервал его Уильямс. – Я и так хотел вас спросить, что вы думаете об этой картине?
– Что ж, сэр, я, конечно, не вправе противопоставлять свое мнение вашему, только это не та картина, которую бы я показал своей дочке, сэр.
– Да, Роберт? А почему?
– Никогда, сэр. Она, бедняжка, как-то раз увидела Библию с картинками Доре, и нам потом пришлось три-четыре ночи подряд сидеть с ней, уверяю вас; а если бы она увидела этот скелет или что там еще, несущего этого бедного ребеночка, то совсем бы обезумела. Знаете, какими бывают эти дети – чуть что, и они так нервничают. Только вот что я скажу вам, сэр, такой картине нельзя лежать там, где нервный человек может увидеть ее. Вам что-нибудь еще угодно сегодня, сэр? Благодарю, сэр.
С этими словами сей превосходный человек продолжил обход своих хозяев, ну а джентльмены, коих он покинул, немедленно бросились к гравюре. Дом, как и прежде, стоял на месте под убывающей луной и плывущими облаками. Открытое же раньше окно было закрыто, а фигура вновь появилась на газоне. Правда, на этот раз она не ползла на четвереньках. Теперь она, выпрямившись, ступала длинными шагами к переднему краю картины. Луна была позади, и черный капюшон нависал на лицо, которое было едва видно. Надо отметить, зрители были рады, что смогли различить лишь высокий выпуклый белый лоб да несколько выбившихся волосков. Голова была склонена, а руки крепко держали нечто, что было трудно разглядеть и походило на ребенка, мертвого ли, живого, определить было трудно. Четко виднелись лишь ноги – они были ужасно худыми.
С пяти до семи трое друзей наблюдали за картиной по очереди. Но она не менялась. Тогда они решили, что ее можно оставить, а вернувшись из университета, вновь приняться за наблюдения.
Как только им удалось освободиться, они снова собрались вместе, но фигура исчезла, а дом стоял, освещенный лунным светом. Пришлось потратить вечер на изучение географических справочников и путеводителей. Наконец Уильямсу повезло, и, надо сказать, он это заслужил. В 11.30 он прочитал в «Путеводителю по Эссексу» Меррея следующее:
16,5 милей, Эннингли. Заслуживающим интереса зданием нормандского периода являлась церковь, но в прошлом веке ее сильно перестроили в соответствии с классическим стилем. В ней находятся гробницы рода Фрэнсис, чье поместье, Эннингли Холл, массивное здание времен королевы Анны, с парком в 80 акров, примыкающим к церковному двору. Род в данное время угас, так как последний наследник таинственно исчез в детстве в 1802 году. Его отец, мистер Артур Фрэнсис, был известен в округе как талантливый гравер меццо-тинто. После исчезновения сына он уединился у себя в усадьбе и был найден мертвым в своей студии в третью годовщину несчастья. Он как раз закончил гравюру с изображением своего дома, оттиски которой встречаются крайне редко.
Это, похоже, было то что нужно. Да и мистер Грин по возвращении тут же опознал в доме на гравюре Эннингли Холл.
– Существует ли какое-либо объяснение фигуре, Грин? – последовал естественный вопрос Уильямса.
– Не очень уверен, Уильямс. Когда я впервые побывал в этом месте – это было еще до того, как я прибыл сюда, – то вот что там рассказывали: старик Фрэнсис очень злился на тамошних браконьеров и каждого, кого он подозревал, тут же вышвыривал из поместья, и мало-помалу избавился от всех, кроме одного. В те времена сквайры имели право делать все что угодно, не то что сейчас. Так вот, этот человек оказался последним представителем очень старинного рода – такое часто происходит в этих краях. По-моему, они даже когда-то владели всей округой. В моем приходе, помнится, тоже было такое.
– Как человек из «Тэсс из рода д’Эрбервиллей»? – вставил Уильямс.
– Да… возможно; все никак не могу прочесть эту книгу. Но тот парень мог показать в церкви гробницы своих предков и был очень обозлен; но Фрэнсис, как рассказывают, никак не мог с ним разделаться – тот всегда ухитрялся придерживаться закона, – пока однажды ночью лесничие не нашли его прямо в лесу на границе имения. Я могу показать вам это место – оно по соседству с землей, принадлежащей моему дяде. Представляете, какой разразился скандал; и этот Гауди (так его звали, точно – Гауди; кажется, я правильно помню – Гауди), к несчастью, – бедняга! – застрелил лесничего. А Фрэнсис только этого и ждал, и суд… вы же знаете, каким был тогда суд… и бедняга Гауди был повешен моментально; я видел его могилу в северной части церковного кладбища. Вы же знаете, каковы законы тех мест: повешенных и самоубийц хоронят в этой части кладбища. Так вот, думают, что какой-то друг Гауди – не родственник, у него их не было, бедняга! он был последним в своей семье, что-то вроде spes ultima gentis[13] – замыслил избавиться от сына Фрэнсиса и положить конец его роду. Не знаю… как-то необычно эссекскому браконьеру размышлять подобным образом… только, я бы сказал, похоже, что старина Гауди сам все проделал Ха-ха! Страшно подумать! Дайте еще виски, Уильямс!
Данная история была сообщена Уильямсом Деннистоуну, тот рассказал ее разнородной компании, в которой были и мы с приверженцем саддукейской веры[14], и профессор-серпентолог; к сожалению, должен сообщить, что последний на вопрос, что он думает по этому поводу, ответил: «От этих бриджфортцев чего только не услышишь». Сие мнение было принято так, как оно этого заслуживало.
Хочу лишь добавить, что картина теперь находится в Музее Эшли. Ее проверили на наличие симпатических чернил, но таковых не обнаружили.
Мистер Бритнелл ничего не мог сообщить о ней, кроме того, что она показалась ему необычной. За ней постоянно наблюдают, но она больше не менялась.
Ясень
Всякий, когда-либо побывавший в Восточной Англии, хорошо помнит крошечные домики, которые на каждом шагу попадаются в этой местности. Сырые строения, преимущественно в итальянском стиле, окружают парки пространством от восьмидесяти до ста акров.
Их серые дубовые ограды, благородные деревья, заросли камыша на берегах прудов и леса вдали всегда приводили меня в восторг. Мне нравится и портик с колоннами, пристроенный к кирпичному зданию времен королевы Анны, которое в восемнадцатом веке было покрыто штукатуркой, дабы привести его в соответствие с модным тогда греческим стилем. Внутри таких домов всегда есть зал с высоким потолком и с непременными атрибутами – галереей и маленьким органом. И библиотеку я люблю – там можно обнаружить все кто угодно, от Псалтыря тринадцатого веха до Шекспира ин-кварто[15]. Ну, и разумеется, картины. Но больше всего я люблю воображать, каковой была жизнь в таком доме, когда его только построили, – тогда землевладельцы процветали, и даже если денег у них было не очень-то много, жизнь их отличалась разнообразием, не то что сейчас. Если бы у меня был такой дом и мне бы хватало денег на его содержание, я бы принимал в нем друзей в ограниченном количестве.
Но это лишь отступление.
А рассказать я вам хочу о необыкновенных событиях, происшедших в доме, похожем на тот, который я пытался описать. Случилось это в Кастрингем-Холле в Суффолке. Подозреваю, что с тех пор как приключилась эта история, поместье было сильно перестроено, но характерные его черты сохранились. Я имею в виду итальянский портик, белый дом прямоугольной формы (внутри он кажется более старым, чем снаружи), парк, лес и пруд. Правда, главное, чем поместье выделялось из десятков других, ему подобных, исчезло. Если вы смотрели на дом со стороны парка, то справа видели огромный старый ясень. Он рос в шести ярдах от дома, а его ветви почти касались стены. Думаю, он стоял там с тех пор, как Кастрингем перестал быть крепостью, ров его был засыпан и на свет появился жилой дом елизаветинского стиля. Во всяком случае, присущих ему размеров он достиг в 1690 году.
В тот год в местности, где находится дом, произошло несколько процессов над ведьмами. Боюсь, что если мы начнем рассуждать на тему, что в стародавние времена являлось причиной – если таковая вообще имелась – всеобщего страха перед ведьмами, то на это уйдет слишком много времени. Действительно ли обвиняемые в подобном преступлении верили в то, что они обладают сверхъестественной силой, ну, а если сила была ни при чем, вправду ли они только тем и занимались, что гадили своим соседям, а может быть, все их признания были вырваны силой – вот те загадки, которые, как я полагаю, еще не разрешены. И настоящая история ставит меня в тупик, так как считать ее просто выдумкой я тоже не могу. Читайте и судите сами.
Кастрингем тоже нашел жертву для аутодафе. Ее звали миссис Матерсоул, и от обыкновенного косяка ведьм она отличалась более выгодным и влиятельным положением. Несколько уважаемых фермеров прихода даже пытались ее спасти. Они постарались дать наилучшие показания в ее пользу и сильно беспокоились, каким будет приговор.
Но свидетельство тогдашнего владельца Кастрингме-Холла сэра Мэтью Фелла оказалось роковым. Он поклялся под присягой, что трижды наблюдал из своего окна, как она в полнолуние рвала ветки «с ясеня близ моего дома». Забравшись на дерево, в одной сорочке, она обрезала веточки необыкновенно большим и кривым ножом и при этом что-то бормотала себе под нос. Каждый раз сэр Мэтью пытался поймать женщину, но она, услышав шум, тут же исчезала, и все, что он видел, спустившись в сад, это зайца, бегущего через парк к деревне.
На третью ночь он изо всех сил помчался за ним и добежал до дома миссис Матерсоул, но ему пришлось четверть часа барабанить в дверь, пока она не вышла – крайне раздраженная и совсем сонная, словно только что проснулась. И он никак не мог объяснить ей причину своего визита.
Главным образом, благодаря именно этому свидетельству – несмотря на поразительную и необычную доброту остальных местных жителей, – миссис Матерсоул была признана виновной и приговорена к смерти. Через неделю после суда она и еще пятеро или шестеро несчастных были повешены в Бери Сент Эдмунд.
Сэр Мэтью Фелл, в то время помощник шерифа, присутствовал при казни. Влажным, дождливым мартовским утром со стороны Северных ворот вверх по неровному травянистому склону холма туда, где стояли виселицы, поднималась телега. Другие приговоренные казались безучастными либо разбитыми горем, миссис же Матерсоул и в смертный час не изменила своему характеру. Ее «отвратительная ярость», как излагал происходящее тогдашний репортер, «так подействовала на присутствующих – в том числе и на палача, – что все они без исключения утверждали, что она – дьявол во плоти. Тем не менее она не стала оказывать сопротивление представителям закона, но посмотрела на них с таким зловещим лицом, что – как один из них впоследствии заверял меня – воспоминание о ней терзало его голову шесть месяцев».
Однако она произнесла, как сообщил корреспондент, казалось, ничего не значащие слова: «Будут еще гости в усадьбе!» Эту фразу она повторила несколько раз, словно на что-то намекая.
Сэр Мэтью Фелл вовсе не остался равнодушным к тому, как обошлись с женщиной. После судебного разбирательства он говорил об этом с приходским викарием. Он не очень-то хотел выступать на суде, так как не был ярым участником охоты за ведьмами, но заявил тогда, как повторял и после, что иного свидетельства по делу дать не мог, потому что ошибиться в том, что видел, был не в состоянии. Все происходящее представлялось ему невыносимым – ведь ему хотелось оставаться в хороших отношениях с соседями, – но свой поступок он оценивал как долг, который ему пришлось выполнить. Такова была суть его размышлений, и викарий, как и всякий рассудительный человек, их одобрил.
Через несколько недель, майской ночью в полнолуние, викарий и сквайр вновь встретились в парке и вдвоем двинулись к Холлу. Мать сэра Мэтью, леди Фелл, была опасно больна, поэтому сэр Мэтью оставался дома один; таким образом, викарий, мистер Кроум, с легкостью согласился остаться на ужин в усадьбе.
В тот вечер сэр Мэтью был не очень хорошим собеседником. Разговор касался преимущественно семейных и приходских забот; правда, к счастью, сэр Мэтью сделал некоторые записи, где выказал свои пожелания и намерения относительно поместья, что впоследствии оказалось чрезвычайно полезным.
Когда мистер Кроум решил уходить – примерно в половине десятого, – они с сэром Мэтью пошли по усыпанной гравием дорожке позади дома. Дойдя до первого поворота, откуда был виден ясень, сэр Мэтью (именно этот инцидент поразил мистера Кроума) спросил:
– Что там бегает по стволу ясеня вверх и вниз? Это не белка. В это время они уже спят.
Викарий бросил туда взгляд и увидел, как двигается какое-то существо, но при лунном свете не смог определить его цвет. Но острые очертания, которые он видел лишь мгновение, ему запомнились, и, по его словам, он мог поклясться, хотя это звучит и глупо, что белка то была или нет, но у нее было больше чем четыре ноги.
Но определить, что это, было невозможно, и они расстались Вероятно, впоследствии они бы и встретились, правда, через много-много лет.
На следующий день сэр Мэтью не спустился вниз, как обычно, в шесть часов утра, не спустился он и в семь, и в восемь. Поэтому слуги постучали ему в дверь. Я не стану тянуть, повествуя о том, с какой тревогой они прислушивались и колотили в дверь. В конце концов дверь взломали, хозяин был мертв и почернел. Об этом вы уже и сами догадались. Признаков насильственной смерти не оказалось, но окно было открыто.
Послали за священником, потом, следуя его указаниям, дали знать коронеру. Мистер Кроум как можно быстрее прибыл в Холл, его привели в комнату, где лежал усопший. Среди своих бумаг викарий оставил несколько заметок, которые свидетельствуют о том, какими искренними были уважение и сожаление, которые он испытывал к сэру Мэтью. Дабы пролить свет на происходящее, а также на верования того времени, хочу привести один отрывок из его записей:
Всякие следы, свидетельствующие о том, что кто-то входил в комнату, отсутствовали, да окна было открыто, так как мой бедный друг всегда открывал его в это время года. Перед сном он выпивал небольшую порцию эля в серебряном кубке, емкостью в пинту, но в этот вечер он не выпил его. Врач из Бери, мистер Ходжкинс, исследовал питье, но, однако, не смог бы, как он доложил, признать под клятвой на дознании, что в питье присутствовал яд. Дело в том, что из-за того, что тело сильно распухло и почернело, по округе, что естественно, прошел слух об отравлении. Тело на кровати было так сильно скрючено, что возникало предположение, что мой достойный друг и хозяин испытывал несусветную боль и муку, испуская последний вздох. Непонятно, что послужило поводом столь жестокого, бессмысленного и зверского убийства. Я считаю, что это убийство, потому что – что еще более непонятно – женщины, которым было поручено убрать и обмыть покойника (обе они очень печальные особы и очень уважаемые среди представителен их скорбной профессии), пришли ко мне, жалуясь на боль и недомогание, причем сомнения их слова не вызывали. Они сказали, что больше не станут касаться груди голыми руками, так как ощущали более чем жгучую боль в ладонях, а руки позже распухли до локтя. И боль эта продолжалась так долго, что им пришлось временно оставить свои занятия. Но на коже, тем не менее, нет никаких следов.
Услышав это, я послал за врачом, который все еще находился в доме, и мы, как можно осторожнее, проверили с помощью хрустального увеличительного стекла состояние кожи на этой части тела, но ничего важного, за исключением крошечных пятнышек и точек, не обнаружили. Тогда, вспомнив кольцо папы Борджиа и другие известные образцы ужасного искусства итальянских строителей прошлого века, мы пришли к заключению, что эти пятна от вливания яда.
Это все, что можно сообщить о признаках отравления, присутствующих на теле. Хочу добавить о моем собственном опыте, и пусть потомство рассудит, имеется ли в нем какая-либо ценность. На столе рядом с кроватью лежала маленькая Библия, которой мой друг – точный в делах менее весомых, а это дело он почитал наиболее важным – пользовался по ночам, и когда просыпался, он читал твердо установленную ее часть. И, когда я взял ее, испустив слезу, коей он достоин, и, разглядывая сей символ, размышлял о его значимости, мне пришло на ум – ведь в минуты беспомощности мы склонны искать хоть какой-нибудь проблеск, коий в состоянии дать нам надежду на свет, воспользоваться старым и многим почитающимся методом прибегнуть к Библии как к Оракулу. В деле последнего священного Величества, благословенного мученика, короля Карла, и лорда Фолкленда этот способ применялся в качестве главной судебной инстанции. Вынужден добавить, что моему расследованию не была оказана большая помощь, но, так как впоследствии причина этих страшных происшествий может быть выяснена, я записываю результаты – возможно, более быстрому уму, чем мой, они помогут найти разгадку несчастья.
Я трижды открыл книгу и ткнул пальцем в первые попавшиеся слова.
Первые были из Луки, XIII, 7: «Сруби ее».
Вторые из Исайи, XIII, 20: «Не заселится никогда».
Третьи из Иова, XXXIX, 30: «Птенцы его пьют кровь».
Это то, что было необходимо процитировать из бумаг мистера Кроума.
Сэр Мэтью Фелл был должным образом положен в гроб и захоронен, а надгробная проповедь, прочитанная мистером Кроумом в воскресенье, была опубликована под названием «Непостижимый путь, или Опасные и злобные деяния Антихриста в Англии». Викарий да и большинство живущих по соседству были убеждены, что сквайр пал жертвой папского заговора.
Его сын – сэр Мэтью-второй – унаследовал и титул и поместье. На этом кончается первый акт кастрингемской трагедии. Хочу только упомянуть, что новый баронет решил не поселяться в комнате, где умер его отец, что и неудивительно. За время его царствования там вообще никто никогда не ночевал, даже случайный гость.
Он умер в 1733 году, и ничего достойного внимания в годы его правления не произошло, разве только что необъяснимый, все увеличивающийся падеж скота.
Тот, кого интересуют детали, может обратиться к письму, опубликованному в «Джентльмен’з Мегезин» в 1772 году. В нем баронет приводит статистический отчет и сообщает некоторые факты. Падеж прекратился после того, как он просто-напросто стал загонять скотину на ночь в сараи и в парке не оставалось ни одной овцы. Дело заключалось в том, что он обратил внимание, что с теми, кто проводит ночь в помещении, не происходит ровным счетом ничего. После этого болели лишь птицы и дикие животные. Но так как никто не оставил подробное описание симптомов болезни, а ночные сторожа тоже ничего не видели, я не стану подробно останавливаться на «кастрингемской эпидемии» – так звалась эта болезнь среди суффолкских фермеров.
Как я уже говорил, второй сэр Мэтью умер в 1735 году, его сменил соответственно его сын, сэр Ричард. Именно он сумел добиться фамильной скамьи в северной части приходской церкви.
Ради претензий сквайра пришлось потревожить несколько могил на неосвященном месте. Среди них оказалась могила (чье местоположение было точно известно благодаря то ли пометкам, то ли плану церкви и ее двора, сделанному мистером Кроумом) и миссис Матерсоул.
Когда по деревне прошел слух, что предстоит эксгумация трупа знаменитой ведьмы, оказалось, что ее кто-то еще помнит. Сами понимаете, каковыми были удивление и страх, когда обнаружилось, что в лишь слегка подгнившем гробу не оказалось ни тела, ни костей, ни даже праха. Это и в самом деле загадка, так как в те времена ни о каких мародерах и не помышляли, и найти вразумительное объяснение похищению тела крайне трудно. Разве только для нужд хирурга?
Этот казус воскресил в памяти все истории о судах над ведьмами и колдовских деяниях, которые не наблюдались вот уже сорок лет, и приказ сэра Ричарда сжечь гроб, хотя и был неукоснительно исполнен, многие восприняли как отчаянный поступок.
Сэр Ричард был определенно несносен в своих рационализаторских действиях. Прежде дом представлял собой чудесную постройку из прекрасного красного кирпича; но сэр Ричард, предпринявший путешествие по Италии, подпал под влияние тамошнего стиля, а так как деньгами он располагал в большем количестве, чем его предшественники, он вознамерился на месте английского дома возвести итальянский дворец. Таким образом, кирпич исчез за сдоем штукатурки и облицовкой из тесаного камня, на въезде в парк и в саду были установлены посредственные римские мраморные статуи, а на противоположном берегу пруда было возведено подобие храма Сивиллы в Тиволи.
И Касттрингем стал выглядеть совсем иначе – правда, на мой взгляд, менее привлекательно. Но в последующие годы дворяне, обитавшие по соседству, сильно восхищались им и воспринимали как образец.
Однажды утром (в 1754 году) он проснулся невыспавшимся. Погода стояла ветреная, и, несмотря на то, что труба усердно дымила, в комнате было так холодно, что ему приходилось постоянно поддерживать огонь. К тому же какой-то стук в окно не давал ему ни минуты покоя. А в тот день предвиделись гости, которые жаждали разнообразных увеселений. И напавший на него приступ хандры (который не прекратился даже во время веселья) был настолько силен, что он стал опасаться за свою репутацию устроителя развлечений. Но более всего он был раздражен из-за бессонной ночи и определенно решил не ночевать более в свой комнате.
Это было главной темой его размышлений за завтраком, после которого он стал обходить комнату за комнатой в поисках подходящей спальни. На это ушло довольно много времени. Наконец он нашел комнату с окнами на восток и на север, но мимо нее будут постоянно шнырять слуги, да и кровать оказалась ему не по нраву. Нет, нужна комната с видом на запад – тогда и солнце не будет бить ему по утрам в глаза, и никто не будет бегать взад и вперед по коридору. Но домоправительница почти исчерпала свои ресурсы.
– Вот что, сэр Ричард, – доложила она, – во всем доме есть только одна такая комната.
– Это которая? – заинтересовался сэр Ричард.
– Да сэра Мэтью… Западная комната.
– Вот и поместите меня туда – там я и стану спать, – объявил ее хозяин. – Куда идти? А, сюда. – И он поспешно двинулся к комнате.
– Но, сэр Ричард, там никто не спал вот уже сорок лет. После того как там умер сэр Мэтью, там даже не проветривали.
Сообщив это, она, шурша юбками, побежала вслед за ним.
– Давайте, миссис Чиддок, открывайте! Могу я наконец увидеть эту комнату?
Дверь была открыта; и воздух в комнате действительно оказался спертым и тяжелым. Сэр Ричард подошел к окну и тут же, что входило в его привычку, откинул занавески и распахнул створки. Этой части дома перемены почти не коснулись, ее скрывал огромный ясень, возвышавшийся прямо у окна.
– Проветрите хорошенечко комнату, миссис Чиддок, и перенесите сюда мою кровать. А в старой поместите епископа Килморского.
– Умоляю вас, сэр Ричард, – прервал его чей-то голос, – мне необходимо поговорить с вами, будьте любезны.
Обернувшись, сэр Ричард увидел в дверях человека в черном. Тот поклонился:
– Простите за вторжение, сэр Ричард. Вы, наверное, вряд ли меня помните. Я – Уилльям Кроум, мой дед был викарием при вашем прадеде.
– Что ж, сэр, – ответил сэр Ричард, – имя Кроума всегда служит пропуском в Кастрингаем. Я рад возобновить знакомство, продолжающееся вот уже два поколения. Чем могу помочь вам? Столь ранний визит и, если не ошибаюсь, ваш костюм свидетельствуют о том, что вы спешили.
– Вы абсолютно правы, сэр. Я тороплюсь из Норвича в Бери-Сент-Эдмунд и заехал по пути к вам, чтобы ознакомить вас с некоторыми документами, которые я недавно нашел среди бумаг деда. Мне кажется, вы найдете кое-что касающееся вашей семьи.
– Вы необыкновенно любезны, мистер Кроум, и, ежели вы соблаговолите последовать за мной в кабинет и угоститься вином, мы сможем вместе просмотреть бумаги. А вы, миссис Чиддок, как я уже просил, проветрите помещение… Да, именно здесь умер мой прадед… Да, возможно, из-за дерева тут сыровато… Нет, больше ничего не желаю слушать. Прошу вас, не возражайте. Вы получили указания – ступайте. Пойдемте, сэр?
И они отправились в кабинет. В пакете, который молодой мистер Кроум – он только что стал членом совета Клэр-Холла в Кембридже и позднее публиковался в таком серьезном издании, как «Полинуса», – привез с собой, были и записки старого викария, касающиеся смерти сэра Мэтью Фелла. Так впервые сэр Ричард столкнулся с таинственным «Гаданием на священной книге», о которым вы уже слыхали.
– Что ж, – заметил он, – Библия прадеда дает-таки благоразумный совет: «Сруби его». Если это относится к ясеню, он может спать спокойно – я так и сделаю. Такого рассадника простуды и лихорадки я еще не встречал.
В кабинете имелась семейная библиотека, которая еще лишь ожидала прибытия книг, закупленных сэром Ричардом в Италии, и была не слишком многочисленна.
Сэр Ричард перевел взгляд на книжный шкаф.
– Интересно, – сказал он, – остался ли этот старый предсказатель в целости и сохранности? Кажется, я его вижу.
И он вынул из шкафа унылого вида Библию, на форзаце которой, как и полагается, имелась дарственная надпись: «Мэтью Феллу от его любящей крестной, Анны Элдоус, 1659».
– Может, снова погадать на нем, мистер Кроум? Держу пари, наткнемся на какое-нибудь имя в Паралипоменоне. Гм! так что тут у нас? «И станут поутру искать меня, но не найдут». Ну, ну! Ваш дед увидел бы в этом настоящее предзнаменование. Ладно, хватит прорицаний! Все это – сказки. Хорошо, мистер Кроум, я крайне благодарен вам за эти записи. Как я понимаю, вы, увы, торопитесь. Прошу вас, еще бокал.
И, соблюдя правила гостеприимства, которое было искренним (сэру Мэтью пришлись по нраву такт и манера поведения молодого человека), он распрощался с посетителем.
А днем прибыли гости: епископ Килморский, леди Мери Херви, сэр Уилльям Кентфилд и другие. В пять часов обед, вино, карты, ужин, и наконец все отошли ко сну.
На следующее утро сэр Ричард отказался идти на охоту с остальными. Охоте он предпочел беседу с епископом Килмортским. Этот прелат, в отличие от большинства ирландских епископов своего времени, подолгу проживал в своей епархии. В то утро они оба гуляли вдоль террасы и обсуждали вопрос улучшения поместья. Епископ, указав на окно Западной Комнаты, сказал:
– Ни один бы человек из моей ирландской паствы никогда бы не согласился жить в этой комнате, сэр Ричард.
– Почему, мой лорд? Вообще-то это моя комната.
– По ирландским поверьям, сон близ ясеня приносит несчастье, а в двух ярдах от вашего окна растет высокий ясень. Очень может быть, – улыбнулся епископ, – что вы уже почувствовали на себе его влияние – не очень-то бодро вы выглядите после ночного отдыха.
– Из-за него ли или из-за чего другого, но я действительно не мог заснуть до четырех утра. Но завтра дерева уже не будет, так что оно не сможет мне больше помешать.
– Я приветствую ваше решение. И вряд ли чистый воздух в состоянии проникнуть в вашу комнату сквозь такую густую листву.
– И тут вы правы, ваша светлость. Правда, ночью я не открывал окно. Мне мешал спать какой-то шорох – наверное, ветки царапали окно.
– Вряд ли, сэр Ричард. Вот… посмотрите отсюда. Нижние ветви даже не касаются окна… если только в бурю, но ночью таковой не наблюдалось. Им не хватает до окна фута.