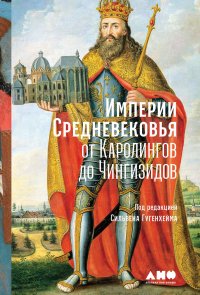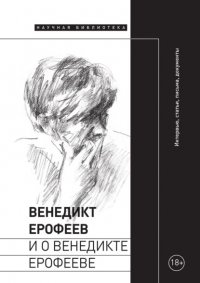
Читать онлайн Венедикт Ерофеев и о Венедикте Ерофееве бесплатно
- Все книги автора: Коллектив авторов
От составителей
Автор поэмы «Москва – Петушки» Венедикт Васильевич Ерофеев (1938–1990) – одна из самых загадочных фигур в исключительно богатой загадочными личностями истории неподцензурной русской литературы второй половины прошлого столетия.
Ни в малой степени не претендуя здесь на раскрытие загадки Ерофеева, мы попытались распределить материалы сборника по разделам таким образом, чтобы у читателя была возможность увидеть автора поэмы с разных сторон и в разной подсветке.
Первый раздел («Венедикт Ерофеев…») составлен из нескольких набросков к ерофеевскому автопортрету. Открывается раздел автобиографией, написанной Ерофеевым в шестнадцатилетнем возрасте, а продолжается – расшифровкой его устного выступления на квартирном вечере у Александра Кривомазова и текстами пяти интервью писателя – Дафни Скиллен, Павлу Павликовскому, польским кинематографистам и Леониду Прудовскому (два интервью).
Второй раздел («…и…») включает документы из архива Орехово-Зуевского педагогического института, в котором Ерофеев учился в 1959–1960 годах, и его переписку. В отправленных и полученных письмах автор «Москвы – Петушков» раскрывается сам и предстает увиденным глазами любивших его женщин – Валентины Ерофеевой, Галины Ерофеевой и Яны Щедриной, а также друзей и приятелей – Вадима Делоне, Ольги Седаковой, Михаила Генделева, Вадима Тихонова. Особняком стоит обмен письмами с переводчицей Эржебет Вари, в которых большей частью обсуждается текст «Москвы – Петушков». Подчас не менее интересный материал для историка литературы и читателя представляют приложения к некоторым письмам. Так, Ольга Седакова специально для сборника написала короткие воспоминания о своей попытке опубликовать в СССР «Цветочки святого Франциска Ассизского» (история, упоминаемая в ее письме к Ерофееву); кроме того, мы помещаем в сборнике наиболее полный вариант наброска «любимого первенца», Вадима Тихонова, к так и не написанному им тексту, посвященному дружбе с Венедиктом Ерофеевым.
Бóльшая часть материалов первых двух разделов и бóльшая часть фотографий печатаются впервые. В комментариях и вступительных заметках к этим материалам приводятся отрывки из никогда не публиковавшихся интервью с друзьями и знакомыми Ерофеева.
Наконец, в третьем, самом обширном разделе этого сборника («…о Венедикте Ерофееве»), автор «Москвы – Петушков» увиден глазами профессионально пишущих людей. Раздел составлен из откликов на произведения Ерофеева известных писателей (Виктора Некрасова, Владимира Войновича, Татьяны Толстой, Зиновия Зиника, Виктора Пелевина, Дмитрия Быкова) и статей критиков и литературоведов. Некоторые из них уже успели стать филологической классикой, часть печатается впервые. Тексты расположены в хронологии их первых публикаций. К сожалению, трудности с авторским правом не позволили нам включить в третий раздел все статьи западных исследователей о Ерофееве, которые первоначально планировались к републикации. Мы сожалеем и о невозможности по той же причине поместить в сборнике текст Сергея Довлатова о «Москве – Петушках»[1].
Составители выражают сердечную благодарность всем, кто помогал им советами и замечаниями, особо выделив из этого обширного списка Ирину Дмитриевну Прохорову, Марка Наумовича Липовецкого, а также Галину Анатольевну и Венедикта Венедиктовича Ерофеевых, предоставивших для публикации материалы из домашнего архива Венедикта Ерофеева.
Венедикт Ерофеев…
Автобиография Венедикта Ерофеева, написанная при поступлении в МГУ (1955 год)[2]
Этот документ был обнаружен филологом Юлией Красносельской, которая по нашей просьбе изучила личное дело Венедикта Ерофеева в архиве Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Ф. 8. Оп/л. (9). Ед. хр. 1286). Мы же сопровождаем текст кратким комментарием.
Вероятно, это первая автобиография из нескольких, написанных Ерофеевым. Особо отметим содержащийся в ней и ранее, кажется, неизвестный исследователям и читателям факт – дату вступления Ерофеева в комсомол, а также ту особенность текста автобиографии, что сознательные умолчания абитуриента Ерофеева о некоторых подробностях своей жизни едва ли не интереснее того, о чем он счел возможным рассказать.
Я родился 24 октября 1938 года на ст. Чупа Лоухского района Карело-Финской ССР[3]. Мой отец, Ерофеев Василий Васильевич, работает на железной дороге; мать, Ерофеева Анна Андреевна, – домохозяйка. В 1941 году вместе с семьей я был эвакуирован <со с>т. Хибины Кировской ж.-д. в село Елшанка Ульяновской области[4], где прожил до 1943 года. В 1943 г. <я вн>овь приехал с семьей на ст. Хибины, где в сентябре 1945 года поступил в первый класс начальной школы. Затем два года жил на ст. Зашеек Кировской ж.-д.; здесь я учился во втором классе местной начальной школы. В 1947 году моя семья поселилась в городе Кировске Мурманской области[5], где я учился с 3‐го класса по 7‐й в Кировской 6‐й семилетней школе, а закончил десятилетнее образование в средней школе № 1 г. Кировска. В ноябре 1954 года я вступил в члены ВЛКСМ[6].
В июне этого года я окончил десятый класс и получил аттестат зрелости.
«Василий Розанов глазами эксцентрика»
Авторское чтение у Александра Кривомазова[7]
Воскресным вечером 30 марта 1980 года в однокомнатной квартире Александра Кривомазова[8] (Москва, Каширское шоссе, д. 102, к. 2, кв. 248) прошел организованный им литературный вечер. В его первом отделении выступила с чтением стихов Галина Погожева[9], а во втором Венедикт Ерофеев прочел эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика» и ответил на вопросы слушателей. Тремя неделями ранее (9 марта 1980 года) в той же квартире Ерофеев впервые публично читал поэму «Москва – Петушки». Магнитофонная запись и фотографии, сделанные Александром Кривомазовым на этом вечере, получили широкое распространение с конца 1980‐х годов. Аудиопленка с записью второго вечера была найдена мной в домашнем архиве Александра Кривомазова осенью 2018 года и вскоре оцифрована. Здесь я впервые привожу прокомментированную расшифровку этой записи.
Александр Кривомазов не помнит, кто именно предложил ему устроить первый вечер Венедикта Ерофеева, но, судя по списку выступавших незадолго до него, это могли быть знакомые Ерофеева Слава Лён или Леонид Прудовский[10]. «Ерофеев к нам пришел один раз, и все признали, что это был роскошный вечер – „Москва – Петушки“. И мы с ним договорились, что он еще раз нас посетит, что-нибудь почитает», – рассказывает Кривомазов о том, как состоялось второе чтение[11]. А Галина Погожева вспоминает:
Я сидела на письменном столе и болтала ногами. ‹…› В комнату притекали ученого вида молодые люди, типичные физики, худощаво-изможденные, большинство в свитерах и очках. ‹…› Все занимали места на стульях и стоявшей посреди комнаты большой тахте, грубо, но крепко сколоченной из каких-то палок. ‹…› На меня с любопытством посматривали, но не очень. Все ждали какого-то Ерофеева, а он опаздывал, то есть всех задерживал. Кажется, не дождались и велели уже мне приступать к чтению стихов. ‹…› И тут комната вдруг осветилась как будто синим. Я помню этот свет очей позже всех вошедшего человека, какого-то мятого, по мне, так и старого уже и, как говорят о женщинах, «со следами былой красоты», когда-то, наверно, высокого и стройного, теперь сутулящегося – а может, показалось, – он старался не мешать и пробирался в уголок, как зритель в зале, где уже начался спектакль ‹…› Когда он вышел к столу – сел на стул, конечно, не то, что я. И вот этот незнакомый, но будто сто лет знакомый человек с простой фамилией, которую я тогда сразу забыла, стал читать о каком-то неведомом мне Розанове, фамилию которого я как раз сразу запомнила. И это было ошеломляюще, дурманяще, как будто в воздухе разлились винные пары, хотя никто не пил. Или нет, вообще что-то необъяснимое, не вещество, но поле ‹…› Потом нас развозили по домам, но сначала выдали гонорар. Мне – банку клубничного варенья, а Ерофееву – две бутылки вина[12].
Я благодарю Александра Николаевича Кривомазова, предоставившего мне доступ к своему домашнему архиву, за его доброжелательное содействие. Хочу выразить восхищение энтузиазмом, смелостью и трудолюбием Александра Кривомазова, который в 1975–1982 годах провел у себя дома более трехсот литературных чтений[13]. В конце почти каждого вечера он просил участников оставить запись в альбоме. Эти автографы, вместе со сделанными Кривомазовым фотографиями и аудиозаписями вечеров, образуют архив, бесценный для исследователя советской неофициальной литературы. В частности, запись, сделанная Венедиктом Ерофеевым в альбоме Кривомазова 30 марта 1980 года, проливает свет на его литературные замыслы этого времени:
Венедикт Ерофеев.
У тебя (извини за ты) хороший и сдержанный во всех отношениях народ. Желание только вот какое: не мельчить читающих, чтоб не портить хорошо слушающих. Надеюсь в апреле прочесть «Историю еврейского народа», не оскорбив очень нервных юдофилов. В этой «Истории» о евреях будет столько же, сколько о вине в «Петушках», т. е. почти ничего и не о том.
30/III-80[14]
Также я приношу благодарности за помощь в работе Марку Гринбергу, Олегу Лекманову, Алексею Макарову, Льву Наумову, Галине Погожевой, Светлане Шнитман-МакМиллин, Екатерине Четвериковой и правозащитному обществу «Международный Мемориал».
Расшифровка аудиозаписи
Венедикт Ерофеев (далее – ВЕ): То есть был такой журнал «Вече». Который заказал нескольким людям что-нибудь написать о Розанове. Непременно статью о Розанове. И как можно более толковую. Я-то написал самую бестолковую из этих статей, но почему-то занял первое место[15]. А <за> первое место премия была такая: две бутылки по два семьдесят две[16]. Я схлопотал эту первую премию – и слава тебе господи. Потому что все остальные писали о Розанове так… об акциденции, об интерполяциях и черт знает еще о чем[17]. О трансформациях путей к Божеству и все такое. Но она всего на двадцать минут, так что я не очень отягощу[18]. «Василий Розанов глазами эксцентрика»[19].
[Ерофеев читает эссе о Розанове по австрийскому альманаху Neue Russische Literatur[20]. Ниже приводятся две сделанные им по ходу чтения ремарки:
…Можно дозволить очищенный род проституции «для вдовствующих замужних», то есть для того разряда женщин, которые неспособны к единобрачию, неспособны к кривде, вместе крепости… (осекается) к кривде… Нет, «к правде» тут надо. А тут почему-то написали… В Австрии почему-то написали «кривда» вместо «правда», ну… <нрзб> (смеется, общий смех)[21] …к правде и крепости единобрачия[22].
‹…›
Значит – они кретины, а я – прирожденный идиот. Вернее, нет, мы разнимся, как слеза идиота от улыбки кретина, как понос от запоров; как моя легкая придурь от их глубокой припизднутости (десять тысяч извинений). Они лишили меня вдоха и выдоха…[23] (Делает ремарку.) Очень хорошо на немецкий перевели эти прекрасные термины![24] (Общий смех.)]
<пропуск в записи>
ВЕ: …с вами иначе. Вы сколько экзаменов сдали уже? Я говорю: «Три экзамена сдал». – «Все на „отлично“?» Я говорю: «Все на „отлично“». – «Я слышал, что вы единственный первокурсник, который сдал все на „отлично“. У вас остался „фольклор“?» Я говорю: «Да, остался один только „фольклор“». – «Ну так вот, сдавайте на „отлично“ и уходите от нас… и покидайте и Владимир, и Владимирскую область»[25]. (Смех.) Вот как он сказал. Это совсем не выдумка, это… И так действительно вышвырнули. «Покинуть пределы Владимира и Владимирской области»[26].
Слушательница: А почему?
ВЕ: Ну просто так. Я и задавать вопросов не стал… Просто покинуть – и всё.
Слушатель: А в том, что вы читали в прошлый раз, – там много фольклора от ваших друзей, с которыми вы работали? Вместе там… на кабеле…[27] Или всё ваше?
ВЕ: В какой? В «Петушках» то есть?
Слушатель: Да.
ВЕ: Да нет, все приходится за них выдумывать. Они сами-то не ахти какие выдумщики.
Слушатель: Нет, да?..
ВЕ: Нет.
Слушатель: Значит, только полторы страницы – это их <текст>. «Серп и Молот – Карачарово».
ВЕ (со смехом): Да-да-да, вот, пожалуйста.
Александр Кривомазов (далее – АК) (кому-то): Это вы закрыли окно, нет?
Слушательница: Нет, не я.
АК: Это я закрыл, да? Я забыл… <неразборчивые разговоры>
Слушатель: По-моему, этот боснийский студент две пули <всадил?>. Ну, одну-то уж точно. По-моему, две[28].
ВЕ: Да ну, пусть, господи… Да, в конце концов, если придираться, то и Нерон не дожил до тридцати лет, вообще-то говоря[29]. Если уж быть придирчивым. Тут же заранее рассчитано на то, что люди всё абсолютно знают. Поэтому правила игры чтут тоже.
Слушатель: Сколько времени вы писали эту вещь?
ВЕ: Да мне как заказали. Мне сказали: «К концу июня удавись, но напиши». Причем мало того, первую премию назначили-то мне… Вот этот вот журнал «Вече»… Две бутылки по два семьдесят две. А в это же время назначил мне свидание человек, который возглавлял журнал «Евреи в СССР», некто Воронель. И он сказал, что эту статью лучше дать ему, в его журнал[30]. И сказал, что поставит мне две бутылки по рупь семьдесят две. Я сказал: «Ну уж, тут…» (смеется). Я сказал, что два по два семьдесят шесть все-таки лучше, чем два по рупь семьдесят две[31]. Русские совершенно объегорили евреев. (Смех.) Самый шовинистический журнал «Вече»…
АК: Наверное, это <была> не единственная форма гонорара?
ВЕ: Они мне еще целую неделю давали кефир. (Смех.) Честное слово! Каждое утро я просыпался, у меня на столе был кефир. А что, прекрасный гонорар…[32]
Слушатель: А что это за журнал «Вече»?
ВЕ: А «Вече» – он прикрыт. Прикрыт, и его главный редактор сейчас отбывает…
Слушатель: А он был открыт разве?.. (Общий смех.) Коль скоро он стал прикрыт?
Другой слушатель: Он был приоткрыт!
ВЕ (смеется): Да-да-да, вот примерно так. Во всяком случае, читателей было много в столице. Но он такой… слишком… сугубо антисемитский. Так что они… Та женщина, которая ведала этим журналом, например, приходила специально в мой домик в садике и спрашивала: «Авраам Линкольн – он, случайно, не еврей?» (Смеется.) Я ее переспрашивал: «Ну а Исаак Ньютон тогда <кто>?..»[33] (Смех.)
Слушательница: С Исааком как раз <нрзб>.
ВЕ: С Исааком просто, да?
Слушатель: Да, это точно. Предположительно.
ВЕ: Ну то есть блестящий был там народ. Путали всех. Они путали Бомарше с Жоржем Марше[34]. (Общий смех.)
Слушатель: И тех и других считали евреями? (Смех.)
ВЕ (смеясь): И тех и других считали евреями.
Слушатель: И долго их путали?
ВЕ (смеясь): Долго. Так и остались в заблуждении своем[35]. Одного из них я спросил: «Кто твой любимый русский поэт?» Он подумал-подумал и сказал: «Мартынов». А потом подумал-подумал и добавил: «И Дантес!» (Общий смех.)[36] Вот кто их любимые русские поэты.
Слушатель: А сколько лет выходил этот журнал?
ВЕ: Выходил долго, лет пять-шесть все-таки.
Слушатель: Какие годы это были?
ВЕ: Так… Посадили парня в семьдесят четвертом, ну, значит, вплоть по семьдесят четвертый год <журнал> и выходил[37].
Слушательница: Ну, соответственно, минус шесть…
Слушатель: А начало?
ВЕ: Ну а начало – примерно шестьдесят восьмой год.
Слушатель: А в каком он виде выходил? Его печатали или…
ВЕ: Машинописном. Чисто машинописном.
Слушатель: И профессиональные писатели…
ВЕ: И, вообще говоря, дурацкий журнал. Они хотели… Черт его знает, чего они хотели. Ну, например, передовая статья такая: «Не отдадим Курильские острова японцам»[38]. (Общий смех.) Кто? С чего они взяли, что японцы хотят наши Курильские острова?[39] «Не отдадим ни за что Курильские острова»!
АК: То, что японцы хотят, они могли с чего-то взять… А то, что, допустим, мы хотим их отдать, это они действительно взяли зря. Хотеть-то они могут…
ВЕ: Ну а почему же главреда посадили за это? (Смех, голос: «Его, наверное, не только за это!») Может, надо было отдать? (Общий смех.) Совершенно неп<онятно>.
Реплики нескольких слушателей:
– В то время, возможно, и да. В то время, возможно, были планы и отдать…<нрзб>
– Ну, его не только за это посадили. Это уже другой разворот (?)
– Ну и вообще, даже если бы и был общий план с самого начала не отдавать… то все равно не надо об этом заявлять.
ВЕ: Да, конечно… Промолчали бы в тряпочку… (Со смешком): Курильские острова…
Слушатель: Теперь понятна форма и размер гонорара.
ВЕ: Какого гонорара?
Слушатель: Вашего.
ВЕ: Колоссальный гонорар.
Слушатель: Да я и говорю, теперь понятно, <когда> описан журнал.
Второй слушатель: А уже нет надежды, так сказать, возрождения?.. (Общий смех.) Он большой срок, что ли получил, да? (Все смеются, голос: «Он выйдет, не захочет. И правильно сделает»).
ВЕ: Восемь плюс пять[40]. Всего-то-навсего.
Слушатель: За это, да?
ВЕ: Да, только за это.
Слушатель: И отбывает на Курильских островах неотданных?
ВЕ: Нет, как раз под Ленинградом <нрзб>[41].
Слушатель: Подальше от Курильских островов. (Смех.)
ВЕ: Возрождение… Да там… Сейчас, слава богу, хватит и остальных журналов. За морем выходит столько русских журналов, что… Пруд пруди. По-моему, все регулярно получают или нет?.. (Общий смех.)
Слушатель: Или нет! (Смех.)[42]
Другой слушатель: Венедикт Васильевич, может быть, еще что-нибудь почитаете?
ВЕ: Да у меня с собой-то ведь ничего нет.
Слушатель: Только вот это, да?
ВЕ: Ну вот это вот, австрийское, Neue Russische Literatur.
Слушатель: Но там же еще <что-то есть>, такая толстая книжица…
ВЕ: А там плохие стихи Лёна[43].
Слушатель: А-а-а-а… Это… Ваше – только вот это. Понял.
ВЕ: То есть там параллельно на русском и на немецком. Дряни он понапихал туда тоже вволю[44].
АК: Вопросы иссякли? (Голос: «Да!») У меня есть предложение: именно сегодня, если только слушатели наши не против, где-то вот сейчас, скажем, вечер и кончить. Потому что, с одной стороны, завтра у многих рабочий день. С другой стороны, просто я сегодня, открою свой секрет, зван на день рождения. (Голос: «Прекрасно…») Поэтому, если можно, я бы еще успел туда, скажем… (Голос: «На здоровье!»)
ВЕ: Даже так? Давно бы и сказал, все бы уже разбежались. (Смех.)
Илья Симановский, Светлана Шнитман-МакМиллин
Венедикт Ерофеев в беседе с Дафни Скиллен
Краткое предисловие к публикации
Илья Симановский. Работая с О. Лекмановым и М. Свердловым над расширенным изданием биографии «Венедикт Ерофеев: посторонний», я обратил внимание на то, что в одной из дневниковых записей Ерофеев упоминает «магнитофонное интервью», которое летом 1982 года он дал своей знакомой, называемой им «британка Дафния». О таком интервью Ерофеева я ничего не знал – очевидно, оно никогда не было опубликовано. Надежда отыскать кассету меня взволновала – тем более что это была возможность оцифровать и сохранить настоящий голос писателя, записей которого осталось ничтожно мало. Определение «настоящий» я употребил неслучайно. Предложения об интервью посыпались на Ерофеева лишь в последние два года его жизни, когда он, больной раком горла, уже потерял свой очаровывавший современников баритон и разговаривал при помощи специального аппарата. Было понятно: если кассета почти за сорок лет не исчезла и не испортилась – она бесценна. Но сначала требовалось отыскать хозяйку записи, которая интересовала меня не меньше. В записной книжке Ерофеева я нашел настоящее имя «британки Дафнии»: Daphne Skillen, и Google, к моей радости, выдал мне целый ряд ее публикаций – Дафни оказалась известной журналисткой. На email, указанный в одной из ее статей, я немедленно отправил письмо. Несколько стесняясь своего искреннего пафоса, я написал, что если кассета с интервью сохранилась, то его публикацией Дафни окажет большую услугу русской культуре, и что я хотел бы взять у нее интервью о Ерофееве. Ответ пришел быстро – Дафни охотно соглашалась поговорить со мной по «Скайпу»[45], а также обещала поискать кассету. По ее словам, много лет назад она передала эту запись ученому, который писал о Ерофееве диссертацию. И тут действие этой почти детективной истории переносится в Лондон.
Светлана Шнитман-МакМиллин. Я познакомилась с Дафни Скиллен осенью 1983 года, когда Арнольд МакМиллин, мой (тогда будущий) муж, профессор литературы Лондонского университета, предложил представить меня аспирантке, которая встречалась с Венедиктом Ерофеевым. В то время я только приступала к работе над диссертацией, превращенной позднее в монографию «Венедикт Ерофеев „Москва – Петушки“, или The rest is silence»[46]. Мы встретились с Дафни в пабе The Lamb, который часто посещал живший на соседней улице Чарльз Диккенс. Чрезвычайно живая, смешливая и полная интересных историй Дафни очень понравилась мне. За джином с тоником она рассказывала о своем знакомстве с Венедиктом Ерофеевым, и кое-что из ее рассказов я включила в свою книгу. Потом мы не виделись много лет, но в последние годы иногда встречались на докладах в университете и других организациях.
29 мая 2019 года я получила от Дафни письмо, где она просила меня вернуть ей кассету с ее интервью Венедикта Ерофеева, данную мне 36 лет назад в пабе The Lamb. В полном изумлении я ответила, что я не только не получала от нее кассеты, но даже не подозревала о существовании такой записи. Я была поражена и очень просила ее поискать в своих закромах, так как значение такого интервью переоценить невозможно. Проведя следующий день в неутихающем беспокойстве, я наконец увидела в своей почте письмо: Дафни нашла кассету у себя! Оказалось, что после нашего первого знакомства она собиралась отдать мне запись, но в занятой жизни намерение как-то обратилось в ее сознании в уверенность, что она передала мне интервью. В огромной радости и возбуждении я сразу сказала Дафни, что его нужно опубликовать. Она немедленно согласилась, понимая важность интервью для литературного наследия писателя. Но вначале она хотела послушать его, а магнитофона у нее больше не было. Мы договорились, что через несколько дней Дафни приедет в университет, где я устраивала «круглый стол», посвященный 50-летию написания «Москвы – Петушков», и даст мне кассету, которую мы сможем вместе послушать на нашем стареньком магнитофоне. Она просила не слушать запись до ее приезда к нам домой. Мы все очень беспокоились, что кассета может быть повреждена. Перед приездом Дафни я дважды проверила магнитофон. Он работал. Но когда, весело пообедав, мы уселись на диване и я вставила кассету, магнитофон закрутился, охнул и испустил дух. Арнольд и Дафни приняли это с британским стоицизмом. Моему разочарованию не было конца. Немедленно схватив компьютер, я заказала по интернету новый магнитофон, который мне доставили поздно вечером на следующий день. Я включила его, поставила кассету, и через несколько секунд в комнате зазвучал удивительной красоты баритон и милый смех Венедикта Ерофеева. Не выпуская магнитофона из рук, я, не отрываясь, прослушала интервью дважды с чувством, что в лондонской ночи со мной происходит настоящее чудо. Той же ночью я написала два письма: Дафни – чтобы сообщить ей счастливую весть о сохранности кассеты. И Илье Симановскому – с тем же известием и попросив его участвовать в публикации этого интервью. Я отдавала себе отчет в том, что оно всплыло только благодаря его неутомимой энергии в поиске материалов о писателе. И, конечно, я понимала, насколько его глубокое знание биографии Ерофеева будет неоценимо при написании сносок и комментариев к этой публикации. К моей радости, Илья сразу согласился.
В университетском медиацентре[47] я попросила наших компьютерщиков оцифровать кассету. Через пару дней я получила звуковой файл, который сегодня читатель может послушать по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=GT95C2J19Qs или скачать в библиотеке ImWerden[48]. Его расшифровку мы и предлагаем читателю. Но сначала несколько слов о самой журналистке.
Из биографии Дафни Скиллен. Дафни Скиллен (Daphne Skillen) родилась в Шанхае, куда русско-украинская семья ее матери эмигрировала из Владивостока. Ее отец, грек по национальности, приехал в Шанхай в поисках новой жизни в самом оживленном и быстро развивающемся городе Азии. Родители говорили друг с другом и с дочкой по-английски, и Дафни посещала американскую школу.
В мае 1949 года семье пришлось срочно эмигрировать: Народно-освободительная армия Китая под командованием Мао Цзэдуна наступала, и приход коммунистов к власти был неотвратим. Богатые китайцы и иностранцы покидали страну. Родители Дафни оставались в Шанхае до последнего момента, но в конце концов решились на новую эмиграцию. Пассажирские самолеты больше не летали. Отцу удалось уговорить британского пилота транспортного самолета вывезти семью. Выгрузив чей-то роскошный рояль, летчик посадил родителей, двух дочерей и их русскую бабушку в самолет, летевший в Австралию.
Окончив школу и поступив в Сиднейский университет, Дафни получила диплом по политологии, психологии и философии. Переехав вместе с мужем в Оксфорд, она прошла экстерном интенсивный школьный курс русского языка. Потом они поселились в Кентербери, где ее муж преподавал философию в университете.
Дафни получила диплом по русскому языку и литературе Лондонского университета и, проведя год в США, прошла магистерский курс в Университете Колорадо в Боулдере, написав диссертацию о творчестве Андрея Синявского. В 1985 году она защитила докторскую диссертацию на тему Concepts of myth and utopia in Russian revolutionary literature[49] в Лондонском университете.
В 1981–1982 годах, поехав в Москву на языковую практику, Дафни начала работать в Агентстве печати «Новости» (АПН), редактируя переводы советских коллег на английский язык. В этот период она интенсивно общалась с советскими интеллектуалами, приобретя много знакомых в среде диссидентов. Но в 1984 году Дафни, работая для британских телевизионных компаний, вдруг оказалась persona non grata, и в течение четырех лет ей отказывали в советской визе. Только в 1988 году, с наступлением перестройки, она смогла вновь поехать в Москву, где снимала телевизионные документальные фильмы. В 1990‐х и 2000‐х годах Дафни жила в Москве, работая консультантом для ряда международных проектов в области СМИ и интернациональной помощи в России, бывших советских республиках и странах Юго-Восточной Азии.
В 2017 году она издала книгу Freedom of Speech in Russia. Politics and media from Gorbachev to Putin[50]. Сейчас Дафни живет в Лондоне, занимается исследованиями и пишет новую книгу о России.
Несколько предварительных замечаний. Известно, что Венедикт Ерофеев часто добавлял штрихи и краски к собственному апокрифу. К любимым мифам, которые он распространял, относится, например, безвыездное детство на Севере. В таких случаях мы приводим, как правило, только один основной источник достоверной информации. Интервью велось самым непринужденным образом, и Ерофеев не знал вопросы и не готовил ответы заранее. Оно происходило вечером после утомительного для него дня, и в его речи встречаются иногда грамматические несоответствия и чуть ломаный синтаксис, присущие спонтанной устной речи. Но и эти моменты передают особенности его живого языка в общении, поэтому мы решили печатать интервью с минимальным редактированием. Иногда Ерофеев сознательно меняет произношение слова или отдельных звуков. В таких случаях буквы даются курсивом. В пленке есть перерывы и пропуски, и Дафни больше не помнит, с чем они связаны.
Мы хотели бы выразить свое восхищение Дафни Скиллен, проведшей такое интервью. Из известных на сегодняшний день это самое раннее интервью, взятое у Венедикта Ерофеева[51], и единственное, где звучит его живой голос, утерянный позднее в результате страшной болезни. Мы хотим сердечно поблагодарить Дафни за доверие и разрешение опубликовать эту запись.
Первая расшифровка интервью была опубликована в журнале «Знамя»[52], а вскоре в Cardinal Points Literary Journal появился английский перевод[53]. Сейчас мы предлагаем более подробный комментарий к тексту этого поразительного интервью.
Эта публикация не появилась бы в таком виде, если бы не щедрая помощь целого ряда людей, которых мы оба, но особенно, конечно, Илья, хотели бы поблагодарить: Анны Авдиевой, Марка Гринберга, Александра Дымича, Галины Ерофеевой, Александра Лаврина, Олега Лекманова и Евгения Шталя.
* * *
Интервью взято 12 июля 1982 года в квартире Галины и Венедикта Ерофеевых в Москве, улица Флотская, д. 17, корп. 1, кв. 78. Приблизительное время начала интервью – 7 часов вечера.
Дафни Скиллен (далее – ДС): Скажи, где ты родился?
Венедикт Ерофеев (далее – ВЕ): Ты давай, валяй вопросы. Где родился? 38‐й год, Заполярье, Кольский полуостров, Мурманская, то есть, область.
ДС: А где ты ходил в школу?
ВЕ: Все там же, все десять лет школы, с первого по десятый отбарабанил в средней школе города Кировска Мурманской области[54]. В Хибинах, знаешь такие горы – Хибины?
ДС: Нет, не знаю.
ВЕ: Ну так вот, такие есть горы на Кольском полуострове. С первого по десятый класс. Причем до десятого класса, то есть до семнадцатилетнего возраста, я ни разу не пересекал полярный круг с севера на юг.
ДС: Почему?
ВЕ: Ну, так уж, не пришлось потому что (смеется)… Там родился и не приходилось никуда выезжать[55]. Так что я впервые в жизни поехал, когда окончил со своей дурацкой золотой медалью школу…
ДС: Кончил с медалью?
ВЕ: Ну да. Тут же поехал поступать в МГУ, a как раз только что открылось новое высотное здание МГУ[56]. Я тогда впервые этот Полярный круг и пересек, впервые увидел живую корову и всю остальную экзотику среднерусскую. Тогда экзаменов не было, я просто прошел собеседование и поступил в МГУ на филфак[57]. Но проучился там всего полтора года. Задурил, естественно, поскольку мне был девятнадцатый год и на меня свалилась куча разных кризисов – от самого высшего пошиба до самого низшего разбора (смеется)[58].
ДС: Каких кризисов?
ВЕ: Ну, это уже неважно. Это тема для специального чего-нибудь… Они очень хорошо экстравагантным слогом изложены в «Заметках психопата», как раз годы 56‐й – 58‐й. Они долго хранились у одного моего знакомого[59]. Потом он передал их еще одному своему знакомому, и у того они с концами сгинули когда-то во время переезда с квартиры на квартиру. Они, видимо, выбрасывали все стопы ненужной бумаги, и в том числе попало и это… Во всяком случае, в 60‐м году я в последний раз их видел и с тех пор не видывал. Все-таки большая потерийка…[60] Потому что так-то она в высшей степени незрелая, но можно было из нее, переделав досконально совершенно, сделать интересную штуку. Тем более что писано, в основном, в восемнадцатилетнем возрасте.
А потом – здесь все примерно верно[61], потом работал рабочим на стройке. Тогда как раз строились Черемушки в Москве[62]. Потом кочегаром, в Москве же. В 58‐м году плюнул на столицу, поехал на Украину и работал в геологоразведочной партии.[63]
ДС: А я не знала, что ты был такой здоровый… человек.
ВЕ (смеется): В геологоразведочной партии, думаю, так. Потом возвратился… Нет, стоп, это еще до отъезда из Москвы, 58‐й – 59‐й год работал приемщиком винной посуды в центре Москвы[64].
ДС: Это завод?
ВЕ: Нет, это ларек, специальный ларек – приемный пункт стеклопосуды. Ты никогда не сталкивалась?
ДС: Нет…
ВЕ: Люди целыми сумками таскают туда всевозможную посуду из-под вина. Девять копеек – маленькая, двенадцать копеек…
ДС: Да-да, конечно. Понимаю.
ВЕ: Сейчас все цены унифицированы, сейчас они все по двадцать копеек, а тогда… <нрзб> Накопил кучу материала. Ни одна работа мне не доставила столько интересного материала, как эта вот работа. Всего-то четырехмесячная работа на этом приемном пункте стеклопосуды…
ДС: А почему?
ВЕ: О… Очень интересно, очень интересно, да. Потом что же… В 59‐м, в конце 58‐го плюнул на столицу и поехал в геологоразведочную партию на Украину. Там работал 59‐й год. В 60‐м году – плюнул, в свою очередь, в Украину и работал дежурным в милиции в городе Орехово-Зуеве. Потом вышибли меня из Орехово-Зуева[65], я поехал во Владимир, то есть дальше nach Osten (смеется). Во Владимире работал библиотекарем[66], потом работал на строительстве шоссейной дороги Москва – Пекин, тогда строилась эта дорога. Она как раз проходила через Владимир. Так вот, я строил эту дорогу[67]. Помнишь: «Папаша! Кто строил эту дорогу?» – у Некрасова? «Граф Петр Андреич Клейнмихель, душенька». И тут же поступил во Владимирский пединститут. Через полгода меня вышибли оттуда…[68]
ДС: Почему?
ВЕ: Приказ гласил так: «За идейное, дисциплинарное и нравственное разложение студенчества института»[69]. Хотя я учился без единой четверки и при поступлении… Единственный человек в институте получал повышенную стипендию. Она уже не сталинской называлась, а ленинской, по-моему, стипендией… или премия… стипендия имени Лебедева-Полянского[70], что-то в этом роде. Одним словом, несмотря на то, что я первую сессию сдал на все «отлично», меня тут же попросили уйти. Мало того, потребовали органы, чтобы я выехал в 48 часов из города Владимира и Владимирской области[71]. И вообще, чтоб не въезжал в пределы Владимирской области. А уж состав преступления не знаю какой… Я, по-моему, только и делал, что лежал, посасывал из горла водку (смеются оба)… и группировал вокруг себя людей, которые занимались примерно тем же. И еще стихами и разве что Евангелием.
ДС: А ты писал тогда?
ВЕ: Вот тогда написал… Да нет, после изгнания из Владимирского пединститута работал еще грузчиком и немножко кочегаром во Владимире. Потом, после изгнания в 61‐м году… вру, в 62‐м году, после изгнания из Владимира поселился в Павлово-Посаде. Там работал на поточной линии на кирпичном заводе[72]. Потом-потом-потом-потом… в Коломне грузчиком на мясокомбинате, тоже Московская область[73]. В это время как раз написал «Благую весть». Но она тоже потеряна[74]. Она пользовалась успехом у владимирской молодежи. Ее переписывали от руки, я знавал даже энтузиастов, которые знали наизусть, хотя она все-таки размером солидным…
ДС: А ты не подумал о том, чтобы сохранить свою работу?
ВЕ: Ее сохранили. Я ее отдал приятелю – Цедринскому[75]. Цедринский дал почитать своим друзьям. Кто-то из друзей дал одной из своих тетушек, а тетушка я уж не знаю… Куда сгинула – один Бог ведает, с 62-го же года я ее не видел. А потом, в 63‐м году, мне повезло, я определился на службу. «Кабельные…» – как же это называлось? Ну, плевать на название организации, одним словом, строительство и монтаж кабельных линий телефонной связи. То есть мы опутывали всю Россию телефонными связями. Ровно десять лет там оттарабанил – с 63‐го по 73‐й, даже десять с нахлестом[76]. Приходилось работать в Московской области, Владимирской, Ивановской, Горьковской, Тамбовской, Липецкой, Смоленской, Черниговской, Гомельской, Могилевской, Тульской, в Литве даже, Брянской…
ДС: А как ты воспринимал это путешествие?
ВЕ: Какое?
ДС: Это хождение в народ…
ВЕ: Это хождение? Да почти ничего оно путного мне не приносило, но у меня было положение таково, что у меня не было ни паспорта, ни постоянной прописки, ни постоянной крыши над головой[77]. А тут все-таки в разъездах мы жили постоянно в вагончиках. Знаешь, такие крохотные вагончики, в которых ютятся строители?
ДС: Да-да-да.
ВЕ: Мы эти вагончики цепляли и колесили с ними, как циркачи прежних времен свой фургон гоняли из угла в угол. Это хорошо Теофилю Готье было писать своего «Капитана Фракасса» – там все у него очень выглядит заманчиво, а тут ничего подобного нет. Сплошная грязнотища и все такое… Одним словом, сплошная харкотина.
ДС: А в гостинице невозможно было?
ВЕ: Да какие гостиницы, когда мы всегда в полевых условиях, в поле… Ну, правда, свои записные книжки очень обогатил, распух записными книжками. Во время этих разъездов писал немножко стихи для… Родился сын в 66‐м году[78]. Для него вот я рассказывал…
ДС: Расскажи, это интересно.
ВЕ: В начале 70‐х годов стихи в разных жанрах. То есть начиная с катулловского размера или там с подражания… сапфической строфою и кончая современным верлибром. Во всех жанрах.
ДС: Они сохранились?
ВЕ: Сохранились, но часть из них пустила на растопку моя теща, то есть матушка моей первой жены[79]. У меня все хранилось в Петушинском районе, где в это время жил сын. Я же к нему наезжал ежемесячно.
ДС: А когда ты поехал в Петушки?
ВЕ: А в Петушки… Я из Владимирского пединститута вывез одну девицу, и у нас в 66‐м родился сын. Пришлось срочно с ней обручиться, как говорится, потому что уже истекал месяц. А по истечении месяца младенцу надо давать, во-первых, отчество, а во-вторых, фамилию, разумеется. Пришлось срочно обручаться, прямо в последний день, потому что месяц истекал в этот день. А жену распределили по окончании института в Петушинский район, село Караваево. Это еще автобусом от Петушков к северу. Так что мне приходилось, сколько бы я ни колесил по Руси, примерно каждый месяц приезжать в Петушки. К сыну с гостинцами…
ДС: Как долго ты жил там, в Петушках?
ВЕ: Я там почти и не жил, только наезжал туда. Приезжал к сыну, допустим, на три-четыре дня, потом опять исчезал на месяц. Это до 73‐го года.
ДС: И когда ты написал «Заметки психопата»?
ВЕ: «Заметки психопата» – это я говорил… Когда я учился на первом курсе МГУ и немножко после изгнания из МГУ, когда пошел на московскую стройку.
ДС: Но тогда ты не вернулся в МГУ…
ВЕ: Нет, не вернулся. И не намерен был[80]. В 72‐м, тут же прямо спустя два года после «Петушков» написал – почти целиком было написано – примерно такого же объема, чуть-чуть побольше, «Дмитрий Шостакович». Но он у меня пропал, у меня его свистнули[81].
ДС: Это что значит?
ВЕ: Что значит? (Оба громко смеются.) Это хорошенький вопрос! Я ехал в электричке поздно вечером и с большого похмелья. И у меня в сумке, в сетке то есть, с собой были две бутылки вина, которые прямо торчали из сумки. А рядом с сумками лежал пакет. В пакете были мои записные книжки. И вот как раз все черновики «Дмитрия Шостаковича», которые надо было просто сесть и переписать набело.
ДС: Это роман? Повесть?
ВЕ: Ну я не знаю… Я в названиях жанра не силен, как угодно можно называть. Я вообще терпеть не могу эти подзаголовки – там «поэма», «повесть», «роман» или… Какая разница, по существу? Просто «Дмитрий Шостакович». Хотя там речи о Дмитрии Шостаковиче почти нет. Хорошо, если три страницы попадались, где упоминался Шостакович. Он там совершенно ни к делу, и ни к месту, и ни ко времени.
ДС: Но почему ты назвал это «Дмитрий Шостакович»?
ВЕ: А «Дмитрий Шостакович» там потому, что по ходу дела начинались сцены не совсем цензурного свойства. И вместо того, чтобы описывать то, что не годится для печати, я начинал говорить о Шостаковиче. О том, что такой-то Шостакович – лауреат там трам-пам-пам, командор Ордена Почетного легиона, почетный член итальянской академии Санта-Чечилия и все такое… Одним словом, о Шостаковиче шла речь, пока не кончалась непристойная сцена. Как только она кончалась, повествование продолжалось дальше. Очень веселое повествование. Но когда опять случались сцены нехорошие, не для воспитанного слуха, а уж тем более не для советского слуха, хотя не на него было рассчитано, опять приходилось прибегать… дальше говорить о Шостаковиче. Попеременно о его симфониях… (Оба смеются.) Веселая была вещь. С печальным окончанием. Я, когда ее потерял, прямо… У меня ее выкрали вместе с сеткой. Я уснул в электричке, а это был вечер воскресенья, когда всему народу очень хоц-ца похмелиться, а уже достать негде – все магазины закрываются самое позднее в восемь[82]. А я ехал уже в позднюю пору, в совершенно почти пустой электричке. Когда я проснулся… То есть кто-то соблазнился этой сумкой. Им все эти рукописи, черновики и не нужны были, никакой им «Шостакович» не нужен, они это, конечно, выбросили из окошка электрички. Им нужно было вино, а вот эти две бутылки… Если бы я их завернул хорошо в бумагу, ничего бы подобного не случилось.
ДС: Очень жалко…
ВЕ: Это 72‐й год. Я тогда, когда вышел из электрички и увидел пропажу, упал на траву и рыдал, как Печорин, расставшись с княжной Верой или кем-то там, уже не помню…[83]
ДС: Ужас такой…
ВЕ: Вот. И потом попробовал было восстановить, потому что она мне самому очень нравилась. Попробовал восстановить, делал несколько буденновских наскоков на этот сюжет, но уже получалось не то… Безвдохновенно, бескрыло. Так что решил забросить эту затею. Хотя и настаивали очень многие именитые люди, но я отказался от этого. И надолго вообще забросил писание. Если и писал, то крохотные рассказики там, крохотные эссе о ком-нибудь или по заказу мелкие статьи о поэтах русских начала ХХ века.
ДС: Они вышли?
ВЕ: Да нет, не вышли они, я все их раздаривал именно тому, кто мне их заказывал. И они это все вклеивали в свои альбомы, только и всего. То есть по таким мелким заказам. Вот, например, человек заказывает написать три страницы о Саше Черном[84]. И я ему пишу эти три страницы о Саше Черном, он мне за это дарит какую-нибудь книгу, для меня вожделенную. То есть он не берет денег за книгу, не обменивает ее ни на какую другую, а просто с меня требует что-нибудь написать. И все это хранится в альбомах у разных людей. А так – ничего серьезного. Ну, то есть уже сколько-то лет подряд вынашиваю «Еврейские мелодии». Но пока еще не нашел, как говорят шашлычники, шампура… Материала-то бездна, стопы уже лежат. Столько материала, что придется девяносто процентов отсеивать из того, что накопилось, и оставить только самое наилучшее, наивеселейшее и, наоборот, наичернейшее. И даже хочу выкроить пьесу из этого, где гибнут, по шекспировскому образцу, все герои[85]. Но в основном речь идет о евреях исключительно. Как в «Петушках» речь идет исключительно как будто бы только о спиртном и больше как будто бы ни о чем другом, так здесь речь идет только о евреях[86].
ДС: Как называется?
ВЕ: «Еврейские мелодии»[87],
ДС: Кто-то мне сказал, что называется «Семь с половиной евреев».
ВЕ: Нет, это чепуха. У меня был план написать для журнала «Бронзовый век»[88], по их настоянию, «Мои семь евреев». То есть жизнеописания коротенькие тех семи евреев, которые посильнее других на меня оказали влияние. Или просто чуток потрясли хотя бы. То есть самых запоминающихся.
ДС: Веня, а какие книги очень подействовали на тебя?
ВЕ: Смотря в какое время… Из самых ранних… В юности «Преступление и наказание», пожалуй, в шестнадцать лет прочитанное. В восемнадцатилетнем возрасте из самых сильных впечатлений – «Голод» и «Мистерии» Кнута Гамсуна[89]. Уж тут я ходил ошалелый несколько недель, да даже больше, чем недель, и не мог ничего больше в руки брать после этой литературы. Потом, в возрасте примерно девятнадцать – двадцать, ибсеновская полоса началась. В особенности «Бранд», да и «Пер Гюнт», да даже и поздние пьесы, весь Ибсен совершенно, с головы до пят. Потом, кто же из литераторов-то… Да, пожалуй, сильнее этого потом и не было. А! Потом, конечно, Стерн[90]. Но это уже в возрасте двадцати двух, примерно, лет. Потом на меня уже навалился своей тяжелой, грамотной, <нрзб> массой Томас Манн. Томас Манн меня раздавил года на три. Это уже возраст двадцать пять – двадцать восемь лет[91].
ДС: Все это – иностранная литература, кроме Достоевского…
ВЕ: Кроме Достоевского, оказалась только иностранная. Длительных действий на меня среди русских не было никого, пожалуй[92]. Ну и, конечно, стихи. Стихи-то, в основном, конечно, русских поэтов. Если из заморских поэтов – то в русских переводах в хороших. Поэтов-то я, пожалуй, даже больше читал, чем прозаиков. Всех, то есть, поэтов, от силлабической русской поэзии семнадцатого века и до Николая Заболоцкого, примерно так.
ДС: Когда ты написал «Москву – Петушки»?
ВЕ: Вот как раз осенью 69‐го года, покуда ездил со своим вагончиком[93]. Мы строили эту кабельную линию связи от станции Лобня с ответвлением на Долгопрудную и в сторону аэропорта Шереметьево. Совершенно безалаберное время…
ДС: Но как ты мог вообще писать, когда жил в поле, в вагончиках?
ВЕ: Да, в поле, в вагончике… В том-то и дело. Нас в крохотном вагончике было восемь рыл. Причем писать при них было невозможно, потому что каждый из этих обитателей вагончика постоянно справлялся: «А что ты там кропаешь?» Приходилось кропать по ночам. И то спрашивали: «Не пора ли гасить там свет?» Или: «Что ты там, готовишься, что ли, к экзаменам? Все равно не поступишь никуда. Сейчас никуда, кроме как по блату, не поступишь». Несли вот такую гиль[94], мне это все приходилось выслушивать…
Ну что же делать, раз уж на меня накатило, одолело, я продолжал. Что-то у меня это отняло немного времени – месяца два. Это учитывая, что писалось только урывками, вечерами. Быстро. А «Дмитрия Шостаковича» вообще пришлось писать в сторожке под Москвой, где я охранял склад всего этого кабельного хозяйства, где чуть ли по мне не бегали крысы. (Смеются.) Маленькая сторожка, в которой – мой кабинет. Кабинет был примерно в мою длину длиной и в мою ширину шириной. Ровно раскладушка устанавливалась и больше, по-моему, ничего. Да, крохотная-крохотная узенькая скамейка рядом – письменный стол, «бюро» назовем его… (Смеются.) И вот, как на грех, сейчас-то, с 74‐го года, когда я поселился в Москве, а уже с 77‐го года прописан в Москве, и уже созданы, пожалуйста, все комфорты для писания – пишется уже хуже. Черт его знает, почему так. То есть мне-то не к спеху, я не спешу. «Мне некуда спешить», – как писал Самед Вургун, великий азербайджанский поэт, советский, кстати[95]. Но посмотрим, я все еще рассчитываю, что поездка на Север меня немножко порастрясет…[96]
ДС: И потом ты будешь заниматься пьесой?
ВЕ: Хочу из «Еврейских мелодий» еще выкроить пьесу. Трагедию непременно. В трех действиях – и все действие происходит в приемном пункте стеклопосуды, винной посуды[97].
ДС: А тебе нравилось разговаривать с рабочими…
ВЕ: Не очень, не очень. Я их общества почти избегал. Не так чтобы избегал, но и не очень панибратствовал с ними.
ДС: Но ты пил с ними?
ВЕ: Еще как! Еще как! Еще как! Все, начиная от тройного одеколона и кончая резолью[98].
ДС: И ты все это испытывал?
ВЕ: Ну конечно, да еще задавал иногда тон. Многим малопосвященным расширял кругозор[99] в этом отношении.
ДС: Было скучно с ними?
ВЕ: Да не совсем скучно… Среди них, во всяком случае, за все время работы с ними из пяти-шести тысяч людей, с которыми приходилось хотя бы пить, – я считаю, я с человеком знаком, с которым хоть раз выпил, – так вот, их примерно было тысяч пять-шесть. Из них нашлось штук пять-шесть экземпляров хороших людей. Ну, не то что хороших, но более или менее доброкачественных. А так они… Общение с ними не дает ничего абсолютно. Иногда какие-нибудь их случайные обмолвки, маленькая их придурь дает какой-нибудь толчок для какого-нибудь поворота прихотливого, глупой мысли… А больше от них толку никакого. Это ж не XIX век, где они учились у русского народа говору и все такое. А сейчас…
ДС: Но все-таки чувствуется большая симпатия к народу в книгах.
ВЕ: Так ну еще бы им не симпатизировать, этим беднягам, господи! Кто же тогда им будет симпатизировать? Господь на них плюнул, власти – тоже, по существу, так что…
ДС: А ты старался, были какие-то попытки официально опубликовать свою работу?
ВЕ: Нет, никогда, ни разу. Ни одного мгновения в жизни мне не приходило в голову здесь хоть что-нибудь опубликовать. Ни разу. Вот тут я прямо…
ДС: Просто потому что знал, что это бессмысленно?
ВЕ: Да не то что бессмысленно – и желания не было. Тут уж я совершенно стерильное существо. Ни секунды даже мысли не было. Да и смешно было бы думать…
ДС: Но когда ты написал «Москву – Петушки» – это было для друзей?
ВЕ: Я рассчитывал примерно на аудиторию из дюжины человек. И я не подозревал, что спустя восемь лет будет уже не дюжина человек, а дюжина держав (смеются), опубликовавших…[100] К вопросу о неисповедимостях…
ДС: Скажи, Веня, когда ты начал пить?
ВЕ: Пить? Ну, вообще-то говоря, до десятого класса меня тщательно оберегала матушка от этого, потому что мой покойный папенька был самый известный во всем городе алкоголик[101]. Он дома не жил никогда, переходил из пивной в пивную… Зарабатывал только тем, что у него никогда за душой ничего не водилось… Он только что вернулся, отсидел непонятно за что семь лет[102].
ДС: Он был сломленный человек?
ВЕ: Не совсем. Он был известен еще своим голосом. Он бродил по городу, всегда в подпитии, хотя и не имел денег… Пел что-нибудь вроде «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды… / Там-прам-пам-пам. / И одинокую тропинку…»[103] Или там из «Фауста»: «Привет тебе, приют невинный, / привет тебе, приют священный». Вот такой у него был репертуар. Мне не позволялось даже при встрече с ним… Я иду, допустим, в школу, уже будучи взрослым, девятый-десятый класс – при столкновении не разрешалось ни приветствовать его, ни подавать ему руки, если тот протянет. Матушка боялась не влияния его, а просто самой элементарной наследственности. Так что впервые мне пришлось глотнуть водки – и вообще спиртного напитка – на выпускном вечере по окончанию десятилетки.
ДС: Сколько тебе было лет?
ВЕ: Мне было шестнадцать, неполных семнадцать. Сепаратно, нелегально, в кустах, на пятерых – одну бутылку водки! И я чувствовал себя лейб-гусаром, экое дерзновение! Ну а потом в МГУ, в связи с неурядицами, ну, там еще начались маленькие неурядицы такого чисто женского плана, но это более-менее все понятно… Как-то, находясь в слишком темном расположении духа, просто сходил и по собственному почину взял себе четвертинку, благо они были… Четвертинка – знаешь, двухсотпятидесятиграммовые бутылочки?
ДС: Водки?
ВЕ: Водки, да. Просто ее взял и, запершись в аудитории опустевшей вечером, шлепнул до дна из горлышка. Ну а потом через две недели еще примерно одну. Ну а потом, когда уже был вышиблен из МГУ… Вышиблен-то я был, разумеется, не за это[104]. А уже когда перешел на стройку, и в кочегары, и все такое – тут уже стало это каждодневным.
ДС: Это началось, когда ты общался с рабочими?
ВЕ: Не-ет, как раз рабочие тут ни к чему. Наоборот, слишком много рабочих приходилось сбивать с толку – юных и не совсем юных, некоторые даже постарше меня. А так начал совершенно самопроизвольно и изнутри. По божьему попущению…
ДС: И с тех пор ты пьешь?
ВЕ: Да, ну как то есть пью… Иногда ведь случаются антракты более или менее длительные, от нескольких часов до нескольких месяцов. И ничего. Во всяком случае, 82‐й у меня, по-моему, год с меньше всего выпитым… ни разу с тех пор, как мне стукнуло восемнадцать лет, никогда я так мало не пил, как в тысяча девятьсот восемьдесят втором году[105].
ДС: И как ты себя чувствуешь?
ВЕ: Прекрасно себя чувствую, за исключением нескольких утр, когда все-таки пить накануне приходилось. А что будет дальше – неизвестно. Возьму да как-нибудь и запью. А возьму да и… Ну, впрочем, об этом так много в последнее время приходилось говорить с друзьями-психиатрами, которые уж слишком «готовы на все услуги», как говорил у Гоголя Городничий дочери[106].
ДС: Синявский где-то говорит, что народ пьет для душевных целей.
ВЕ: Для каких душевных целей… да мелет твой Синявский. Мне его «Голос из хора» очень не понравился. Совершенно не понравился.
ДС: Почему?
ВЕ: Не знаю, какая-то выспренняя манера. Можно простить, что адресовано жене, да еще из лагеря и все такое. Но не знаю, для чего эта штука написана. Если не считать двух-трех коротких реплик, которые он расслышал в этом лагерном быту. А сам Синявский… Вот «Прогулки с Пушкиным» – это прелесть, разумеется. Я прочел залпом и даже двумя залпами, то есть два раза подряд прочел. А все, что Синявский говорит об этой стороне дела, о русском питии, тут он уж дилетант. Хоть он с ними и был тесноват, будучи в лагерях, но, по-моему, мало что понял в этом. Пусть бы не совался…
ДС: Тебе очень нравится музыка?
ВЕ: Музыка – да! Пожалуй, чуть ли не больше, чем русская поэзия.
ДС: Ты играешь на рояле?
ВЕ: Нет, ни на чем. В отрочестве, в юности пытался играть, но увидел, что у меня получается хуже, чем хреново, и забросил.
ДС: У тебя здесь есть рояль…
ВЕ: Ну рояль что же, потому что слишком много знакомых пианистов. У меня из людей, входящих в квартиру, каждый третий играет. Так что он у меня почти не умолкает, этот рояль. Пусть тешится народ…
(Перерыв в записи.)
(Следующий вопрос на пленке отсутствует.)
ВЕ: Писалось окрыленно, если выражаться старомодно. Во всяком случае, когда писал, я, уже доехав до Орехова-Зуева – уже полкниги, – еще не знал, приеду ли я, собственно, в Петушки. Что со мной случится на следующей станции – я не знал. То есть такого, как выражается Константин Федин, всеохватывающего плана, обдуманности от начала до конца – у меня не было абсолютно[107]. Все являлось само собою. Причем писалось совершенно без черновиков.
ДС: Да?! Первый раз – вот так?!
ВЕ: Совершенно без черновиков[108].
ДС: И у тебя не было книг, в условиях твоей жизни…
ВЕ: Какие там книги… Просто за день, покуда рылся в земле и прокладывал этот кабель, я примерно обдумывал главу, а вечером, когда возвращался, я ее тут же моментально набрасывал в тетрадь, почти не отрывая пера от бумаги.
ДС: Когда работал, писал «Москву – Петушки», ты читал ее рабочим, с кем ты пил?
ВЕ: Нет, упаси бог! Они бы ничего не поняли, ничего[109].
ДС: А ты называешь это «поэма» – от Гоголя?
ВЕ: Не-ет, я не знаю, кому в голову взбрело назвать это «поэмой». У меня это слово совсем отсутствовало[110]. Я же говорю, что я к названиям – «жанровка» это называют – или нет?.. – я к этому совершенно индифферентен. Можно было назвать как угодно… Да лучше никак не называть, потому что некоторые считают, что это не подходит ни под одну категорию ни одного жанра.
ДС: А как ты так хорошо знаешь русский язык, народный язык?
ВЕ: Ну так, господи, поневоле его будешь знать.
ДС: Блат и мат – и все…
ВЕ: Ну блат, мат – это несложно было… (смеется), слишком несложно, он всегда был под рукою, не под рукою, а под ухом. Ну а все остальное – я все-таки пишу-то с детства, слава богу. Первую свою штуку я написал, когда мне было пять лет. Она всего была длиною что-то такое две странички совершенно детским почерком. Это еще было за два года до поступления в школу, в первый класс. Я-то этого не помню, но моя покойная матушка, когда меня в последний раз навещала, она рассказывала, что первое сочинение было в пятилетнем возрасте и называлось «Записки сумасшедшего». <нрзб> Уж не знаю, о чем там речь…
ДС: Ты хорошо знаешь Библию?
ВЕ: Да не то что уж досконально, но считаю, что знаю… Считаю, что знаю.
ДС: Ты религиозный человек?
ВЕ: Пожалуй, что нет. У меня пиетет перед религией. Я вообще считаю, что… (Долгая пауза.) Ну господи, кроме Евангелия, ну что же, собственно… никаких впереди спасений других, по-моему, и быть не может. Не то что уж полная приверженность Евангелию, но хотя бы – принсипы евангельской этики…
ДС: Веня, ты очень любишь слушать радио, следить за новостями…
ВЕ: Еще как! Да, конечно! Ко мне обращаются люди, которые тоже каждый день слушают радио, но почему-то для них это служит фоном. Я только что вернулся из больницы, навещал свою знакомую, которая тоже слушает радио, потому что оно у них там постоянно включено[111]. Она меня спрашивает: «Ну как там Сальвадор?» Объясняешь ей, что такие-то гондурасские части введены на территорию Сальвадора[112]. О том, как обнимались после третьего итальянского гола испанский король с президентом Пертини на поле, и все такое[113]. О том, что делается на ханойско-пекинском фронте[114]. Да… Обо всех…
ДС: А как ты думаешь о событиях Falklands…[115]
ВЕ: Очень рад, очень рад был за Маргарет Тэтчер. Аплодировал каждому ее выступлению, даже каждому телодвижению[116].
ДС: А почему?
ВЕ: Потому что терпеть не могу аргентинский режим и хулиганство. Это, в сущности, мелкое хулиганство – одобрить захват островов, которые не им принадлежат. У меня твердое убеждение, что британцы должны были отстоять Фолклендские острова. И не только потому, что это разогрело бы аппетиты тех, которые зарятся на Гонконг, на Гибралтар[117] и все такое…
ДС: Ты говорил, что Галтьери репрессировал человека, который тебе очень нравился, репрессировал какую-то партию.
ВЕ: Да, он всех поголовно репрессировал. И не он первый, те два генерала, что были до него, занимались тем же самым. Во всяком случае, за Фолклендскими островами очень следил. В особенности за приближением эскадры – я отсчитывал дни, когда же, наконец, эта милая моему сердцу эскадра… (смеются оба) достигнет берегов этих гнусных аргентинцев. И каждый день – неистовствовал: ну что же они медлят?! Почему же они не начинают штурмовать Порт-Стэнли, Пуэ́рто Архенти́но[118]? И почему такие неудачи поначалу? Уже мои любимые израильтяне врываются в Бейрут, уже их танки под окнами президента Ливана Саркиса[119], а эти британцы все еще возятся в четырех километрах на подступах к Порт-Стэнли. Я параллельно следил за своими любимцами – за Тель-Авивом и британской эскадрой.
ДС: Можно сказать, что тебе нравится Англия?
ВЕ: Англия очень нравится. Даже своими географическими очертаниями на карте. (Смеются.) Что-то в этом есть! Сравни хотя бы с дурацкими очертаниями Ирана, допустим. Или даже Бельгии… Какая-то несуразность в самой конфигурации государства[120]. А Британия мне очень по сердцу, да и вообще британцы… Британцы, если разве что только не в области музыки, так оказали уж слишком сильное на нас на всех воздействие. И уж к британцам-то, кто же равнодушен к ним?
(Вторая сторона кассеты.)
ВЕ: Ну так вот. Музыка, пожалуй, даже большее влияние оказала, чем и поэзия и проза. И многие почему-то находили в этом следы… Но музыка – не манеры XVIII века. Этой всеобщей одержимости вивáльдями, бáхами, генделя́ми, альбинóнями, чимарóзами, монтевéрдями, палестри́нами я не разделяю. А вот уже понемногу, начиная с позднего Бетховена, через Шопена, Шумана, Мендельсона…
ДС: А Бах?
ВЕ: И к Баху совершенно равнодушен. Ни одна строчка Баха меня не трогала, ни единая[121]. Если уж любимцев называть, так Густав Малер, Ян Сибелиус, ну, в какой-то степени, Брукнер, Дмитрий Шостакович… Из советских еще, когда попадет удачно под расположение духа, – Прокофьев. Да иногда даже Кабалевский.
ДС: А Стравинский?
ВЕ: Ну и, конечно, Игорь Стравинский. Вот Игорь Стравинский тут не вписывается в картину, поскольку мне-то больше по вкусу музыка прочуйствованная, что сейчас почему-то кажется пошловатым. Но мне плевать, как кажется, я не боюсь быть старомодным. Главное – неохлажденная игра в музыке. Поэтому не могу понять никаких ни куперенов, ни Рамо… Понятнее мне только музыка, начиная с раннего романтизма.
ДС: А ты занимаешься только классикой?
ВЕ: Только. И поэтому из нынешних слушаю только тех, на ком обнаруживаю хоть малый след своих любимцев. Борис Чайковский или Альфред Шнитке – из наших. А из западных когда-то очень любил в особенности раннего Мийо, Артюр Онеггер даже не так, а вот Дариус Мийо – да, носился… Со штучками Жана Кокто очень носился – с «Быком на крыше» того же Мийо[122], с Пуленком… А, да, Карл Орф, еще я забываю, Карл Орф. Вот это – грешен, что забыл, такого человека забыть…
ДС: А как ты считаешь – Высоцкий, Окуджава…
ВЕ: Высоцкий, Окуджава – само собой. Это настолько каждодневная любовь к ним, что прямо об этом не говоришь. То есть настолько привычная любовь, как к ближним людям, без которых невозможно. То есть клясться в любви к ним не станешь, поскольку это излишне, как не делаешь это в применении к людям, без которых не обойтиться… И меня очень радует, что и русские их любят. Любят, может, немножко с другой стороны и по другим причинам, – но все равно любят. Мне радостно, когда в самых дурных квартирах все-таки иногда бывают проблески. Из окошка, например, хриплый голос Высоцкого… И уже радостно на сердце, и не так черновато смотришь на русских, что-то еще в них теплится.
ДС: Я хотела узнать: ты читал фольклор?
ВЕ: То есть чей фольклор?
ДС: Русский фольклор или…
ВЕ: Русский фольклор сам-то по себе, сказки эти, были… особенно эти глупые былины – терпеть не могу. Но вот русская песня – вот что, пожалуй, даже сильнее всяких влияний… стернов, Рабле, Гоголя, да и музыкальных, Малера… Да и сильнее влияний всяких цветаевых, и фетов, и тютчевых, все-таки – русская песня. Вот это, пожалуй, наититаничнейшее из влияний. «Об этом больно говорить», – как говорил Томас Манн[123]. (Смеются.) То есть русская песня – такая глубинная, основная, без всяких этих веселых примесей, без того, чем она стала вдруг к концу прошлого века, а уж тем более чем она стала нонче.
ДС: Мне непонятно, а что ты имеешь в виду, когда говоришь «русская песня»? Народная песня?
ВЕ: Русская народная песня… Прямо начиная от «Липа вековая»…
ДС: А романсы?
ВЕ: Ну и романсы[124], но романсы… Вот уже я, например, не могу понять романсы там Метнера, или Черепнина, или Катуара, или Гречанинова. Ну Гречанинов – за маленьким исключением. Вот как раз романс нравится прямо пропорционально близости к настоящей русской песне. Как это называется – глубинная русская… У испанцев есть хороший термин для обозначений этого, у всяких де фалей. Это они называли… или Альбенис – Альбенис, по-моему, это называл cante hondo…[125]
ДС: А цыганские песни?
ВЕ: О, цыганщина, ну ее к чертям собачьим! Как только вклинивается хоть самая малая цыганизированность, вот это меня уже… я рыло ворочу. Не могу. Поэтому, например, я без ума от романсов Гурилева[126], потому что они, по существу, русские песни, но терпеть не могу какого-нибудь Дюбюка, его же современника, с его романсами вроде «Зацелуй меня до смерти – от тебя и смерть мила» или «Ах, почему я не бревно»[127] там и все такое… (Смеются.)
(Конец записи)[128]
Интервью для телепередачи «Пятое колесо»[129]
Это интервью Венедикта Ерофеева, снятое 25 июля 1988 года и показанное по телевидению 11 августа 1988 года[130], было его первым появлением на ТВ-экранах и запомнилось очень многим.
Предисловием к расшифровке интервью мы даем воспоминания ТВ-режиссера Натальи Серовой, которыми она поделилась в разговоре с режиссером Ильей Малкиным, снимавшемся для его документального фильма о Ерофееве «Убытие» в 2019 году[131]. Кроме Натальи Серовой, мы хотим поблагодарить за любезно предоставленные материалы Илью Малкина, а за биографическую консультацию – Евгения Шталя.
Наталья Серова:
Была на ленинградском телевидении программа, которая называлось «Пятое колесо». Начала она выходить в эфир в апреле 1988 года, а к июлю была уже довольно популярна. Очень много народу смотрело эту программу, очень много журналистов и корреспондентов предлагали разные материалы. И в июле мы приехали в Москву, чтобы снять несколько материалов для очередного выпуска. Журналист, которого звали Леонид Прудовский[132], предложил нам встречу с Венедиктом Ерофеевым, которого мы хорошо знали по книге «Москва – Петушки». Разумеется, мы с удовольствием согласились и приехали к нему на Флотскую. По сегодняшний день я проклинаю себя за то, что мы не сделали так, как сделали бы сегодняшние папарацци: не включили камеру на лестнице. Потому что, когда Веня открыл нам дверь, первая фраза, которую он сказал нам, была очень значительной и драматической. Он сказал: «Я голоса лишен». Приложив этот свой аппарат к горлу. Вот это «Я голоса лишен» стало камертоном.
Поводом для беседы Прудовского, который за кадром разговаривает с Веней, стало то, что в альманахе «Весть» запланировали выход книги «Москва – Петушки». По-моему, это первая съемка Вени. Их вообще было немного. Разговаривать ему было нелегко, но он, как нам показалось, был доволен тем обстоятельством, что будет этот эфир. Программу они тогда уже знали и очень ждали этого выпуска. Были тревоги: во-первых, пропустят ли материал, а во-вторых – видимо, это уже говорила Галя нам, – состояние его здоровья было таким, что она волновалась: увидит ли он этот материал. К счастью, материал прошел и Веня его увидел[133]. Вроде они были довольны. Хотя потом какие-то люди в каких-то книжках говорили, что якобы Прудовский хотел, как бы сейчас сказали, пропиариться на этом материале. У меня не осталось такого впечатления. Он совершенно не собирался прославлять себя, никак не вылезал в кадр, не настаивал на том, чтобы его имя звучало рядом с именем Вени. Я испытываю к нему глубокую благодарность за это знакомство и за то, что этот материал вышел и немало способствовал продвижению и популярности программы.
В <каждый> выпуск «Пятого колеса» обычно входило пять-шесть материалов. И несколько материалов мы сняли в один день. С утра мы снимали поэтессу Новеллу Матвееву, – ее предложил нам совсем юный журналист Дима Быков, который почему-то был одет в матросскую форму. Днем мы сняли Веню. А вечером – художника Вячеслава Сысоева. В том же выпуске пошел материал о Пастернаке, и в такой компании Веня вышел в эфир. Вскоре, к сожалению, мы делали уже материал его памяти, тоже в «Пятом колесе».
О том, что мы снимаем такой материал, никто руководству заранее не рассказывал, оно столкнулось уже с фактом. Надо сказать, что мы немножко подрагивали. Когда до нашего непосредственного начальника дошли слухи, что я везде бегаю и кричу: «Приходите посмотреть материал, может быть, его в эфир не пустят!», он встретил меня в коридоре и сказал: «Ну что вы бегаете по всей студии. Не такой уж я ужасный!» Этот материал пропустили. Бывало, что не пропускали, но этот… этот пропустили.
От Вени больше всего запомнились глаза и ощущение, что он хотел бы сказать гораздо больше, чем может. Ощущение, что каждое слово дается тяжело. И еще – впечатление огромного мужества. Это человек, который смотрит в глаза смерти, и это взгляд светлый, не обиженный. В нем нет ощущения, что кто-то перед ним в чем-то виноват.
«Москва – Петушки». Премьера[134]
Леонид Прудовский (далее – ЛП): В двух словах расскажи историю своего исключения из института.
Венедикт Ерофеев (далее – ВЕ): Ну, из института просто… Приказ звучал так: «За дисциплинарное, моральное, идейное и нравственное разложение студенчества Владимирского государственного пединститута имени товарища Лебедева-Полянского»[135]. Отчислить товарища Ерофеева, хотя я был единственным на курсе круглым отличником. И получал стипендию имени товарища Лебедева-Полянского. Повышенную то есть.
ЛП: А в чем заключалось это разложение?
ВЕ: А вот этого я до сих пор понять не могу. (Улыбается.)
ЛП: Вот у меня в руках письмо. Я позволю себе, поскольку оно короткое, зачитать его целиком. «Уважаемый Венедикт! Последние месяцы постоянно думаю о написанном Вами. „Москва – Петушки“ и „Вальпургиева ночь“ не отпускают совершенным знанием предмета, разнообразием болевых ощущений за Отечество. Уникальность письма выделяет Вашу литературу в ряд честнейших исследований человека – представителя нашей весьма несовершенной социальной системы. Надеясь на более близкое знакомство, я прошу Вас закрепить за Театром на Таганке „Москву – Петушки“ с тем, чтобы в ближайшем будущем мы могли бы совместно с Вами приступить к работе над спектаклем по этой вещи. С искренним пожеланием всего лучшего, симпатией и благодарностью за Ваши труды. Николай Губенко»[136].
Веня, поскольку «Москва – Петушки» – вещь, с одной стороны, чрезвычайно известная, а с другой стороны, можно сказать, совсем неизвестная… Поскольку у нас она только предполагается к публикации в издательстве «Книга»[137] . Я хотел бы попросить тебя немножко рассказать о том, как появилась сама идея «Москвы – Петушков» и что же это такое.
ВЕ: Ну, я очень буду короток. Это был <19>69 год. Меня ребята, которые накануне были… ну, так сказать, изгнаны из Владимирского педагогического института за чтение запретных стихов, допустим Марины Ивановны Цветаевой (улыбается), ну и так далее, и все такое… они меня попросили написать что-нибудь такое, что бы их, ну, немного распотешило, и я им обещал[138]. Я рассчитывал всего на круг людей, ну примерно двенадцать, ну двадцать людей, но я не предполагал, что это будет переведено на двенадцать-двадцать языков[139]. Вот так, примерно.
ЛП: Скажи, пожалуйста, ты назвал «Москву – Петушки» поэмой. Так же как в свое время поэмой назвал Гоголь «Мертвые души». Но откуда определение жанра такое? И второй вопрос: кого ты считаешь своими учителями?
ВЕ: Учителями… во-первых, <среди> нерусских. Во-первых, наверное, Стерна[140]. А потом еще кого? Если пошарить по Европе, Рабле, конечно[141]. Ну а русских влияний тут было поменьше, хотя штука совершенно русская, но влияний больше заморских, то есть не заморских, а закордонных.
ЛП: А определение жанра – поэма?
ВЕ: Поэма… я же просто (?)… Меня попросили назвать это хоть как-нибудь. Опять же, знакомые – но ведь не может быть, чтобы сочинение не имело никакого жанра. Ну, я пожал плечами, и первое, что мне взбрело в голову, было – «поэма». И я махнул рукой и сказал: «Если вы хотите, то (?) пусть будет поэма». Они сказали: «Нам один хрен, это поэма или повесть», но я <тогда> подумал: поэма[142].
ЛП: …о совсем малоизвестной твоей вещи, ее мало кто читал, она, в отличие от пьесы и «Петушков», известности не получила. Это «Василий Розанов глазами эксцентрика». Откуда взялось это эссе блистательное о Розанове?
ВЕ: Это очень даже просто. У меня не было крыши над головой. Ко мне подъехала женщина, которая сейчас в группе «Память». Скверная бабенка, между нами говоря. И предложила мне – вот у нее есть домик в саду маленький. «Вы поживите там лето <19>73 года, а за это вы обязуетесь написать ну что-нибудь, какую-нибудь самую малость». Я подумал, что крыша над головою, хоть самая дырявая, мне сейчас нужна, и согласился. Но в это же время подъехал ко мне человек, занимающий совсем противоположные позиции, главный редактор журнала «Евреи в СССР» и предложил тоже маленькую крышку над моей маленькой головой (улыбается), но в качестве вознаграждения. Может быть, это в самом деле даже было в один и тот же день, не помню какой-то <день> в конце мая <19>73. И <попросили> написать хоть что-нибудь для журнала «Евреи в СССР». Так что я был обречен думать, для кого же писать-то: для ультрарусского журнала или ультранаоборотного[143]. И поэтому я выбрал Василия Розанова, который… я еще думал, что же все-таки выбрать, а потом подумал: Василий Розанов в свое время метался между тем и другим[144]. Ну, он, правда, метался гораздо в более крупном масштабе и не из таких соображений жилищно-коммунальных, как я. Стало быть, так. (?) Ну я взял это и нагородил все, что сумел. ‹…›
ЛП: Вот передо мной газета «Известия» от 22 июня, где генеральный директор НПО «Книжная палата» Торсуев и главный редактор «Известий» дают интервью газете и сообщают, что в издательстве «Книга», в альманахе «Весть», выходит «Москва – Петушки»[145] , которая здесь поименована среди неизвестных произведений, произведений неизвестных авторов[146] . Ну и кроме того, существует протокол собрания экспериментальной самостоятельной группы «Весть». «Присутствовали: Каверин, Окуджава, Давид Самойлов, Фазиль Искандер, Сухарев, Гутман, Давыдов, Евграфов, Ефремов, Калугин. Отсутствовали по уважительным причинам: Быков, Межелайтис, Черниченко»[147] . Где есть пятый пункт: «Решено установить денежную премию за лучшую публикацию в сборнике „Весть“ и вручить ее Ерофееву В. В. за повесть „Москва – Петушки“». Как ты к этому относишься? К своему…
ВЕ: Мне очень понравился пятый пункт, естественно (смех)[148]. А все остальные тоже ничего, но пятый немножко получше.
ЛП: Ну что же, Веня, ты выходишь… Слава богу, будем надеяться, что ты выходишь уже на официальную орбиту, что ты войдешь в круг чтения всех, кто любит, ценит и знает русскую литературу, и твои книги станут такими же доступными, как книги уважаемых авторов, поименованных в редколлегии альманаха «Весть».
ВЕ: Ну сколько можно держать табу в сущности на имени, которое этого даже не достойно.
ЛП: Ну уж насчет «недостойно» это ты как-то… (Ерофеев улыбается.)
ВЕ: Но все-таки хорошая компания подобралась – вот опять же, от Фазиля до Василя Быкова[149].
ЛП: Хорошо, спасибо, Веничка. Больше мы не будем тебя мучить.
ВЕ: Конечно, сколько же можно. (Улыбается.)
«Москва – Петушки» (туда и обратно)[150]
Третье из известных нам интервью Венедикта Ерофеева с Леонидом Прудовским, которое вошло в короткий документальный фильм «„Москва – Петушки“ (туда и обратно)», было сделано позже двух остальных[151] – вероятно, в теплый сезон 1989 года. Фильм сохранился в домашнем архиве режиссера Александра Куприна и выложен сейчас на его youtube-канале для всеобщего обозрения[152]. Мы благодарим Александра Куприна и приводим здесь его рассказ о двух встречах с Венедиктом Ерофеевым. Благодарим также режиссера Илью Малкина, разговор которого с А. Куприным лег в основу этого мемуара[153].
Александр Куприн:
Я тогда работал режиссером в «Огонек-видео». В то время «Огонек» выпускал не только журналы, но и документальные фильмы на VHS-кассетах. Эти кассеты показывались в видеосалонах, каких-то санаториях, пансионатах. В Москве это было очень распространено. Работали мы только с журналистами «Огонька». И был прекрасный журналист, мой друг Леня Прудовский. Он предложил мне снять фильм о Венедикте Ерофееве.
Прежде чем поехать к Ерофееву, я, естественно, прочитал поэму «Москва – Петушки», – мне дали несколько журналов «Трезвость и культура», где она была напечатана. И мы с Лёней поехали на Флотскую.
Венедикт давал интервью, пользуясь прибором, без которого говорить почти не мог. Это шокировало, получался неживой странный металлический голос, приводящий в трепет и ужас. И у меня было ощущение, что он совершенно не передает ни интонации, ни эмоциональную окраску рассказа. Но Ерофеев этот прибор поборол. То, что он рассказывал – пусть и таким страшным голосом, – увлекало, и вскоре мы уже хохотали. Всё было очень весело. Я сидел под столом, чтобы не мешаться в кадре, и держал микрофон. А Лёня Прудовский задавал вопросы. Было видно, что сам он все это знает много лет, оказалось, что они с Ерофеевым давно знакомы.
Сюжет этот стал очень популярен, люди переписывали друг у друга кассеты. Но многие мои друзья не смогли его смотреть – в таком Ерофеев был плачевном состоянии. У меня же, молодого режиссера, осталось от съемки чувство очень сильное и очень тяжелое. Я впервые увидел человека, который очень болен и при этом очень весел. И было ощущение, что сквозь браваду выглядывал не очень понятный мне человек, который очень искусно скрывал страх перед тем, что его ожидало. Было видно, как он борется с этим страхом. И было видно, что он нам благодарен. Этой веселой съемке, что ей занимается столько людей. Он как бы побеждал с нашей помощью.
Когда я принялся за монтаж, у меня было подсознательное чувство, что с помощью этого фильма, мы как-то можем продлить Ерофееву жизнь. И поэтому я взял запись, на которой он читает свою поэму еще нормальным голосом, и включил в наш телесюжет монолог из «Москвы – Петушков». Где Веничка приезжает к больному сыну и говорит у его кроватки: «Ты… знаешь что, мальчик? ты не умирай…» И потом: «Ты еще встанешь, мальчик, и будешь снова плясать под мою „поросячью фарандолу“». Для нас этот кусочек был очень важным, потому что где-то я прочитал мысль, что каждый фильм должен быть молитвой о чем-то. Этот фильм был молитвой о здравии.
Когда все было готово, я подумал, что надо показать Ерофееву результат, и снова поехал на Флотскую. Дверь открыла Галина и сказала, что Ерофеева нет. Я сказал, зачем пришел, и тогда она дала мне адрес дома неподалеку. Там меня встретила брюнетка – как я потом понял, это была Наташа Шмелькова, – и проводила к Ерофееву. Веничка лежал в кресле. Было видно, что он себя плохо чувствует. Я сказал, что, как честный человек, приехал показать ему фильм. Чтобы он его посмотрел и оценил, хорошо ли получилось.
– А что там, в фильме? – спросил Ерофеев.
– Интервью. И еще я экранизировал кусочки из «Москвы – Петушков». Использовал ваш голос.
– Как вы думаете, хорошо получилось?
– Я сомневаюсь… у вас здесь стоит видеомагнитофон…
– Да. Но давайте не будем расстраиваться, наверняка получилось плохо. Может, коньячку?
– А как же кассета?
– Оставьте себе.
Получилось так, что по сути Ерофеев подарил мне мой собственный фильм. И благодаря этому кассета у меня сохранилась. Возможно, единственный экземпляр.
Мы выпили. Коньяк был – я очень хорошо это помню – дагестанский, «Дербент». Я удивился, как Ерофеев вбросил в себя рюмочку, мне казалось, что у него там нет гортани. И даже спросил его. «Как-то коньяк туда попадает», – пояснил Ерофеев.
Я встречался с этим человеком два раза. И два раза он меня оглоушил, я от него выходил в состоянии легкой контузии. Это неизгладимое впечатление на всю жизнь.
Я думаю, что Ерофеев очень хотел – так или иначе – остаться. Своими текстами и интервью у читателей и зрителей. Своей личностью в памяти друзей. Даже сына он назвал Веничкой, наверное, тоже чтобы остаться. И ему это удалось. Он остался. Он создал потрясающий образ свободного, совершенно независимого, смелого, ироничного человека.
Как его любили женщины – это было страшно смотреть. Да и мужчины тоже.
«Москва – Петушки» (туда и обратно)[154]
Леонид Прудовский (далее – ЛП): Скажи, а отец в каком году вернулся из лагеря?
Венедикт Ерофеев (далее – ВЕ): Вернулся в <19>54‐м[155].
ЛП: И ты тогда из детского дома вернулся или раньше?
ВЕ: В <19>53‐м, чуть-чуть пораньше.
ЛП: То есть мать приехала, да?
ВЕ: Ну да[156].
ЛП: И забрала из детского дома. А дальше как развивалась твоя жизнь?
ВЕ: Ну а дальше очень просто. Я закончил в <19>55 году десятилетку и отправился в Москву по примеру Михайлы Ломоносова. Правда, без рыбного обоза.
ЛП: Ну хорошо, Веничка. Вот ты благополучно поступил с золотой медалью в Московский университет. А как же так произошло, что ты оказался за его бортом?
ВЕ: Ну это опять очень даже просто. Я первую сессию сдал всю на отлично[157]. Я решил вообще похерить военные занятия. Это послужило поводом[158]. Уже на втором курсе в октябре меня к чертям собачьим… Уволен[159]. Я не возражал.
ЛП: Следующий этап твоего учения был Владимирский институт имени Лебедева-Полянского.
ВЕ: В <19>62 году уже в январе месяце декан факультета объявила, что прием мой в институт был ее самой большой педагогической ошибкой[160]. Поскольку там публика в институте раскололась на так называемых «попов»… хотя никаких попов <нрзб>. На «попов» и «комсомольцев», которые враждовали чуть ли не до поножовщины. Но во всяком случае до рукоприкладства дело доходило. Шли прямо стенка на стенку[161].
ЛП: Это ты расколол бедных студентов?
ВЕ: Выходит, что так. Потому что до этого раскола не было.
ЛП: А каким же образом тебе это удалось, Веничка?
ВЕ: Понятия не имею. Я, по-моему, лежал только, полеживал. Иногда попивал. И беседовал с ребятишками о том о сем. Так что меня сначала поперли из общежития, потом из института[162]. Но дело в том, что институтская молодежь продолжала ходить ко мне[163]. Я стал кочегаром[164]. У меня в кочегарке устроили цикл лекций на тему «История христианства»[165].
ЛП: То есть за одно общение с тобой можно было быть исключенным уже из института.
ВЕ: Это уже было указом… майским[166].
ЛП: Скажи, а вот грандиозные свершения – <19>62–<19>63 год. Летали космонавты, перекрывали Енисей[167] . Как они на твоей жизни отразились, эти грандиозные свершения?
ВЕ: Скажем, я… о полете Гагарина я узнал, по-моему, через две недели после того, как он приземлился. Мне было решительно на это наплевать с самого начала. А что Енисей перекрыли, об этом я только недавно стал узнавать. На сорок восьмом – сорок девятом году жизни. (Улыбается.)
ЛП: То есть все грандиозные свершения прошли мимо тебя?
ВЕ: Мимо. И слава тебе господи. Поэтому я чуть-чуть умом и сохранился. А то могло быть хуже.
ЛП: А радио у тебя было?
ВЕ: Было постоянно.
ЛП: Включено постоянно было?
ВЕ: Ну, иногда я включал. Но включал исключительно, когда были приятные мне русские романсы или симфоническая музыка. Остальное… (Машет рукой.)
ЛП: Ну хорошо, Ерофеев, а мне бы хотелось немножко прояснить историю с пистолетами и с объявлением Ерофеева персоной нон-грата в городе Владимире[168] . Что же это все-таки было?
ВЕ: Является ко мне в рабочее общежитие неизвестный человек. Присаживается ко мне и говорит: «Вы Ерофеев?» Я говорю: «Ну да». – «Так. Давайте ящик водки, и у вас будут три пистолета»[169]. Я говорю: «Так зачем же мне пистолеты? Да откуда я вам возьму ящик водки? В сущности, это мой месячный заработок кочегара». Тогда она еще была дешевой. «Нет, я ничего что-то не понимаю. Вы Ерофеев?» Я говорю: «Ну да, до какой-то степени». – «Ну, значит, вам нужны пистолеты». Я говорю: «Боже мой. Я что-то не понимаю. Я вчера слишком перебрал или еще чего… Но зачем, – я говорю, – пистолеты?» – «Да знаем, знаем. Нужны ведь. Нужны. Хорошо. Давайте <нрзб> давайте согласимся на пол-ящика водки. И вам будет четыре пистолета». Я говорю: «Очень милая торговля»[170]. (Смеются.) Может быть (?), спустя три дня подъехал роскошный мотоцикл, и посадил меня, и увез в очень определенное здание. Такое здание, вот этот последний этаж занимает КГБ[171]. «Короче, – сказали они. – Даем вам сорок восемь часов покинуть пределы Владимира и Владимирской области. Чтобы ноги вашей здесь не было»[172]. Я говорю: «Куда, в каком направлении вы предлагаете мне ехать?» – «Куда угодно. Еще хорошо, это не прежние времена. Мы бы вам точное дали направление». Такой «азимут», как они выразились.
ЛП: Веничка, как ты отнесся к тому, что теперь принято называть перестройкой?
ВЕ: Хрен с ней, пусть перестраиваются. Мне до этого нет ни малейшего дела. Кто хочет, пусть перестраивается, а мне перестраивать нечего[173]. Я, как говорил кто-то… по-моему, аббат Сийес: «Что вы делали во время диктатуры Робеспьера?» Он ответил: «Я оставался в живых»[174]. Ну так вот, я просто остаюсь в живых.
Интервью польским кинематографистам[175]
Интервью, расшифровку которого мы здесь помещаем, состоялось 27 марта 1989 года во Всесоюзном научном центре психического здоровья[176] на Каширском шоссе, куда Ерофеев в то время[177] был в очередной раз помещен по настоянию врачей и близких, озабоченных его физическим и моральным состоянием на фоне очередного запоя[178].
Интервьюировал Ерофеева для своего фильма польский режиссер Ежи Залевски[179], переводчиком с польского и вторым интервьюером была актриса Нина Черкес-Гжелоньска, ассистировал им Константин Ляховский. Также при интервью присутствовали актриса Жанна Герасимова[180] и жена Ерофеева, Галина Ерофеева (Носова)[181]. Позднее к ним присоединились литератор Слава Лён[182], художник Борис Козлов и артист Георгий Бурков[183].
Интервью было расшифровано нами по видеозаписи, хранящейся в личном архиве Нины Черкес-Гжелоньской, которой мы приносим глубокую благодарность за предоставленные материалы и помощь. Благодарим за помощь также Екатерину Четверикову, Жанну Герасимову, Олега Дарка, Ирину Дмитренко и Ирину Тосунян.
Нина Черкес-Гжелоньска (далее – НЧ): <Вы сами переправили «Москву – Петушки» за границу?>[184]
Венедикт Ерофеев (далее – ВЕ): Упаси Бог! За меня это без моего ведома сделал один художник, который выезжал в Израиль[185] и попутно прихватил с собой… Как-то преодолел эти таможенные препоны и благополучно доставил в Иерусалим. И он выехал в начале семьдесят <третьего> года, а уже во второй половине семьдесят третьего года в Иерусалиме напечатали впервые… Так что Израиль оказался первой державой, которая…
НЧ: <Что послужило первым толчком к написанию поэмы «Москва – Петушки»?>
ВЕ: Первым толчком было, что я ехал как-то зимой рано утром из Москвы в Петушки и стоял в тамбуре. Разумеется, ехал без билета. Я до сих пор не покупаю билет, хотя мне уже пошел шестой десяток <в> этот год[186]. Я стоял в морозном тамбуре. И курил. И курил <нрзб> свой «Беломор». И в это время дверь распахивается, контролеры являются. И один сразу прошел в тот конец вагона (показывает жестом), а другой остановился: «Билетик ваш!» Я говорю: «Нет билетика». – «Так-так-так. А что это у вас из кармана торчит пальто?» А у меня была початая уже, – я выпил примерно глотков десять, – бронебойная бутылка вермута такая восемьсотграммовая. Но она в карман-то не умещается, и я потерял бдительность, и горлышко торчало. «Что это у тебя там?» Я говорю: «Ну… вермут<ишка(?)> там». – «А ну-ка вынь, дай-ка посмотреть!» Он посмотрел, покрутил (показывает, как запрокидывает бутылку и пьет из горла контролер), буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль… (Смех.) Буль-буль… «На! – рядом ногтем отметил… (Показывает, как контролер ногтем большого пальца отметил на бутылке уровень выпитого.) – На, езжай! Дальше – беспрепятственно!»
НЧ: Замечательно, браво!
ВЕ: И вот с этого и началось. Это был тогда… Это <было> в декабре 69‐го года. Я решил написать маленький рассказик на эту тему, а потом думаю: зачем же маленький рассказик, когда это можно…[187] И потом… из этого началось путешествие(?).
НЧ: <Какое у вас образование?>
ВЕ: Образование? Закончил десятилетку. Поступил в Московский университет, но продержался там ровно полтора года – три семестра, как у нас говорят. И вышибли за… Как раньше говорили в XIX веке «за нехождение в классы»[188]. Дело в том, что я демонстративно отказался от посещения военных занятий. Из принципа[189].
НЧ: Вот это очень важно.
ВЕ: Да. Наш майор нас предупредил: вы можете пропустить целый семестр занятий по всем этим вашим вонючим античным литературам, древнерусским литературам, истории языкознания и все такое, все это… – и он даже поморщился и сплюнул почти[190]. А если кто пропустит три-четыре военных занятия, то он подлежит просто без предупреждения исключению из университета.
НЧ: Ах, вот в чем дело. Это совершенно меняет обстоятельства!
ВЕ: Вот это меня взбесило. Что я делал после университета? (Берет лист бумаги и по нему начинает читать.) После отчисления с марта 57‐го года работал в разных качествах и почти… (В голосовом аппарате садится батарейка, Ерофеев разводит руками.)
Мужской голос: Ну чего, ты должен прочитать этот текст, да?
ВЕ: Ты ничего не понял, помалкивай покуда.
Мужской голос: Ты должен понимать, у нас время поджимает. Давай <не зачитывать>.
ВЕ: Но я отвечаю просто на вопрос. Кем я работал после того, как меня вышибли из МГУ.
Мужской голос: Я все понимаю. Давай читай, да.
ВЕ (продолжает зачитывать): …почти повсеместно. Итак: грузчиком продовольственного магазина в Коломне, подсобником каменщика на строительстве Черемушек (Москва), истопником-кочегаром (Владимир), дежурным отделения милиции в Орехово-Зуеве, приемщиком винной посуды (Москва), бурильщиком в геологической партии на Украине, стрелком военизированной охраны, ВОХР (Москва), библиотекарем в Брянске, коллектором в геофизической экспедиции в Заполярье, заведующим цементным складом на строительстве шоссе Москва – Пекин (Дзержинск Горьковской области) и многое другое[191]. Самой длительной, однако, оказалась служба в системе связи – почти десять лет: монтажник кабельных линий связи (Тамбов, Мичуринск, Елец, Орел, Липецк, Смоленск, Литва, Белоруссия – от Гомеля через Могилев до Полоцка). А единственной работой, которая пришлась по сердцу, была в 1974 году в Голодной степи (Узбекистан), работа в качестве «лаборанта паразитологической экспедиции», и в Таджикистане в должности «лаборанта ВНИИДиСа по борьбе с окрыленными кровососущими гнусами»[192].
НЧ: <Расскажите о пропаже вашей пьесы.>
ВЕ: Ну, это уже настолько известная история…
НЧ: А я не знала. Как она потерялась?
ВЕ: Ее сперли в электричке. Сперли-то не ее, а…
НЧ: Как она называлась, расскажите нам!
ВЕ: «Димитрий Шостакович»[193]. Это не пьеса, а тоже что-то вроде поэмы в прозе.
НЧ: Это поэма, да?
ВЕ: Примерно. И даже манера повествования примерно смахивала на «петушинскую» манеру.
НЧ: Она исчезла в электричке – ее кто-то украл или как?
ВЕ: Украл, потому что она была завернута в газету вместе с записными книжками. Она черновая, мне надо было ее переписать набело. Все это было завернуто в газету, а вне газеты лежали три бутылки вина. Потому что я их приготовил для своего начальника участка[194]. Я ехал вечером в воскресенье, прогуляв среду, четверг и пятницу[195]. Так что мне за три дня прогула надо было моему начальнику участка, который очень любит поддать… Я знаю, что в понедельник с утра у него ничего не будет и он будет иметь страдальческий вид. (Смех.) Вот тут-то я ему и всучу пару бутылок. И все мои прогулы он, конечно, проставит <нрзб>. Ну так вот, все это было в сетке. Мне бы, если б я не был дураком, надо было наоборот – бутылки завернуть, все обернуть газетой, чтобы их не было видно. Рукописи и записные книжки пусть бы так лежали в сетке. Я уснул, поскольку в Павлово-Посаде мы <нрзб> очень набрали́сь. И мне надо было выходить в Электроуглях или в Купавне – не помню. Но я проснулся в Москве. Стоит поезд уже где-то, загнанный в тупик. Свет погас. А у меня на пальце висела эта сетка. И я просыпаюсь, у меня палец на месте – как он был в таком положении, так и есть (показывает загнутый палец), но на пальце ничего нет.
НЧ: Гениально!
ВЕ: То есть это был вечер поздний, вечер воскресенья, когда все магазины были уже закрыты, и народ соблазнился вином, конечно же. А все остальное просто выкинули как ненужное, зачем им это.
НЧ: <Была ли надежда поставить пьесу?>
ВЕ: Была надежда, но только не на Россию. Мне, например, первый читатель и очень маститый литературовед Владимир Муравьев[196] – он прочел и сказал: «Пожалуй, это очень даже можно поставить… допустим, в русском театре на Бродвее». Но никому и в голову не приходило – это была весна 85‐го года[197].
Жанна Герасимова: Мы тогда как раз тогда носили Товстоногову эту пьесу[198] . Помнишь? Мы у тебя взяли экземпляр, носили Товстоногову, нам тогда отказали в постановке[199].
ВЕ: А, да-да.
‹…›
ВЕ: Этот самый знаменитый фотограф Сычев снимал[200]. Он нас усадил, Зиновьева, меня и Войновича… нет, не Войновича, Владимова. Посадил втроем и стал снимать очень тщательно. Мы не заметили, что у нас… Мы на скамье сидели на Рождественском бульваре. И потом, когда мы получили фотокарточки, – смотрим – действительно – сидит Зиновьев, сижу я, сидит Владимов, а сзади Лён (изображает, как Лён стоит сзади, облокотившись на скамью) <нрзб> улыбается[201].
‹…›
ВЕ: Я удивился… Когда я лежал после вот этой второй операции в онкоцентре[202], мне принесла Галина газету «Известия». Советов депутатов трудящихся. И в ней впервые в советской… то есть мне еще не было пятидесяти… значит, впервые в советской печати я увидел черным по белу отпечатанными свое имя, фамилию. Это было 22 июня. Это легко запомнить. 22 июня прошлого года[203].
НЧ: Прошлого года? Только?
ВЕ: Да, 22 июня 88‐го года, очень легко запомнить, помножив двадцать два на четыре[204] (улыбается). Так что еще не прошло девять месяцев. Я еще, в сущности, рождаюсь…
НЧ: Ребенок!
ВЕ: Да! (улыбается)
НЧ: Перестройки!
‹…›
ВЕ: Потом еще раз в «Известиях» заметка о том, что готовится <нрзб> в альманахе «Весть» такая-то и такая-то повесть, которая уже давно переведена на все языки, но почему-то кроме русского[205]. Итак, потом в «Литературной газете», в разделе «Полемика» появилась большая статья: спор между Чуприниным и Евгением Поповым обо мне[206]. Потом еще в следующей, потом, примерно через месяц, – еще в «Литературной газете», опять же в разделе «Полемика» относительно меня[207]. Потом в «Комсомольской правде» заметка[208], потом в «Советской культуре» заметка[209], потом…
НЧ: Все эти встречи, все эти вечера авторские, когда они были?
ВЕ: Первый вечер был – человек отважился…[210] Это еще до первого упоминания в печати, как раз 30 апреля, вечером 30 апреля, в Вальпургиеву ночь. Накануне 1 мая. 88‐го года[211]. Ну а потом пошли уже вечера и в Доме архитектора, потом вечер по случаю пятидесятилетия[212], потом <притащили(?)> студенчество Литинститута вечер в Литинституте устроило. Я о большевиках очень <дурно (?)> говорил и о Владимире Ульянове публично. Так что парторг после выступления… Когда я отвечал на вопросы студенчества, студенчество зааплодировало, а я вижу: какая-то крупная тучная фигура встает и проходит к выходу. Оказалось, что это парторг[213]. Впоследствии обнаружилось (улыбается). Потом был вечер 2 марта, недавно. Самый последний вечер в Доме культуры МГУ. Очень веселый был вечер. Присутствовали молодые поэты с этой вот своей иронической поэзией[214].
НЧ: А на телевидении какой делали вечер? Или просто снимали эти авторские вечера?
ВЕ: На телевидении только «Добрый вечер, Москва» снимал вечер 21‐го октября. Ну а домой ко мне нагрянули в августе опять же 88-го. То есть все началось 22‐го июня, а в августе нагрянула из Ленинграда эта веселая компания – «Пятое колесо», телевизионная программа[215].
Интервью Павлу Павликовскому (Фильм «Москва – Петушки»)[216]
Несколько разговоров с Ерофеевым были сняты режиссером Павлом Павликовским[217] и кинематографистами BBC в Москве и Абрамцеве в 1989 и 1990 годах[218] и смонтированы для документального фильма Павликовского «Москва – Петушки» (From Moscow to Pietushki). Как указывает в своей книге Наталья Шмелькова, съемки продолжались много часов, и, таким образом, можно надеяться, что в будущем исследователям станут доступны рабочие материалы к фильму и это интервью будет напечатано в значительно расширенном варианте[219]. А пока что мы с любезного разрешения Павла Павликовского публикуем комментированную расшифровку той небольшой части интервью, которая вошла в его фильм.
Павел Павликовский (далее – ПП): Вам не жаль, что ваша жизнь получилась так, как она получилась?
<Ерофеев пробует ответить, но не работает голосовой аппарат, Галина Ерофеева (Носова) поправляет контакт, аппарат включается.>
Венедикт Ерофеев (далее – ВЕ): Мне показалось, совсем пиздец…[220]
ПП: Если вам жаль, что так ваша жизнь получилась…
ВЕ: Да нет. Жизнь получилась такой, какой она получилась. Мне наплевать.
ПП: Вы приехали в Москву с Кольского полуострова с золотой медалью, окончив школу на отлично?
ВЕ: Я приехал <в Москву>, как только мне было 16 лет. Как дуралей. И очень хотел поступить в Московский университет. Я думал, что это храм науки. Вот этот, который был воздвигнут в пятьдесят пятом году, ебёна мать[221]. Я вошел. «Направо – … (показывает мимикой) Налево – делай…!» Ну и все такое. Я подумал: «Куда-то, может, я не туда попал?»[222]
Я стал читать Лейбница, а уже, во-вторых, стал выпивать[223]. Так что ничего страшного.
ПП: А что Лейбниц имеет общего с питием?
ВЕ (смеется): До чего глупый человек![224]
ПП: Как окончилась ваша карьера в университете?
ВЕ: Очень просто. Я просто перестал ходить на военные занятия. Я сказал: «Ни хуя я на ваши военные занятия ходить не буду». Наш майор сказал: «Ерофеев, самое главное в человеке – это выправка». Я говорю: «Это фраза не ваша, это фраза Германа Геринга[225]. И между прочим, его в ноябре сорок шестого года повесили»[226].
Вот с тех пор началась ненависть (улыбается). И изгнание[227].
* * *
ВЕ: «<Очень> смешно! Чрезвычайно смешно! Ерофеев очень шутить любит!» Никакого трагизма они не обнаружили. Они, скоты, вообще ничего не обнаружили[228].
* * *
ВЕ: Я навсегда в Абрамцеве <нрзб>. В Москве меня воротит, тошнит. Почему-то в Москве постоянно тянет меня «шлепнуть». А здесь я гуляю, как бешеный кобель, кружу по лугам(?), по сугробам, по лесам, форсирую мелкие и крупные речки…[229]
* * *
ПП: Вы построили «Москву – Петушки» как Евангелие.
ВЕ: Боже упаси! Я их написал без всякой претензии. Как, впрочем, писал и до этого, и после этого. Писал, опять же, только для ближайших друзей. Чтобы их потешить и немножко опечалить. Восемьдесят страниц потешить, а потом десять страниц настолько опечалить, чтоб они забыли о <веселье>…
ПП: Все ваши книги кончаются ужасом?
ВЕ: «Тит Андроник» трагедия…[230] Или там «Испанская трагедия»[231], она кончается полной гибелью всех персонажей. А тут все-таки еще остаются в живых кое-кто (улыбается)[232]. И вот я решил исправить эту ошибку. В пьесе, которую я намерен написать вот здесь вот, лежа вот в этой постельке, никто в живых не останется (улыбается)[233].
…и…
Орехово-Зуево
Документы Венедикта Ерофеева[234]
«Помню, лет десять тому назад я поселился в Орехово-Зуеве…» – так, подъезжая к платформе Чухлинка, Веничка Ерофеев начинает рассказ о своей деликатности[235]. Его электричка едет из Москвы в Петушки осенью 1969 года, – отнимем от этой даты десять лет – и обнаружим, что писатель Венедикт Ерофеев в очередной раз передал соименнику-герою часть собственной биографии. Действительно, как раз осенью 1959 года студент первого курса филологического факультета Орехово-Зуевского педагогического института (ОЗПИ)[236] Венедикт Ерофеев приступил к занятиям. Поселился он, разумеется, в институтском общежитии.
Год с небольшим, когда Ерофеев числился орехово-зуевским студентом, относится к наименее исследованным периодам биографии писателя. Приобретенные здесь близкие подруги, Юлия Рунова и Валентина Еселева, мемуаров не оставили[237]. Сам Ерофеев не упомянул учебу в ОЗПИ в итоговой «Краткой автобиографии»[238], обошел ее и в обширных интервью Дафни Скиллен и Леониду Прудовскому[239]. «Об Орехово-Зуеве он вообще молчал и ничего нигде не говорил», – отмечал в разговоре с нами Борис Сорокин, подразумевая уже «позднего» Ерофеева, ведь сначала, по словам Сорокина, «Веня меня страшно интриговал Орехово-Зуевом. Он там учился и рассказывал мне, какие они устраивали жуткие вещи»[240]. Про жуткие вещи Борис Сорокин говорил, конечно, с иронией – усмотреть что-то страшное в пересказываемых им байках об анархических шалостях Ерофеева и его сокурсников могли разве что начальство ОЗПИ и опекавшие институт «идеологические органы».
Как бы то ни было, тот факт, что орехово-зуевская жизнь отразилась в двух главных произведениях Ерофеева – «Москве – Петушках» и «Вальпургиевой ночи» (протагонист которой Лев Гуревич неслучайно носит фамилию сокурсника и приятеля Ерофеева по ОЗПИ), – говорит о том, что этот этап его биографии тоже заслуживает внимания.
Почему Ерофеев, выстраивая автобиографический канон, умалчивал об учебе в ОЗПИ? За какие именно проступки он был отчислен и почему вообще принял решение поступать именно в этот вуз? Об этом пока можно только гадать, перебирая скудные свидетельства, большая часть из которых сводится к байкам самого Ерофеева в изложении его впоследствии приобретенных друзей и приятелей, – взгляд через не очень надежную оптику[241].
Тем ценнее для исследователей даже немногие крохи достоверной информации, которые можно добыть об этом периоде жизни писателя[242]. За предоставленную возможность работать с личным делом Венедикта Ерофеева я благодарю ректора Государственного гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево) Н. Г. Юсупову и начальника архивного отдела ГГТУ Е. А. Колмогорову.
Дело № 13, Ерофеев Венедикт Васильевич
1. Медицинская справка
Медицинская справка для поступающего в высшее учебное заведение или техникум
<Дата:> 11 июля 1959 г.
1. Выдана: Поликлиникой г. Славянска[243]
2. Наименование вуза, куда представляется справка: Педагогический институт
3. Фамилия, имя, отчество: Ерофеев Вен<е>дикт Васильевич
4. Год рождения: 1938
5. Пол: М
6. Находится под медицинским наблюдением в данном учреждении (указать с какого и по какое время): Нет
7. Перенесенные заболевания (указать какие и когда): не болел
8. Перенесенные травмы и операции (указать какие и когда): не было
9. Состоит на диспансерном учете (указать где, с какого времени, по какому поводу): нет
10. Занимался ли физкультурой (в школе, вне школы, участие в соревнованиях, сдача норм БГТО и ГТО): <графа не заполнена>
11. Физкультурная группа: общая
12. Объективные данные и состояние здоровья в настоящий момент: противопоказаний к учебе нет. <Подпись врача>
13. Данные рентгеновских и лабораторных исследований: 11/VII Cor et pulmones[244] в пределах рентгенол<огической> N[245] <Подпись врача>
14. Диагноз и давность заболевания: <графа не заполнена>
15. Дополнительные данные (острота зрения и др.): vod = 1,0 vos = 1,0[246] ЦО N[247] Годен <Подпись врача>
Отоларинголог – годен. <Подпись врача>
16. Произведенные предохранительные прививки (указать когда и какие): <графа не заполнена>
<Подпись врача>
<Печать: Славянская больница им. Ленина>
2. Производственная характеристика № 1
Производственная характеристика на Ерофеева Венедикта Васильевича, год рождения 1938, беспартийный.
Ерофеев Венедикт Васильевич, работая со 2‐го апреля 1959 года в Славянском отряде Артемовской комплексной геолого-разведочной партии в качестве рабочего, проявил себя прилежным работником, выполняющим норму выработки ежемесячно на 110–115 %.
Дисциплинирован, выполняет общественные поручения.
Мы убеждены, что тов<арищ> Ерофеев В. В. способен и достоин заниматься в высшем учебном заведении.
Начальник Артемовской комплексной геолого-разведочной партии Кашпур[248] <Подпись>
Начальник Славянского отряда Сокирко <Подпись>
Председатель Месткома Радомышенский <Подпись>
<Печать: Артемовская комплексная геолого-разведочная партия. Главгеология УССР. Трест Артемуглегеология>
3. Производственная характеристика № 2
Производственная характеристика
Выдана тов<арищу> Ерофееву Венедикту Васильевичу, рождения 1938 года, беспартийному, уроженцу Карело-Финской ССР, ст. Чупа.
Тов. Ерофеев В. В. работал в Комплексной геолого-разведочной партии треста «Артемуглегеология» с 2 апреля 1959 г. в качестве рабочего.
Проявил себя прилежным, инициативным работником, выполняющим нормы на 110–115 %.
Тов<арищ> Ерофеев В. В. не имел ни одного дисциплинарного взыскания, охотно выполнял общественные поручения.
Настоящая характеристика выдана тов<арищу> Ерофееву В. В. для поступления в высшее учебное заведение.
Начальник Артемовской комплексной ГРП[249] Кашпур Я. Н. <Подпись>
Секретарь парторганизации Островский Я. Б. <Подпись>
Председатель МК[250] Покровский А. И. <Подпись>
<Печать: Артемовская комплексная геолого-разведочная партия. Главгеология УССР. Трест Артемуглегеология>
4. Заявление о допуске к вступительным экзаменам
Директору Орехово-Зуевского
Педагогического института
от рабочего Ерофеева Венедикта Васильевича
Заявление
Прошу допустить меня ко вступительным экзаменам на филологический факультет Вашего института.
14/VII-59 г. В. Ерофеев.
5. Экзаменационный листок
<в правом верхнем углу бланка>: стаж 5 <«5» – карандашом>
Экзаменационный листок № 364
Гр.: Ерофеева Венедикта Васильевича
поступающего на: филологическое отделение в 1959 год<у>
Решение приемной комиссии: Зачислить на 1‐й курс
Секретарь: <Подпись>
<Печать>
6. Приказ о зачислении
Выписка из приказа Орехово-Зуевского педагогического института
Приказ № 366 от 25 августа 1959 г.
Зачислен студентом I курса ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ филологический факультет, очной формы обучения.
Начальник упр<авления> кадров: Ю. И. Кирсанов
Специалист упр<авления> кадров: Е. В. Шаманина <Подпись>
7. Приказ об отчислении
Отд<ел> кадр<ов>
Выписка из приказа № 415 (?) по Орехово-Зуевскому педагогическому институту
от 18 октября 1960 г.
§ 1
За академическую задолженность и систематическое нарушение трудовой дисциплины студента 2‐го курса филологического факультета Ерофеева В. В. отчислить из состава студентов.
П/п. Зам<еститель> директора института: Назарьев[251].
Верно <Подпись>
8. Обходной лист
Отчислен из института
Обходной лист: Ерофеева
Библиотека: <Подпись>
Комендант общежития: <Подпись>
Кабинет основ м<арксизма>-л<енинизма>: <Подпись>
Кабинет педагогики: <Подпись>
Касса взаимопомощи: <Подпись>
Профком: <Подпись>
Комитет ВЛКСМ и КПСС: <Подпись>
Деканат: <Подпись>
Бухгалтерия: <Подпись>
Кабинет физкультуры: <Подпись>
Спец<иальный> кабинет: <Подпись>
16/I-61 г.
<Печать: Библиотека Орехово-Зуевского педагогического института>
<На обороте:> Аттестат зрелости № 038 996 получил В. Ерофеев
Венедикт Ерофеев – адресант и адресат[252]
Излишне говорить о том, что личная переписка выдающегося человека не только дает богатый материал для потенциальных биографов, но и (как и любая другая) аккумулирует черты времени и среды, которым принадлежит. Публикуя здесь выборку писем, мы хотим отметить две ее особенности.
Первая состоит в открываемом ей незаурядном и густом переплетении разнообразных стилистических слоев и жизненных укладов. Отчасти это связано с тем, что Венедикт Ерофеев занимал абсолютно нетипичное место в советском социуме.
Очень разных людей, окружавших Ерофеева в середине 1970‐х – начале 1980‐х годов, можно условно разделить на три основные группы. Первую составляют друзья, приобретенные за многолетний период обучения в МГУ и в провинциальных вузах (Орехово-Зуевский и Владимирский пединституты), а также друзья и знакомые, через этих людей вошедшие в близкий круг Ерофеева. Вторую группу образуют люди, активно вовлеченные в правозащитную и самиздатскую деятельность (прибавим сюда же «неформальных» художников и поэтов). Плотно в это сообщество Ерофеев вошел после завязавшейся в 1974 году дружбы с Вадимом Делоне и его женой Ириной Белогородской-Делоне[253], а также с Надеждой Яковлевной Шатуновской, ее дочерью Ольгой Прохоровой (Иофе)[254] и их многочисленными родственниками и знакомыми. И наконец, в третью относительно большую группу ерофеевских знакомых 1970‐х годов можно выделить людей, окружавших его во время очередных подработок, как правило связанных с неквалифицированным физическим трудом, – геологов, рабочих и др. С людьми из третьей группы у Ерофеева лишь изредка завязывались длительные знакомства[255].
В отличие от Владимира Войновича, Василия Аксенова и многих других писателей, начинавших путь в официальной советской литературе, а затем вытесненных в неофициальную, Ерофеев не печатался и не пытался напечататься в СССР (его публикации на родине осуществились только в конце перестройки и стали фактически предсмертными). Это привело к нестандартной ситуации: хотя поэма «Москва – Петушки» широко разошлась в сам- и тамиздате, ее автор для большинства читателей продолжал оставаться загадочной фигурой и едва ли не сливался с главным героем и нарратором поэмы – Веничкой Ерофеевым. И все же Венедикт Ерофеев, не предпринимавший никаких действий для своей легализации как литератора, писателем себя осознавал и, как мы видим из его писем второй жене, болезненно реагировал на отсутствие признания и понимания случайным читателем.
До последних лет находясь вне широкой писательской среды[256], Ерофеев внимательно следил за современным ему литературным процессом. Публикуемая переписка с Вадимом Делоне демонстрирует, что он очень энергично и последовательно охотился за новинками русской[257] и зарубежной поэзии и прозы, а еще активнее – за изданиями, углублявшими его немалую эрудицию в сфере поэзии и мемуаристики конца XIX – начала XX веков.
У Ерофеева получилось почти невозможное – занять нишу европейского интеллектуала, не конфликтуя с советской властью, но и не прогибаясь под ее идеологию, а фактически ее не замечая. Советский рабочий получает свежие новости из Вены и Парижа об издании своей книги на французском языке и просит в счет гонорара выслать ему мемуары Деникина и Врангеля. Эта сюрреалистическая ситуация могла бы вызвать улыбку, если бы не оборотная сторона такой жизни. Ее мы видим в письмах первой жены Венедикта Ерофеева, Валентины Ерофеевой (Зимаковой)[258], обнаруживающих тоскливую нищету тогдашней русской действительности. Время от времени проступает она и из писем самого Ерофеева.
Вторая важная особенность ерофеевских писем состоит в их несомненной литературности. Вероятно, отчасти это объясняется тем, что наибольшую сложность для писателя представлял поиск сюжета будущего произведения, в рамках которого могли быть использованы многочисленные заготовки из непрерывно заполнявшихся им записных книжек[259]. После удачи «Москвы – Петушков» (1970), сюжет которых, по-видимому, сложился на удивление быстро, и почти бессюжетного эссе о Розанове (1973)[260] Ерофеев-писатель замолчал на долгие годы – структура нового произведения никак не складывалась. Не имея возможности донести до читателя свои литературные находки, он отчасти реализовывал эту потребность в письмах, которые, так же как и его неэпистолярные произведения, составлялись с использованием записных книжек в качестве питающего материала. В некоторых случаях мы подчеркиваем это, приводя в примечании соответствующий отрывок из «параллельной» переписке записной книжки.
Составляя этот раздел, мы, конечно же, не ставили целью представить максимально полный свод писем, имеющих отношение к Ерофееву. Здесь помещены лишь самые, на наш взгляд, интересные из них, кроме тех, публикация которых потребовала бы слишком большого количества купюр в связи с подробностями личного характера. Также мы решили отдать предпочтение никогда не публиковавшимся письмам, сделав исключение для тех, которые здесь печатаются в значительно дополненном комплекте: это переписка Ерофеева с женой Галиной Ерофеевой (Носовой)[261] и письмо венгерской переводчице Эржебет Вари[262].
Письма даются нами в авторской орфографии, за исключением случаев очевидных ошибок, не несущих в себе примет авторского стиля. В нескольких местах по причинам этического характера мы прибегнули к купюрам, которые каждый раз в тексте письма обозначаются ‹…›. Все разделы переписки предварены короткими справками.
Кроме особо оговоренных случаев, все письма печатаются нами по рукописям или ксероксам рукописей из личного архива Венедикта Ерофеева, предоставленным Галиной Анатольевной Ерофеевой и Венедиктом Венедиктовичем Ерофеевым. Им мы приносим глубокую благодарность.
Мы благодарим за помощь в работе Анну Авдиеву, Марину Алхазову, Балинта и Ивана Байоми (Bajomi Bálint, Bajomi Iván), Ирину Белогородскую-Делоне, Николая Болдырева, Владимира Векслера, Татьяну Галкину, Елену Генделеву-Курилову, Владимира и Дмитрия Герасименко, Марка Гринберга, Александра Давыдова, Елену Даутову, Сергея Дедюлина, Александра Долинина, Данилу Дубшина, Алену (Елену) Делоне-Ильи (Delaunay-Eły), Виктора Ерофеева, Галину А. Ерофееву, Жофию Калавски (Kalavszky Zsófia), Михаила Кициса, Виктора Кондырева, Наталью Коноплеву, Александра Кротова, Александра Лаврина, Рому Либерова, Аэлиту Личман, Наталью Логинову, Алексея Макарова и «Международный Мемориал», Андрея Мешавкина, Михаила Минца, Бориса Миссиркова, Алексея и Татьяну Муравьевых, Юрия Ноговицына, Светлану Огневу, Николая Подосокорского, Евгения Попова, Ольгу Прохорову (Иофе), Иду Резницкую, Николая Савельева, Юлию Садовскую, Ольгу Седакову, Моник Слодзян (Monique Slodzian), Габриэля Суперфина, Алексея и Михаила Тихомировых, Марию Тихонову, Рушанью (Розу) Федякину, Сергея Филиппова, Марину Фрейдкину, Елизавету Цитовскую, Нину Черкес-Гжелоньскую, Екатерину Четверикову, Сергея Шаргородского, Евгения Шенкмана, Светлану Шнитман-МакМиллин, Евгения Шталя, Ксению Щедрину, а также сотрудников издательства YMCA-PRESS («ИМКА-ПРЕСС») и книжного магазина Les Éditeurs Réunis.
Словами благодарности хотелось бы вспомнить правозащитника и художника-реставратора Сергея Александровича Шарова-Делоне, ушедшего от нас в 2019 году. Предполагая скорое издание писем и дневников Венедикта Ерофеева, мы успели целенаправленно расспросить его о подробностях его жизни в Абрамцеве и семье Делоне – и этот замечательный человек помог нам со всегда присущими ему доброжелательностью, отзывчивостью и профессионализмом. Его помощь помогла нам и при комментировании этого раздела. Вечная ему память.
Переписка с Вадимом Делоне и Ириной Белогородской-Делоне
Москва, Абрамцево – Вена, Париж. 1975 (?) – 1979
Дружба с Вадимом Делоне и его семьей сыграла в жизни Ерофеева особую роль. Талантливый поэт, человек с яркой биографией, участник знаменитой «демонстрации семерых» на Красной площади 25 августа 1968 года, Делоне был поклонником и популяризатором творчества Ерофеева: в частности, из его рук получил текст поэмы «Москва – Петушки» Сергей Довлатов.
Делоне и его жена Ирина поспособствовали осуществлению одного из заветных желаний Ерофеева – жить в загородном доме, не теряя связи с интеллектуальными кругами. Через семью Делоне он приобщился к поселку академиков Абрамцево и много счастливых дней провел в абрамцевском доме деда Вадима – известного математика, члена-корреспондента АН СССР Бориса Николаевича Делоне (1890–1980)[263]. Ирина Белогородская-Делоне помогла Венедикту Ерофееву и его жене Галине восстановить утраченные беспечным писателем документы[264]. В жестких условиях тогдашнего СССР, где человеку без паспорта жить было практически невозможно, это было немалым благодеянием. Через семью Делоне Ерофеев тесно познакомился со многими диссидентами. Оказавшись в эмиграции за границей, Вадим и Ирина снабжали автора «Москвы – Петушков» редкими и недоступными в Советском Союзе книгами и вещами. И наконец, last but not least, муж и жена Делоне взялись за устройство сложнейших и запутанных вопросов, связанных с тамиздатскими публикациями Ерофеева и гонорарами за них.
Вадим – Венедикту. Конец 1975 или начало 1976 года[265]
Здравствуйте, Венедикт Васильевич!
Прав был Ницше (Валерий)[266], говоря обо мне, что переезд для меня не так уж и страшен – потому как живу я своими кошмарами и внутренним несоответствием внешней среде; а где жить этими ощущениями – все равно, ибо ощущения от перемещений меняются мало. Вижу, как ты морщишь свою благообразно-похмельную морду и вещаешь: «О как закрутил, дурачок!» Ну да ладно, морщись на здоровье, все равно от порвейна[267] больше морщишься, но ведь пьешь, так что читай.
Кроме прочего, действительно помогла мне вся эта таможенная суета, ибо за что путное можно и пострадать малость, но волокиты эти бюрократические, которые и тебя сейчас окружают[268], до того омерзительны, что хочется бежать от них без оглядки. Первый день было, правда, страшновато, но и любопытство помогало: все я из окна отельчика выглядывал: «что, мол, там немчура делает?» А немчура как немчура, степенная такая публика. В метро ихнее или в какой дом входишь – дверь перед тобой держат, даже бабы, чтоб не ебнуло (тоже мне забота: подумаешь, дверью стукнет, не ломом же оглоушит). В общем я малость оклемался, разгуливаю по Вене, плюю (в урны, конечно)[269], корчу весьма любезные рожи здешней публике и цежу сквозь зубы «экскьюзьми вери мач» или «фэнькью», а они в ответ «данке шён»[270], а что до того и после этого, ни х-я не поймешь. По городу ездим каждый раз, «в центр через Сокольники»[271], но городок Москвы поменьше и, слава Богу, к ночи до дому добираемся. Водок и вин тут, Веня… и ни одного человека в очереди. Цены и впрямь, как Мишка писал, какие-то басурманские, не как у людей[272]. Две пачки сигарет, или четыре поездки на трамвае, или две чашки кофе по отдельности стоят столько же, сколько бутылка виски. Можно тут и ночью нажраться, но это пока недоступно, ибо в предназначенных для этой цели заведениях цены сногсшибательные, а магáзины закрываются в 6, в воскресенье вообще не работают. Может, публика здешняя и чем другим занимается, но впечатление такое, что они только жрут и торгуют, куда ни плюнь – везде то кафе, то лавка, то кабак, то магазин[273]. Меня тут иногда с грехом пополам переводят на их басурманское наречие, но то, что я долдоню в их мохнатые уши[274], не очень-то до цели доходит. Однако принимают хорошо и угощают всячески. Кругом композиторы в виде памятников понаставлены, а в Галерее ихней разных Рембратов[275] полно, а народу ни души[276]. Так что, думаю, ты в ихнем искусстве куда больше прешь, чем они сами. В общем пока не сильно скучаем, за исключением, конечно, тебя, Галки, Прохоровых-Иоффе, Деда, Юлика с семейством[277], Ницше, а в остальном, как сказал мне один умный человек (здесь): «Лучше умереть от тоски по Родине, чем от ненависти к ней»[278].
Обнимаю тебя и всех вышеперечисленных, Кыса[279] тебя целует.
Не пей!.. порвейна!
Искренне твой Вадим
Венедикт – Вадиму и Ирине. 20(?) и 24 сентября 1977 года
24/IX.
Милые ребятишки-делонята,
мне только что сообщили, что оказия вот-вот исчезает из Москвы, поэтому вам хоть одну страницу. Не знаю, написала ли вам что-нибудь Галина Носова, я ее не вижу неделю, ее, дурочку, вместе с ее кандидатской степенью, услали копать картофель в Волоколамский район[280]