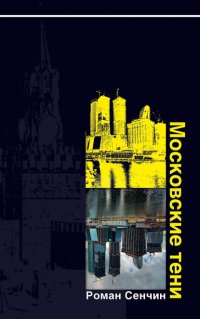
Читать онлайн Московские тени бесплатно
- Все книги автора: Роман Сенчин
Глава первая
Говорят, что нас там примут
(Март 1997-го)
– …Да об этом во всех газетах вон… Только об этом кричат. Надоело же, в конце концов. – С ним нужно не соглашаться, нужно его раздражать, подогревать спор. Главное, чтоб он не терял интереса. – Прописные ведь истины, одно и то же. И, кстати, так всегда было, и ничего не случилось, земля не перевернулась. Есть люди, например, которым только и надо, чтобы себя ощутить, – ходить по проволоке, на грани гибели находиться. Почему же не может быть таких же целых народов и стран?..
– Нет, ты не прав. Такого, – он постучал пальцем по столешнице, – такого еще не бывало. Я знаю историю, я ничего подобного не встречал. Нигде! И если пользоваться твоим сравнением, то – нас на эту проволоку загнали, пихнули, и мы висим на одной руке, а все эти падлы вокруг бьют, чтоб мы скорей сорвались. – И он опять начинает заученно, убежденно-спокойно, тоном мыслителя, сотый раз доказывающего выведенную им истину: – Идет пол-ней-шее разрушение нас как нации, каждого по отдельности – как личностей. Все мировые силы собрались, объединились, чтобы нас уничтожить. Сожрать! Понимаешь? Мы – лакомый кусочек, они вечно об этом мечтают. И именно сейчас, именно вот в эту минуту они нас сжирают. Открыто, уверенно, со знанием дела. Знают, что помешать некому. То-таль-ное разгосударствление!.. Вот я еще есть, еще могу говорить, а через полчаса не смогу. – Он горько вздохнул и взял в руку стаканчик. – Я смогу только рычать. Или выть. И дальше лишь мрак – наше общее будущее. Полное отсутствие разума!.. Вот так-то. Вот что с нами делают, парень!
Скучно, конечно, но слушать надо, отвечать что-нибудь. С сумасшедшими такого рода я сталкиваюсь постоянно. Если не сталкиваюсь, то специально ищу, охочусь на них, а они охотятся на меня. И когда мы ловим друг друга, происходит то, что сейчас. Они говорят, а я слушаю и в меру сил спорю. Темы их монологов похожи почти дословно. Все плачут о Родине. У всех не сложилась жизнь, не оправдались надежды. Ужасная скука. Мне кажется, что их обучают в каких-то подпольных спецшколах, а потом выпускают на улицы. Им обычно лет за сорок, они работают строителями, учителями, грузчиками, бандитами, чертежниками, актерами, милиционерами, они, как могут, зарабатывают на пропитание, а в свободное время вываливают на меня шлаки своих размышлений. Сегодня попался мне сценарист…
– Видел там в витрине плакат? На одной половине панорама Москвы – «Сердце всей Руси святой», а на другой – «Довгань» и рожа эта. Соседи, да! Да это глумление над моими чувствами просто, откровенное унижение! Ты понимаешь, нет?!
Да, попался сценарист, по крайней мере он так представился. Седоватый, с окладистой и тоже почти седой бородой, полновато-отечный, хорошо приодетый мужчина. Он называл мне какие-то фильмы, снятые по его сценариям, но я таких, кажется, не видел или не помню.
– С одной стороны одно, а с другой… Нет, пожалуйста, без ли-це-ме-рия! Лучше сразу тогда: все, что мешает вам жрать, все под бульдозер, в печь, на переплавку. Чтоб в зубах не застревало… И все, самое страшное, пойдут с радостью перерождаться, все же мы проданы, мы хотим быть как они. Йогуртом нас купили!.. Не-ет, господа, не перерождаться ведут вас, а – в дерьмо, в дерьмо окончательное!..
Пора как-нибудь возразить:
– А вот на фотографиях прошлого века, там тоже куча вывесок всяких иностранных, и всегда, говорят, у нас самыми активными были евреи и немцы. И как-то ведь держимся, ассимилируем тех же немцев, в конечном счете они работать начинают на нас, а не мы на них… Может, – я вздыхаю, – еще возьмем по сто грамм?
Сценарист кивнул, допил, что у него там оставалось в стаканчике. Полез во внутренний карман пиджака.
– Да, парень, выпьем сейчас и я тебе объясню все про немцев. Все объясню… Так, – он принялся считать. – Восемь и восемь… шестнадцать. И порция сосисок еще. В-вот, – протянул мне деньги, – сходи.
Мы находимся в дешевой, но довольно уютной и просторной кафешке. Десяток столиков, неяркое освещение, простенькая музыка из маломощного магнитофона. В общем, место для питья не из последних. Чаще приходится делать это у пивного ларька, на скамейке в сквере, а то и в подъезде. Кажется, людям типа сегодняшнего сценариста все равно, где гадить в мои мозги, они даже забывают про водку, до того увлекаются… Что ж, их понять можно: не каждый станет так терпеливо слушать, впитывать их измышления, как я.
– …Это самые злейшие наши враги. Запомни, самые старые и самые злейшие! Другие приходят и уходят. Американцы, они пришли и скоро уйдут, французы приходили и… А эти… У-у! Они слишком умны и из-во-рот-ли-вы: не выходит мечом, они деньгами, не работают деньги, они, падлы, лестью. Баб своих нашим государям подкладывали, философии свои на нас проверяли. Сволочи, да? Я б этих немцев вообще бы всех изничтожил к чертям. Не желаете мирно со… со-су-щест-во-вать, – некоторые слова он произносит кусками, – получите по полной программе!
Пока сценарист объясняет, я осушил свои сто, съел одну из двух порционных сосисок. Сижу, смотрю на вторую, машинально киваю.
– Кто выдумал все эти дела? Немцы! Кто атомную бомбу изобрел? Они! Карл Маркс кто? Немец! Ницше, Гитлер? Тоже! О-о, парень, запомни – это самая вредная нация, я те говорю, самая злобная! Вот с кем надо бороться в первую очередь, давить их, чтоб и не пикали, падлы!..
Народу в кафе почти нет. За соседним столиком парочка вроде нас: один другому что-то втирает; несколько подростков цедят из больших кружек хамовническое пиво и веселятся; напротив нашего столика – одинокая девушка. Она медленно, экономно ест мороженое, превратившееся уже в совершенную жижу; наверное, хочет она кого-нибудь подцепить. Если б немного денег в кармане, я бы подсел, – фигурка у нее, кажется, ничего…
– Пейте, сосиска остынет, – осторожно прерываю я сценариста.
– А, да, давай! – Он взялся за стаканчик. – Выпить – это святое.
– Я уже… – Переворачиваю свой стаканчик вверх дном, показывая, что он пустой.
Сценарист плеснул мне граммов тридцать. Он начинает заметно пьянеть; даже, скорей, не пьянеет, а как-то раздувается от своей значительности, злости к врагам. Немолодому, глуповатому, амбициозному, но мало чего добившемуся в жизни человеку хочется себя так вести, – вроде он не последний в цепочке подобных, вроде уверен, что и ему перепало немножко с праздничного стола, и жизнь, значит, не совсем уж напрасна.
– Давай, парень, за будущее! – тянет он ко мне свой стаканчик. – Верь, у нашей Родины есть будущее! Причем – великое!
– Конечно, – киваю, – это бесспорно.
Чокнулись, выпили. Сценарист отломил вилкой часть сосиски, закусил. Я съел остальное.
– Самое страшное, брат, – тяжело вздохнул и поежился он, – это заниматься тем, что не нравится. Тем паче – писать ради хлеба. У меня шестнадцать ре-али-зо-ван-ных сценариев. Шестнадцать! И из них четыре фильма хорошими получились! Это немало, парень, совсем не мало. Меня все уважали… Понимаешь, нет? А сейчас, – он посмотрел в стакан, убедился, что там ничего не осталось, – а сейчас пишу сериалы. Через силу пишу, гадость пишу, для того чтобы жрать. Серия – триста долларов. Двадцать четыре страницы – американский стандарт – для одной серии, и триста долларов: чик!..
– Нормально.
– Но ведь, пойми ты, не то, не то! – У сценариста задрожала борода, его боевой настрой перерос в полустарческую обиду.
Я протянул ему сигарету, он закурил.
– Писать настоящее не могу. Психика изменяется, понимаешь ты это! Голова работает на уровне этой «Клубнички», поиск темы, идеи – на этом уровне только, восприятие мира… Понимаешь, как страшно, а!
– Да-а, – сочувствующе вздохнул я и тоже посмотрел в свой стаканчик. – Еще, может, возьмем…
– Возьмем, не гони.
Хорошо, хорошо, я потерплю.
– Ты вот такой молодой, а что внутри? Внутри-то гниль, парень! Я, – сценарист хитро прищурился и погрозил мне пальцем, – я, парень, насквозь тебя вижу, я в людях разбираюсь, дай бог! И вижу – гниль в тебе… Слышишь?.. Чем ты живешь, а? Какую роль ты играешь?
– Я не актер.
– Не-е…
– Я – продукт настоящего времени, – гордо говорю. – И я разделяю с народом все его тяготы и лишения.
– А? – сценарист с трудом напрягся, чтобы понять. Теперь он на глазах размякает, скучнеет. Наговорился, слегка очистил для новой порции шлака мозги, и вот ему хочется спать. Спокойно, удовлетворенно уснуть.
Скорей, скорей нужно выдавить из него еще водки, пока не встал, не ушел. И я лихорадочно ищу слова, какими можно его расшевелить, снова вернуть к спору. Но о чем говорить?..
– Вообще-то, – не спеша начинаю, не зная еще, какое слово поставлю дальше. – М-м… Вообще-то, мы сами во всем виноваты. Мы получаем то, что хотим. Собаке собачье. Когда целый народ держат в пробирке и туда льют то одно, то другое, смотрят, что из этого выйдет, и этот народ, который в пробирке… – Главное, не сбиться с мысли! – он лишь морщится и вздыхает, то что еще говорить? Вон в Румынии шахтеры собрались и устроили. Все у них там затряслось, чуть не перевернули все к чертовой матери. Потеряли терпение! – Я увлекся, разгорячился. – Вот это народ, я понимаю, а мы… А мы оказались стадом. Загоняй всех на бойню и по лбу кувалдой. Не бойтесь, сопротивления не будет!..
– Погоди, погоди, парень, – сценарист замотал головой, словно уже получил кувалдой разок и пытается прийти в себя, чтобы получить следующий удар. – Погоди, я не согласен. Мы сможем еще, забодаем их всех! Ско-оро уже. Нас довести надо, понимаешь, дожать. Чем сильнее согнешь, тем… Как распрямимся! Закон физики, эле-мен-тар-но. И полетят они, падлы заморские… Сколько раз мы их, а никак не поймут, – лезут и лезут…
Мне кажется, мы поменялись: то, что он говорил полчаса назад, теперь говорю я, и наоборот. Да и неважно. Хорошо, что он снова стал расходиться, только б не слишком длинен был его монолог. А прерывать, напоминать о выпивке нельзя – обидится, не купит. Ладно, придется ждать. Слушать, терпеть и ждать.
На помощь мне пришла продавщица.
– Господа, через десять минут закрываемся. Поторопитесь!
– Вот, пора уходить, – с сожалением говорю я.
– М-да-а… – сценарист поморщился, что мысль его об отпоре заморским падлам сломана на самом важном моменте. – Ладно, пора так пора… Сейчас опрокинем по стопочке и пойдем. – Он достал деньги, насчитал нужную сумму, протянул мне: – Две водки и закусить, окорочок там или сосисок…
Я попросил продавщицу выбрать самый маленький окорочок, и мне хватило в один из стаканов сто пятьдесят граммов. Расплатившись, оглянулся на сценариста, – он сидел задумавшись, глядя в стол; я сделал глоток из стаканчика, где сто пятьдесят. Сунул сдачу семьсот рублей в карман и вернулся к столу.
– Денег хватило как раз.
– Ну и нормально, – сценарист разорвал окорочок пополам; взялся за ближайший стаканчик, который я заботливо подвинул к нему. – Выпьем, парень, давай за нашу великую Родину! Мы ее никогда не оставим, мы ее за-щи-тим! Понял, нет?
– Давайте. Все будет нормально… Выплывем.
* * *
Уже были теплые дни, снег исчезал и на газонах оживала трава. Люди ходили в легкой одежде, казалось, так теперь и будет до осени. Но холода быстро вернулись, зелень стала водянистой и жухлой, в небе зависла одна бескрайняя туча, воздух наполнился влагой. Все сырое и стылое; Останкинская телебашня раздражающе сверкает, как новогодняя елка, среди мутного полумрака.
От многих я слышал, что от нее, от этой башни, исходят какие-то токи, вредная энергетика, и превращают жизнь в дерьмо. Я в это не верю. Раньше я жил далеко, на другом конце города, а жизнь и там мало чем отличалась от моей нынешней. Если честно – везде одинаково. И никто ничего не сможет переделать, бороться с судьбой невозможно, и достоин жалости тот, кто этого не понимает. Да и что в общем-то – я лично не жалуюсь, у меня все более-менее, если не заглядывать в прошлое и не думать о будущем.
Помню, в юности у меня было несколько принципов, которые я терял один за другим. Жизнь заставляла меня их терять. Сначала я удивлялся, пытался сопротивляться, страдал, а потом плюнул, и все пошло как по маслу; я стал удивляться другому – почему был таким дураком, держался в каких-то рамках, имел свои принципы и ограждал свою душу от грязных лап окружающего мира, старался не замараться. Оказалось, что жить можно намного легче. Все, что считал я хорошим, на деле оказалось глупым и лишним, правда оказалась ложью, а черное белым. Да, этакие метаморфозы для человечества не открытие, но меня они потрясли. Думаю, очень многих потрясают в определенном возрасте… Опускаясь во все новые и новые глубины жизни, я отбивался, барахтался и пытался всплыть, просил о пощаде, но невидимый, точнее слишком большой, всеобъемлющий, противник одерживал победу за победой.
Я завидовал тем, кто не захотел возиться и закончил все разом. Обычно лет в четырнадцать-пятнадцать человек встает на порог раскрытой двери символического самолета с парашютами на спине и груди, и вот сейчас у него есть секунды на решение: прыгнуть – прыгнуть во взрослость – или остаться. Остаться в тесном, душном, скучном нутре самолета, летящего неизвестно куда и неизвестно зачем; остаться в нем, успокоиться и не меняться. Не жить. Или же прыгнуть… Некоторые остаются, ложатся на лавки и навсегда замолкают, но большинство прыгает. Кое-кто не дергает за кольцо, у других парашюты не раскрываются, и им приходится кувыркаться в воздушных потоках, пытаться планировать, растопырив руки и ноги, но в конце концов все равно они сталкиваются с землей. Лишь немногим везет, – летят красиво, приземляются, не отбивая ног, в заранее выбранном месте, где-нибудь на живописной лужайке; это называется – хорошо прожитая жизнь.
Я прихожу к выводу, что мои парашюты неисправны, они раскрылись, но спутались, перехлестнулись. Я не особо сопротивляюсь уже, мне надоело возиться, я просто скольжу по струям жизни, как щепка в спиралях вихря: то вверх, то вниз, и обратно, и срок твердого приземления – лишь вопрос времени. А вихри, они непродолжительны.
Я нашел в себе достаточно глупости, чтобы прыгнуть, и вот плачу за это. Единственное, что меня радует: я понял, что я наделал и что меня ждет, а это, скажу без ложной скромности, совсем немаловажно. Это дано понять далеко и далеко не всем. Вот масса подобных мне невезунчиков, визжащая масса, дергающая кольца, рвущая парашютные сумки, проклинающая благополучно опускающихся, от нечего делать играющих с ветром, натягивая или отпуская стропы. А я понимаю, в отличие от остальных, что проклинать надо только себя.
Да, я терял свои принципы один за другим. Говорю «терял», потому что теперь в запасе их, кажется, не осталось. Мне нечем особенно дорожить, нечего защищать, охранять в себе и беречь, я все могу, я способен на все; единственное препятствие – трусость. Я знаю, что украсть – хорошо, но ведь могут поймать и наказать. Если бы не трусость, о! – жить было бы куда веселей.
Трусость же и заставляла меня терять, отказываться, бросать то, что мне было дорого и казалось необходимым и светлым. Она толкала меня с моей тропинки в общую колонну бредущих, она закрывала мне рот, чтоб не заорал, когда заорать было необходимо.
Вообще-то, все происходило постепенно, почти неприметно, и, раз шагнув за рамки, приходилось шагать все дальше и дальше. Во-первых, в общих чертах поняв, что такое окружающий мир, я в нем остался; во-вторых, я закончил школу, хотя класса с седьмого ее ненавидел, но сидел на уроках, делал вид, что учусь, получил зачем-то аттестат; потом, став солдатом, я не стал дезертиром, хотя два года в голове было только одно: «Бежать! Скорее отсюда бежать!» В-четвертых, я женился и, самое идиотское, скорее всего оставлю потомство – нового маленького кретина, который повторит мой никчемный жизненный путь… Таким образом, я шагаю по лесенке все дальше и дальше и уже без ужаса и интереса встречаю новый день, отправляюсь с утра на безграничный, вонючий оптово-розничный рынок человеческого общения.
Сейчас я иду по темной, но в то же время мутно-белесой улице, иду домой. Меня чуть покачивает, я скольжу по обледенелому асфальту, хлюпаю размокшим от соли снегом. У каждого встречного прохожего спрашиваю закурить, и если кто подает, кладу сигарету в карман, про запас. Штук десять уже так настрелял, а сигареты – основной признак терпимого существования.
Но сейчас мне очень плохо. Лучше уж вообще не начинать пить в тот день, когда к ночи не напиваешься. С мукой сознавать, что ты не допил, может сравниться лишь никотиновый голод. Почти всегда мучает или то, или другое. Всего бы навсего сейчас сто пятьдесят граммов, каких-то чуть больше полстакана, и было б нормально. Лечь, глубоко так вздохнуть и провалиться… Но сегодня не суждено, и я тащусь домой с единственной надеждой, что уж завтра-то заполнюсь водкой как положено.
Вот и дом, где живу. Двенадцатиэтажный, один из многих в ряду таких же вдоль улицы. В первое время, как сюда переехали, я постоянно путался в этих домах-близнецах, подолгу искал свой.
Я, помню, радовался домофону, растениям в горшочках в вестибюле подъезда, приветливым вахтершам, лифту, большому застекленному балкону, – в летнее время он как еще одна комната. Сама квартира – с просторной кухней, цивильной ванной, после убогого жилища моих родителей в сырой пятиэтажке, где санузел совмещенный, где на кухне вчетвером не уместишься… Да, я, помнится, радовался и удивлялся. Но это только сначала.
Квартира на глазах заросла пылью и хламом, стала невозможно тесной для нас с женой, серой, неудобной, привычной. Я прихожу сюда как в камеру пыток; не знаю точно, в чем именно заключается пытка, но каждая минута пребывания здесь настолько ужасна, мучительна, что хочется бежать, любыми путями смыться отсюда. Вот хорошо, когда я прихожу не помня как, засыпаю сразу же, а утром скорей выскакиваю на поиск похмелки; я ничего не вижу, ничего не чувствую, кроме самого себя, своей жажды. На квартиру и все остальное мне тогда наплевать. А вот такие вечера, какой ожидает сегодня… Я бы мог поверить, что и пить-то стал из-за вредных энергетических воздействий близкой Останкинской башни или еще чего-то, что скрыто в самой квартире, но пить я начал задолго до этого, и причина, скорее всего, кроется в другом.
Жена всегда с первого взгляда определяет, трезвый я или нет, с деньгами или пустой. Радую я ее редко, да и сама наша женитьба была необходимостью, а не праздником. Просто она, точнее ее родители, вовремя прихватили меня за глотку. Только не пойму, что они получили? Я не оправдываю их надежд быть хорошим мужем, тащить в дом жратву, а дни прожигать на какой-нибудь работенке. Нет, это не для меня, хотя, наверное, я, как всегда, сломаюсь. Рано или поздно, в одну сторону или в другую: или стану домашним животным, или конченым уксусом. Они надеются, что, когда (а уже скоро) появится ребенок, я изменюсь. Всем супружеским парам, готовым распасться, советуют: заведите ребенка, он укрепит вашу семью. Но это вряд ли, да и вряд ли наша семья распадется – нам просто-напросто, ни мне, ни ей, некуда идти. Родители связали нас, чтоб от нас освободиться. Обычное дело.
Раньше я не знал женщин так хорошо, как теперь. Я предпочитал общаться с ними час, ну два от силы (пока они не созревали для того, зачем я с ними общаюсь), а потом скорей перепихнуться и сваливать. Сваливать необходимо, иначе сцапают. И никогда нельзя возвращаться; я слышал, что преступники в основном и горят на том, что вернулись на место преступления. Я вернулся – и погорел.
Вообще-то, для кругозора это пошло мне на пользу. Женщины, оказалось, очень проблематичные и назойливые существа. Раньше я об этом догадывался, а теперь убедился. У них вечно задержки, боли, какие-то трубы, воспаления, тайм-пятна. И обо всем этом они любят рассказывать, требуя жалости, участия и заботы. Может, это мне только такая попалась… На это и остается теперь уповать. По крайней мере, после женитьбы захотелось попробовать каждую встречную. Все другие возбуждают меня куда сильнее жены. Хочется залезть им между ног, – вдруг там не так, как у нее, вдруг там что-нибудь необычное…
Семейная жизнь научила меня врать. Причин для вранья, честно признаться, не так уж и много, но оно льется само. Я вру по любому поводу, начиная с того, почему не вынес мусорное ведро, и кончая тем, почему пришел пьяный и сытый, а домой ничего не принес. Вру я, наверное, не из-за желания оправдаться, позаботиться, чтобы жена нервничала поменьше, а чтоб показать: вот какой я свин, от меня нечего ждать хорошего, надеяться на меня, о чем-то просить.
Да, она с первого взгляда определяет, принес я что-нибудь или нет. И сегодня, скользнув по мне глазами, она изменилась в лице (открывая дверь, она не знала, какое придать ему выражение, и в этот момент на нем больше было доброго и радостного, но затем, увы, ей пришлось сделать выражение обиженно-гордым). Она изменилась в лице и пошла в комнату, выставив вперед свой круглый, уродливый живот… Конечно, если б у меня из кармана торчали бананы или упаковка сосисок, она бы обняла меня, чмокнула в щеку, спросила, что спрашивают обыкновенно вечерами жены мужей: «Как день прошел, милый?» или там: «Ты скучал по мне? Знаешь, а я так скучала!..» Нет, увы, увы, ничего съестного у меня нет, я датый, и рот мой не расплывается в счастливой улыбке при ее виде… Я устало снимаю промокшие ботинки, посапывая, как большинство полупьяных. Спать не хочется. В комнате работает телевизор, жена коротает время, глядя в экран. Иногда, правда, она берется за книгу, она считает себя актрисой, и ей необходимо читать всякие пьесы, но телик – намного интересней, чем измаранные буковками страницы. Еще где-нибудь в электричке или в метро почитать, это понятно, но когда под рукой телевизор – глядеть в книгу просто полный идиотизм.
Телевизор – единственное, что нас объединяет. Мы сидим – я в кресле, жена обычно развалившись на диване, – и смотрим. Мы совершаем путешествия по лабиринтам каналов, спорим, что лучше выбрать, пытаемся угадать мелодию раньше участников, вспоминаем яркие моменты из фильмов; мы изучаем программу, ловим анонсы. С нетерпением ждем очередную серию «Беверли-Хиллз». Телевизор заставляет прекращать наши ссоры, притупляет обиды; он наш друг, незаменимый, безотказный помощник. Одно только плохо – дистанционка сломалась.
– Тебе тут звонили… надиктовали вот, – жена протягивает, не глядя на меня, лист бумаги.
– Переключи на «СТС», там «Крепкий орешек» скоро начнется, – отзываюсь, принимая бумажку.
– А здесь «От заката до рассвета».
– Да ну! Надоело же, наизусть уже знаем. Давай Уиллиса…
Жена кряхтя приподнялась, стала жать на кнопочку, выискивая «СТС». Я читал записку.
«Роман! Умерла Анна Савельевна! Завтра кремация. Почти никого для помощи не нашли. Если у тебя есть возможность, пожалуйста, приезжай завтра к десяти утра (можно чуть позже)». И адрес, где проживала Анна Савельевна, наша классная руководительница. И подпись: «Лена Борисова».
– Хм, – хмыкнул я. – А я думал, что она давно уже… Лет до восьмидесяти дожила, где-то…
– Что, поедешь? – холодно спросила жена.
Первой мыслью было, конечно, не ездить. Я никогда не участвовал в похоронных делах, но слышал, что это не очень-то приятная процедура… Но ведь после этого должны состояться поминки, выпивка, да и взглянуть на одноклассников интересно, я никого из них не видел лет пять. Мельком сталкивался кое с кем, и мы даже не решались сразу здороваться, гадая: он это или не он, она или просто похожа. Интересно поговорить теперь с кем-нибудь, с кем учился в одном классе, поразиться, как человек изменился…
– Надо съездить, помочь, – сделав вид, что погрустнел, отвечаю. – Мы ее последний класс были… Она меня после восьмого затащила дальше, а все исключать хотели… Надо бы проводить.
Жена вздохнула, поправила подушку под головой. Начинается фильм.
Да, женщины достойны жалости. Я слышал раньше и вижу теперь на примере своей, что они мучаются, вынашивая ребенка, рожая, испытывают боль, а потом многие годы, да что уж там – всю жизнь, трясутся над ним. Заботятся, кормят, боятся, стараются вывести в люди, а он, ребенок, как ни крути, почти что наверняка становится подонком и сволочью, а то и просто уголовным преступником… Жена очень хочет ребенка. Она даже курить бросила и подлечила зубы; она шьет какие-то распашонки, шапочки, перебирает пеленки, слюнявчики, носочки. Искренне-радостно вскрикивает, когда в животе у нее шевелится; гадает – мальчик или девочка (выяснять точно в консультации она почему-то не хочет). Иногда ей кажется, что она грубеет, и решает тогда: «Мальчик!» А потом делает открытие, что у нее пушок под носом посветлел, кожа стала белее – значит, девочка. Какие-то приметы насчет живота: если низкий – девочка, а если высокий – то мальчик… На третьем месяце у нее была угроза выкидыша и она легла на сохранение. Я ездил к ней раза три. Чего только я там не насмотрелся, не наслушался! Истерики абортниц, страх тех, у кого плод в неправильном положении; тихое отчаяние прооперированных, лишившихся детородных органов… Я приносил яблочки, сидел с женой в коридоре, мы молчали, прислушиваясь к разговорам соседей. Иногда растворялась дверь лифта и выскакивала очередная женщина с окровавленными ногами и вместе с врачом куда-то бежала, оставляя на полу красные лужицы. Следом уборщица замывала кровь. «Опять весь лифт изгадили! Нет, чтоб тряпкой заткнуть…» У жены тогда становилось такое лицо, что мне казалось – и из нее сейчас тоже что-нибудь брызнет…
Люди вообще-то очень слабы. Вот она смотрит в телевизор (а как бы и на меня) ненавидящим взглядом; я обидел ее, я унижаю ее своим невниманием, равнодушием. Я издеваюсь над ней, – так она думает, – где-то нажираюсь, заливаюсь водкой, а ее, беременную и больную, заставляю выкручиваться самой. Да, она сейчас ненавидит меня, но стоит сказать ей пару нежных слов, погладить по голове, пощекотать за ухом, и она растает, улыбнется, потянется ко мне, забудет и голод, и обиду, и дурноту беременности, всякие там токсикозы. Всему живому нужна ласка и доброе слово. Не кормите собаку, но только время от времени ласкайте ее, и она будет вам предана и благодарна сильнее, чем если б вы кормили ее и не ласкали. Еду легче раздобыть, чем ласку… Но я сохраняю между нами стену, так, в общем-то, легче, да и, по-моему, правильнее. Каждый должен быть поодиночке, если с кем-то соединишься, крепко прилипнешь к кому-то, скорее пойдешь ко дну. Барахтаться надо порознь.
Вечерами эти твари активизируются. Я не помню, как научно они называются, кажется, площицы. Это такие, навроде вшей… раньше я думал, что вши – это быстрые, проворные насекомые, а оказалось – поймать вшу очень легко. А может, это не вши. Они не в голове, а в других местах: на лобке, мошонке, под мышками, на груди. Вечером у них, я думаю, прием пищи, так как тело начинает зудеть, я чешусь, не нахожу себе места. Когда могу, закрываюсь в ванной или в клозете, спускаю трико, снимаю майку и вытаскиваю из волос, отлепляю от кожи этих маленьких паразитов.
Не знаю, когда они появились, с какой сиповки переползли на меня, но благодаря им я изучил некоторые места на себе до завидных подробностей. И так же благодаря этим площицам мы с женой находимся почти что на равных: у нее есть инородное тело внутри и на мне тоже что-то живет, размножается, питается мной. Интересно, что жена помалкивает об этих мандавошках, я, как обнаружил их, думал – и она вскоре их на себе почувствует и устроит мне бурный скандал. Но она молчит. Я при случае рассматриваю ее подмышки, лобок и пока не заметил ничего подозрительного.
Фильм виденный-перевиденный, а площицы не дают покоя. И как раз сегодня я в состоянии их повылавливать. Встаю с кресла, направляюсь в ванную. Пускаю воду, дескать, моюсь, раздеваюсь и начинаю копаться в волосах в паху, выворачиваю мошонку… Раньше я с трудом различал их, мне стоило больших усилий, чтобы их вытащить, а теперь я даже научился уничтожать висящие на волосах личинки. Личинки напоминают бутылочки и сочно щелкают на ногте… Это занятие увлекает, можно часами перебирать кожу, ворошить волоски, нащупывать площиц в районе заднего прохода, – глазами туда не проникнешь, приходится вот на ощупь.
Заодно я вспоминаю школьные годы и Анну Савельевну. Я кончил школу девять лет назад. Как раз последний год, когда была десятилетка и однообразная общеобразовательная программа. Это потом стали экспериментировать: с шести лет, лицеи, гимназии всякие, одиннадцатилетки без какого-то (четвертого, кажется) класса. А у нас все было нормально… Анна Савельевна взяла нас после третьего; она уже тогда была старухой, но еще не совсем. Она вела русский язык и литературу. Наверное, неплохо вела, если бы мы ее слушали и хотели понять. Мы не очень-то и шумели на уроках, просто занимались своими делами – рисовали в тетрадках, переписывали друг у друга домашние по химии, перекидывались записками, играли в морской бой, а потом в картишки. Иногда Анна Савельевна срывалась и начинала доказывать нам, что литература – это необходимо, что читать – это, дескать, как воздух; что мы «вряд ли еще где-нибудь услышим и найдем» то, о чем она рассказывает. Она приходила в отчаяние, когда мы бубнили наизусть стихи; показывала, как надо, и мне становилось смешно… Говорили, что она из дворянского рода, – но вряд ли, если судить по отчеству, – а фамилия у нее была Зюзина. «Зюзя», я потом узнал, это типа алкаша что-то… Она сначала казалась нам высокой, сухой и тонкой, гордой, а к окончанию школы мы видели ее согнутой, маленькой, жалкой. Выпустив нас, она сразу ушла на пенсию…
О, какой крупный экземпляр попался! Вроде я уже проверил этот участок… Кладу площицу на ноготь большого пальца, на спину. Вошь сначала лежит смирно, потом начинает двигать лапками, они похожи на весла… Другим ногтем я придавливаю ее. Щелкнуло, осталась капелька бледно-розовой жидкости и пустая беловатая оболочка. Шабаш, погуляла…
Мне представляется тот район города, куда завтра надо ехать. Это возле Павелецкого вокзала – Дербеневская улица, Кожевническая, Павелецкая набережная… Я там не был несколько лет, родители в предпоследний год социализма сумели отвернуть трехкомнатную сносную квартиру на Каширском шоссе (я как раз в армии был), теперь разменяли ее, чтобы я жил с женой отдельно; ее родители купили мебель для нас. В общем, в местах, где прошло детство, мне делать нечего и вспоминаю я о них без особой грусти. Район невеселый. Стоит отойти от Ленинской площади, и начинаются заводики, склады, «Государственная штемпельно– граверная фабрика», «Мосхладкомбинат № 3», «Дрожжевой завод», беспрерывно испускающий шипение бьющего из трубы пара. Вдоль набережной тянется труба теплотрассы, похожая на жирную стальную змею, местами поднимающую свое тело, образуя арки для проезда автомобилей. Улицы пусты, серы, – хорошо снимать фильмы о прошлом… Анна Савельевна жила в двухэтажном домике, окруженном ржавыми гаражами; это… да, это на Летниковской. Мы однажды ходили к ней, когда она долго болела. Однокомнатная сумрачная квартирка, старинные вещи, почерневшие кружева на этажерке, комоде, буфете. Ее кровать была окружена с трех сторон книжными стеллажами… Вот завтра еще раз придется там побывать… Она, помню, тогда так радостно нам улыбалась, своему седьмому «б»; девочки приготовили чай, мы принесли торт, и каждому досталось по маленькому кусочку. Некоторые спрашивали о здоровье, Анна Савельевна крепилась, развлекала нас какими-то рассказами из жизни писателей. Кажется, о Некрасове, об этом… о Кольцове, как он лежал один в проходной комнате и задыхался от сигаретного дыма, а вокруг пьянствовали и веселились соседи. Радовалась, что мы пришли к ней, значит, она не зря живет, учит нас, прививает прекрасное и вечное. Лена Борисова, отличница, читала стихи с выражением. А теперь Анна Савельевна умерла и больше ничего не чувствует и не видит. Интересно, как она жила эти годы, вспоминал о ней кто-нибудь, навещал? Наверное, все, как и я, думали, что она давно умерла. Кое-кто, может, придет, чтоб проводить ее в печь крематория…
Жена уснула, на экране рябь – «СТС» закончил свои передачи. Я выключил телевизор, потормошил жену, чтоб подвинулась, и лег рядом.
Утром она подобрела: поджарила картошечки, дала три тысячи на метро, даже пыталась пообщаться. Конечно, ей приятна мысль, что я сейчас пойду не черт знает куда, чтобы вернуться вечером на рогах, а готовлюсь исполнить свой долг – проводить в последний путь классную руководительницу.
– Когда тебя ждать? – спросила напоследок.
– Не знаю, как получится там. Если что, позвоню.
– Пока.
– Пока.
Спускаюсь по лестнице, а не на лифте. Около мусоропроводов стоят бутылки, чаще всего это пузатенькие из-под иностранного пива или винные, но иногда можно встретить старые верные «чебурашки» и ценящиеся «очаковки» 0,33. И сегодня, проверив подъезд, я нашел кое-что подходящее, положил бутылки в пакет. Я знаю место поблизости, где их принимают.
С неба крупными хлопьями падает сырой, липкий снег. В конце марта это особенно неприятно, ведь все уже готово к пробуждению и теплу, а приходится терпеть зиму. Люди идут, согнувшись, месят соленую кашу на тротуарах; из-под колес автомобилей вылетают грязные комки, приходится сторониться дороги.
Возле метро есть дешевый пивной ларек. Это редкость теперь, ведь всё стараются сделать цветастым и аппетитным, а здесь пиво подают в стеклянных банках и изредка в кружках с отбитыми ручками, оно явно разбавленное. Зато дешевое. Перед работой и после нее мужчины выпивают по пол-литра, без разницы, какая погода, и если ларек закроют, я думаю, они очень расстроются, потеряют очередную радость в жизни. А к соседнему павильону «Холстен», где пиво крепкое и тягучее и стоит всего раза в два с половиной дороже, почему-то не подходят. Там обитает другой слой населения.
Перед тем как совершить длительную поездку от «Дмитровской» до «Павелецкой», необходимо глотнуть пивка. Знакомый продавец-хачик принимает у меня «чебурашки» по триста рэ, две «очаковки» – по четыреста. Получилось, со вчерашней мелочью, на поллитровую кружку. Я курю, потихоньку отхлебываю из кружки, любуюсь, как другие наскоро оглушают полстакана водки, запивают пивом и, пободревшие, спешат по делам… Ничего, и я, может быть, волью сегодня в себя стаканчик-другой. Не зря же тащусь на эти похороны… Время от времени встряхиваюсь, с меня опадают на тротуар куски тяжелого снега. Конечно, таскаться по городу в такую погоду не очень-то в кайф.
В вагоне душно и скучно. Людей битком, все сырые, вонючие, хмурые. Остается только размышлять, это как-то отвлекает, съедает время… Например, – когда-то я видел по телику передачу, там один чудак-исследователь доказывал, что наше общество развивается по зэковским законам. Дескать, порядки, язык, взаимоотношения между людьми – все как в колониях строгого режима. Я, помню, тогда воспринял это как очередную херню решившего сделать себе имя придурка. Конечно, какие-то черты есть, но он-то говорил о глобальном переходе зоновского мира в общий наш повседневный быт, в культуру и т. д. А теперь (правда, не побывав на зоне, мне сравнивать трудно) я с ним согласен. У меня такое впечатление, что объявили амнистию и разрешили всем делать, что они захотят, или – отпустили на волю рабов. Преступники продолжили совершать свои преступления, но законы изменились, многих статей уже нет; а рабы бродят и не знают, что им делать со своей свободой. Я тоже чувствую себя таким вот свободным, точнее – освобожденным, и эта свобода пугает меня, она тяжелее, чем кандалы и плеть хозяина. Я такой же мелкий пакостник, воришка, каким должен быть раб, и так же труслив и беспомощен… Все мои предки, видимо, из поколения в поколение были людишками смирными, забитыми, исполнительными; они ворчали, тихонько злились и вкалывали. А мне дали вольную. И вот приходится теперь бродить, кружить по жизни праздным, голодным, потерянным и мечтать, чтоб меня сделали снова чьим-нибудь рабом, заставили что-нибудь делать. Хочется знать наверняка, где мне спать, где оправляться, быть уверенным, что вечером меня уложат, а утром поднимут; что вовремя накормят, оденут; я буду выполнять приказы и не ломать голову, как же мне жить. Обо мне подумает хозяин… А сейчас?.. Я не знаю, куда направиться из четырех сторон света, я боюсь отойти далеко от развалин барака, где жили мои предки-рабы; вдруг меня свистнут, отведут и поставят к занятию, а потом сытно покормят и укажут на подстилку… Я слаб и глуп, но мне многое хочется. Вокруг столько красивого, заманчивого, вкусного. Время от времени я подворовываю, но по мелочам и когда знаю, что не последует наказания. Мне в общем-то без разницы, что стащить. Рулончик туалетной бумаги из «Макдоналдса», кассету со все равно какой музыкой из гостей, солонку в каком-нибудь кафе… И вся вот эта полусонная масса в вагоне, торговцы на рынках, покупатели с тощими кошельками, приставучие дилеры на тротуарах, всовывающие «подарок от фирмы», распространители рекламы, – все это такие же, как и я; просто некоторым удалось пристроиться, найти хозяев, хоть на некоторое время внутренне успокоиться. Их свистнули… Да, существуют «мужики», «шестерки», «урки», а им нужен «пахан», который бы ими руководил, использовал их и заботился. «Ебет и кормит» – есть поговорка.
С «Чеховской» перехожу на «Тверскую». Теперь уже скоро, осталось три станции. О предстоящем процессе похорон стараюсь не думать – что будет, то будет. По крайней мере, если что, можно в любой момент слинять.
В новом вагоне приходят новые мысли. Я смотрю на наклеенные на стене красочные рекламки и представляю жену, как она лежит сейчас на диване животом вверх и читает какую-нибудь пьеску. Это ее обычное дневное занятие, исключая, естественно, перебирания и пошива одежды для будущего ребенка… Жена считает себя актрисой. Она рассказывала, что с детства мечтала о театре, о сцене и всю жизнь движется к цели – стать большой актрисой. Движется в меру сил и способностей, конечно. Поступала раз по пять в Щуку и ГИТИС – не поступила. Занималась в каких-то студиях, которые создают неудачливые, полусумасшедшие режиссеры; кочевала по этим студиям в поисках лучшей, но все они похожи одна на другую, все «экспериментальные», то есть ставят какую-нибудь дрянь или превращают в дрянь сносное. Ее крупнейшим достижением явилось участие в спектакле в известном, но не особенно популярном театре, что на Тверской, в двух минутах ходьбы от Кремля. Правда, спектакль шел всего несколько раз, и то на «свободной сцене» (практически та же студия, но в здании известного театра). Я сходил на премьеру. Такой маленький-премаленький зальчик, мест на тридцать, заполненный друзьями и родственниками исполнителей. Какая-то забытая пьеса забытого Лорки. Жена играла служанку, почти бессловесную, вечно перепуганную, наблюдающую гибель аристократической семьи, в которой служит. Накрывает на стол, убирает со стола, вздыхает, покачивает головой… А в дни репетиций она так переживала, корчилась перед зеркалом, трепетала, нервничала! И все ради какой-то второстепенной ролишки. Но она была счастлива, ее там похвалил главреж, и она замечтала о том, что ее пригласят в основную труппу. Но тут ее прихватила беременность. А девяносто процентов: женщина, родив ребенка, сжигает за собой все мосты, ей не светит большее, чем быть домохозяйкой или, в лучшем случае, продавщицей в близлежащей к дому палатке.
– Спасибо, Рома, спасибо, что приехал. Сейчас, слава богу, люди нашлись, из школы звонили, м-м, обещали помочь, она ведь там сорок лет проработала… Районо тоже подключилось… А вчера, о-ох, мы совсем уж отчаялись. Ни денег, никого…
Пахло каким-то варевом и застоявшимся духом немощной одинокой старухи. Квартира оказалась еще меньше, чем мне представлялось в воспоминаниях. Было полутемно, зеркала завешены черными тряпками.
Говорят, что голос у женщин с годами почти не меняется, но у Лены изменился он совершенно. Я помню его, уверенно-переливающийся, неспешно и четко произносящий слова; он торжествовал над тупостью одноклассников, когда Лена отвечала учителю. А теперь голос стал сбивчивым, мятым, наполненным вздохами и междометиями, каким-то бледным, пустым.
– Вот Витю жду сижу, – провожая меня на кухню, объясняла она. – Витю Буркова… У него машина, я до него дозвонилась вчера. Ох, надо в морг ехать, одежду везти. В три часа кремация уже, а его нет до сих пор…
Я сел к столу, сочувственно кивал. Лена помешивала в кастрюле. Мы были в квартире одни.
– Поминки школа на себя взяла, девчонки там сейчас, в столовой готовят, а я здесь решила сварить немного… на всякий случай. Ты покушать не хочешь?
– Нет, спасибо, – ответил я. – Вот покурить бы… Здесь можно?
– Кури, кури. – Лена поставила на стол грязное блюдце для пепла, взглянула на часы. – Уже одиннадцать. Знаешь, я сейчас домой сбегаю, у меня там Сашка один, сын. Посмотрю, как он, покормлю хоть… Так, здесь готово… Сбегаю, ладно?
– Конечно, гм…
Она тоже мыкнула, пошла в прихожую одеваться. Оттуда, спохватившись, спросила:
– Да, извини, как ты живешь-то? Совсем голова кругом…
– Нормально. А ты?
– Да тоже, вроде бы. Ну, я на десять минут буквально…
– Угу, беги.
Даже и не скажешь, что у нас с ней когда-то чуть было не возникла любовь. Мы учились вместе все десять классов, Лена считалась самой лучшей у нас, умной, симпатичной. После окончания школы, в тот же год, осенью, меня забирали в армию. А Лена не поступила в университет и как раз рассталась со своим парнем, с которым долго дружила. И мы случайно столкнулись на улице, разговорились, выпили аперитива в кафе, пошли к ней и перепихнулись. Она хотела этого, наверное, из-за какого-то отчаяния и обиды к этому парню, к тем, кто ее в университет не принял, и специально выбрала одного из самых малосимпатичных своих знакомых, то есть – меня. А я, конечно, не отказался. Еще бы! Класса с шестого я хотел ее, наблюдал за ней, любовался на физкультуре, дрочил, думая о ней, а тут выпал случай реально ее поиметь.
Потом, в первые месяцы в армии, я писал ей чуть ли не каждый день, я просил, умолял ее отвечать на мои письма. Случайная попилка готова была разрастись во мне до любви… Мне казалось, что только Лена и ее письма спасут меня, помогут выжить в армейском аду. Но она не отвечала, и я выжил так, без ее помощи.
Вообще, человек совершает столько глупых поступков, тратит столько сил на напрасные переживания, пока не научится правильно вести себя в жизни. Я тоже много надурил, конечно, а потом только понял: равнодушие – вот что в состоянии уберечь, во что нужно прятаться и через его толстую броню смотреть на окружающий мир. Равнодушие спасает от безумия, оно помогает человеку остаться человеком… Сразу и не придумаю, что может меня вывести из себя, огорчить, озаботить. Конечно, неприятно, если действительно водку запретят с первого июля продавать в ларьках (я знаю ларьки, где ее можно купить всего за десять пятьсот), но ведь столько раз происходило нечто подобное и находились новые точки, новые варианты; слегка расстроит меня и повышение цен на проезд в метро, или если поймают ребята-контролеры в троллейбусе – я не заплачу штраф и мне в итоге стукнут по дыне. Если в вытрезвителе окажусь, тоже как-нибудь переживу, не впервой; если телевизор сломается, станет немного скучней. С родителями если случится что… ну я живу без них сейчас, их и сейчас как бы нет. Вот жена ждет ребенка, и я должен или радоваться, что скоро появится на свет моя дочь или мой сын, мое продолжение, или мучиться, что вот будет у нас в квартире красноватый, орущий комок, мешающий и раздражающий. Но мне как-то все равно, пусть жена делает с ним, что захочет: возится, наряжает, целует или придушит… Мне ни хорошо и ни плохо. Нормально. У меня каждый день есть задача (она же максимум и она же минимум) – выпить по возможности больше, поесть желательно плотно, не упустить шанс повеселиться, подобрать, что плохо лежит. Вот и все, в общем-то. Не так уж и мало. Вчера день был не особенно удачный, я надеюсь, что сегодня будет получше. Я, в общем-то, оптимист…
Громко и неожиданно зазвонил телефон. Я вскочил, прошел в комнату. Снял трубку.
– Алло?
Издалека, словно из люка канализации, закричал осипший женский голос:
– Алё! Алё!
– Да, – ответил я.
– Алё! Вы меня слышите?
– Да!
– Я, я дочь Анны Савельевны! Алё?!
– Да! Слушаю!
– Похороны сегодня?
– Сегодня кремация. В три часа.
– Алё?! Не слышу! Алё?!
– Сегодня кремация! – я тоже вынужден закричать. – В три часа!
– Я ее дочь! Я звоню из Прокопьевска! Утром получила телеграмму! Алё?!
– Да, слышу!
– На самолет нет денег! Я не могу найти! Я не могу прилететь!! Алё?!
– Да, да, я слышу! Слы-шу!
Голос стал плакать.
– Когда это случилось?! Причина смерти?! Алё?! Сообщите!.. Как с похоронами?!
– Все нормально! Школа поможет! – так же отрывисто выкрикивал я. – Сегодня кремация! А похороны потом! Все нормально!
– Ее брат!.. Михаил Савельевич! Адрес! Запишите адрес! Алё?! Адрес брата!
– Да, диктуйте! – Я нашел на подзеркальнике огрызок карандаша для бровей, измятую салфетку. – Алло, диктуйте!
Она продиктовала адрес брата.
– А телефон? У него есть телефон?
– Что? Не слышу! Алё?
– У него есть те-ле-фон?!
– Да, да! Пишите!..
Я записал.
– Больше у нее никого! Сообщите ему! Если жив! Алё?! – И голос захлебнулся в слезах и помехах связи.
Я положил трубку.
Сейчас вернется Лена, пусть сообщает брату сама. Если жив еще… Я сунул салфетку под диск телефона, чтоб не затерялся. Вернулся на кухню.
Только закурил – в дверь застучали. Черт, становится суетливо.
На пороге стоял невысокий, квадратный парень; короткая стрижка скрашивала две внушительные залысины.
– А-а, Сэн! – парень, входя, крепко хлопнул меня по плечу. – Здорово! Что, приехал? А Ленка где?
Оказалось, это и есть Витя Бурков. Н-да, изменился… Он всегда казался мне туповатым, хотя и учился в основном на четверки; у него мама – заведующая детсадом, была и в школе председательницей родительского комитета. Очень крепкая тетя, она держала сына Витю в ежовых рукавицах, стремясь сделать из него человека, но Витя не оправдал ее надежд – не стал получать высшего образования, а кое-как купив «жигуленок», превратился в простого извозчика. Что ж, он с детства имел склонность к технике, и это ему пригодилось.
– Как дела, Сэн? – Витя снова хлопнул меня и засмеялся, как запыхавшаяся собака.
– Нормально, – пожал я плечами и, не в силах больше терпеть себя трезвым, спросил: – Слушай, а выпить ничего нет? Может, по чуть– чуть… помянем?
Витя по-хозяйски прошел на кухню, открыл холодильник.
– Я-то за рулем. Какую желаешь? «Привет», «Ферейн»? Я вчера закупил как раз.
– «Привет».
Он протянул мне бутылку:
– Пей!
Он был отчего-то горд и уверен в себе, словно человек, все имеющий и стоящий так крепко, что никакие силы не собьют его с ног. По крайней мере многие себе это внушают, хотя на самом деле ползают на карачках и получают пинки по ребрам, по морде, по жопе; уж он-то натерпелся от своих пассажиров, и поэтому при любом удобном случае старается показать себя уверенным, добившимся всего, чего желал.
– Не будешь? – я налил в одну чашку и взглянул на Витю, ради приличия приглашая его выпить тоже.
– Ну, капелюшечку, чисто формально, – согласился он, – за встречу… Да-а, давненько ж мы не видались, – добавил с грустинкой.
– Давненько.
– За встречу!
Чокнулись.
– Давай.
Выпили. Горячая струйка вбежала, моментально размягчая что-то во мне, согревая. Голове еще тяжело и тоскливо, а тело наполнилось, совсем немножко, но уже ощутимо, силой, бодростью. Захотелось схватить бутылку и побежать куда-нибудь без оглядки, спрятаться, опустошить ее залпом и лечь. Но я пересилил это желание ради большего…
Пришла Лена, все такая же перепуганная, озабоченная, в руке белая прозрачная тряпочка, а на голове черная, повязанная как платок.
– Витя, ну слава богу! Надо ехать скорей. Еще цветов купить… Так, вот сумка с одеждой. Поехали!..
Я торопливо выпил граммов семьдесят и последовал за Витей на улицу, Лена что-то еще хлопотала в квартирке.
– Э, да! – вспомнил я, вернулся. – Лен, там дочь ее звонила, Анны Савельевны. Она прилететь не может, денег вроде нет. Дала телефон ее брата, просила ему сообщить. Вон бумажка, на телефоне.
– Да, конечно, надо сообщить. – Лена пошла звонить.
Я еще приложился к бутылке. Поколебался, взять ли ее с собой или нет; но придется ведь таскать гроб, мешать будет… Черт… Обидно… Еще раз хлебнул…
– Рома, ты здесь? Все, позвонила. Поехали! Он на кремацию придет, сказал… Заплакал старик – как дура, сразу ляпнула, без подготовки…
Путь человеческий можно проследить по больничным отделениям. Начинаешь с родильного, а кончаешь – через терапевтическое, стоматологическое, хирургическое – патологоанатомическим… Параллельно с просто жизнью – элементарным вдыханием-выдыханием и настолько обычными делами, что делами они и не кажутся, – есть еще много других жизней; я с ними сталкиваюсь редко, и от того тем более вижу их мощь. Например, беспрерывная, буйная, круглосуточная, потусторонняя жизнь вытрезвителя; жизнь всех этих Тимирязевских, вьетнамских, Москворецких рынков со своими тайнами и законами; жизнь гинекологии, жизнь улицы Миклухо-Маклая… Теперь вот пришло время заглянуть, прикоснуться к жизни и обычаям морга.
Обыкновенный в общем-то день, и если бы не знать, что уже весна должна быть вовсю, а валит снег и достаточно холодно, то день можно назвать совсем рядовым. И для работников морга он рядовой, обыкновенный день. Но для нас, приехавших за телом, которое нужно забрать и отвезти в крематорий, день, конечно же, неординарный. Мы касаемся другой жизни, другого мира, нам диктуют свои условия…
– Как, два миллиона?! – пугается Лена. – Нам сказали, что косметическое это… – Она не находит слов, вместо слов показывает на свое лицо, будто мажет его, – бесплатно делают.
Крупный, сытый парень в небрежно застегнутом белом халате лениво и устало морщится:
– Бесплатно, так и забирайте так. Сами и одевайте. Давай, заходи.
Он приоткрыл дверь, приглашая нас внутрь. Мы мнемся на крыльце со своими розочками в руках. Ясно, никто из нас не войдет туда, чтоб хотя бы взглянуть на голый труп, не то что одевать его, подкрашивать.
– Ну, семьсот, а? – просит жалобно Лена.
Парень в ответ снова показал внутрь морга.
– Слушай, – деловито, но с оттенком просительности обратился к нему Витя, – давай на восьмистах сойдемся. Понимаешь, мы ей не родные, она наша учительница была. Родных нет. Понимаешь, вот районо выдало пятисотку на все расходы…
– Я все понимаю, – сухо отозвался парень, закурил, встряхнулся, сбрасывая с головы шапочку снега. – Лимон двести. Последнее слово.
Витя с Леной скорбно переглянулись.
– Хорошо, – сказал Витя, – лимон двести.
Парень пошел внутрь. Бросил из-за двери:
– Полчаса погуляйте.
Полчаса сидели в машине. Витя крыл матом «мясника», подсчитывал, сколько они заколачивают, если в день обслуживают хотя бы пять тел, да хотя бы сдирают по полторы тысячи и делят на четверых, да какая плюс к тому у них официальная зарплата. Лена тоже возмущалась: тут, дескать, ребенок в пять лет в младенческой кроватке спит, на другую денег нет, негде ее даже поставить, если б и появилась, – одна комната и та девять метров квадратных; бьешься-бьешься, а тут… нашли тепленькое местечко!.. Живодеры!.. Меня от выпитой без закуски и запивки водки помучивала изжога, хотелось съесть чего-нибудь жирного – беляшик или чебурек, а потом еще выпить. Мечталось о поминках, я представлял, как сейчас в школьной столовой готовят всякие вкусности, расставляют столы, несут из дома скатерти, посуду… Но чтобы насладиться жрачкой и выпивкой, нужно поработать, отдать виновнице застолья последний долг, проводить ее в мир иной.
– Полчаса прошло, – объявил Витя, перестав материться, туша в пепельнице окурок. – Пошли, что ли?
– Что-то ребят нет…
– Может, там уже ждут. Снег-то, ни хрена не видать.
– Да-а, – Лена вздохнула, – совсем зима…
Наша машина стояла у ворот больницы, а морг прятался во дворе за многоэтажным корпусом, где борются за жизнь, лежат под капельницей, ждут от родных дефицитных лекарств. Никому не хочется умереть, по крайней мере из-за того хотя бы, чтоб не вводить родных в крупные расходы на похороны.
Да, ребята пришли. Двое смутно знакомых мне, похожих один на другого; кажется, они учились класса на два старше. Витя их где-то нашел, попросил помочь потаскать гроб, завлекал, скорей всего, последующей выпивкой… Еще появились около морга другие люди – родственники другого покойного; видимо, подходила их очередь забирать тело. Здесь тоже все расписано по часам, есть свой распорядок.
Тот же парень, с которым торговались, растворил перед нами двери. За ними оказался обтянутый черной материей зал, пустой и холодный; лишь на бетонном возвышении, по центру, стоял гроб.
– Принимайте.
Мы вошли. Лена первой положила цветы на покойную, затем мы с Витей. Постояли минуты две, глядя в лицо Анны Савельевны… Совсем не похожа на ту властную, умную, гордую учительницу. Теперь просто молчаливая, равнодушная мумия; вместе с ней умерли все ее знания, увлечения, умение разговаривать на нескольких языках, «Евгений Онегин» наизусть, соображения какие-то. Прожила вот – и все. Не подключилась бы Лена, не собрала бы нас, так и лежала бы Анна Савельевна в холодильнике этого морга, может, когда-нибудь и похоронили бы, как беспризорную, чтоб не мешалась.
– Что, принимайте, некогда, – поторопил парень в халате.
Лена очнулась от размышлений, раскрыла сумочку, достала заранее отсчитанные деньги.
У морга уже стоял «ПАЗ», задняя его дверца открыта, мотор работает, из выхлопной трубы капает бензин… Мы вчетвером подняли гроб, понесли было к автобусу.
– Э, а крышку!
Снова поставили его на бетонное возвышение, накрыли крышкой. Погрузкой в автобус руководил шофер.
– Так, на ролики ставим, до упора закатываем. Хорошо. Все, закрываем. – Он с силой захлопнул дверцу и пошел в кабину.
Лена решила ехать в автобусе, затащила с собой и меня.
Подоткнув бордовую шторку, я смотрел на улицу. Там ездили машины, кучки пешеходов нетерпеливо ждали зеленого огонька светофора; все спешило, тряслось, вертелось. Все хотят успеть, но никто никуда не успевает… Да, рядом с гробом должны приходить глобальные мысли. О смысле жизни, о значении смерти… Я взглянул на Лену, она сидела почти напротив меня, ее лицо изображало грусть утраты. Наверное, она вспоминала утраченные школьные годы, когда была такой примерной и умной; Анна Савельевна ее частенько хвалила, выделяла, готовила на литературные олимпиады. Ну и что в итоге? На хрена ей… что там мы изучали?.. «Война и мир» ей чем-нибудь помог? Чему– нибудь реально ее научил? Никто и ничто не может никого научить, как жить надо. Каждый бредет поодиночке на ощупь, спотыкается, накалывается на сучки, падает в ямы, выбирается, перевязывает раны и снова бредет. И не надо скулить – сам виноват, что пошел, теперь уж будь добр – мучайся, пока не свалишься в яму поглубже и не сломаешь шею.
Мой папа, старый грибник, учил меня: «Найдешь гриб, не беги дальше, а оглядись вокруг, обязательно должны быть еще. Никогда не спеши, будь наблюдательным и осторожным». Вот так вот он и прожил и сейчас живет, как грибы собирает. И он кое-что поимел от жизни, но, конечно, жизнь во сто раз больше поимела его. Эти фотографии из семейного альбома – безжалостные документы мутации человека. Не то что он просто старится, нет – он сгибается, он становится перепуганным, трясущимся, желчным комочком, обиженным и бессильным. Как ни крути, а жизнь в итоге показывает вам язык, она уходит, чужая, молодая и свежая, находит новую жертву для своей шутки-обмана, безвыигрышной лотереи, и вы, задыхаясь, тянете к ней холодеющие ручки, до последней секунды на что-то надеясь.
Автобус качнуло и крышка гроба чуть сдвинулась, и мне показалось, что Анна Савельевна хочет выбраться. Лена вздрогнула и тоже с испугом и интересом смотрела на гроб. Я нагнулся, поправил крышку.
Возле подъезда к крематорию вереница «ПАЗов» с надписями на боках «Ритуал». Каждый автобус привез мертвеца, чтобы его вскоре сжечь. Измученные родственники и друзья покойных толкутся на снегу, ожидая очереди. На лицах читается: «Ах, ну скорей бы кончилось!» Мне тоже близка эта мысль.
К Лене подошел похоронный агент – молодой человек, прилично одетый, в очках, больше смахивающий на компьютерщика, чем на бизнесмена от смерти. Они – агент и Лена – стали разбираться в бумагах, а затем пошли в крематорий, с ними и Витя, приехавший раньше нас.
– Закурить не будет? – спросил я у тех ребят, что помогали в морге.
Мне дали сигарету, я прикурил у них же и стоял рядом, не зная, что бы сказать; они тоже молчали. Вот будет прикольно, если никто больше не придет проводить Анну Савельевну. Хе-хе! Трое полуалкашей, бывшая отличница Лена и извозчик Витя Бурков. Поистине символичный набор.
– Ну, все оформили, – вернулась Лена. – Что-то никого наших… – она взглянула на часы, – а уже половина третьего, мы следующие.
В это время из соседнего автобуса вытаскивали гроб, спорили, вносить ли его закрытым или крышку лучше все-таки снять…
Здание крематория черное и громоздкое, рядом статуя – выбитые из камня уродцы с перекошенными от страха лицами. А вокруг, засыпанное снегом, прячется среди тоже заснеженных елей кладбище. В стенах – ячейки с урнами… Я как-то смотрел по телику передачу, и там рассказывали, что раньше сжигали только наиболее опасных преступников, ведьм, колдунов, сами себя уничтожали в огне разные религиозные фанатики; огонь, считалось, насовсем кончает с человеком: ни душе, ни тем более телу не спастись, не воскреснуть. Я не верю в душу и подобные дела, но большинство, замечаю, верит. И тем не менее они так спокойно относятся к тому, что их близких превращают в кучку пепла. Интересно… И как там это все происходит? Не может быть, чтоб сжигали в отдельности каждый гроб, да и зачем гроб-то сжигать? Он дорого стоит: обит тканями, кружева на нем, внутри какие-то подушечки. Нет, наверное, гробы составляют рядком, а вечером, когда накопятся, трупы вынимают, бросают в топку, а гробы вновь поступают в продажу. Потом пепел делят поровну, рассыпают в урны и вручают родственникам: «Вот, пожалуйста, получите и делайте теперь, что хотите!» Можно в стену замуровать, или закопать, или на сервант поставить и скорбеть… Конечно, здесь экономия и удобство прежде всего: если бы всех хоронить телами, то какие бы территории понадобились! В год, наверное, тысяч по сто пятьдесят-то в Москве умирает, и каждому надо могилу с оградой, это метров пять квадратных. Ну, поменьше немного… Конечно, кремация, эти колумбарии – выход.
Приехали представители районо на «Волге», несколько учеников Анны Савельевны, приковылял и старик – ее брат. Все они каким-то чутьем подходили к нашей кучке, здоровались, вздыхали, затем уточняли, правильно ли пришли. «Да, да, – уныло кивала Лена, – Анна Савельевна…» – «Да-а…» Некоторые были с недорогими букетиками.
Снова появился агент, он торопливо подошел к Лене, что-то ей негромко сказал, а потом сообщил всем:
– Пора вносить!
Водитель, повеселев, открыл заднюю дверцу, послал двух парней в автобус выталкивать гроб. Я и Витя принимали снаружи.
– Так, осторожно, ступеньки, – командовал агент. – Дверь, осторожненько! Вносим, так…
Мы с Витей несли гроб спереди, агент мельтешил перед нами, в руках у него были документы. В чем заключается его роль, интересно? Когда мы торговались в морге, его не было, – да у него, конечно, есть дела поважнее.
Полутемное, большое с высоченным потолком, холодное помещение. На противоположной стороне от входа – иконы, по стене развешены венки, черные ленты. Ажурное ограждение, нечто вроде подиума с надгробной мраморной плитой по центру.
Тут уже руководство на себя приняла закутанная в толстый платок, в полушубке, намерзшаяся женщина средних лет. Она указала нам на стоящую посреди помещения кушетку (или что-то типа нее, для гроба), мягко сказала:
– Вот сюда ставьте, пожалуйста. – И добавила, повысив голос, для всей нашей процессии: – Извините, церемония прощания строго по времени… Снимайте крышечку, – тише, уже непосредственно нам, кто нес гроб, – поставьте широкой стороной вниз, вон туда.
Мы с Витей отнесли крышку на указанное место, поставили, как и велела женщина, на какую-то подстилку. В это время гроб на кушетке подкатили к подиуму… Человек пятнадцать все-таки набралось. Я узнал и директора школы, двух старых учительниц; были и из районо, а в основном люди лет под тридцать – ученики. Брат Анны Савельевны стоял ближе всех к покойной, смотрел на ее лицо; он был высок и строен, на вид не очень старый, но, казалось, в любой момент от слабого толчка готовый рассыпаться, как трухлявый, прикрывающий корой свою труху, ствол дерева. Я в детстве любил, оказавшись в лесу, с разбегу опрокидывать такие гнилушки, пиная их или врезаясь в них плечом. И этот старик такой же – со стороны выглядел еще более-менее, а на самом деле… А может, внезапное известие о смерти сестры, вся эта страшная для него, неожиданная церемония так его подкосили и он еще сумеет оправиться…
Зазвучала органная музыка, что-то грустное и осеннее, и рядом с иконами, насколько я разбираюсь – православными, она воспринималась словно непонятное издевательство. Понравилось бы это самой Анне Савельевне? Я помню, она была убежденной коммунисткой, хотя, по слухам, и из дворян; а каково мусульманам здесь, иудеям, буддистам, нигилистам… Вряд ли уточняют, кто кем был, теперь уже все равно, смерть всех уравнивает. Всех ставят под эти иконы, врубают католический орган, говорят всем одно и то же. Действительно, все равно сгорят, всех упакуют в стандартные урны. Покойников слишком много, чтобы придумывать для каждого отдельную церемонию.
– Дорогие родные, близкие и знакомые, – начала женщина, когда музыка, плавно затихая, умолкла совсем, – собрались в этом скорбном здании, чтобы проводить в последний путь, – она говорила, стоя на возвышении, на этом подобии подиума, говорила негромко, но внятно, и акустика зала усиливала ее слова, звуки отражались от стен, потолка, метались по помещению, – в последний путь Анну Савельевну Зюзину, замечательного человека, педагога, отдавшую всю свою жизнь…
Мне вдруг стало жалко ее, нет, не умершую, а эту говорившую… Она напомнила мне другую женщину, из загса, – когда я женился, помню, слушая вымученно-радостный голос нарядной, с какой-то огромной цепью на шее, тети, думал, что вот, может, у нее сегодня случилось какое-нибудь горе, а она должна стоять здесь и делать вид, что радуется двум придуркам, решившим слиться в законном браке и отныне мучиться вместе… А у этой, может быть, радость, наоборот, но она изо всех сил прячет ее, скорбит вместе с нами о совсем чужом для нее человеке, об утрате давно пережившей свой век старушонки.
– …Теперь прошу желающих сказать несколько слов. – Она выделила «несколько» и поежилась, кажется, подавив желание взглянуть на часы.
Повисло молчание. Все смотрели на брата, ждали слов от него. Он потянулся, выпустил из груди тяжелый хрип, заговорил дрожащим, искренним голосом:
– Р-родная… Родная моя Аничка… Что ж… вот и пришло в-время расстаться… – И он заплакал, вытянул из кармана платок, вытер глаза, просморкался. – Помнишь, Аня… как в сорок первом, как провожала меня?.. – Снова прервался, задохнувшись от слез. – Она, она была настоящим человеком! Н-настоящим творцом! Она столько воспитала замечательных!.. – Он словно кому-то доказывал, что Анна Савельевна прожила свою жизнь не зря, прожила ее, как надо. – Ты, ты была настоящим коммунистом, Аня! И я кланяюсь тебе не только от себя лично, но… но и от лица нашей родной партии, в которой ты, – голос его неожиданно окреп, слезы исчезли; он говорил теперь твердо, даже как бы радостно, – в которой ты состояла и работала пятьдесят четыре года!.. Твоя жизнь, Анна, это образец, это светлый пример для других, для всех нас! Прощай, родная моя сестра, п-прощай… – И снова заплакал, положил на умершую свой букетик, наклонился, поцеловал ее. Отступил, утирая слезы и вздрагивая.
Слово взял директор школы… Да, с Анной Савельевной уходит целая эпоха; он счастлив, что был с ней знаком, работал с ней вместе; он пришел в школу совсем молодым пареньком, сразу после института, и она многому его научила; как глубоки были ее знания, как интересно она умела рассказывать, она была истинным интеллигентом; именно такие люди, как Анна Савельевна, зовутся учителями с большой буквы… Одна из женщин из районо выразила глубокую скорбь, боль невосполнимой утраты от всего коллектива районо, вспомнила, какой отзывчивой и бескорыстной была Анна Савельевна…
– Дорогие мои, – нашла паузу и скорее заполнила ее хозяйка церемонии, – добавить можно многое. Много теплого сказать. – Она вздохнула, давая понять, что наше время вышло. – Но минута расставания приближается…
Снова музыка… Пошли вокруг гроба, целуя покойницу, кто в губы, кто в лоб… Витя, не желая, видимо, участвовать в этом, направился за крышкой, я с ним… Наконец-то кончается. Ну и холодно же здесь! Я представлял крематорий другим. В каком-то фильме: там печь рядом, люди прощаются, и гроб тут же, при них, заезжает в огонь. А здесь… Когда попрощались, женщина со знанием дела поправила цветы, накрыла лицо покойной кисейным покрывалом. Дала нам знак, что можно опускать крышку. Затем переставляем гроб с тележки-кушетки на мраморную плиту. Пауза. Мощно воет орган. Женщина выжидает с полминуты, чтоб обозначить момент самого последнего прощания, а потом нажимает кнопочку где-то в ограде. Плита и гроб медленно опускаются, на месте плиты остался прямоугольник черного отверстия. Я невольно тянусь, пытаюсь туда заглянуть, ожидая увидеть блики огня. Нет, там холодно и темно.
Вот, слава богу, и закончилось. Автобус везет нас, я надеюсь, в школу, на поминки. Кремация – это, в общем-то, те же похороны, одинаково прощаешься с образом человека, а пепел – совсем уже что-то другое. И уже все равно, что потом сделают с урной, главное – с телом разделались.
Теперь в салоне много людей. Лена, те похожие друг на друга ребята, еще несколько учеников Анны Савельевны, ее брат… Витя незаметно исчез, наверное, отправился на извоз… Все молчат, смотрят в пол, на то место, где стоял недавно гроб. Автобус двигается медленно, то и дело останавливается перед светофорами, попадает в пробки.
Скорей бы приехать. Я голоден и непривычно трезв, и я хочу получить награду за свои старания. Я часто оборачиваюсь к окну, пытаюсь узнать места, по которым едем. Вот широкая, забитая машинами улица, кажется, это Люсиновская. Автобус сворачивает в переулок. Да, правильно, уже близко. По Стремянному мы пробираемся к Павелецкой площади.
Пассажиры стараются сохранять на лицах печать скорби, но ярче на них отражается удовольствие предстоящего застолья, выпивки, разговоров. Застолье, по какому бы поводу оно ни состоялось, все равно застолье. Оно приятно само по себе… Лишь брат покойной, по-моему, скорбит искренне: глаза у него светлые и слепые, на губах застыла полуулыбка – он вспоминает. Детство там, отрочество, юность… Сейчас воспоминание оборвется, сознание вернет его в настоящее, в жизнь, которая опустела еще на одного родного человека, и ему станет тоскливо и зябко, ведь вполне вероятно, что следующий – он.
– Михаил Савельевич, это Роман, вот он с дочерью Анны Савельевны разговаривал, – подвела ко мне старика Лена.
– Здравствуйте, – сухо, четко выговаривая каждую букву, сказал он, протягивая свою сморщенную, в старческих родинках, руку.
– Здравствуйте, – я пожал ее, чувствуя кости, покрытые холодной, похожей на мятую тряпочку, кожей.
Он пытался держаться прямо, хотя годы и горе гнули его тело, горбили, потряхивали. И когда он говорил, голос его тоже постоянно сбивался на дрожание.
– Вы разговаривали с Натальей… Как она? Что сказала?
Мы стояли в фойе, направо по коридору столовая, и оттуда доносился скрип сдвигаемых столов, возбужденные голоса, и вкусный запах еды стелился по школе, возбуждая меня, приятно щекоча нервы… Лена что-то бормотнула и ушла в столовую, наверное, помогать.
– М-м, ну, сказала, что прилететь не успеет, денег на билет не может найти, – стал вспоминать я. – Спрашивала, как тут все, я ее успокоил.
Старик смотрит значительно и сурово, словно я в чем-то виноват или по крайней мере – за что-то ответственен.
– Просила вам сообщить… Сообщили…
– Вот дошло до чего, – качнул головой Михаил Савельевич, – родная дочь не смогла на похороны матери прибыть. А телеграмму когда ей послали?
Что, он главным энтузиастом этих похорон меня, что ли, считает?
– Не знаю, это у Елены надо спросить. Я сам вчера вечером только узнал… о случившемся.
С улицы вошел Витя Бурков. В руках – туго набитые пакеты.
– Сэн, хватай! Рвется! – крикнул он. – Осторожно, бутылки здесь!
Я подхватил один из пакетов, радуясь, что меня отвлекли от этого нудного разговора.
– В столовую нести? – И пошел туда вслед за Витей.
На лицах участников поминок одинаковое выражение: всем порядком хочется жрать. Бродят вдоль столов, поглядывают на еду, ожидают момента, когда раздастся призыв: «Все готово, можно рассаживаться!» А на столах-то много вкусненького, помянуть старую учительницу приготовились как следует. Суетливые женщины привычно расставляют вазочки, тарелки, бутылки, это они умеют – готовить, со вкусом накрыть на стол, – было бы что… Стопочки блинов, печеные куры, салатики, селедка под шубой, «Ферейн», кагор, «Привет»… Да, теперь-то я оттянусь.
– Сэн, давай вот здесь, поговорим хоть путем, – предложил Витя, когда подали сигнал приступать. – Я машину поставил, так что можно как следует…
– Давай, конечно.
Мы сели рядом, напротив нас – те похожие друг на друга парни. Михаила Савельевича посадили во главу стола, как самое почетное лицо. Пришли стайкой директор, женщины из районо, учительницы, тоже заняли места. Сейчас все несколько скованы, никто не решается хозяйничать, первым совать ложку в салат, открывать водку… Но, спасибо директору, он все же взял на себя обязанности руководителя.
– Уважаемый, гм, Михаил Савельевич, уважаемые коллеги, ученики, – начал он громко, размеренно и скорбно, – давайте помянем нашу дорогую Анну Савельевну. Пусть… м-м… земля будет ей пухом!
Он отпил из кружки кисель, откусил блин и сел… Жевали в молчании, потупя глаза, усиленно и дружно выражая боль утраты прекрасного человека… Кисель был густым и приторно сладким, а блины слишком напитаны растительным маслом… Что ж, необходимо хотя бы показать, что тебе тяжело, больно, принять правила, если уж ввязался в эту игру… И я осторожно ел блин и пил кисель, склонив голову, смотрел на ближайший ко мне салат.
А потом звякнули железом о фарфор, ожили, задышали, заговорили. В тот салат, куда я смотрел, вошла ложка и вышла, полная им, затем еще и еще. Полилась в рюмки водка. Началось…
Если поразмыслить по-трезвому, с точки зрения природы все очень просто: одни рождаются, значит, другие обязаны умирать. Иначе случилась бы катастрофа. И так, мне кажется, людей слишком много. На одну собаку приходится, наверное, человек с сотню. Если не больше. В Москве, может, миллиона два кошек, а людей-то сколько! Если в одно прекрасное утро четвертая часть людей исчезнет, то оставшимся станет от этого только легче. И подсознательно в любом человеке, уверен, живет желание уничтожать окружающих, без всяких, в общем-то, на первый взгляд веских причин. Как-то я ехал с одной девочкой в метро, ей лет пятнадцать так. Такая симпатичная, хорошая девочка, чистенькая, веселая. И когда поднимались по эскалатору, она глянула вниз, туда, где толклась людская масса перед началом ступенек. «Вот бы им туда гранату, а, – с интересом сказала девочка. – Вот бы было прикольно!» Эта мысль вдруг возникла в ней и пропала, сменилась другой: она стала рассказывать, какое классное настоящее американское «Мальборо», с ковбоем на пачке, «но и стоит полтос!» Конечно, если дать ей гранату, она испугается. Не из-за того даже, что ее потом накажут, а просто людям внушают, что убивать – это плохо. Но иногда человек преодолевает внушение – или его заставляют преодолеть. И уж тогда его не остановить. Вон показывают маньяков, берут у них интервью, – как они рассказывают о своих делах, с каким наслаждением, как подробно, смакуя… Ну ладно, маньяки – дело особое, не частое, а те же солдаты. Повоевав, поубивав, почти все они стремятся пойти туда, где можно и дальше воевать и убивать. Людей сдерживает закон, предусматривающий наказание. Но если человек переступит… Или вот убивают животных: в первый раз человеку страшно, отвратительно, его тошнит, а потом второй, четвертый, седьмой… И уже никакого страха, отвращения, а, скорее, удовольствие, хотя бы удовольствие от того, как ловко полоснул свинью или барана по горлу, аккуратно оттяпал голову курице, мастерски содрал шкурку с кролика… И почти то же самое: «А я вот его сначала в пузо, а когда согнется – прямо в макушку. Гляди!» Пиф-паф! «Да-а, ты вообще ювелиром стал!»
Но не меньше желания убить другого присутствует в человеке желание покончить с собой. Мне кажется, именно эта способность – осознанно, трезво взять и убить себя – основное отличие человека от животного. А потом уже: изготовление материальных ценностей, вторая сигнальная система, духовные всякие ценности, мораль… Всем этим только и подчеркивается желание и подготовка к собственной смерти. Не было б такого желания, не было бы искусства, праздников, электричества, человеческого извращенного совокупления. «В любую секунду я способен прекратить свою жизнь, и значит, нужно скорее хватать от нее все, что можно, пока этот момент не наступил, пока мне не стукнуло в голову, что уже пора!» И чтобы оттянуть этот момент, люди и запугивают самих себя и окружающих, выдумывая грех, ад, погребальные церемонии и все прочее. Природа же относится к смерти равнодушно, а иногда специально насылает эпидемии, чтоб разрядить слишком уж расплодившееся стадо… Помню, родители мои как-то решили заняться сельским хозяйством, отремонтировали дачу, купили полсотни цыплят, ну и штук тридцать из этих цыплят подохли. Дохли они постепенно, по пять-семь в день, а остальные спокойно клевали пшено и кусочки вареных яиц, лишь попискивали, спотыкаясь о мертвых. Выжившие выросли, осенью превратились в крепких, крупных кур, и отец порубил им головы, а мама ощипала. Их мы ели потом по праздникам.
А вот я еще видел в передаче «Непознанное», кажется… Там рассказывали об одном англичанине, который чем-то заболел и умирал. Родные плакали, врачи боролись за его жизнь. Но сердце больного все же остановилось; лишь в последний момент этого англичанина сумели спасти, сделали какой-то массаж сердца, стукнули током, и он ожил. Через несколько дней встал на ноги. Ко всеобщему удивлению, англичанин был очень недоволен, что его вернули, ругал врачей, родственников, всех подряд: «Мне там было так хорошо! Эта жизнь в сравнении с тем, куда я восходил, и есть настоящая смерть. Как же я буду здесь после того, что испытал там?!» Еще через несколько дней он повесился… В то, что там, после смерти, еще что-то есть, и тем более лучшее, поверить, конечно, трудно, – люди просто-напросто успокаивают так свою трусость встречи со смертью. Как ни крути, а страшно. Но и тянет ощутить. Какой-то, и не малый, наверное, процент самоубийств происходит из интереса: «А как там? Что я почувствую? А как это вообще?..»
Анна Савельевна была ярой материалисткой. Она говорила, что человек умирает полностью и навсегда и поэтому он должен успеть передать знания, им накопленные, дальше, следующим поколениям, а для этого черпать из опыта предшествующих поколений самое лучшее, полезное, пополнять это лучшее своим опытом. В этом она видела смысл жизни… Этакий интеллектуальный конвейер смертников…
– …Ну а что еще делать? Куда счас идти? Зато сам себе хозяин, ни от кого не завишу. Когда захотел, сел за баранку, когда захотел – домой пришел, сиди отдыхай. Нормалёк… Ты-то как? – Витя спросил с оттенком жалости, словно неизлечимого больного, у которого состояние то хуже, то лучше, но скорый конец неизбежен и всем известен.
– Ничего, – пожал я плечами и налил водки себе и ему. – Давай, да?
– Дава-ай!
Витя хотел было чокнуться, но вовремя спохватился, вспомнил, что на поминках нельзя. Опрокинул так, закусил колбасой.
– Тоже вот и сегодня. Целый день, считай, потратил. Кто б меня отпустил?.. А так, пожалуйста…
Да, он очень доволен своей житухой. Это он всячески старается показать. Куриные кости он лишь слегка обгладывает, оставляя на них уйму мяса, берется за новый кусок.
– А ты на права не сдавал? Зря, можно неплохо зарабатывать. Один рейс небольшой – полтинник. Это минут пятнадцать. Бывает, и стольник сразу. За день можно и с пол-лимона отломить. Куда с добром!
Я, дакая, усиленно ем и пью. Чувствую, что уже переел, даже водка не действует, просто становится тяжело и подташнивает, но остановиться не могу. Одно, другое, третье, и все очень вкусно. Покойная была бы довольна, хотя, нет, – стихов не читают, о ней не особенно вспоминают. Кроме, конечно, брата. Старичок рассказывает о ней директору школы:
– …Такая была умничка, Анюта моя! Помню, она еще в начальные классы только ходила, а уже, – откуда эта тяга в человеке? – уже «Мцыри» всего знала. Бывало, утром, пока завтракаем, в школу собираемся, она без умолку: «Усни, постель твоя мягка, прозрачен твой покров. Пройдут года, пройдут века под песню чудных снов». Еще сама кнопка такая, чего бы понимала, казалось!.. И сама тоже стихи сочиняла. Было у нее такое… – Он задумался, мучительно завспоминал; директор наполнил его рюмку, предложил выпить.
– …Нет, все вы по большому счету одинаковы, мальчики. Сначала только… Вот Истомин мой, сначала такой паинька, такой внимательный, заботливый… доцент, – это Лена отвечает Вите Буркову на какую-то его реплику. – Полтора года выдержал – и пошло. Гулянки у себя в лаборатории, бани, бабы… И я что, бегать за ним должна? У меня Сашка на руках, постоянно болел, так еще и этого надо домой тащить. Да катись ты! Лучше я буду одна с ребенком, в квартире девять квадратных метров, чем такое. Ты обо мне позаботился? Да ты мне все нервы повымотал, а еще хочешь!.. – Лена, казалось, ругалась сейчас со своим бывшим мужем, видя его скрывающимся под оболочкой Вити.
– Погоди, солнышко, я вам тоже могу предъявить. Я тоже могу! – перебил ее Витя. – Да, мы, бывает, подгуляем немного чего-нибудь, выпьем, но мы же – кормильцы. Мы пашем, а вы нам уют, пожалуйста, снисхождение к нашим слабостям…
– Да кто пашет?! Истомин? Знаешь, какие от него алименты приходят?..
Группа бывших девушек-школьниц, тех, кто наготовил сегодня, тоже делилась своими обидами.
– Тут отстоишь за прилавком весь день, ноги вот такие, в голове черт-те че, домой не знаю как дохожу, – говорила одна, нездорово пухлая, лет тридцати, – а они всё сожрали. Холодильник – шаром покати…
– …Сколько раз просила: не кури ты в комнате, дышать нечем, у ребенка подозрение на бронхиальную астму. Нет, сядет перед телевизором и дымит! – В то же время жаловалась другая, сухопарая, с ярко намазанными синим веками, поигрывая заодно пустой рюмкой. – Хоть на кухню выйди. Нет, ему обязательно в комнате!..
В общем, стол зажил своей шумной, полупьяной жизнью, соответствующими разговорами… Тех двух ребят, что молча набивали животы напротив меня, я узнал неожиданно; как-то бегло взглянул на них и вспомнил. И давний страх воскрес, схватил меня, вызывая дрожь и желание спрятаться… Да, они учились на два года старше, это были братья Титовы – Титки, отпетое хулиганье… Когда после восьмого класса их не взяли дальше и они учились в каком-то ПТУ, все равно частенько приходили в школу, стрясали с нас деньги. Из-за них я боялся ходить на школьную дискотеку… Вдруг мне показалось, что и сейчас один из них поднимется, схватит меня за шею, а другой умело будет бить под дых. «Чо, урод, наколоть решил! Сука, пидарас гнойный! Завтра чирик с тебя. Ты понял, фуфло?»
– Где, ребята, теперь? – громко спросил я их.
Братья оторвались от своих тарелок, сонно посмотрели на меня.
– Где работаете? Чем занимаетесь?
Они явно меня не узнавали, а у меня по-пьяни, наверное, появился азарт, жутко захотелось поиздеваться над ними, подразнить, как– нибудь посильно отомстить за старое.
– Ну, работаем, – медленно стал отвечать один, видимо, стараясь вспомнить, кто я такой.
– А может, вздрогнем сначала и тогда уж побазарим?
Хотя я был полон под завязку, в основном, к сожалению, жратвой, но все-таки смело налил три рюмки доверху, поднял свою:
– Светлая память дорогой учительнице. – Покачал горестно головой. – Спасибо, вывела в люди, вон каких воспитала, – я кивнул на братьев, – открыла столько замечательного… Да, парни?.. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа…» – вспомнил я строчки, что учили наизусть по указанию Анны Савельевны. – Всем бы, блин, таких учителей, вот было б у нас тогда общество. Все честные, образованные, поголовно интеллигентные! Ну, вздрогнем!
Я залихватски выпил, водка посочилась между набившейся в пищеводе едой. Титки тоже выпили, подозрительно поглядывая на меня… Женщины из районо, учителя, директор с интересом слушали пьяненького, разгорячившегося Михаила Савельевича.
– Я ее перевезу, завтра же буду звонить! Чего ей там, в этом, в Прокопьевске этом?.. Двое детей на руках, муж инвалид второй группы… Завтра же звонить буду!.. – И старик сердито постучал пальцем по краю стола. – Романтика, молодость…
– Интеллигенция, – повторил за мной один из Титовых. – Ты интеллигенция, что ли?
– Нет, – уныло ответил я, переведя взгляд со старика на задавшего вопрос Титова. – Интеллигента из меня не получилось. Зато люмпен-пролетарий стопроцентный.
– Ты – пролетарий? – голос Титка еще был ленивый, но в нем появилась угроза. – Ты?.. Вот, гляди, это видишь? – Он подсунул мне свою руку, большую и темную, в царапинах, мозолях; пошевелил сбитыми толстыми пальцами, сжал руку в кулак. – Я тебе ща этой штуковиной!.. Вот тогда, блядь, и узнаем, кто пролетарий, а кто хуй с горы!
На нас обратили внимание. Второй Титов, настроенный миролюбивей, похлопал брата по плечу, успокоил:
– Юр, чего ты заводишься? Кончай… Еще хочешь водочки?.. А, это, к слову, – он обратился ко мне, – анекдот могу рассказать, про интеллигента. Рассказать?
– Ну, давай.
– Выпьем…
Выпили. Миролюбивый Титок стал рассказывать:
– Короче, ложили асфальт и раскатывали катком. И случайно каток наехал на интеллигента. Он стоял, газету читал, ну и – в лепешку его. Рабочий, короче, слез, свернул интеллигента в трубочку, сунул под сиденье. Вечером принес домой, жена приспособила его как половичок у порога. Ну, полежал интеллигент, замарался, конечно. Жена состирнула его, повесила на балконе сушиться. А уже осень, холодным ветром интеллигента продуло, он простудился и умер.
– Ха-ха! – я засмеялся, наполнил рюмки. – Классный анекдот, глубокий. Спасибо!
Мы выпили с этим Титовым почти как друзья. Другой же все смурнел, смурнел и вот поднялся, расплескивая из зажатой в кулаке рюмки водку, мотаясь, постоял над столом и вдруг стал выкрикивать:
– Ты интеллигенция, говоришь? А я тебе вот что скажу! Интеллигенция и евреи – одно и то же! Евреи заведуют всем, что связано с головой! Книгами, наукой!..
Его брат вскочил, пытался усадить свое разбушевавшееся подобие, заткнуть ему рот, но он тоже был пьян и это ему не удавалось. Женщины из районо, директор, старые учительницы уходили, тихо прощаясь с перепившим, обмякшим Михаилом Савельевичем.
– …Во всей науке у нас вечно одни евреи! Погоди, Лех, дай сказать!.. И я удивляюсь, – как она еще существует! Она ведь вся из жидов, сука! Интеллигенция, пидоры!
И оба Титовых упали, опрокинули стулья. Миролюбивый бил истеричного по морде.
Потом они подняли стулья, собрались и ушли. Витя и Лена тоже куда-то исчезли. Стол резко обезлюдел. Убирали посуду. Поминки заканчивались. Михаил Савельевич, подсев ко мне, последнему, кто спокойно торчал на своем месте, рассказывал пьяным голосом, обняв меня за плечо:
– …Немцы тогда «Тигров» пустили. Это первый раз, когда они «Тигров» пустили. А ты знаешь, что это такое – «Тигр»? Наша сорокапятка его не брала! Ему это как горох какой– нибудь…
Я снял его руку с плеча, поднялся.
– Простите, мне домой надо… Еще поговорим… потом.
Что ж, пора и честь знать. От кушаний остались лишь жалкие остатки, измазанная посуда, кости, пустые бутылки.
– А приказ «Двести двадцать семь»… Просто циферки, очередная бумажка, – продолжал бормотать старик, глядя в стол, – а сколько за ним… Ни шагу назад. Впереди огонь и сзади огонь. И ты между…
Я направился на кухню выпить воды. Во рту было сухо и кисло. Опьянения почти не чувствовалось, тяжело просто, хочется спать…
Открыл один из кранов, подставил под струю стакан. В соседних раковинах мыли посуду. А сзади (я сразу заметил их, как только вошел), на железном столе с биркой на боку «Для обработки мяса», – несколько бутылок вина и водки, рядом какие-то свертки. Посудомойки были заняты своим делом, а та, что таскала посуду, как раз ушла за очередной партией в зал… Я торопливо проглотил воду, поставил стакан на поднос, подошел к столу… Так, бутылку «Привета» в один карман, вторую… нет, возьму вино, для жены… в другой. Упаковку ветчины – под куртку. Пару помидоров… Адью!
Михаил Савельевич уже дремал, криво сидя на стуле… В коридоре Витя беседовал с Леной. Лена стояла у стены, Витя прижал ее, перекрыл путь двумя руками, опершись ими о стену. Близко наклонив к ее лицу свое, он что-то говорил… Лена первой увидела меня, в ее глазах – просьба, чтоб отпустили; она напоминала старую, больную суку, которую упорно старается оседлать наглый и молодой, полный сил кобелек.
– Э, Сэн, ты куда? – не отрывая рук от стены, спросил удивленно Витя. – Сейчас Савельича заберем и туда, на хату. Посидим! Водка еще есть. Вот Ленуху уламываю. Давай вместе, Лен, погнали!
– У меня сын дома один, – жалобно заскулила она.
– У всех дети. В кой веки раз… Ну, посидим маленько…
Я прошел мимо них. Вслед – повелительный голос Буркова:
– Сэн, стоять!
– Да отлить я, сейчас вернусь!
* * *
На город сыплется последний снег. Скорее всего – последний. Воздух покоен, мягок, глубок, он словно бы замер в удивлении, оторопел, пропуская сквозь себя большие холодные хлопья. Ведь и воздуху хочется весны, тепла, аромата зелени… Снег тихо, с легким-легким шорохом ложится на другой снег на асфальте, на газонах, на ветках деревьев, автомобилях. Ему нет конца, странно, как небо может держать такую тяжесть.
Я курю, остановившись в темном узеньком переулке, заодно почесывая пах. Я ясно слышу шорох снежинок, удивленный шепот природы, хотя вот, за поворотом – оживленная, яркая улица, треск, сирены сигнализации, музыка, жизнь. Просто, наверное, я хочу тишины, в которой слышится нечто негрубое, робкое, вечное. И вот стою и слушаю снег… Мне хорошо. Если бы я умел, я бы сделал сейчас какое-нибудь сальто-мортале, как-нибудь особенно кувыркнулся, запел бы, если бы знал слова хоть какой-нибудь песни. Мне хорошо, мне хочется подбегать к людям, показывать им язык и смеяться. «Нет, не все еще кончено! Мы еще порезвимся! Ха-ха!» Я рад прожитому дню, я заранее радуюсь завтрашнему. И мне хочется дальше, дальше по жизни. Я знаю, чем все это закончится, – закончится для меня, как и для всех. Одинаково. За тысячу лет до меня и после меня так же точно через тысячу лет. Все передохнем, всех помянут, а потом – новые, новые. Но есть дни, их нельзя упускать, каждый день – великое чудо. И если ты свободен и смел, ты можешь сделать из каждого дня праздник, не пропустить это чудо… Дальше, смелее по жизни! Хватать, что ни попадя, запихивать в себя, смеяться, давиться и жрать. Скоро лафа накроется, скоро мы будем не здесь, там все будет иначе, а скорее всего – не будет совсем ничего. Там, это там. Там – это уже не наши проблемы. Там о нас позаботятся, нас примут, составят бумаги. Уложат, причешут, подкрасят и успокоят.
Глава вторая
Погружение
(Ноябрь 1998-го)
– А-а-а-а! Ах-ха-х! А-а!..
Детский плач поутру – круче самого злого будильника.
Как будто совсем и не спал. Суток двое. Голова пустая, но тяжелая – этакий свинцовый шар. И ломота в костях, глаза слезятся. Маркин сидит на тахте и таращится в окно. За шторами – жидкая серость. Приблизительно – часов восемь.
– До-онюшка, – воркует жена над детской кроваткой. – Что такое? Ну что случилось, милая? – Сует ребенку соску-пустышку. – Зубки у нас режутся? Ах, эти зубки… Спи, милая, надо спать, станешь тогда большо-ой…
Маркин сползает с тахты. Кряхтя одевается. Дочка замолкает, только тихонько постанывает.
– Ты куда? – спрашивает жена и набрасывается на Маркина, валит обратно на постель. – Ты от меня не уйдешь! – шепчет игриво.
– За питанием пора, – отвечает он, высвобождаясь.
– Любимый, хотя бы поцелуй меня!
Маркин целует жену. Ее губы впиваются в его, руки крепко обхватывают его шею. Поразительно, сколько у нее сил. Целый день с ребенком, ночами вскакивает по десять раз успокаивать. Еще и на мужа хватает. Маркин же в последнее время как выжатый лимон. Безвольный, размякший, дряблый…
Он бредет на кухню. По пути запинается о телефонный шнур и тихо ругается. Смотрит на встроенные в холодильник часы. Десять минут девятого. Можно бы еще подремать часок, но дочка вряд ли позволит. Как раз в это время у нее самое плаксивое состояние.
Маркин закуривает, включает радио. Там веселая, утренняя песенка. Сводка новостей, видимо, только что кончилась… Надо поставить чайник. Кофейку выпить крепкого.
Тараканы, хозяйничавшие на кухне всю ночь, теперь спешат в свои щели. Маркин сегодня не охотится на них со спичечным коробком, как обычно, – сегодня должны прийти из фирмы «Идеал», посыпать кухню, прихожую и туалет с ванной каким-то чудодейственным порошком. Гарантия – год.
* * *
Почти что неизменное начало дня – поход Маркина за детским питанием в молочную кухню. Исключения бывают, лишь когда он приболеет или не ночует дома.
Сегодня воскресенье, молочка работает до десяти. В остальные дни – до девяти; и поход за питанием – обычная процедура перед работой.
На улице пустынно, просторно. Воскресное утро – редкий период тишины и покоя. Скоро возобновится неизменная толкотня, давка, суета, шум. И никуда от них не спрячешься в этой Москве – везде достанут. Везде найдут и заразят, заставят тоже забегать, занервничать, заспешить неизвестно зачем; а потом отпустят поздним вечером, когда уже ничего больше не надо. Только вот рухнуть в постель. Скорей отключиться.
– У нас выписано розовое «Агу», – говорит Маркин женщине, выдающей упаковки с питанием, и протягивает ей обратно синее.
– Розового сегодня нет, – отвечает женщина.
Что ж, Маркин бросает в пакет синее, которое дочка не любит. Да как-нибудь выпьет, покапризничает, конечно… Он выходит из молочки, доставая сигарету.
Тут же, у дверей, подскочила здоровенная черная овчарка. Маркин замер, ожидая, что сейчас она вцепится ему в ногу или бросится на грудь. Глаза отвел, чтоб не показать псине испуг.
– Эльза, фу! – кричит рядом девушка.
Она оттаскивает обнюхивающую Маркина собаку. Маркин оживает:
– Намордник надевать надо.
– Извините, пожалуйста! – Девушка пристегивает к ошейнику поводок. – Она не злая…
– На вид не скажешь.
Маркин спешит домой. Дочка, наверное, уже окончательно проснулась, ревет вовсю, требуя завтрака.
Небо в тучах, вот-вот дождь может начаться. Но довольно тепло и как-то душно. Гм, конец ноября, тоже мне…
* * *
Пока жена возится с ребенком, Маркин разогревает оставшиеся с вчера макароны с фаршем. Заваривает чай. Потом они с женой завтракают. Саша, сын жены от первого брака, еще спит. Пускай отсыпается перед очередной неделей. Дочка, Даша, смотрит в большой комнате телевизор; ей особенно нравится реклама, она прямо обмирает, когда идут ролики – ничем не отвлечешь.
– Что, сейчас сядешь работать? – спрашивает жена.
Маркин пожимает плечами:
– Попытаюсь.
– Как погода?
– Пасмурно и тепло.
– Если не будет дождя, позвоню Ольге. Сходим с детьми в Коломенское.
– Угу, давайте.
Некоторое время жуют молча. Затем жена по обыкновению начинает жаловаться:
– Памперсов осталось штук пять. Говорят, «Хаггесы» теперь под двести рублей уже.
Маркин мычит удивленно.
– Нереально купить… – Жена то ли спрашивает, то ли утверждает.
– А сколько у нас?
– Триста с мелочью. До первого числа. Тебе-то вовремя обещают?
– Да вроде…
Жена вздыхает:
– Наверное, придется без памперсов. Да и пора уже к горшку приучать, скоро год ведь… Вот только на прогулки…
– Мда, – кивает Маркин, соскребая со сковородки подгоревшие кусочки макарон. – Посмотрим.
Поели. Жена с чашкой чая уходит к дочке. Маркин садится за рабочий стол.
* * *
Кухня, самое уютное и просторное место в квартире. Она – точно еще одна комната. Две же настоящих мало на них похожи. Та, где спит сейчас Саша, напоминает чуланчик с окошком, а вторая, чуть побольше, заставлена разной мебелью, от этого кажется очень тесной и к тому же отдана в распоряжение дочки. Дарья там ползает по коврику на свободном пятачке или пытается бегать в своих бегунках на колесиках, то и дело врезаясь в шифоньер, тахту, в тумбочку, на которой стоит телевизор. В общем, там делом бесполезно заниматься.
А к кухне Маркин привык. Хе-хе, помнится, поначалу даже сравнивал себя с Миллером. Тот начинал писать на кухне в Нью-Йорке, и Маркин вот пытается, только в другой столице – в Москве… Но сравнивал он давно, теперь же усмехается только, вспоминая об этом.
Четвертый год он здесь за этим столом. В прошлом году закончил Литературный институт. На третьем курсе обзавелся семьей, дочка вот родилась. В общем-то, неплохо устроился. Другие однокурсники, кто не из Москвы, кое-как пытаются держаться тут, как-то зацепиться, некоторые домой вернулись, от них ни слуху, ни духу. А Маркин и работу нашел, пусть не особо денежную и надежную, зато делать почти ничего не надо; и в журналах иногда его рассказы появляются, правда, не яркие, средние, критиками не замечаемые, но все-таки – есть надежда годам к сорока пяти, если окончательно не выдохнется, сделаться писателем «второго ряда». Хе-хе…
Да нет, трезво раздумывая о жизни, Маркин приходит к выводу, что ему повезло. Неизвестно, что бы с ним было, останься он в Минусинске, маленьком сибирском городишке, сонном, обнищавшем, как и почти вся провинция; там уж давно никаких журналов, работы, никаких перспектив… Повезло, что встретилась ему Елена, красивая, умная, удивительная просто женщина, взяла его, полуспившегося студента, из общаги к себе, стала его женой… В общаге спился бы окончательно, тем более и сосед по комнате, Борис, под стать Маркину, был любитель этого дела. Два с лишним года заливались и мечтали о литературе, о премиях, о том, что скоро такое напишут!.. Оставшись в комнате один, Борис, и точно, написал целый роман, страниц в четыреста. Маркин тоже кое-что; помаленьку стал публиковаться. Но вот в последнее время не особенно у него получается. Писать. Постоянная тяжесть, какая-то пустота и усталость. Маркин сваливал это сначала на жаркое и пыльное лето, теперь – на переменчивую осень, когда в сентябре снег и метель, а теперь, за неделю до календарной зимы, – даже ночами плюс пять, дожди, набухшие почки на кустах… Конечно, Дарья вот все время капризничает, зубы у нее режутся тяжело; выспаться нормально не получается; вообще жизнь однообразная, с одинаковыми проблемами, делами, событиями, которые из-за их частой повторяемости уже не кажутся событиями. А разнообразить жизнь силенок не хватает. Дни следуют за днями частой цепью, не успеваешь и моргнуть, раскачаться, настроиться – уже вечер, хочется спать, а там новый день, такой же, как и вчерашний…
Маркин сидит за столом, пьет маленькими глоточками крепкий чай. Перед ним на столе – тетрадь с начатой повестишкой и книга Кнута Гамсуна «Соки земли». Раньше Маркин не мог расстаться с «Голодом», теперь же – вот с этой. Раз пятый ее перечитывает.
Та-ак… Честно говоря, писать нет особого настроя, единственное, что заставляет взяться за ручку, – ощущение какого-то зуда, и он не отпустит, пока не напишешь пару-тройку страниц. Привычка, что ли… Как сигарету, хе-хе, выкурить или зубы почистить.
И Маркин открывает тетрадь, листает ее, бегло перечитывая некоторые кусочки текста, иногда почти машинально правя слова, вычеркивая лишнее. Ему не нравится то, что он написал в последнее время, но понимает – лучшего ему пока (или уже) не написать. И править вообще-то бесполезно.
В конце концов он откладывает тетрадь, берется за Гамсуна. Закладкой служит календарь. Маркин смотрит на ровненькие, аккуратные столбики цифр-дней. Считает что-то, цокает языком. Затем перебирается на диванчик, что рядом с его рабочим столом, устраивается поудобней…
* * *
Телефонный звонок. Жена зовет Маркина. Он встает и идет в комнату.
– Алло?
– Здорово, Лёхан! – голос из трубки. Это однокурсник Маркина, переводчик Денис, правда, отчисленный еще с третьего курса; но отношения они поддерживают.
– Привет, Дэн, – отвечает Маркин. – Как жизнь?
– Жизнь идет, все четко, – голос до предела бодрый, создается впечатление, что Дэн при каждой фразе подпрыгивает. – У тебя-то на сегодня какие планы?
– Да никаких…
– На концерт не желаешь сходить? В клубе, возле «Курской» который, концерт неплохой обещают. Билеты по тридцатке всего.
– Гм, – мнется Маркин, зачем-то интересуется, хотя точно знает, что не пойдет: – А кто играет?
– «Наив», «Монгол Шуудан», «Пауки», вроде бы.
– Да ну…
– А какие ты хочешь? «Муммий Тролль» со «Сплином»? – Дэн смеется. – На них за тридцатку теперь не сходишь.
– Настроения что-то нет никакого…
– Пошли-и! Тыщу лет нигде не торчали. Я водки куплю, разогреемся!
– Да что там делать, Дэн…
– Поторчим в дэцел.
Тут встревает жена:
– Куда он зовет?
Маркин отмахивается. Дэн продолжает уговоры:
– Совсем, что ли, засох? Дава-ай, отвяжемся слегка, Лёхан. Так же нельзя! Надо время от времени… Водочки выпьем, поколбасимся. А?
– Нет, не хочу, Дэн, – говорит Маркин решительно. – Думаю пописать посидеть… Позвони Борьке, оставь на вахте сообщение. Он поедет, скорей всего.
Голос Дэна теряет свою бодрость:
– Ладно, как знаешь. Зря, конечно… Звони, если надумаешь, я часов до четырех дома.
– Угу… Пока?
– Давай, плесневей! – И короткие гудки.
Маркин кладет трубку.
– Куда Денис тебя звал? – повторяет вопрос жена.
– На концерт.
– Сегодня?
– Ну да…
– Сходил бы, развеялся.
– Да не хочу я! – Маркин еле сдержал раздражение. – Голова болит.
* * *
Подползла Дарья, стала карабкаться отцу на ногу. Упорная девка растет.
– Тець! – говорит.
«Отец», – наверное. Маркин улыбается, сажает ее на колени.
– Поскакали?
Начинает двигать ступнями вверх-вниз. Дочка визжит от радости.
– Хороший у нас ребеночек? – спрашивает жена.
– Нормальный.
– Как это – нормальный? Самое гадостное слово «нормально»! Говори сейчас же: у нас самая замечательная девочка в мире. Ну?
– У нас самая замечательная девочка, – повторяет Маркин почти равнодушно; играть с дочкой расхотелось.
А Дарью очень интересуют его глаза. Тянет к ним указательный пальчик. Маркин отворачивает лицо.
– Перестань, Даша, – велит жена. – Нельзя глазки трогать. Представляешь, – это уже к Маркину, – и себе прямо берет и трогает. Я сколько раз уже… Даша, нельзя!
«Нельзя» – слово ей хорошо знакомо. Если не послушаться, мама может и в кроватку отправить. Сидеть там одной не хочется, поэтому Дарья убирает пальчик от папиных глазок…
Покачав дочку еще немного, Маркин ссаживает ее на коврик, к игрушкам. Поднялся.
– Что, пойдешь работать? – спрашивает жена.
– Не знаю…
На спинке кресла лежит программа телепередач. Маркин взял ее, стал изучать.
– Совсем смотреть нечего, – говорит жена. – Единственное – по «ТВ-Центру» ночью «Горькая луна», Поланского фильм. Ты не видел?
– У-у, – Маркин отрицательно мотнул головой.
– Я слышала, хороший фильм. Надо обязательно посмотреть.
– Уснем.
– Можно днем поспать. Дарью уложу в два часа и сами приляжем на пару часов. Давай?
Маркин снова почувствовал подкатывающую волну раздражения; сказал резко:
– Я днем спать не могу! Ты же знаешь, кажется…
Кладет программу обратно и направляется на кухню.
– Алеша, а поцеловать? – напоминает жена.
Маркин целует ее в подставленные губы. Елена закатывает глаза – дескать, ей очень приятно.
* * *
Появляется заспанный, но возбужденный Саша.
– Сколько времени? – Бросился к холодильнику, глянул на часы. – Бли-ин, у меня же стрелка в двенадцать!
Быстро одевается.
– А позавтракать?
– Не хочу.
– Опять весь день на пустой желудок? – беспокоится Елена. – Хоть молока с батоном…
– Да я опаздываю!
Она ищет помощи у Маркина:
– Леш, скажи ты ему…
– Нужно перекусить, – говорит Маркин, – это займет-то десять минут. Гастрит наживешь.
– Меня ждут, ехать далеко! – Саша зашнуровывает свои мощные ботинки, открывает дверь. – Я пошел. – Выскакивает в подъезд.
– В три часа чтоб пришел пообедать! – кричит ему вслед Елена. – Слышишь?
– Ла-адно!
Она захлопывает дверь. Как раз и Дарья пришлепала на четвереньках в прихожую.
– Опоздала, – мать берет ее на руки, – убежал братик.
– А-я-я, – словно бы расстраивается ребенок; Маркин и Елена не могут удержаться – смеются.
– Кстати, полы бы помыть, – затем говорит жена. – Дашка везде ползает, а грязь такая…
Маркин усмехается:
– Саша придет – пусть помоет.
– Надо заставить.
– М-да…
* * *
Хоть Маркин и утверждает, что не может спать днем, но состояние у него дремотное. Только улегся на диванчик, взялся за книгу – моментом глаза стали слипаться, тело размякло. И чай не помог. Кофе еще, что ли, выпить?.. Ставит чайник. В ожидании, пока тот закипит, идет в комнату.
– Что на обед приготовить? – спрашивает жену.
– Там фарш под морозилкой. Котлет можно с пюре. Нормально?
– Давай.
Жена отрывается от разбора детской одежонки.
– Я сделаю, Леш. Садись поработай.
– Не получается… Я лучше… Ты и так всю неделю варишь.
Готовить Маркину нравится. Привычка. В армии был поваром – года полтора без отрыва у плиты проторчал. Теперь как-то не по себе, если долго этим не занимается, точно не хватает важной составляющей жизни…
Елена особенно не упорствует – с понедельника по пятницу ей вот как хватает готовить всякие блюда, фантазировать, чтоб не одно и то же. Хоть в выходные можно расслабиться.
Маркин достает из холодильника фарш. Пока размораживается, чистит картошку.
Включен магнитофон, играет кассета с песнями группы, где Маркин был лидером. Еще минусинских времен. Кассета заезженная, постороннему человеку слов не разобрать, но Маркин, конечно, знает все наизусть. Частенько включает для поднятия духа, но вместо этого почти всегда возникает ощущение пустоты сегодняшнего.
Хе-хе, надеялся вот, приехав сюда, что здесь-то, в Москве, и займется музыкой всерьез. О писательстве тогда думал даже меньше, чем о музыке… Ну, с писательством худо-бедно, но двигается, а для группы люди нужны, соратники, аппаратура, инструменты, база. Силы нужны, энергия… Иногда, бывает, за бутылкой поговорят с Дэном, что надо группу сколотить (Дэн даже на барабанах мала-мала может), помечтают, а дальше ничего. И как-то особого желания нет, того, какое в двадцать лет было, жгло аж. И Маркин готов признать: его время для рок-н-ролла прошло, назад не вернуться, запал уже не тот.
Вот сидит, чистя картошку, слушает, как рычит на кассете, колотит по струнам, и не верится, что это действительно он. И тексты песен словно бы не его. Теперь такие не пишутся… да и вообще никакие особо не пишутся.
* * *
Поделил фарш на шесть равных кусочков (чтоб Елене, Саше и себе по две котлеты получилось) и принялся жарить. Жена, вроде, занялась стиркой.
Немного постирав, заходит на кухню.
– Кстати, Алеш, сегодня же должны тараканов прийти травить! – объявляет.
Маркин кивнул:
– Я знаю.
– Надо тогда посуду убирать, вещи.
– Угу, надо…
Котлеты шипят на сковороде, начинают аппетитно пахнуть.
– Аромат какой! – улыбается Елена. – Сразу есть захотелось.
– Приготовится – поедим.
– Что ты такой? – Она обняла мужа. – Случилось что-то?
– Да нет…
– На концерт хочешь пойти?
Уж если Елена начала выяснять, отчего ее Алеша не в настроении, то, пока не узнает причину, не успокоится.
– Н-ну, состояние просто какое-то, – объясняет Маркин, – давление низкое, наверное…
– Выпей кофе, любимый. Заварить?
– Я уже выпил. Спасибо.
Жена смотрит на Маркина заботливым взглядом; Маркина на это тянет сказать ей что– нибудь обидное, грубое. Он неприятен себе за то, что на него смотрят как на больного… Пересиливает себя, старается успокоиться. Целует Елену.
– Ты меня любишь? – ласкаясь, спрашивает она.
– Люблю… – Маркин начинает переворачивать котлеты.
Жена обнимает его со спины, гладит ему грудь под рубашкой.
– И я тебя бесконечно люблю, – нежно шепчет мужу на ухо.
– Осторожно, Лен! У меня важная операция. – Котлеты скользят по лопатке, не желая переворачиваться. – Ч-черт! – ругается Маркин.
Жена отпускает его.
– Ладно, пойду постираю, пока Дарья не артачится. Мультик сидит смотрит.
– Постирай, – отзывается Маркин.
* * *
Решили пообедать, пока не остыло. Пюре свежим только и надо употреблять. Да и котлеты тоже…
– Дашунька с нами покушает? – Жена вносит дочку. – Даша уже большая девочка, надо привыкать за столом, как взрослые, – говорит голосом, каким обычно говорят с детьми, приторно-сладким и словно фальшивым. – Так, отец, давай нам самую большую ложку, мы хотим пюрешки!
Есть вместе с ребенком Маркина не особенно радует. Постоянно настороже – чтобы что-нибудь не перевернула, не залезла пальцами в соль… То одно подай, то другое убери. В общем, никакого удовольствия от еды. А вот Елена все-таки удивительная – и дочку кормит, и сама успевает, еще и наговаривает ребенку всякие ласковые слова.
Дарья все порывается захватить ложку, действовать самой. И когда ей это удается (Елена сдалась: «Попробуй, попробуй, малыш!»), вид у нее становится серьезный, даже несколько высокомерный. Она пытается зачерпнуть из тарелки, но ложка переворачивается ложбинкой вниз. Не получается.
– Давай мама покажет. – Елена ненавязчиво поправляет ложку, помогает наполнить ее пюре и донести до рта. – Во-от, – приговаривает, – вот скоро совсем самостоятельно будем кушать…
Но все же большая часть пюре в последний момент шлепается на пол. Дарья смотрит вниз с изумлением.
– Ничего, ничего, малыш, а мы еще попробуем. Так, набираем картошечки. Молоде-ец…
Маркин, доев свою порцию, выпив чай, встает из-за стола.
– Ну что, заканчивайте, – говорит. – Надо готовиться к травле этой… С минуты на минуту прийти могут.
* * *
Подготавливают кухню. Относят в Сашину комнату посуду, хлебницу, стулья. Маркин прячет в шкаф книгу и тетрадь. Столы, диванчик, шкаф отодвигают от стен. Из-под раковины убирают мусорное ведро, совок, помпу для прочистки сливов. В общем, все лишнее.
За батареей, за отставшими обоями обнаруживаются ждущие вечера тараканьи семейки, но трогать их нет смысла. Все равно им скоро конец…
Освобождают от вещей и туалет, ванную. Елена снимает одежду с вешалки в прихожей.
Только закончили более-менее – телефонный звонок. Снова Маркина. На этот раз Борис.
– Привет, – отвечает Маркин на его приветствие.
– Чем занимаешься? – У Бориса довольно писклявый голос, и телефон эту писклявость только подчеркивает, кажется, будто Борис говорит, беспрестанно улыбаясь до ушей. – Трезвый еще?
– Угу… Вот тараканов собираемся травить, – честно отвечает Маркин.
– Хорошее дело. Мне тоже не мешает. У меня в комнате их просто… Ну, думаю, ты сам помнишь.
Маркин усмехается:
– Гигиену соблюдай. Тарелки надо мыть, полы, все такое…
– Нда? А у вас тогда почему тараканы? – Борис вроде слегка обиделся. – Или вы тоже на гигиену забили?
– У нас мало. Из-за дочки вот… Могут в ухо залезть…
– Что ты несешь?! – завозмущалась жена, услышав последнюю реплику Маркина. – Совсем, что ли, сдурел? – И он получает чувствительный толчок в спину.
– Ну шучу я, – оправдывается Маркин.
– Жена дерется? – угадывает Борис. – Правильно. Я вот что звоню. Вчера в «Бинго» торчал, снял три линии, две по пятьдесят, одну – семьдесят. Прикидываешь, почти на стольник в наваре остался! Сегодня опять собираюсь.
– Давай, искренне желаю удачи.
– А ты присоединиться не хочешь?
– Денег нет.
– Так поторчишь просто. Поучишься, как надо лихо башли снимать.
– Не хочу, – вздыхает Маркин.
– Да соглашайся! Выпьем по паре девяток «Балтики», – уговаривает Борис. – Если солидно сыграю – завалимся в «Голодную утку». Куражнем!
– М-м, не получится, Борь. И настроения что-то нет, дела… Да, вот, – вспоминает Маркин, – тут Дэн звонил, он на какой-то концерт собирается. Позвони ему, может, вместе решите…
– О'кей! Так ты, значит, в отказ?
– Угу.
– Ладно. Привет семье!
Борис кладет трубку, Маркин тоже. И сразу на него нападает жена:
– Идиот, так шутить?! Накаркаешь вот! Я как раз и боюсь этого. У Ольгиной сестры у сына такое было, в больнице лежал…
Ее речь прерывается звонком в дверь. Маркин спешит открыть. Это женщина из фирмы «Идеал».
* * *
Руками в резиновых толстых перчатках она разбрасывает порошок грязно-белого цвета. На плинтусы, под плиту, за холодильник, на швы обоев.
– Бегите, – приговаривает, – бегите, молодчики… – Через респиратор голос ее звучит глухо и жутковато-вкрадчиво; Маркину не по себе. – Беги-ите, ребятки, обложили вас со всех сторонушек…
Молодые, совсем малютки, взрослые усачи, самки с красивыми коробочками-яйцами за спиной выскакивают, задыхаясь, из норок и попадают в отраву. Секунда, другая – и они становятся вялыми, порошок облепляет их, тараканы с трудом расползаются прочь. Срываются со стен, дрыгают ножками, словно растирают коченеющие тельца.
– Вот и ладно, вот и хорошо…
Женщина знает свое дело, ее движения уверенны, броски точны. Аккуратная струйка сыплется за батарею. Вскоре оттуда появляется целая тараканья стая, седая и ослепленная. Стая разбегается по стене, по цветочкам обоев, и постепенно редеет. Один за другим тараканы падают на пол, корчатся, распускают крылышки, зарываются, увязают в смертоносном для них порошке. Единицы достигают подоконника и останавливаются, уткнувшись в оконную раму.
– Столько вызовов, – жалуется травительница, – на дню обхожу квартир по десять. Даже в выходные вот стали работать. Что, на антресоли сыпать?
– Да, – отвечает Маркин, – сыпьте.
– Там коробки какие-то.
– Ничего. – Он подставляет для удобства табуретку.
После антресолей – обработка ванной.
– Кстати сказать, главное – воды они чтоб не нашли. А то отопьются и оживут.
Маркин кивает, следит за процессом.
– И пускай порошок полежит дня два, – продолжает наставлять женщина из «Идеала». – Тут вот в центре его сметите, а у стен пускай лежит. И пол не мойте пока, отопьются.
– Хорошо…
Под ванну, за раковину, во все их убежища. Наконец-то их не будет. Тараканов. По крайней мере год. Год гарантии.
– Если порошочек останется за холодильником, под плитой, за батареей, то они до-олго не придут, побоятся. Не беспокойтесь.
По паркету прихожей ползут полумертвые насекомые. Спотыкаются, кружат на одном месте, вяло шевеля усиками. Их легкие, – если у тараканов есть легкие, – наверное, сгорают сейчас. Как у солдат при газовой атаке. Им нечем больше дышать. Они подолгу отдыхают, склонив головы, потом продолжают путь по полу, надеясь доползти куда-то, тщетно пытаясь спастись. Маркин давит их ногой в тапочке, чтоб не мучались.
– Да не надо, – замечает это женщина. – Они уже все. – И усмехается под респиратором: – Готовенькие!
На Маркина тоже слегка действует порошок. Он чихает, сморкается в платочек. В горле першит.
– Ничего, это не страшно. Вот ребеночка, конечно, пока не надо сюда. Аллергийка может… А дверь балконную можно открыть, проветрить. Им это не поможет. Им только воды не давайте.
Маркин открывает дверь на балкон. Отметил, что на улице дождь. Не сильный, кажется, но все же моросит. Гулять с ребенком, видимо, не получится. В кухню вбегает волна свежего воздуха.
Кончили. Предназначенный для их квартиры кулек порошка израсходован.
– Ну вот, избавила вас. – Женщина снимает перчатки, респиратор, кладет их в сумку.
– Спасибо.
Она подает Маркину бумагу.
– Вот здесь распишитесь, в графе «заказчик». – И добавляет несколько смущенно, как большинство простых людей, когда речь заходит о деньгах: – С вас шестьдесят два рубля.
– Да, да… – Маркин достает из кармана заранее приготовленные деньги, ставит на бланке подпись.
– Так, мг, вот, – собирается женщина. – Еще в три места надо… Прямо эпидемия какая-то этой осенью. До свиданья.
– До свиданья. Спасибо!
* * *
– Как, нормально обсыпала? – встречает Маркина жена.
Она с дочкой прячется в комнате.
– Нормально, – отвечает Маркин, опускается на тахту.
Дарья на полу, таскает за волосы куклу.
– Может быть, нам погулять сходить? – спрашивает жена. – Ольги, жалко, дома нет. Одним придется. А ты пока поработаешь.
– Дождь там, – говорит Маркин.
– Правда? Сильный?
– Не знаю. Какая разница…
Елена подходит к окну.
– Да, капает. И небо все затянуто… – Она садится рядом с мужем. – Прогулка, значит, отменяется.
Смотрят в телевизор. Идет, кажется, сериал про Робин Гуда.
Маркин берет программу, ищет, что бы посмотреть.
– Совсем мертвая программа, – вздыхает жена. – Тоже мне, воскресенье… «Горькую луну» бы дождаться…
– Мда, – соглашается Маркин и откладывает программу.
– А сколько времени?
– Четвертый час. Минут пятнадцать четвертого.
– Даша поспала полчасика и запросилась из кроватки. После прогулки лучше спит…
Наблюдают за дочкой. Та, прекратив таскать куклу, что-то люлюкает, глядя кукле в глаза, затем снова принимается таскать за волосы.
– Ей же больно! – восклицает Елена. – Ай-я-яй, доча! Нехорошо так с маленькими обращаться. Да-арья, перестань!
Дочка, видя, что на нее обратили внимание, визжит и мучает куклу пуще прежнего.
* * *
Приводят в порядок кухню, прихожую, туалет, ванну, Елена сметает тараканов (некоторые еще шевелятся) и спускает их в унитаз; нарушает инструкцию – протирает пол влажной тряпкой. Маркин сдвигает шкаф, столы к стене, возвращает на место тетрадь и Кнута Гамсуна.
– Хоть бы удачное средство оказалось, – говорит жена. – А то и карандашом мазала, и этот «Комбат» покупала дурацкий. Никакого эффекта.
– Посмотрим…
– Да, Саша звонил, я ему разрешила до половины восьмого задержаться.
– А пообедать?
– Сказал, что у друга перекусил. Сидят у него, играют.
– Угу…
– Пусть отдохнет, завтра в школу, – вздыхает Елена то ли с грустью, то ли с завистью (надоело дома сидеть).
– И на работу, – добавляет бесцветно Маркин.
Он ожидает, что сейчас жена заговорит о своем незащищенном дипломе на высших режиссерских курсах при ВГИКе. Но, слава богу, не стала. Вместо этого произносит:
– Надо бы картошки купить. Ты всю дочистил?
– Почти что. На суп хватит.
Жена протирает плиту, раковину, Маркин выскребает тараканов из-за батареи.
– Дождь, может, кончился, – после довольно долгого молчания говорит Елена и выходит на балкон. – Ребенку воздухом подышать…
Маркин направляется вслед за ней, разминая сигарету.
Стоят, облокотившись на ограждение. Внизу тесный дворик, несколько тополей, десяток железных гаражей-ракушек. Дальше – улица Судостроителей, ряды домов до самого горизонта. По улице тащится, позвякивая, трамвай; прохожих мало, машин тоже. В палатках скучают продавщицы. Дождь…
Двенадцатый этаж. Маркин чувствует, как побежали по спине и под мышками холодные мурашки. Никак не может привыкнуть к такой высоте. Прямо под ними – заасфальтированная площадка и крышка канализационного люка. Эта крышка – точно мишень… У Маркина подрагивают колени, кончики пальцев противно пощипывает.
– Пойдем внутрь, – предлагает он, бросая окурок.
– Да, прохладно, – отвечает Елена. – Пойдем.
* * *
Надо все-таки попробовать пописать. В течение дня в голове потихоньку шевелились мыслишки, появлялись идейки, может быть, получится что-нибудь.
И вот Маркин уселся за стол. Делает пару глотков кофе. Раскрывает тетрадь, берет ручку…
Странное дело: почти всю жизнь, лишь с короткими перерывами, Маркин провел в частном доме – попросту в избушке – на краю Минусинска; всегда мечтал о квартире, широкой панораме с балкона, о большом городе. В пятнадцать лет впервые съездил в Ленинград, нашел там приют у панков, познакомился с рок-музыкой, затем каждое лето бывал в Новосибирске, Ленинграде, Омске, но все же основная жизнь была связана с его родной избушкой, с огородом и свиньями, с заготовкой дров… И начав писать, Маркин писал о больших городах, о человеке в большом городе, а теперь, осев в этом большом городе, в самой Москве, не мог почему-то писать ни о чем, кроме избушки, деревни, огорода… Теперь, наоборот, он бывал в Минусинске по месяцу– полтора, летом, и это время становилось для него самым светлым, он ожидал его весь остальной год, чтобы напитаться впечатлениями до следующего лета… Странно, но в Москве он давно уже ничего не видел, ничего интересного, о чем бы стоило написать.
Правда, кроме, так сказать, деревенских, огородных рассказов Маркин время от времени делает заметки, этакие полудневниковые размышления. Страницу-другую. Неизвестно, для чего и куда он может вставить эти заметки, просто они появляются, как бы сами ложатся на бумагу: Маркин почти что против своей воли их записывает…
И сегодня вот, повозившись с неполучающейся повестишкой, он переворачивает тетрадь задом наперед и начинает быстро и торопливо:
«Люди окутаны прозрачной, но крепкой, практически непробиваемой пленкой. К ним трудно подступиться. Они под защитой. Заметают следы, прячут лица, отводят глаза. Люди идут своим маршрутом, боясь сбиться с него. Люди знают, что вокруг обман и холод, вокруг капканы, ловушки, ямы. Ничего нет проще, чем оступиться, погибнуть. И довериться кому-то, соединиться, поверить – это конец. Держаться на плаву легче поодиночке.
«А любовь?» – спросите вы.
Сколько я видел семей, все они напоминают палаты неизлечимых больных. Единственная надежда – дети, ради них теперь, мол, и стоит жить. Для их будущего. Но дети повторяют путь родителей и, повзрослев, вьют новые семейные гнездышки – новые палаты, плодят новые поколения неизлечимых больных.
Любовь – вот сила, способная прорвать эту прозрачную прочную пленку, эту защиту людей от уколов окружающего мира. Взаимная любовь, обоюдная… Соединившись, решив шагать по жизни рука об руку, парочка на самом деле стремительно идет ко дну. Многие одумываются и поскорей разбегаются. Чтобы спастись. Пока окончательно не захлебнулись, не легли на дно, даже не потревожив ил, не уснули. Не начали растворяться. Но дети… Дети – знак полного тупика, крепкие кандалы, и надо резать по живому, если необходимо освободиться и всплыть.
Человек все равно, в любых условиях, как бы ни распылял себя в заботах о своих близких, все равно больше думает о себе. И жалеет себя. Как бы бескорыстны ни казались его жертвы, они бескорыстны до определенного предела, они питаются ответными жертвами. И изредка, словно бы опомнившись, человек задумывается о себе самом, оглядывается назад, видит огонек настоящей жизни. Где-то далеко-далеко, во временах полузабытой юности, некогда тягостного, казалось, невыносимого одиночества; и теперь то время становится для него утерянным, невосполнимо разрушенным счастьем. И человек ужасается, он хочет бросить сегодняшнее, освободиться, вернуться, раздуть огонек, хочет залатать изорванную пленку защиты на своем обессиленном, раздавленном «я».
И что значат в такие моменты для очнувшегося: давным-давно переродившаяся в нечто совсем иное любовь? Дети, которые, взрослея, становятся все дальше и дальше? Что такое обязанности перед семьей, бескорыстные жертвы, удобства, проблемы, компромиссы? Обиды, прощения? Три гвоздички на день рождения? В такие моменты – холод, усталость, опустошенность. Человек пытается прокрутить в памяти пробежавшие, точно в густом тумане мелькнувшие годы и догадывается об ошибке. Он понимает, что все не так, как бы должно было быть. В таких случаях принято говорить традиционно-успокаивающее: «Что ж, жизнь не сложилась». Но что делать? Надо же что-то делать, исправить как-нибудь… Нет, теперь уже поздно. Назад не вернешься. И человек закрывает глаза, обнимает посапывающую сладко супругу (у нее прозрение произойдет в другую похожую ночь), прижимается к ее теплому телу. Призывает сон; зовет черную легкость бесчувствия. До утра. Ведь необходимо отдохнуть перед следующим днем, близнецом вчерашнего, позавчерашнего… В семь утра ведь вскакивать под треск будильника, возвращаться к обязанностям, проблемам, удовольствиям, жертвам, ссорам и примирениям. И вечерней бесплодной усталости…»
* * *
– Алексей! – зовет жена. – Подойди на секунду.
Маркин встает и идет в комнату.
– Что случилось?
Дочка на горшочке. Приученно тужится:
– Как-ка-ка-ка…
– Представляешь, сама попросилась! – Елена радуется. – В кроватке заволновалась так…
– Молодец, – кивает Маркин, взглядом спрашивает: «И это все, зачем позвала?»
– Приготовь ей кефиру, пожалуйста. Уже пора кормить. Сделай в бутылке с соской, может, уснет.
– Угу…
Он возвращается на кухню, достает из холодильника двухсотграммовый пакет детского кефира, переливает в бутылочку. Ставит под горячую воду… Быстро он привык к такой трате воды. Конечно, теперь же не таскает ее ведрами от колонки, – течет вот она и течет из крана…
В туалет прошла жена с горшочком в руках.
– Покакала! – счастливо сообщает. – Вот, совсем уж взрослый человек!
– Классно. – Маркин тоже старается обрадоваться.
Подождав, когда кефир нагреется, он выключает воду, встряхивает бутылочку и несет ребенку.





