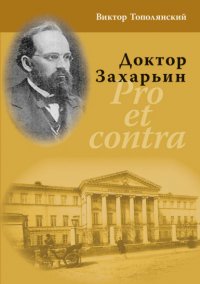
Читать онлайн Доктор Захарьин. Pro et contra бесплатно
- Все книги автора: Виктор Тополянский
Введение
Технический прогресс и философские концепции XVIII-XIX столетий основательно расшатали казавшиеся в прошлом незыблемыми устои традиционного врачевания. Одним из предвестников исподволь надвигавшегося кризиса медицины оказалось двоемыслие. Известный немецкий врач первой половины XIX века Гуфеланд однажды признался: «В больнице я обязан поступать, как велит мне совесть, а на кафедре я вынужден говорить то, чего все требуют».
На закате ХХ века в средствах массовой информации появилось несметное число удивительных объявлений: всевозможные народные целители уведомляли о своей готовности излечить любой недуг; дипломированные парапсихологи и члены Российской Академии оккультных наук сулили каждому больному полное восстановление здоровья за умеренную плату; потомственные колдуны и маги за небольшую мзду предлагали устранить «сглаз и порчу». Невиданный прежде расцвет знахарства и шарлатанства свидетельствовал о безусловной утрате престижа официальной медицины.
Поскольку такой кризис созревает обычно на протяжении многих лет, уместен вопрос: кто стоял у его истоков? Ответить на него позволяет в известной степени биография доктора Захарьина – знаменитого во второй половине XIX века профессора медицинского факультета Московского университета. В непрестанной погоне за призраком жизненного успеха доктор Захарьин стал одним из основоположников безудержной коммерциализации врачебной помощи, официально преобразованной в медицинские услуги, и непосредственно связанной с этим дегуманизации медицины.
I. На старте
Ваша страна – увы! – похожа на все страны в мире. Богатство и бедность, знатность и рабство, смерть и несчастья, разум и глупость, святость, преступления, совесть, бесстыдство – всё это перемешано так тесно, что просто ужасаешься.
Евгений Шварц. «Тень»
1.1. Доктор Г.А. Захарьин (1860).
Биография миллионера и нашумевшего в прошлом медицинского авторитета Григория Антоновича Захарьина напоминает старинную географическую карту, изобилующую белыми пятнами с надписью на них: “Terra incognita”. В перечне «загадок жизни и судьбы», как выражались порой советские историки медицины, дата его появления на свет обычно не упоминалась. Опираясь на информацию Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1894), исследователи дружно повторяли: Захарьин родился в 1829 году.1 По утверждению профессора Гукасяна, автора монографии, посвящённой этому безусловно нестандартному человеку, Захарьин родился в Пензе 8 (20) февраля 1829 года, а встречающиеся в литературе иные числа следует считать ошибочными.2 В итоге именно эту дату советские историки медицины признали установленной и сомнений не вызывающей.3
Между тем при жизни Захарьина в Российском медицинском списке неизменно фигурировала другая дата его рождения – 1830 год. В конце XIX века безымянный корреспондент газеты «Московские ведомости» напечатал «наиболее полные и точные сведения» по этому поводу: жизненный путь Захарьина начался в Пензе 8 февраля 1830 года.4 Тот же день и год называли потом историк Языков и преемник Захарьина в терапевтической факультетской клинике профессор Попов.5 Такое разногласие можно было бы рассматривать, наверное, как очередную, хотя и не замеченную ранее загадку жизни и судьбы именитого профессора, если бы в архивном «деле о принятии» Захарьина в число студентов Московского университета не отложилось представленное ниже его метрическое свидетельство:
По Указу Его Императорского Величества Пензенская Духовная Консистория слушала, во-первых: прошение штабс-ротмистра Антона Сергеева сына Захарьина о выдаче ему из метрических книг града Пензы Введенской церкви за 1830-й год, о времени рождения сына его Григория, свидетельства на предмет помещения его в учебное заведение; и, во-вторых, справку, по коей оказалось, что в метрических за тысяча восемьсот тридцатый год Пензенской Введенской церкви под номером девятнадцатым записано так: у штабс-ротмистра Антона Сергеева Захарьина сын Григорий рождён осьмого и крещён четырнадцатого числа февраля месяца. Приказали: как из справки видно, что у штабс-ротмистра Захарьина сын Григорий по метрическим книгам, записанным в числе родившихся, значится, то просимое свидетельство выдать. Каковое и выдано за подлежащим подписом и с приложением печати из Пензенской Духовной Консистории Декабря 11 дня 1837-го года.
Кафедральный протоиерей Фёдор ОстровидовСекретарь Миловский.6
Отец будущей знаменитости Антон Сергеевич Захарьин принадлежал к обедневшему дворянскому роду и совместно с братьями владел 225 душами крестьян мужского пола в Сердобском уезде Саратовской губернии. В сентябре 1810 года в возрасте 19 лет он покинул свою усадьбу ради службы корнетом в лейб-гвардии Уланском полку. Через несколько месяцев его перевели в гусарский полк. за последующие три года ему довелось участвовать в войне с Турцией на территориях Молдавии и Валахии, неоднократно отличиться в боях и в партизанских действиях против наполеоновской армии, перенести пулевое ранение в подбородок и наконец в чине штабс-ротмистра вступить в Париж в составе войск антифранцузской коалиции.
В феврале 1816 года, выйдя в отставку (формально по болезни), он женился, вернулся в своё имение, занялся сельским хозяйством и за шесть лет стал отцом троих сыновей и одной дочери. Что-либо рассказать о его интересах, характере и мировоззрении, равно как о личностных особенностях его супруги, скупые архивы, естественно, не могли. Известно лишь, что спустя примерно четыре года после рождения четвёртого ребёнка отставной гусарский офицер сочетался повторным браком. Поскольку в те времена, тем более в глухой провинции, о разводах и не помышляли, тогда как родильная горячка и прочие женские напасти слыли страданиями весьма заурядными, надо полагать, что первая спутница его жизни скончалась после четвертых родов.
В рукописной грамоте о занесении его вместе с потомством во вторую часть дворянской родословной книги Саратовской губернии ничего не говорилось ни о судьбе его первой жены, ни о времени и месте заключения нового брачного союза. Там было сказано только одно: вторым браком Антон Сергеевич Захарьин сочетался с дочерью надворного советника Григория Геймана Людмилой Григорьевной, от коей к 1833 году имел троих детей – Елизавету 6 лет, Григория 3 лет и Сергея 2 лет.7
Отец второй супруги отставного штабс-ротмистра, Гейман (Heimann) Григорий (Hertz, Heinrich-Gregor) Ефимович (1771–1843), был уроженцем Германии и обладателем врачебного диплома одного из немецких университетов. После защиты докторской диссертации он принял предложение правительства Российской империи, приглашавшего европейских врачей для оказания медицинской помощи больным и раненым солдатам, и приехал в Вильно то ли на исходе XVIII века, то ли в самом начале 1802 года. Там он состоял врачом при Виленском почтамте и директором оспопрививательного института, был членом-учредителем Виленского медицинского общества, а в местном университете читал лекции по патологии, изданные потом под заглавием «Pathologiae Medicae Elementa» (Wilno i Warszawa, 1811).
Поскольку один из его сыновей, 1802 года рождения, в возрасте 15 лет поступил в Московский университет, можно полагать, что семья Геймана перебралась в Москву не позднее 1817 года. Где он проживал и в каком учреждении служил после переселения, неизвестно. Согласно его официальной биографии, он стал консультантом Мариинской больницы для бедных и удостоился в конце концов чина надворного советника (равнозначного армейскому рангу подполковника). Однако в списке сотрудников этой больницы со дня её основания в 1806 году его фамилия отсутствует.8 Наиболее вероятно, что занимался он преимущественно частной практикой; во всяком случае лекарства по его рецептам регулярно отпускали аптеки на Пречистенке и на Арбате.9 Вероисповедание доктора медицины Геймана не нашло отражения в его очень сжатой и неточной биографии; нельзя исключить, что он остался некрещёным. Скончался он в Москве в преклонном по тогдашним понятиям возрасте и был погребён на Иноверческом кладбище на Введенских горах.10
По утверждению советского историка медицины Лушникова, жена мелкопоместного дворянина Антона Захарьина и мать будущего профессора Московского университета Григория Захарьина «была внучкой известного учёного, профессора Фишера фон Вальдгейма, президента Московской медико-хирургической академии, друга Гёте и Шиллера».11 Отсюда вытекает, что Григорий (Готгельф, Готхельф, Gotthelf) Иванович Фишер фон Вальдгейм (Fischer von Waldheim, 1771–1853) должен был оказаться отцом либо Геймана Григория Ефимовича, либо супруги последнего и, соответственно, дедом Захарьиной Людмилы Григорьевны, урождённой Гейман. Такое открытие советского историка следовало бы отнести, безусловно, к ещё одной загадке жизни и судьбы профессора Захарьина, ибо неясно, каким образом младенец 1771 года рождения сумел перевоплотиться в отца не то мальчика того же года рождения, не то его будущей жены.
Доктор Гейман сочетался законным браком в самом начале 1800 года; 28 декабря того же года родилась его старшая дочь Анна. Если предположить, что супруга доктора Геймана была намного моложе своего мужа, возникает вопрос: в каком году она родилась? Чтобы выйти замуж хотя бы в 16 лет, она должна была появиться на свет в 1784 году, когда Фишеру фон Вальдгейму было всего 13 лет. Надо сказать, однако, что в конце XVIII века гимназические и даже студенческие браки отнюдь не поощрялись. В действительности Фишер фон Вальдгейм вступил в свой первый и единственный брак 25 июля 1801 года, а его первенец Александр (будущий заслуженный ординарный профессор Московского университета) родился в городе Майнце в 1803 году.12 Таким образом, стать прадедом Захарьина профессор Фишер фон Вальдгейм не мог ни при каких обстоятельствах.
1.2. Естествоиспытатель, почётный член Императорской Академии наук Г.И. Фишер фон Вальдгейм.
Тем не менее между Фишером фон Вальдгеймом и доктором Гейманом установились в последующем родственные отношения. Сын доктора Геймана Родион взял в жены дочь Фишера фон Вальдгейма Августу. К своему тестю, основателю Московского общества испытателей природы, Родион Гейман испытывал чувство глубокого уважения, считал его крупным учёным, называл «истинным христианином» и через два года после его смерти с волнением и печалью вспоминал о «той нежной внимательности», с которой Фишер фон Вальдгейм «в течение более чем двадцати лет услаждал страдания своей больной супруги».13
Старшая дочь доктора Геймана Анна Григорьевна в 1822 году вышла замуж за дворянина из Петербургской губернии, капитана Генерального штаба Патона (von Patton) Петра Ивановича (1796–1871) и через год родила сына Оскара. Eё муж отлично зарекомендовал себя в сражениях против наполеоновских войск (1812–1814), в войне с Турцией (1828) и в боевых действиях против горцев на Кавказской линии (1844–1845). Кавалер множества орденов, в том числе Святого Владимира 4-й степени с бантом (1829), Святого Владимира 3-й степени (1840) и Святого Владимира 2-й степени с мечами (1862), он стал в конечном счёте сенатором (1853) и генералом от инфантерии (1869).14 Двоюродный брат будущего профессора Захарьина со стороны матери, инженер, участник Крымской войны, надворный советник (чин, соответствовавший армейскому рангу подполковника) Оскар Петрович Патон (1823–?) в 1858 году приобрёл имение (3500 десятин земли, 268 ревизских душ мужского пола) в Бельском уезде Смоленской губернии, после чего покинул гражданскую службу в Петербурге и в дальнейшем занимал место российского консула сначала в Ницце, потом в Бреслау.15 Его сын Евгений Оскарович Патон (1870–1953) остался в истории как выдающийся специалист в области сварки и мостостроения, академик АН УССР (1929), вице-президент АН УССР (1945–1952) и Герой Социалистического Труда (1943).
Двое сыновей доктора Геймана получили медицинское образование. Старший из них, доктор медицины Венедикт (Бенедикт Соломон) Григорьевич Гейман (1801–1874) пользовался в Москве репутацией искусного целителя. не случайно поэтому высокое начальство, закрыв глаза на то, что он был некрещёным евреем, назначило его ординатором Московского военного госпиталя, а двоюродная сестра декабриста Якушкина, хозяйка литературного салона Левашова выбрала его в качестве персонального доктора для своей семьи и проживавшего во флигеле её дома на Новой Басманной улице Чаадаева. Впоследствии Чаадаев высказывался о своём личном враче Геймане так: «Ему воздвигнул памятник в своём сердце».16 По данным Российского медицинского списка, в 1854 году Венедикт Гейман стал кавалером ордена Святой Анны 3-й степени, а в 1856 году вышел в отставку в чине статского советника.
Наибольшую известность приобрёл, однако, второй сын доктора Геймана – заслуженный ординарный профессор Московского университета, действительный статский советник Родион (Rudolf) Григорьевич Гейман (von Heimann, 1802–1865). Хорошее домашнее воспитание в состоятельной еврейской семье и очень неплохие способности позволили ему с 13 до 15 лет обучаться на физико-математическом и медицинском факультетах в Вильне, до 18 лет слушать лекции по медицине в Москве, в 20 лет защитить докторскую диссертацию «О пользе химии в медицине» (« De utilitate chemiae in medicina») и с 21 года преподавать химию в Московском университете и в Медико-хирургической академии сначала в должности адъюнкта, а позднее (с 32 лет) – в звании ординарного профессора. Ему сразу же удалось разжечь интерес студентов к его предмету, так как лекции он читал увлекательно и чуть ли не каждую из них сопровождал различными химическими опытами, производившими неизгладимое впечатление на неискушённую аудиторию.
Задумав посвятить себя учёной деятельности в Московском университете, он принял христианство, после чего присущие ему упорство и находчивость, организаторский талант и особое умение угождать вышестоящим обеспечили молодому преподавателю неизменное благорасположение начальства и стабильный карьерный рост. В 1830 году, когда в городе разразилась эпидемия холеры, московский генерал-губернатор включил его в специально созданный медицинский совет, куда вошли и такие маститые врачи, как Гааз и Лодер, Мухин и Поль. По окончании эпидемии он был удостоен монаршего благоволения и ордена Святой Анны 3 степени «за особенные труды и усердие при исправлении должности главного медицинского инспектора Мясницкой части и временной холерной больницы». Поскольку холеру считали тогда несравненно опаснее чумы, Геймана наградили, в сущности, не столько за «особенные труды и усердие», сколько за проявленные им бесстрашие и верность врачебному долгу. В дальнейшем за ревностное исполнение своих обязанностей и распоряжений начальства его жаловали и бриллиантовым перстнем, и орденами Святого Станислава 3 степени и Святой Анны 2 степени, и знаками отличия беспорочной службы за 15, 20 и 30 лет.17
Ещё в бытность свою адъюнктом он снискал себе необычайную популярность в московских торговых кругах, постоянно участвуя в качестве эксперта в городских мануфактурных выставках. К 1836 году связи ординарного профессора химии с коммерческим миром настолько упрочились, что его назначили директором первого в Российской империи стеаринового завода, состоявшего под официальным покровительством графа Строганова – попечителя Московского учебного округа. С той поры граф оказывал ему «особенное доверие» в течение всего периода своего попечительства. Когда же Родион Гейман стал членом Московского отделения Мануфактурного Совета, Строганов признал в нем «умелого исполнителя своих забот о развитии московской промышленности».18
1.3. Попечитель Московского учебного округа граф С.Г. Строганов.
От столь добрых взаимоотношений графа с ординарным профессором университет только выиграл, ибо обзавёлся новой, «настоящим образом устроенной лабораторией», где занятия химией «были впервые поставлены более научно». Однако сугубо утилитарный склад мышления Родиона Геймана обусловил не строго научное, а преимущественно практическое направление преподавания на его кафедре, что, впрочем, целиком отвечало воззрениям попечителя Московского учебного округа. не остались внакладе и московские предприниматели, поскольку с 1836 года Родион Гейман, с превеликим, как всегда, старанием осуществляя поручение графа Строганова, читал ежегодные курсы публичных лекций по технической химии, привлекавшие до 300 слушателей.
С годами Родион Гейман, всё более поглощаемый всевозможными коммерческими и техническими хлопотами, всё менее ответственно относился к преподаванию и всё чаще пренебрегал чтением лекций, возлагая на своего лаборанта демонстрацию тех или иных опытов. В августе 1854 года его отправили в отставку «за выслугою срока», с мундиром, присвоенным должности, и с пенсией, достигшей полного оклада профессорского жалованья.19 Было ему в то время всего лишь 52 года. Он сохранял прежнюю бодрость и подвижность, но вместе с тем производил впечатление настолько солидное и внушительное, что университетские сторожа неизменно величали его «генералом».20 Внезапное увольнение его весьма огорчило, однако заступиться за профессора было некому: давешний его покровитель граф Строганов ушёл с поста попечителя Московского учебного округа за семь лет до того. Родион Гейман скончался в возрасте 63 лет и был погребён на Иноверческом кладбище на Введенских горах вместе с первой своей супругой Августой, урождённой Фишер фон Вальдгейм. Там же предали земле вторую его жену Вильгемину (урождённую Мартос), пережившую мужа на четыре года. Рядом с ними похоронили его старшую сестру Анну Патон, урождённую Гейман.21
Крайне обрывочные сведения о младшей дочери надворного советника Геймана, родившейся в 1803 или 1804 году, в общем малосодержательны. Вполне вероятно, что в детстве она под руководством отца и совместно с братьями изучала дома историю и географию, немецкий и французский языки, но невозможно даже предположить, почему образованная московская барышня из зажиточной врачебной семьи согласилась обвенчаться с отставным гусарским офицером из поволжского захолустья, да ещё 35-летним вдовцом, обременённым выводком несовершеннолетних детей. Можно лишь допустить, что она просто засиделась в невостребованных невестах и её родители поспешили сбыть её замуж. Произошло это не позднее 1826 года (на следующий год она сама стала матерью).
Много лет спустя профессор Захарьин рассказывал коллегам, что его мать приняла христианство непосредственно перед вступлением в брак с его отцом.22 На исходе XX столетия в метрической книге Николаевской церкви города Пензы была обнаружена запись от 26 октября 1829 года: «Штабс-ротмистра Антона Захарьина жена лютеранского исповедания Людмила Григорьева миром помазана».23 Приходится думать, что перед бракосочетанием, примерно в 1826 году, мать Захарьина избрала протестантское вероисповедание, а три года спустя и за три с лишним месяца до появления на свет старшего сына, названного в честь деда по материнской линии Григорием, перешла в православие.
Сам по себе факт рождения будущего медицинского авторитета в Пензе, а не где-нибудь в Саратовской губернии подтолкнул советского историка медицины Лушникова к очередному биографическому открытию, выраженному всего в одной фразе: «Отец Захарьина вскоре после рождения сына разошёлся с женой, и детство ребёнка прошло в имении отца в Саратовской губернии».24 Детство ребёнка действительно прошло в Саратовской губернии, о чем никогда не забывал и сам Захарьин. «Я родился в Пензе и состою пензенским землевладельцем, – писал он, например, обер-прокурору Святейшего Синода Победоносцеву 6 марта 1896 года. – Отец мой был землевладельцем Саратовской губернии, где я и вырос».25 Вот только «разойтись» с женой отцу Захарьина не довелось, и не потому, что разводы были тогда просто-напросто нереальны, а потому, что расставаться со своей супругой у отставного штабс-ротмистра никакого желания не было. Следующий сын четы Захарьиных, названный Сергеем в честь деда с отцовской стороны, родился 22 октября 1831 года в селе Трескине Сердобского уезда Саратовской губернии.26
Дед будущего профессора Московского университета, надворный советник Сергей Наумович Захарьин скончался в 1819 году. После его смерти трое сыновей покойного произвели раздел оставшейся недвижимости. По решению Пензенской Гражданской палаты Антону Сергеевичу Захарьину достались село Трескино, расположенное недалеко от него сельцо Облизовка и более 70 душ крепостных крестьян и дворовых людей. не то в 1832-м, не то в 1833 году он продал село Трескино и семь или восемь лет вместе с женой и многочисленным потомством обитал в соседнем сельце Облизовке, где ему принадлежали 30 крепостных душ мужского пола.27 Впоследствии профессор Захарьин предпочитал не вспоминать о своём деревенском детстве и в официальных бумагах аттестовал себя дворянином Саратовской губернии, лишь изредка добавляя к этому «Сердобского уезда», но никогда не называя сельцо Облизовку, доставшееся его отцу по наследству после раздела дедовских владений.
Не позднее начала 1841 года отставной штабс-ротмистр продал оставшуюся часть унаследованного имения и семья Захарьиных переселилась в Саратов.28 В 11 лет (27 сентября 1841 года) Григория Захарьина отдали в саратовскую гимназию; за время обучения он продемонстрировал отличное поведение и отличные успехи по всем предметам, за исключением рисования, черчения и чистописания.29 Его своеобразный замкнутый характер, как уверяла неплохо информированная о судьбе Захарьина газета «Московские ведомости», в значительной степени сложился в тот период «под влиянием отца, под влиянием крепкого патриотического духа и блестящей литературы сороковых годов, под влиянием поэзии Пушкина, под влиянием строгого режима тогдашней гимназии».30
Летом 1847 года он завершил семилетнее среднее образование, обретя право на чин 14 класса через год после начала гражданской службы, и уехал в Москву, где исправно служили родные братья его матери. Там он поселился в доме своего дяди, ординарного профессора химии Геймана, и поступил на медицинский факультет Московского университета. Через три года всё тот же профессор Гейман приютил в своём доме его младшего брата Сергея, тоже окончившего саратовскую гимназию и принятого на первый курс медицинского факультета Московского университета.31
Каких-либо документальных свидетельств того, как сложилась жизнь родителей двух братьев-студентов после 1850 года, когда младший из них объявился в Москве, не обнаружено. По легенде, запущенной в оборот через 90 лет, многолюдная семья Захарьина «сильно бедствовала» и его мать была вынуждена давать уроки музыки.32 Даже если она отличалась такой же музыкальной одарённостью, как её родной брат Родион Гейман, в семилетнем возрасте сочинивший опубликованные в Кёнигсберге вариации для фортепьяно, то кому же нужны были её уроки в сельце Облизовке? Можно допустить, впрочем, что, овдовев, Людмила Григорьевна перебралась в Пензу, где проживали родственники её почившего мужа и где её знание иностранных языков и умение музицировать пригодились ей в добывании хлеба насущного.
1.4. Посвящение Родиону Григорьевичу Гейману в докторской диссертации Г.А. Захарьина.
В этом отношении производят впечатление достоверности мемуары доктора Петра Филатова (младшего брата прославленного педиатра Филатова и отца советского академика офтальмолога Владимира Филатова). В 1867 году ученик 7 класса Пензенской гимназии Пётр Филатов начал брать ежедневные уроки французского языка у соседки по дому, где он снимал комнату, – больной, почти ослепшей и очень пожилой женщины, бывшей когда-то замужем за бедным помещиком Саратовской губернии. Её часто навещал сын, Пётр Антонович Захарьин, «человек непутёвый, без образования, служивший писарем в казённой палате», но вместе с тем хорошо известный в городе специалист по дрессировке легавых собак. Преподавательница неоднократно уверяла Филатова, будто другой её сын, видный московский профессор, занимает место директора клиники. Приблизительно через полтора года, увидев профессора Захарьина в Московском университете, Филатов с чувством крайнего удивления констатировал, что этот важный господин с черной бородой, в черном сюртуке и с тростью в руках представлял собою «вылитый портрет» одинокой и малоимущей женщины, учившей его французскому языку.33
1.5. Офтальмолог и хирург П.Ф. Филатов.
Воспоминания доктора Филатова вызывали тем не менее какое-то недоумение. В самом деле, почему престарелая мать профессора Захарьина прозябала в постыдной нужде, в то время как её сын держал сотни тысяч рублей в акциях Рязанской железной дороги? не сохранились ли в необъятной памяти профессора какие-то неизжитые детские обиды? не чувствовал ли он себя ущемлённым, оттого что вырос не в родовом поместье, а в каком-то захудалом поселении с малопривлекательным названием? не стеснялся ли он своих незадачливых провинциальных родителей? Или не мог простить отцу распродажи наследственных владений, а матери – её еврейского происхождения. И если уж он не воздавал должное ни отцу, ни матери, то кого же из своих многочисленных родственников ценил и почитал безоговорочно? Вот на этот вопрос ответил сам Захарьин в 1853 году, написав в своей диссертации посвящение:
«Родиону Григорьевичу Гейману, Ординарному Профессору Химии, Члену Мануфактурного Совета, Действительному Статскому Советнику, Кавалеру и Члену разных учёных обществ русских и иностранных, высокоуважаемому дяде в знак искренней любви и истинной благодарности».
II. Первые достижения
Я не волшебник, я ещё только учусь…
Евгений Шварц. «Золушка»
В августе 1847 года Захарьина зачислили на первый курс медицинского факультета Московского университета. К тому времени «золотой век» попечительства графа Строганова приблизился к неизбежному концу. Уже 25 ноября 1847 года либерального графа сменил его недавний помощник – казённый педант Голохвастов.
Через год революционная ситуация в Европе побудила российские власти срочно ввести в действие новые инструкции о порядке обучения и усилении надзора за учащимися, отменить преподавание ряда гуманитарных дисциплин, в том числе государственного права других стран, возложить на профессоров богословия чтение лекций по логике и психологии, а заодно повысить плату за высшее образование. Министр народного просвещения даже изготовил для императора специальный доклад о вредоносных последствиях изучения философии и для студентов, и для всей державы. Российское просвещение, которое нуждалось ещё, как писал Соловьёв, в тепличных условиях, «вынесенное на мороз, свернулось». В сановных кругах принялись негромко обсуждать умело запущенные в общество слухи о целесообразности закрытия университетов – рассадников вольнодумства и потенциальной крамолы. На всякий случай в 1849 году профессуру обязали заранее готовить подробные программы лекций для предварительного рассмотрения их начальством. Вплоть до 1855 года над университетской жизнью нависли «тяжёлые сумерки» последнего периода царствования Николая I – «времени покоя и тишины, покоя мертвенного и тишины кладбищенской», когда всякую живую мысль считали преступной, а самую умеренную жалобу – бунтом.34
При таких обстоятельствах от учащихся требовали в первую очередь примерного поведения и отменного прилежания, а вовсе не остроты ума и непредвзятости мышления. для получения же врачебного диплома студенту нужна была особая, цепкая, натренированная зубрёжкой память, поскольку в медицине середины XIX века, не пустившей ещё ни физиологических, ни биохимических корней и во многом догматической, проникновение в суть явлений подменялось обычно механическим заучиванием внешних признаков той или иной патологии. для характеристики того периода лучше всего, наверное, подходило старинное латинское изречение: Сколь мало нужно разума, чтобы овладеть медициной. Как заметил Боткин, окончивший Московский университет в 1855 году, «будущность наша уничтожалась нашей школой, которая, преподавая нам знание в форме катехизисных истин, не возбуждала в нас той пытливости, которая обусловливает дальнейшее развитие».35
В университете
По отчётам о состоянии и действиях Императорского Московского университета с 1848 по 1851 годы, Григорий Захарьин выделялся поведением очень хорошим и успехами в науках отличными; более того, на третьем курсе он удостоился похвального отзыва за сочинение на латинском языке «О происхождении лихорадки». О тех же его качествах шла речь и в аттестате, выданном ему 4 сентября 1852 года за подписями ректора и декана: «При отличном поведении, окончив курс по медицинскому факультету, допущен был к испытанию прямо на степень Доктора Медицины, но не представил ещё диссертации для окончательного утверждения его в той степени; определением же Университетского Совета, 10 июня сего года состоявшимся, согласно его прошению, утверждён в степени лекаря с предоставлением ему права, по защищении диссертации, получить без экзамена степень Доктора Медицины».36
Потребность быть не просто первым учеником, а лучшим на счету начальства объяснялась не только и, наверное, не столько честолюбием молодого способного провинциала, сколько скудостью его материальных ресурсов. Формально от начала и до конца обучения в университете он оставался своекоштным студентом, иначе говоря, находился на собственном содержании и сам оплачивал своё образование; фактически же сомнительно, чтобы его вконец обедневшие родители могли помогать ему регулярно, да ещё в достаточной мере из своих мизерных средств. Наиболее вероятно, что постоянную поддержку, в том числе и финансовую, ему оказывал брат его матери – заслуженный ординарный профессор химии Московского университета и член Московского отделения Мануфактурного Совета Родион Гейман.
Более чем скромное существование в юности не могло не отразиться на характере и привычках Захарьина. во всяком случае его безвестный биограф из газеты «Московские Ведомости», тщательно избегавший какого-либо упоминания о родственниках Захарьина с материнской стороны, предложил свою вполне приемлемую трактовку формирования своеобразного комплекса отличника у будущего медицинского авторитета: «Очутившись в Московском университете с крайне скудными средствами, среди бедной студенческой обстановки, без родных и знакомых, он отдался всецело изучению медицины и усердно занялся дополнением своего образования самым разнообразным чтением. Невольное отчуждение от столичного общества с его лоском, манерами, хорошими и дурными влияниями, на всю жизнь наложило отпечаток оригинальности на умного самолюбивого юношу, выросшего в бедной провинциальной ученической квартире».37 Буквально в тех же самых словах, только без кавычек, описал становление личности Захарьина и один из его советских биографов.38
2.1. Профессор факультетской терапевтической клиники Московского университета А.И. Овер.
Вместе с тем стремление показать себя с наилучшей стороны подстёгивало ощущение (несмотря на молодость, надо полагать, достаточно осознанное), что для успешной карьеры ему, неимущему провинциалу, жизненно необходима солидная протекция. Главным его благодетелем со дня приезда в Москву оставался наиболее близкий родственник Родион Гейман; не случайно именно ему посвятил Захарьин свою докторскую диссертацию. Профессор Гейман – фигура достаточно заметная и в университете, и в городе – старался, конечно, всячески помогать почтительному племяннику, но теперь его содействия уже не хватало. И тогда в качестве явного покровителя Захарьина выступил директор терапевтического отделения факультетской клиники Овер.
Современники единодушно признавали Овера светилом медицинского факультета. Чрезвычайно изысканный господин с несколько надменным выражением красивого лица и манерами очень важного барина, на мундире которого пестрело не менее трёх десятков наград разных государств, а через плечо извивалась зелёная лента персидского ордена Льва и Солнца, Овер отличался замечательной эрудицией и уникальной способностью чуть ли не с первого взгляда, почти интуитивно распознавать болезни.39
Самый энергичный и самый преуспевающий московский врач, целиком поглощённый колоссальной частной практикой, да ещё подготовкой четырёхтомного атласа (по материалам многолетних клинико-анатомических сопоставлений), он, однако, откровенно манкировал профессорскими обязанностями. В свою клинику он врывался всегда неожиданно, не чаще одного-двух раз в месяц, хотя по программе должен был заниматься преподаванием девять часов в неделю, с окружающими держался высокомерно, с адъюнктом бывал до неприличия резким и накопленными знаниями со студентами в сущности не делился, если не считать пяти-шести случайных лекций в семестр, прочитанных звонким сердитым голосом на блистательном, но малопонятном для большинства слушателей латинском языке.
Спустя много лет бывшие выпускники Московского университета Белоголовый и Боткин вспоминали терапевтическое отделение факультетской клиники с чувством трудно скрываемой досады. Первый считал клинику Овера «малонаучной и непитательной», порождавшей у студентов чувство неудовлетворённости, тогда как второй изъяснялся более сдержанно: «Профессор Овер, несмотря на свой бесспорно большой талант практического врача, к сожалению, не мог передать нам своего инстинктивного искусства узнавать и лечить больных и потому не имел достаточного влияния на наше развитие». Вслед за ними, но более неприязненно высказался Сеченов, назвав Овера «особой, увешанной несметным количеством орденов, но не показывавшей и носа в свою клинику».40
Почему этот в сущности чёрствый человек, не помнивший по фамилии ни одного студента и отнюдь не увлечённый педагогической деятельностью, задержал вдруг свой холодный пристальный взор на Захарьине, неизвестно. Можно лишь предполагать, что однажды он пошёл навстречу просьбам или уговорам коллеги, Родиона Геймана, либо его тестя, Григория Фишера фон Вальдгейма, знавшего Овера с детства и оказывавшего ему «нравственную поддержку в тяжёлых обстоятельствах».41 Так или иначе, но 10 июня 1852 года Овер подал в Совет университета прошение: «На открывшуюся вакансию ассистента вверенного мне отделения, находя вполне достойным студента Григория Захарьина, выдержавшего в минувшем мае месяце экзамен на степень Доктора Медицины, честь имею покорнейше просить Совет Университета исходатайствовать ему определение в означенную должность».42 Поскольку в тот день Совет университета утвердил Захарьина в степени лекаря, нельзя исключить, что решение предоставить место ассистента вчерашнему студенту, только что получившему звание докторанта, возникло у Овера внезапно и своё прошение он написал всё на том же заседании Совета.
Вопрос о назначении новоявленного выпускника Московского университета на скромную должность ассистента требовал, однако, всестороннего рассмотрения и согласования. Всякой официальной бумаге надлежало перемещаться от чиновника к чиновнику степенно и с оглядкой, а не вприпрыжку, как в странах, где полагают, что время – деньги. не удивительно поэтому, что лишь в конце декабря 1852 года попечитель Московского учебного округа уведомил ректора: «Высочайшим Приказом по Гражданскому Ведомству 3 сего декабря лекарь Захарьин определен ассистентом Терапевтического Отделения Факультетской Клиники Московского Университета».43
В клинике Овера
Когда томительное ожидание резолюции высокого начальства закончилось, и Захарьин получил наконец и место в клинике, и казённую квартиру, и первое жалованье в размере двухсот рублей серебром в год, настала пора срочной подготовки докторской диссертации. В 1853 году девяностостраничный опус «Учение о послеродовых болезнях, изложенное Григорием Захарьиным» вышел в свет на русском языке с посвящением достопочтенному дяде Родиону Гейману.
Тут же выяснился, кстати, ещё один университетский покровитель Захарьина, поскольку в самом начале своего исследования диссертант написал: «Пользуюсь случаем выразить публично полную признательность моему высокоуважаемому профессору, Алексею Ивановичу Полунину, не отказавшему мне в своих советах».44 Внешний вид и манеры ординарного профессора Полунина, возведённого впоследствии в ранг одного из основоположников патологической анатомии в Российской империи, придавали ему удивительное сходство с обычным сельским дьячком: «Маленький, лысый с зачёсанными вперёд жиденькими висками, в допотопном фраке, он ходил как-то особенно, как будто подпрыгивая на каждой ноге и вместе с этим раскачиваясь в стороны, и всею своею фигурою напоминал семинарию, хотя, кажется, вовсе и не был семинаристом. Голос его был похож отчасти на гусиный, а говорил он, словно упирая на букву “о” и почти к каждому слову прибавляя частицу “с”, даже во время чтения лекций».45 Чрезвычайно аккуратный в исполнении своих обязанностей, студентов пятого курса он обучал патологической анатомии, второго курса – патологической физиологии, а третьего курса – общей терапии. для него было, по-видимому, не так уж и важно, что преподавать, лишь бы возвышаться на кафедре и ежегодно читать по засаленной пожелтевшей тетрадке одни и те же бесполезные для студентов лекции.
Невозможно даже предположить, почему этот невзрачный, тщеславный и довольно холодный человек взялся протежировать вчерашнему студенту. за истечением срока давности, как говорят юристы, невозможно также ответить на вопрос, почему Захарьин принёс свою благодарность не родителям, не учителям и даже не директору клиники, а трудолюбивому схоласту Полунину, совершенно лишённому, по словам Белоголового, «того священного огня», который всегда озаряет деятельность крупных учёных и педагогов. Не исключено, впрочем, что Захарьин просто заискивал перед Полуниным, поскольку тот пользовался безусловным влиянием в Совете университета, да ещё редактировал «Московский Врачебный Журнал».
2.2. Титульный лист докторской диссертации Г.А. Захарьина (1853).
Перевод напечатанного трактата на латинский язык затянулся на несколько месяцев, из-за чего публичная защита диссертации под названием «De puerperii morbis in genere atque de peritonitide puerperali in specie (О послеродовой болезни вообще и послеродовом перитоните в особенности)» состоялась только 5 июня 1854 года.46 По миновании летних каникул Захарьин счёл полезным для будущей карьеры обзавестись ещё и другими дипломами и аттестатами.
После испытания его практической сноровки (судебно-медицинского исследования тела московского мещанина, который повесился в полицейском участке) он выдержал экзамены по судебной медицине, медицинской полиции и эпизоотическим болезням и 14 ноября 1854 года был удостоен звания уездного врача.47 Через месяц он сдал экзамены по теоретической и практической хирургии (в частности, показал на трупе, как следует производить резекцию стопы, и вылущил атерому на лице пятилетнего ребёнка, помещённого в хирургическую факультетскую клинику) и 15 декабря того же 1854 года был утверждён в звании оператора.48
Проявленная Захарьиным несколько избыточная, на первый взгляд, поспешность в приобретении дополнительных врачебных сертификатов имела достаточно серьёзные основания. Дело в том, что должность ассистента в середине XIX века никто не воспринимал ни как пожизненную синекуру, ни как изнурительную трудовую вахту. Она не давала никому ни особых прав, ни преимуществ. Её рассматривали, пожалуй, как своеобразную пересадочную станцию между беспечной и, главное, безответственной студенческой юностью и хлопотливой, предприимчивой зрелостью, а предоставляли всего на два года, с тем чтобы за этот относительно небольшой отрезок времени молодой лекарь добавил к своим теоретическим познаниям определенные практические навыки, продемонстрировал, насколько он способен к преподаванию и самостоятельным научным изысканиям, или выбрал для себя какое-то иное поприще. Двухлетний срок службы ассистентом в клинике Овера истекал у Захарьина в конце 1854 года, и продлить его на несколько месяцев или хотя бы недель можно было лишь под каким-либо очень весомым предлогом.
Нарастающее беспокойство относительно своего будущего даже вынудило Захарьина 15 ноября 1854 года запросить копию своего формулярного списка, чтобы отослать её в Киев.49 Там, в университете Святого Владимира, он надеялся, очевидно, занять место, соответствовавшее его претензиям, интересам и квалификации. Ответ из Киева пришёл, по всей вероятности, неутешительный, и тогда в судьбу Захарьина вмешался старший брат его матери – доктор медицины, статский советник Венедикт Гейман, служивший в Московском военном госпитале.
С кем встречался доктор Гейман, озабоченный неопределённостью положения своего племянника, в анналах Московского университета отражения не нашло. Тем не менее хлопоты его увенчались замечательным успехом. Крайне желательную отсрочку неумолимо надвигавшегося увольнения Захарьин получил 25 января 1855 года. В тот день помощник попечителя Московского учебного округа направил ректору Московского университета неожиданное сообщение: «Начальник всех пехотных резервов и запасных войск Армии уведомил Г[осподина]Московского Военного Генерал-Губернатора, что по недостатку врачей в запасной дивизии 6-го Пехотного Корпуса изъявил желание принять на себя пользование нижних чинов Ассистент Императорского Московского Университета Доктор Медицины Захарьин. <…. К прикомандированию Захарьина к запасной дивизии 6-го Пехотного Корпуса препятствий не имеется, если прикомандирование это не будет препятствием ему в исполнении обязанностей по должности ассистента».50
Нестандартный манёвр доктора Геймана какой-то старательный чиновник зафиксировал потом в формулярном списке Захарьина: «Был по собственному желанию прикомандирован, по случаю тифозной эпидемии, к лазарету запасной бригады 17-й пехотной дивизии для пользования заболевших воинских чинов с 25 января по 3 мая 1855 года. во всё время исправлял должность с усердием и ревностию, в удостоверение чего и выдано ему командующим означенною бригадою генерал-майором Лобком от 10 мая 1855 года за №4393 свидетельство».51
Ещё в 1839 году маркиз де Кюстин подметил: «В России ничто не называется точным словом; любое сообщение здесь – обман, которого следует тщательно остерегаться».52 У каждого умудрённого долгой службой российского чиновника, тем более у многоопытного университетского начальства, этот тезис никаких сомнений не вызывал. Раз сам начальник всех пехотных резервов и запасных войск Армии лично обратился к московскому военному генерал-губернатору по столь ничтожному поводу, как временное трудоустройство молодого ассистента университетской клиники, значит, оный до сих пор себя ничем особенным не проявивший врач обзавёлся весьма влиятельным покровителем.
2.3. Главный доктор Московского военного госпиталя В.В. Пеликан.
Относительно родственных отношений Захарьина университетская администрация обладала сведениями вполне достаточными, чтобы вычислить, кто именно и перед кем мог ходатайствовать за ожидавшего увольнения ассистента факультетской клиники. Прочными и многочисленными связями в закрытом для посторонних военном ведомстве обладал один лишь сердобольный доктор Венедикт Гейман, питавший симпатию к одарённому племяннику. Вполне возможно, что Венедикт Гейман позволил себе обеспокоить настойчивыми хлопотами мужа своей старшей сестры, тогда ещё генерал-лейтенанта Патона, назначенного с 1853 года «присутствовать в Сенате с оставлением по армии». Но запросто обратиться к начальнику всех пехотных резервов и запасных войск Армии только ради того, чтобы помочь безвестному московскому лекарю, – на такое был способен лишь один давний знакомый доктора Геймана, тайный советник Венцеслав Пеликан.
Потомок литовских дворян, уроженец города Слонима (одного из центров еврейской оседлости) Гродненской губернии, Пеликан с 1817 года работал ординарным профессором кафедры теоретической и практической хирургии медицинского факультета Виленского университета, где учился будущий доктор Гейман. В 1838 году Пеликан стал главным врачом Московского военного госпиталя, и с его благословения доктор Гейман поступил на штатную врачебную должность в этом учреждении. Через восемь лет карьера Пеликана круто взмыла вверх: его назначили директором Медицинского Департамента Военного Министерства. С 1851 года он исполнял кроме того (по совместительству, как выражались в последующем) обязанности президента Медико-хирургической академии, а с 1854 года ещё и председателя Военно-медицинского учёного Комитета. Как писал один из биографов Пеликана, «его государственный ум, глубокая проницательность и испытанная честность сразу заставляли признать в нем, со стороны одних, мудрого и честного советника и исполнителя, а со стороны других – опытного наставника и руководителя».53 Ни один войсковой, да, наверное, и гражданский, начальник не взял бы на себя смелость хоть в чем-нибудь отказать персоне столь высокого ранга.
Крайне озадаченный сложившейся ситуацией, ректор Московского университета задумал на всякий случай поощрить Захарьина, чтобы тем самым ненароком потрафить его вельможному патрону (как говорил тот же маркиз де Кюстин, «в этой империи насилия страх оправдывает всё», а «угодничество – промысел не хуже других»). О своём намерении ректор доложил попечителю Московского учебного округа. Помощник последнего, в свою очередь, 28 февраля 1855 года проинформировал министра народного просвещения о столь беспрецедентном по отношению к ассистентам предстательстве:
«Ректор Московского Университета, основываясь на засвидетельствовании Директора Терапевтического Отделения Факультетской Клиники Московского Университета донёс, что ассистент того отделения Доктор Медицины Захарьин в продолжении двух лет исправлял должность свою с примерным усердием, полным знанием дела при благородном поведении, в особенности оказал отличную деятельность и самоотвержение во время двух холерных эпидемий, когда в клиниках были учреждены холерные больницы. В вознаграждение особенно полезной службы ассистента Захарьина Ректор Университета ходатайствует о назначении ему, при увольнении от службы за выслугою срока, в выдачу единовременно годового оклада двухсот рублей серебром из экономических сумм клиники, принимая при сем во внимание и бедное состояние г[осподина] Захарьина и затруднительность положения его до приискания новой службы. <…> Разделяя вполне мнение о полезных и отличных трудах ассистента Захарьина, считаю долгом покорнейше просить о назначении ему означенного пособия при увольнении его от службы». Через пять месяцев, 26 июля 1855 года, Министерство народного просвещения поставило в известность помощника попечителя о Высочайшем повелении: выдать Захарьину двести рублей серебром из экономических сумм клиники.54
Пока в заоблачных сферах всяческого начальства обсуждался вопрос о воздаянии в виде единовременного пособия, Захарьин, покинув лазарет запасной бригады 17-й пехотной дивизии, принялся срочно готовиться к очередным экзаменам. «По надлежащем испытании в медицинском факультете» 9 июня ему вручили свидетельство об утверждении его в звании акушера, а 16 июня 1855 года отправили в бессрочный отпуск.55
На вынужденных каникулах
Инициативный и самолюбивый доктор медицины, недавно избранный к тому же действительным членом Физико-медицинского общества (первого в Российской империи медицинского общества, учреждённого при Московском университете в сентябре 1804 года и просуществовавшего до 1917 года), вновь очутился на перепутье. Можно было бы вернуться к родителям в поволжское захолустье, но это означало навсегда проститься с честолюбивыми помыслами; не зря же в застойной атмосфере николаевского режима вылупилась на свет поговорка: дома жить – чина не нажить. Можно было бы с головой окунуться в частную практику, но 25-летнему врачу без солидной репутации не стоило даже мечтать о приличных гонорарах. Отставному доктору медицины оставалось либо покориться обстоятельствам и признать стоявшие перед ним препятствия непреодолимыми, либо сделать совершенно неожиданный ход, способный потрясти университетскую администрацию.
«Уступчивость или податливость не были в его характере, – констатировал впоследствии профессор Снегирёв. – Он был боевой человек и натура наступательная. Раз он решал наступать – все свои способности, силы он употреблял до конца».56 Какие действия предпринял Захарьин после увольнения, у каких высокопоставленных лиц, смирив гордыню, побывал на приёме, какие аргументы выложил своим покровителям – таких секретов архивные документы не выдают. В фонде Московского университета сохранилось только заявление Овера на имя ректора, написанное 29 июля 1855 года (почти через полтора месяца после увольнения Захарьина) ровным, чётким, изящным почерком:
«Состоявший при Терапевтическом отделении Факультетской клиники Ассистент Доктор Медицины Захарьин ныне, по выслужении узаконенного срока, Высочайшим приказом 16 июня сего года от службы уволен. Постоянно замечая в нем усердие к исправлению своей должности, любовь к науке и старание более и более совершенствоваться во врачебных ея отраслях, я, по просьбе его, Захарьина, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство, во уважение усердной службы бывшего моего Ассистента, ходатайствовать пред Высшим Начальством о разрешении ему отправиться на год за границу, в Германию и Бельгию, для дальнейшего усовершенствования себя в медицине, – с увольнением его от взноса узаконенной платы за годовой заграничный паспорт».57
При внимательном чтении этого прошения бросалась в глаза одна странность. Дело в том, что российских подданных ничуть не прельщала возможность «усовершенствования во врачебных науках» в Бельгийском королевстве. Торговцев манили туда знаменитые кружева, революционеров – стрелковое оружие, естествоиспытателей – химическое оборудование. В 1841 году Родион Гейман, исполняя поручение графа Строганова, побывал в Германии, Франции и Бельгии, откуда привёз различные учебные пособия и множество неизгладимых впечатлений. Нельзя исключить в этой связи, что 29 июля 1855 года за спиной Овера, нежданно-негаданно выступившего с ходатайством о зарубежной командировке Захарьина, стоял Родион Гейман, не упомянувший о посещении Франции из-за продолжавшейся Крымской войны.
Между тем высокомерное безразличие директора факультетской терапевтической клиники к собственным сотрудникам (тем более бывшим) было настолько заметным для современников, что внезапная вспышка его альтруизма не могла не возбудить у администрации Московского университета чувства смутной тревоги. не имея, скорее всего, точного представления о том, под давлением какого сановника настрочил Овер своё неожиданное прошение, ректор счёл за благо оное ходатайство поддержать и 12 сентября 1855 года отослал попечителю Московского учебного округа блестящую характеристику Захарьина, акцентировав в ней ревностную службу молодого доктора медицины в лазарете запасной бригады 17-й пехотной дивизии.58
Вслед за тем обнаружилась тенденция к прямо-таки невероятному для российского делопроизводства ускоренному движению бумаг входящих, равно как исходящих. для начала сам Захарьин 3 октября подал ректору Московского университета прошение:
«Будучи представлен Начальством Императорского Московского Университета к увольнению на год за границу, за собственный счёт, для дальнейшего усовершенствования в медицинских науках – с целью быть потом полезным Правительству в качестве Преподавателя при каком-либо из отечественных Университетов, – желая провести это время с возможно большею пользою, но не имея для того вполне достаточных средств, беру смелость покорнейше просить Ваше Превосходительство об исходатайствовании мне у Начальства небольшого денежного вспоможения от Московского Университета».59
Поскольку годовое жалование ассистента составляло двести рублей, университетская администрация без долгих раздумий пришла к заключению: если к этому окладу добавить ещё сотню, то уж трёхсот рублей Захарьину с лихвой хватит и на дорожные расходы, и на проживание в западных странах. Совершенно удовлетворённый собственной щедростью за счёт казны, ректор тут же обратился к своему начальству за соответствующим благословением. Однако попечитель Московского учебного округа решения университетской администрации не одобрил. Чиновник не менее искушённый, но, видимо, более осмотрительный, нежели ректор, попечитель придерживался в данной ситуации правила извечно популярного, хотя и крайне редко соблюдаемого: рука дающего да не оскудеет. Свои соображения о размере пособия он изложил ректору 21 октября:
«Ваше Превосходительство от 5 сего октября за №1714 ходатайствует о выдаче Доктору Медицины Захарьину из университетских сумм 300 рублей в пособие на путевые издержки при отправлении его за границу.
Находя ходатайство о таковом пособии за выданным ему уже однажды вознаграждением неудобным, а вместе с тем имея в виду, что Захарьин по отличным способностям и любви к науке мог бы со временем с пользою занять место преподавателя Университета, я покорнейше прошу Ваше Превосходительство предложить о том на соображение Медицинскому Факультету с тем, не найдёт ли он со своей стороны полезным, в видах приготовления на будущее время достойного преподавателя, отправить Захарьина за границу на казённый счёт с обязательством прослужить определенный срок по ведомству Министерства Народного Просвещения и о последствиях с Вашим по сему предмету заключением мне донести.
При сем не излишним считаю присовокупить, что известные мне, а равно и Факультету данные о способностях и ревностном занятии наукой Захарьина, по мнению моему, представляют положительные ручательства в том, что он достойно оправдает ходатайство о нем пред Высшим Начальством и вознаградит те издержки, которые мог бы сделать Университет для его дальнейшего образования».60
Точку зрения попечителя «по сему предмету» ректор довёл до сведения медицинского факультета 31 октября.61 Так как суждения начальства надлежало принимать без сомнений и возражений, 15 ноября декан медицинского факультета отрапортовал Совету университета о единодушном желании профессуры командировать Захарьина в чужие края на казённый счёт.62
Затем наступило временное затишье, связанное с перемещением официальных бумаг из Москвы в Петербург. Только 15 марта 1856 года министр народного просвещения проинформировал попечителя Московского учебного округа о положительном решении по делу Захарьина, и лишь через две недели, 29 марта, ректор уведомил медицинский факультет о Высочайшей санкции: «Доктора Медицины Захарьина отправить на один год в Германию и Бельгию для усовершенствования в медицинских науках с выдачей ему на путевые издержки тысячи рублей серебром из экономической суммы Московского Университета с тем, чтобы он по возвращении в Россию прослужил по распоряжению Министерства Народного Просвещения не менее 6 лет в звании преподавателя одного из Русских Университетов».63
В первой зарубежной командировке
Формально Захарьин числился в зарубежной командировке с 15 марта 1856 года. Фактически же, получив «установленным порядком» заграничный паспорт, он смог покинуть пределы Российской империи не ранее первой половины июня, поскольку соответствующее указание университетскому казначею о выплате Захарьину единовременного пособия последовало только 16 мая. Перед отъездом декан медицинского факультета вручил ему инструкцию о рациональном самоусовершенствовании в западных клиниках:
1. Он должен заниматься преимущественно Патологией и Терапией медицинской и основными науками Патологии и Терапии – Патологической Анатомией, Патологической Физиологией, Патологической Химией, Фармакологией.
2. В настоящее время он найдёт в Вене достойнейших представителей по всем названным наукам и там обратит особенное внимание на клинические лекции профессоров Шкоды, Оппольцера, Гельма, Гебры, на лекции анатомо-патологические Рокитанского и лекции Патологической Химии Геллера.
3. Сколько позволит время, он займётся опытной физиологией и микроскопической анатомией.
4. Кроме лекций названных преподавателей, по его усмотрению, он будет посещать лекции и других учёных и, кроме Вены, побывает, если время позволит, в Праге, Берлине и других городах.
5. Он постоянно будет посещать больницы и вникать в их устройство и разнообразные выгоды и невыгоды для клинического преподавания.
6. В бытность в Брюсселе он осмотрит больницы этого города. По окончании путешествия он представит подробный отчёт о своих занятиях за границей.64
Чрезмерная, даже немного странная опека вполне самостоятельного доктора медицины, владевшего немецким и французским языками, объяснялась достаточно просто: с 1848 по весну 1855 годов зарубежные командировки молодых учёных были фактически упразднены. Хоть с весны 1855 года (после кончины Николая I и воцарения Александра II) в Москву стали просачиваться осторожные слухи о предстоящих либеральных реформах, сознание верноподданных чиновников по-прежнему заполняли многолетние тотальные страхи. И Захарьин, рождённый и воспитанный в условиях мрачной стагнации предыдущего царствования, нисколько не возражал против явно избыточного попечения своего начальства. Строго соблюдая инструкцию, он приехал в Вену и 2 сентября 1856 года написал первый отчёт:
«В Медицинский Факультет Императорского Московского Университета находящегося для усовершенствования во врачебных науках за границею Доктора Медицины Григория Захарьина
Донесение
Вследствие словесно сообщённого мне Господином Деканом Медицинского Факультета желания Факультета получать от меня каждые два месяца краткий отчёт о моих занятиях за границею, имею честь довести до сведения Факультета следующее:
1. Прибыв в Вену, я во вторую половину июня месяца и в течение июля посещал различные клиники внутренних болезней, по преимуществу клинику Профессора Шкоды.
2. В августе, по закрытии клиник на вакационное время, посещал различные отделения Общей Больницы, по преимуществу отделение Доктора Колиско.
3. В течение второй половины июня, в июле и августе занимался практически Физиологической и Патологической Гистологией человеческого тела в лаборатории Профессора Ведля.
4. Во вторую половину июля и в августе слушал курс Опытной Физиологии Профессора Людвига.
5. Присутствовал при вскрытиях трупов, производимых Профессором Рокитанским и его ассистентом.
Вышеприведённое составляет перечень моих занятий в Вене за вторую половину июня, июль и август.
Доктор Медицины Григорий Захарьин. Вена, 1856 года, 2/14 сентября».65
В тот же день, 2 (14) сентября 1856 года, Захарьин написал два прошения, адресовав одно из них ректору Московского университета, а другое попечителю Московского учебного округа. Сугубо деловой тон второго прошения немного смягчался выражением надежды на сохранение благосклонности Его Превосходительства, наряду с покорнейшей просьбой о покровительстве; в остальном же оно представляло собой полную копию первого. В самом начале своего письма Захарьин упомянул о мирном договоре между Российской империей и странами антироссийской коалиции, завершившем Крымскую войну и заключённом 18 (30) марта 1856 года.
«Отправляя меня за границу для усовершенствования во врачебных науках ещё до заключения мира, окончившего последнюю войну, Университет назначил мне пробыть год в Германии и Бельгии. Ознакомившись на месте с состоянием Внутренней Медицины и связанных с нею наук – предметами моих занятий, определенными инструкцией Медицинского Факультета, я увидел, что мне, по крайней мере по моим силам, необходимо пробыть приблизительно около 3 или 4 месяцев сверх года в одной Германии для того, чтобы вполне удовлетворить инструкции Факультета и достойно воспользоваться богатствами, представляемыми теми врачебными науками этой страны, которые составляют предмет моих занятий.
Так как при том посещение Парижа сделалось в настоящее время возможным, то я думал, что для цели моего отправления за границу мне было бы полезно познакомиться на месте с французскою медициною и обогатить свои сведения посещением знаменитых медицинских учреждений Парижа. Эти поводы заставляют меня обратиться к Вашему Превосходительству с покорнейшею просьбою исходатайствовать мне позволение пробыть другой год за границею с сохранением получаемого мной содержания 1000 рублей серебром в год и паспорт на проезд во Францию.
Осмелюсь прибавить, что я желал бы, если моя просьба будет найдена основательною, получить паспорт и назначенную на содержание сумму в Берлине через Русское Посольство в этом городе».66
Не в тексте, а в интонации этого послания (особенно последнего его абзаца) университетская администрация могла бы уловить не столько просительную, сколько требовательную нотку. Однако университетское начальство решило тональность этого прошения проигнорировать. В ноябре 1856 года медицинский факультет и Совет университета, одобрив столь замечательное стремление к знаниям, ходатайствовали перед попечителем Московского учебного округа о дозволении господину Захарьину пробыть за границей ещё один год сверх назначенного срока.67 Сам же Захарьин продолжал совершенствоваться во врачебных науках, о чем уведомил декана в очередном донесении:
«Честь имею довести до сведения Факультета, что, оставаясь сентябрь, октябрь и ноябрь месяцы текущего 1856 года в Вене, я занимался следующим:
1. Посещал клиники внутренних болезней Профессоров Оппольцера и Шкоды;
2. посещал клинику грудных болезней Профессора Колиско;
3. посещал клинику болезней кожи Профессора Гебры;
4. посещал клинику сифилитических болезней Профессора Сигмунда;
5. занимался практически Патологической Гистологией человеческого тела в лаборатории Профессора Ведля;
6. во время бывшего в Вене в прошлом сентябре месяце 32-го Съезда Немецких Натуралистов и Врачей посещал заседания Отделений Внутренней медицины, Анатомии и Физиологии.
Доктор медицины Григорий Захарьин. Вена, 1/13 декабря 1856 года».68
Следующее, третье по счету донесение Захарьин отправил из Галле – небольшого немецкого города неподалёку от Лейпцига со своим университетом, основанным в 1694 году. Внятных объяснений, почему он перебрался именно в этот провинциальный город, не упомянутый в инструкции, медицинский факультет не получил:
«Честь имею довести до сведения Факультета, что декабрь месяц прошлого 1856 года и январь текущего 1857 я оставался в Вене, продолжая посещать клиники Профессоров Шкоды, Оппольцера, Гебры, Сигмунда и Колиско, и занимался Патологической Гистологией человеческого тела в лаборатории Профессора Ведля. В Вене пробыл я всего 7 Ѕ месяцев, с половины июня 1856 года по конец января 1857. Чтобы заняться Физиологической Химией и её приложением к Клинической Медицине, я отправился, по совету некоторых венских профессоров, в Галле, где и нахожусь в настоящее время, работая в химической лаборатории Профессора Гайнца (Heintz) и посещая клинику Профессора Фогеля (Julius Vogel).
Доктор медицины Григорий Захарьин. Галле 1/13 февраля 1857 года».69
Последующие три месяца Захарьин провёл в Галле, а затем поспешил в Москву, хотя сначала планировал получить деньги и паспорт, не покидая территории Германии, через российское посольство. Единственным, в сущности, основанием для срочного приезда была тяжёлая болезнь его младшего брата Сергея, два года назад с отличием окончившего медицинский факультет Московского университета. Сразу же по прибытии, 22 мая, Захарьин доложил ректору: «Возвратившись в назначенный срок из-за границы, имею честь представиться Вашему Превосходительству и представить при сем мой заграничный паспорт».70 Через двое суток, 24 мая, Сергей Захарьин скончался в возрасте 25 лет. Причина смерти молодого лекаря осталась неизвестной. В фонде Московского университета сохранилась только записка ректора на имя попечителя Московского учебного округа от 25 мая 1857 года: «Честь имею донести Вашему Превосходительству, что ассистент акушерского отделения факультетской клиники сего университета лекарь Сергей Захарьин вчерашнего числа волею Божиею умер».71
Во второй зарубежной командировке
Похоронив брата, Захарьин стал собираться в дорогу. Никакого резона для задержки в пыльной летней Москве у него не было. К тому же с 5 мая 1857 года он числился в зарубежной командировке, так как в тот день министр народного просвещения проинформировал попечителя Московского учебного округа о Высочайшем дозволении господину Захарьину совершить новый вояж в западные страны и даже посетить Францию.72 Оставалось лишь получить обещанное пособие, но на этот раз Совет университета проявил исключительную расторопность и 10 июня распорядился выдать Захарьину на путевые издержки и содержание за границей одну тысячу рублей серебром из суммы, собираемой со студентов за прочитанные им лекции.73 В конце июня Захарьин покинул Москву и направился в Бреслау (Бреславль, ныне Вроцлав). Спустя почти пять месяцев университет получил от него давно ожидаемое четвёртое донесение:
«Честь имею довести до сведения Факультета, что июль месяц сего года я пробыл в Бреслау, где занимался в микрографической лаборатории Профессора Рейхардта и посещал клинику Профессора Фрерихса.
Конец летнего семестра и начало зимнего, до половины текущего ноября месяца, я оставался в Галле, занимаясь медицинской химией в лаборатории Профессора Гайнца и посещая клинику Профессора Фогеля.
В настоящее время нахожусь в Берлине, где посещаю:
● клинику внутренних болезней Профессора Траубе,
● клинику нервных болезней Профессора Ромберга,
● клинику детских болезней Профессора Эберта,
● клинику глазных болезней Профессора Грефе и
● демонстративный курс патологической анатомии Профессора Вирхова.
Доктор медицины Григорий Захарьин, Берлин, 1857 года, 7/19 ноября».74
Довольная присланным отчётом, университетская администрация не сочла нужным прояснить одну странность: с какой целью Захарьин провёл в общей сложности около семи месяцев в Галле? Вряд ли его целиком захватила малоизвестная и, в сущности, заурядная клиника профессора Юлиуса Фогеля. Более вероятно, что его внимание приковала к себе лаборатория органической химии Вильгельма Гайнца (Гейнца) – сорокалетнего профессора, уже составившего себе в те годы солидную репутацию, но не в медицинском, а в техническом мире. Однако углублённое изучение органической химии не привлекало Захарьина ни раньше, ни в последующем. Раз так, то истратить несколько драгоценных месяцев заграничной командировки на занятия тем, что его никогда не интересовало, он мог по просьбе (или, может быть, по конкретному поручению) какой-то весьма уважаемой персоны – например, своего высокочтимого родственника и покровителя, заслуженного ординарного профессора Родиона Геймана, три года назад уволенного в отставку, но тесных связей с московскими промышленниками отнюдь не растерявшего.
О своём пребывании в Галле Захарьин, надо полагать, никому ничего не рассказывал. во всяком случае его любимый ученик и главный биограф профессор Голубов заверял, будто «за границей Захарьин учился сначала в Берлине» у Вирхова, Траубе и Фрерихса, а потом в Париже у Труссо, Клода Бернара и «у других знаменитостей того времени».75 То же самое повторяли вслед за Голубовым, нередко забывая на него сослаться, советские историки медицины. На самом деле, как видно из его пятого по счету донесения, в 1857 году Захарьин обретался в Берлине очень недолго и свою квалификацию повышал не в клинике Фрерихса, ещё служившего тогда в Бреслау, а в основном под руководством Вирхова и Траубе:
«Честь имею довести до сведения Факультета, что до конца прошлого 1857 года я оставался в Берлине, где продолжал слушать демонстративный курс патологической анатомии и курс общей патологии Профессора Вирхова, заниматься под его руководством патологической микрографией человеческого тела и посещать поименованные в моем прошлом донесении клиники, по преимуществу клинику профессора Траубе.
С начала настоящего года я нахожусь в Париже, где посещаю разные госпитали <…> и слушаю курс Клода Бернара в College de France (физиология и патология соков человеческого организма), курс сифилитических болезней Доктора Лангльбера и курс болезней мочевых путей Доктора Кодмона.76
Доктор Медицины Григорий Захарьин. Париж, 1858 года, 19/31 января».77
Спустя два месяца Захарьин причинил университетской администрации огорчение непредвиденное и оттого особенно чувствительное. Вместо реляции о новых успехах в преодолении медицинских премудростей он прислал прошение об отсрочке учебной кампании ещё на один год:
«10/22 июня настоящего года истекает срок моего двухлетнего пребывания за границей. из этого времени я пробыл полтора года в Германии и, следовательно, могу остаться только полгода в Париже. Но, пробыв около трёх месяцев в этом городе, я убедился, что полугодичного пребывания в нем решительно недостаточно для того, чтобы сколько-нибудь основательным образом познакомиться с богатством его госпиталей и достойно воспользоваться ими, как того требует полученная мною от Факультета инструкция. Два обстоятельства по преимуществу условливают эту невозможность. Первое – то, что визитации во всех парижских госпиталях происходят в одно время, а потому ежедневно возможно посещение лишь одного госпиталя; посещение же госпиталей вне этого времени редко возможно и притом далеко не представляет того интереса, как присутствие при визитациях врачей. Второе обстоятельство есть огромность представляемого госпиталями материала – не только в смысле цифры больных и возможности наблюдать вдруг большое число больных, поражённых одинаковыми болезнями, но в особенности в отношении разработки самого материала.
Между врачами больших городов – Парижа, может быть, по преимуществу – сильно развита наклонность к специальному разрабатыванию отдельных частей медицины, что, естественно, объясняется удобством наблюдать много сходных болезней в одно время, желанием сосредоточить свои силы на одном предмете и, наконец, возможностью сделать это, предоставив другие ветви медицины специальному вниманию других врачей. не вдаваясь в разбор хороших и дурных сторон такого разделения медицинских занятий, можно, однако, положительно сказать, что оно имело последствием замечательное усовершенствование многих частей медицины. Поэтому в парижских госпиталях много таких специалистов по различным частям медицины, клинические курсы которых полны высокого интереса и не могут быть опущены ни в коем случае. <…> Эти обстоятельства делают необходимым по крайней мере годичное пребывание в Париже для достижения цели предписанных мне занятий. С другой стороны, пробыв только полтора года в Германии, я мог остаться лишь на короткое, совершенно недостаточное время во многих весьма важных местах, каковы Берлин, Бреслау и Лейпциг.
Побуждаемый этими обстоятельствами, а с другой стороны не будучи пока ещё обязан исполнением какой-либо службы при Факультете и видя предшествовавшие примеры трёхлетнего пребывания за границей для усовершенствования во врачебных науках, – срок, в необходимости которого я убеждаюсь теперь собственным опытом, – я считаю своим долгом, препровождая вышеизложенные доводы на благоусмотрение Факультета, просить его об оставлении меня ещё на год – считая от 10/22 июня текущего года – за границей с сохранением получаемого мною содержания 1000 рублей серебром в год, – с тем, чтобы половину этого года пробыть в Париже, а другую – в Германии. Причём смею надеяться, что Факультет не оставит меня осведомлением принятого им решения.
Доктор медицины Григорий Захарьин, Париж, 1858 года, 13/25 марта».78
Университетская администрация с большим интересом ознакомилась с аргументами в пользу французской медицины, однако желание продлить ещё на один год заграничную командировку признала неосновательным. В конце апреля (или в самом начале мая) декан сообщил Захарьину о негативной реакции медицинского факультета на его прошение. В ответ Захарьин незамедлительно прислал своё шестое донесение:
«Честь имею довести до сведения Факультета, что по получении мною от Господина Декана уведомления об отрицательном решении Факультета на мою просьбу – остаться ещё год за границей – я отправился из Парижа в Берлин с тем, чтобы, пробыв в этом последнем городе до конца летнего семестра, то есть до будущего августа месяца, потом возвратиться в Москву. до отъезда из Парижа я занимался преимущественно посещением госпиталей, неоднократно упомянутых в моих донесениях Факультету; в Германии же, теперь, посещаю клинику Профессора Траубе и лекции профессора Вирхова.
Доктор медицины Григорий Захарьин. Берлин, 1858 года, 9/21 мая».79
В третьей зарубежной командировке
Из второго заграничного странствия Захарьин, по его же подсчётам, должен был вернуться не позднее 10 июня 1858 года. В своём шестом донесении он обещал приехать в Москву к августу того же года. Как отмечено в его формулярном списке, из этой командировки, официально начавшейся ещё 5 мая 1857 года, он «возвратился в срок».80 На самом деле не так уж и важно, когда именно он объявился в Москве. Существенно другое: 12 августа 1858 года в медицинский факультет Московского университета от «находящегося за границей» Захарьина поступило новое прошение, но на этот раз без указания места временного проживания просителя:
«В течение моего двухлетнего пребывания в Германии и Франции я должен был, по данной мне факультетом инструкции, заниматься Внутренней Патологией и её вспомогательными науками. для выполнения этой инструкции я, с одной стороны, старался ознакомиться с прямым предметом моих занятий – с настоящим состоянием Внутренней Медицины в Германии и Франции посредством посещения клиник, неоднократно поименованных в моих донесениях Факультету, а с другой – употреблять оставшееся время на вспомогательные предметы, преимущественно на Гистологию и Химию человеческого тела в здоровом и больном состоянии.
Гистологией я занимался около семи месяцев у Профессора Ведля в Вене и около полутора месяцев у Профессора Вирхова в Берлине, а химией около четырёх с половиной месяцев у Профессора Гайнца в Галле. Занятия этими предметами, конечно, остались небесплодными: без них, между прочим, было бы совершенно невозможно понимание современной Внутренней Патологии, но, с другой стороны, для современного Патолога они далеко недостаточны в настоящее время, при теснее и теснее становящемся слиянии Физиологии и Патологии. Гистология, Химия и Физика человеческого тела настолько же необходимы для Патолога, как и для Физиолога; никакой прогресс на этом пути невозможен без них. Весь ход немецкой медицины в последние 25 или более лет служит этому блестящим свидетельством. Как на отдельное подтверждение этого я позволю себе указать, хоть, например, на последний труд Фрерихса “Клиника болезней печени”, из которого ясно видно, что гистология, химия, физика и физиологический эксперимент настолько же достояние Патолога, как и Физиолога, что они суть необходимые союзники клинического наблюдения и что последнее, одно, без них решительно бессильно в деле прогресса Патологии. Поэтому не только чтобы быть в состоянии способствовать этому прогрессу, – цель, от которой, конечно, никто охотно не отказывается, – но даже чтобы быть в состоянии понимать плоды его и пользоваться ими, современный Патолог неизбежно должен настолько владеть средствами, представляемыми гистологией, химией и физикой человеческого тела, чтобы быть спокойным за верность необходимо предпринимаемых им, в его области, гистологических, химических и физических работ. Такого обладания названными средствами я не имел возможности приобресть как по недостатку посвящённого изучению их времени, так и потому, что это было лишь время, остающееся от прочих занятий, от посещения клиник и неразрывно связанного с ним изучения патологической литературы; тогда как для того, чтобы приобрести умение владеть этими средствами с уверенностью в результате работ, необходимо исключительное, упорное занятие ими.
Поэтому я считаю своим долгом, предоставляя вышеизложенные доводы на благоусмотрение Факультета, просить его о доставлении мне возможности приличным образом закончить изучение назначенной мне специальности, об отправлении меня ещё на год за границу с сохранением получавшегося мною содержания, тысячи рублей серебром в год.
Доктор медицины Григорий Захарьин, 1858 года, августа 12 дня».81
Категорически отвергнув в апреле предыдущее, ясно изложенное и внутренне более логичное прошение, медицинский факультет с энтузиазмом воспринял новую челобитную, написанную неряшливо и наспех не то в Москве, не то за рубежом. С удивительной скоростью, уже 11 сентября 1858 года медицинский факультет донёс Совету университета, что теперь он находит просьбу господина Захарьина справедливою.82 Столь резкое и быстрое изменение позиции факультета по одному и тому же вопросу рациональному истолкованию не подлежало. не следовало также подозревать прагматичную и прижимистую университетскую администрацию в неожиданной щедрости или в сентиментальном сочувствии Захарьину, признавшему вдруг, что двухлетнее самоусовершенствование за границей, хоть и «осталось небесплодным», но плоды принесло мелкие и незрелые. В качестве наиболее реального объяснения случившегося можно было бы предположить вмешательство некой чрезвычайно влиятельной персоны, пожелавшей выступить в роли негласного благодетеля Захарьина, но имя, звание и должность этой особы неразличимы в сумраке минувшего.
Пока второе прошение о заграничной командировке, оснащённое одобрением медицинского факультета и согласием попечителя Московского учебного округа, ковыляло по инстанциям, сам Захарьин числился в отставке без награждения чином. Но наконец, как зафиксировано в его формулярном списке, с Высочайшего соизволения Захарьин был «вновь отправлен за границу с учёной целью на один год 9 февраля 1859 года и возвратился в срок».83 Дату, проставленную в формулярном списке, не следовало, однако, рассматривать как непреложную, ибо 9 февраля была получена только Высочайшая санкция на выезд за рубеж. Сама же третья командировка началась не ранее второй половины апреля того же года, после того как казначей Московского университета выдал Захарьину, несмотря на связанное с международным финансовым кризисом 1858–1859 годов расстройство денежного обращения в Российской империи, тысячу рублей серебром из суммы, собираемой со студентов за слушание лекций, а московский военный генерал-губернатор, исполняя распоряжение петербургских инстанций, вручил ему «безденежный» заграничный паспорт.84 Спустя три с половиной месяца в Москву пришло последнее, седьмое донесение Захарьина:
«Честь имею довести до сведения Факультета, что летний семестр 1859 года я находился в Берлине, где занимался практически:
1. Нормальной гистологией человеческого тела у Профессора Рейхерта.
2. Патологической гистологией человеческого тела у Профессора Вирхова.
3. Физиологической и патологической химией в лаборатории Патологического Института, состоящей в заведовании Доктора Гоппе. Предметом моих занятий были исследования состава крови, результаты которых по их окончании я надеюсь сообщить.
4. В свободное время посещал клиники Траубе, Фрерихса, Ромберга и Береншпрунга.
Григорий Захарьин. Берлин, 1859 года, 1/13 августа».85
Только теперь, на третьем году своего постдипломного усовершенствования, Захарьин овладел методиками приготовления и окраски микроскопических препаратов и по примеру Боткина приступил к «самостоятельным занятиям» в лаборатории Гоппе-Зейлера. Результаты своей работы он напечатал через два года в «Медицинском Вестнике» и «Вирховском Архиве» под названием «По поводу некоторых вопросов учения о крови». Эта публикация упоминалась потом в учебниках физиологии XIX века.
Отчётов для медицинского факультета он больше не писал, зато из Москвы получал сведения в высшей степени вдохновлявшие. Так как адъюнкта факультетской терапевтической клиники Млодзеевского назначили экстраординарным профессором и переместили на «праздную кафедру» частной патологии и терапии, Овер, выступивший на заседании медицинского факультета 25 ноября 1859 года, предложил кандидатуру Захарьина на освободившуюся должность адъюнкта. По-прежнему находившегося в Берлине Захарьина избрали заочно подавляющим большинством голосов, а 1 февраля 1860 года министр народного просвещения утвердил его в должности адъюнкта.86 В том же феврале Захарьин, так и не побывав в парижских клиниках, на необходимости повторного посещения которых настаивал в последних прошениях, и забыв о предполагавшейся в 1856 году поездке в Бельгию, вернулся в Москву и приступил к исполнению своих служебных обязанностей.
К тому времени в Московском университете о нем уже ходила необычная молва. Одну возникшую тогда легенду озвучил впоследствии профессор Снегирёв, заявив: «Жизнь его была боевая, и всё он взял с бою».87 Предание о феноменально талантливом провинциале с твёрдым бойцовским характером, молодом лекаре, совершенно самостоятельно заложившем фундамент своей головокружительной карьеры, пользовалась большим успехом, поскольку о своих негласных покровителях Захарьин должен был умалчивать даже на исповеди. Чаще всего, впрочем, рассказывали, будто он получил превосходное общее и всестороннее медицинское образование, хорошо знал классическую литературу и даже целый год слушал лекции по истории философии самого Куно Фишера.88 Никого не смущало при этом то обстоятельство, что за период своих заграничных странствий Захарьин ни разу не побывал в Йенском университете, где с 1856 по 1872 годы преподавал Куно Фишер. Слухи о философских интересах Захарьина оказались очень устойчивыми и продолжали циркулировать даже в начале XX столетия.
2.5. Профессор Берлинского университета Людвиг Траубе.
III. Директор факультетской терапевтической клиники
Уверяю вас, единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного.
Евгений Шварц. «Дракон»
В конце января 1911 года, снова и снова всматриваясь в особенности развития Российской империи с её традиционными отсталостью и бесправием, квазиобществом и квазипросвещением, историк Ключевский записал в своём дневнике: «Коренная аномалия нашей политической жизни этих веков [XVIII и XIX столетий] в том, что для поддержания силы и даже существования своего государства мы должны были брать со стороны не только материальные, но для их успеха и духовные средства, которые подрывали самые основы этого государства. Люди, командированные правительством для усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему ненужный и даже опасный. Отсюда двойная забота внутренней политики: 1) поставить народное образование так, чтобы наука не шла дальше указанных ей пределов и не перерабатывалась в убеждения, 2) нанять духовные силы на свою службу, заводя дома и за границей питомники просвещённых борцов против просвещения».89 Своеобразным подтверждением мысли Ключевского была, как бы это ни показалось на первый взгляд странным, преподавательская деятельность Захарьина на протяжении последних 22–24 лет его службы в Московском университете.
Адъюнкт
Из долгих странствий по Западной Европе тридцатилетний Захарьин вернулся, как он говорил позднее, «обновленным».90 Теперь это был уже не скромный провинциал, постоянно нуждавшийся в опеке и покровительстве сильных мира сего, а уверенный в себе врач, готовый с азартом и упорством землепроходца осваивать новые научные рубежи, сокрушать, по словам его учеников, «всё старое и затхлое» и насаждать новую медицину.
С весеннего семестра 1860-го по осенний семестр 1864 года он исполнял свои профессиональные обязанности с отменным усердием, словно стремясь доказать университету и всему городу, что не место красит человека, а человек – место. Что именно преподавал он в тот период, зафиксировано в бесстрастных отчётах Московского университета: «Под руководством адъюнкта Захарьина все без исключения слушатели занимались практически в факультетской клинике перкуссией и аускультацией. В лаборатории, открытой при факультетской клинике во второе полугодие 1861–1862 академического года, 8 человек слушателей занимались микроскопическим и химическим исследованием мочи и других выделений человеческого организма».91 Кроме того, студенты приобретали навыки курации больных: «Каждый из учащихся вёл подробные истории своих больных и по мере своих познаний участвовал под руководством профессора клиники и его адъюнкта в лечении оных».92
В памяти Захарьина ещё свежи были лекции Клода Бернара, утверждавшего, что не следует видеть в патологической анатомии «единственный ключ к болезненным явлениям», ибо «болезненное состояние есть лишь расстройство физиологического состояния.»93 И Захарьин, считавший себя «аутодидактом», но пока ещё остававшийся верным сторонником блестящего французского физиолога, объяснял студентам: «медицина по праву есть отдел наук биологических», а главная причина любой болезни заключается в «уклонениях физиологических». И каждая его лекция была для слушателей «так ясна, так понятна и удобозапоминаема, что не составляло труда, придя домой, почти дословно записать её». Так что в конце учебного года студенты «умели и выстукивать, и выслушивать, и сознательно относиться к тому или другому патологическому явлению».94
По уверениям одного из его бывших учеников, эрудированный и совершенно не похожий на других преподавателей адъюнкт настолько быстро завоевал прочные симпатии студентов, что в 1861 году они даже попросили Овера «уступить» Захарьину три часа лекций в неделю.95 На самом ли деле студентам довелось как-то изловить и озадачить Овера своим ходатайством или это была одна из расхожих небылиц, сопровождавших Захарьина при жизни и украшавших посмертные легенды о нем, выяснить не удастся скорее всего никогда.
Согласно другим воспоминаниям, когда Захарьина утвердили в преподавательской должности, Овер почти перестал читать лекции и посещать клинику, переложив свои обязанности на молодого адъюнкта, но сохранив на кафедре какие-то источники информации: «Прослышав, что его заместитель нередко срывает бурные аплодисменты тем, что в преподавание такой сухой науки, как терапия, подмешивает философию и говорит о Бэконе и т.п., [Овер] вдруг однажды явился неожиданно на лекцию сам. за время своего отсутствия он уже успел не только утратить между студентами свою прежнюю популярность, но даже заслужить названия “невежды’’ и “идиота”; так что когда он вошёл в аудиторию, в черном фраке и белом галстуке, и по своему обыкновению начал читать не садясь, а полусидя на кончике стула, то между студентами уже явственно приготовлялся взрыв свистков. Он, однако, нисколько этим не смутился и когда кончил, то вместо шиканья поднялся такой рёв “браво!”, такой ураган хлопанья в ладоши, что ничего подобного даже и не снилось искавшим популярности. Мало того, вся аудитория бросилась вслед за ним, и одобрения продолжали сыпаться и на лестнице, и в сенях, где он уже надевал шубу».96
Сам Захарьин, выступая на Совете университета в декабре 1878 года, эпизод с лекцией Овера обошёл молчанием, а в целом о первом этапе своей работы преподавателем рассказал немного иначе: «Пробыв три года ординатором клиники и затем три года за границей, я был избран прямо на самостоятельную клиническую деятельность в одной из важнейших клиник. Я был назначен, правда, адъюнктом; но Университетский Совет, избирая меня на место профессора Млодзеевского (тогда адъюнкта), хорошо знал, что мне предстоит та же самостоятельная деятельность, что и моему предшественнику. Действительно, покойный профессор Овер, частью по нездоровью, частью по другим важным обязанностям, предоставил мне полную самостоятельность в клинике, врачебную и преподавательскую, не только такую же, но даже большую (ибо здоровье его продолжало слабеть), чем моему предшественнику».97
Энергичный и целеустремлённый адъюнкт строил карьеру тщательно, как деревенский печник, соседи которого, приметив радение мастера, наперебой зовут его к себе в дом. Будни Захарьина были предельно заполнены службой, но рутинное обучение студентов одним лишь практическим навыкам перкуссии и аускультации удовлетворяло его всё меньше. Летом 1861 года он попросил Белоголового приобрести для него (и за его, Захарьина, счёт) за границей сфигмограф, спирометр, специальный пульверизатор (прообраз будущих аэрозольных ингаляторов) и новые ларингоскопические инструменты.
Он старался восполнить пробелы своего образования самым разнообразным чтением, в том числе британского историка и социолога Бокля, двухтомный труд которого «История цивилизации в Англии» в 1861 году печатался в журнале «Отечественные Записки». Он внимательно следил за внутренней политикой, не постигая, правда, основного её направления: не то «по почтенной стезе умеренного либерализма, не то по торной дороге реакции».
Сообщая Белоголовому университетские новости, он высказывал весьма здравые суждения: «От взноса денег за лекции (50 рублей) увольняются не все представившие свидетельство о недостаточности состояния (как было прежде), а только по двое с каждой губернии – из выдержавших отлично университетский экзамен и из них один должен быть непременно воспитанник гимназии. <…> Доходы университета, имеющие якобы увеличиться от вышеназванной меры, должны быть обращены на “усиление жалованья” профессорам. Я, хотя и выгодно заинтересованный, – против этой меры. В принципе она, конечно, справедлива: государство, конечно, не может ничего давать даром; противное мнение есть, как Вам известно, фикция, и всякий, кто получает образование, должен и платить за это. Но я полагаю, что у нас, на Руси, следовало бы повременить с проведением здравых экономических начал в области народного образования: финансовая потеря или, правильнее, неправильная раскладка расходов тут не Бог знает какая, а образование-то нам крайне нужно; есть много других сфер, где приложение названных начал гораздо важнее и гораздо настоятельнее. 50 р[ублей] с[еребром] в год, т.е. 200–250 во всё время университетского курса, довольно много для бедного человека, и, пожалуй, во многом ограничит право на высшее образование, которое, по положениям 19 февраля, приобрели бывшие крепостные».98
3.1. Доктор Н.А. Белоголовый (1885) – друг и биограф С.П. Боткина.
Он не пропускал ни одного заседания Физико-медицинского общества и сам время от времени представлял собравшимся своих пациентов: одному из них он наложил трахеостому, другого вылечил от пиодермии, третьего исцелил от микотического поражения волосистой части головы.99 При отсутствии средств массовой информации такие демонстрации больных играли роль самобытной рекламы. В городе, где слухам доверяли, как правило, гораздо больше, чем официальным уведомлениям, восторженные отзывы о необычном адъюнкте способствовали постепенному, но неуклонному расширению его частной практики. не случайно летом 1863 года Захарьина позвали в Тверь к тяжело заболевшей писательнице и благотворительнице Авдотье Глинке, как «доктора, пользующегося обширной известностью».100
Экстраординарный профессор
В 1863 году университетская администрация поручила ординарному профессору Млодзеевскому замещать больного Овера в факультетской терапевтической клинике. Так как Млодзеевский продолжал одновременно читать лекции по программе частной патологии и терапии на своей кафедре, преподавательская нагрузка Захарьина ничуть не уменьшилась, но его должность стала вдруг называться иначе. Распоряжением попечителя Московского учебного округа от 24 ноября 1863 года адъюнкта Захарьина «переименовали» в доцента по кафедре общей терапии и врачебной диагностики.101
Это «переименование» сыграло дурную шутку с его биографами. Спустя 30 лет журнал «Современная Клиника», а вслед за ним Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона объявили, что ещё в 1862 году Захарьина избрали «ординарным профессором по семиотике и диагностике».102 Поскольку такие подробности из прошлого Захарьина были обнародованы в зените его прижизненной славы, надо полагать, что издатели и редакторы заручились согласием знаменитого терапевта на распространение в печати вымышленной информации о его служебных перемещениях. В таком случае приходится думать, что Захарьин сам создавал и поддерживал отдельные легенды о себе. Так, например, ещё в начале 1860-х годов молодой адъюнкт поражал воображение студентов рассказом о том, как он в первый же год по окончании университета в совершенстве овладел французским и немецким языками.103 Нельзя исключить, кроме того, что автором упомянутых биографических публикаций был профессор Голубов – любимый ученик Захарьина и главный поставщик всевозможных (в том числе недостоверных) сведений о своём наставнике.
По данным советских энциклопедических изданий, в 1862 году Захарьина избрали экстраординарным профессором, а в 1864-м – ординарным профессором факультетской терапевтической клиники.104 На самом деле после отставки Овера в 1864 году медицинский факультет единогласно предложил Млодзеевскому занять освободившуюся кафедру и, лишь встретив категорический отказ последнего от этой должности, передал факультетскую терапевтическую клинику Захарьину.105 Приказом министра народного просвещения от 24 августа 1864 года доцент Захарьин был утверждён экстраординарным профессором по фактически уже давно занимаемой им кафедре факультетской терапевтической клиники.106
Повышение по службе добавило ему и хлопот, и ответственности. Отныне ему, как руководителю важного факультетского подразделения, приходилось вникать не только во все лечебные, но и в большинство хозяйственных вопросов и периодически обращаться к университетской администрации с просьбами ассигновать то 380 рублей для приобретения генератора постоянного тока, то 300 рублей для закупки ларингоскопического инструментария и химических реактивов, то 200 рублей для исправного функционирования клинической лаборатории, которой с 1865 по 1869 годы заведовал сверхштатный лаборант Черинов.107
Его обычный рабочий день начинался в 9 часов утра с предварительного обхода своего отделения, состоявшего из мужской и женской половин (по 30 кроватей на каждой из них) и расположенного на третьем этаже клинического здания на Рождественке. С 10 до 12 часов шесть раз в неделю, кроме воскресений, Захарьин читал лекции с демонстрацией больных, лежавших в его стационаре. Эпизодически он спускался в приёмный покой на первом этаже и там проводил разбор амбулаторных больных, называемый очередной лекцией. Иногда он цитировал на лекции один из наиболее часто упоминаемых в медицинской литературе XIX столетия афоризмов Фрэнсиса Бэкона: «Врачебное искусство целиком заключается в наблюдении». Может быть, с этим связана легенда о его дополнительном философском образовании?
Кардинальную цель университетского преподавателя Захарьин видел в том, «чтобы научить студентов применять почерпнутые сведения из анатомии, физиологии, химии, общей патологии, гигиены и диетики, теоретического курса частной патологии и терапии, семиотики и диагностики, словом, всего накопленного знания, к распознаванию и лечению болезней». «Клиническое преподавание должно индивидуализировать встречающиеся болезненные случаи, – утверждал он на своей первой лекции в качестве экстраординарного профессора, – останавливаться на болезненных явлениях не только в диагностическом, но и в общепатологическом их значении, стараться приводить их к простейшим патологическим нормам, сохраняя тем связь практической медицины с научною патологией».108 Ни ему, ни многим другим профессорам того времени просто не приходило в голову, что опытный преподаватель способен всего лишь показать интересующимся, как надо работать, но не в силах чему-либо научить скучающих и равнодушных.
По окончании лекции профессор завтракал, после чего снова отправлялся на обход с ординатором или студентом-куратором. Затем, отпустив сотрудников и студентов, он ещё раз заходил в палаты к отдельным больным. Этот распорядок не менялся даже в такие большие праздники, как первый день Рождества или Пасхи.
Помимо исполнения своих основных обязанностей, Захарьин, реализуя поручение медицинского факультета, в 1864 и 1865 годах читал врачебную диагностику студентам третьего курса за ежегодное вознаграждение в сумме 200 рублей.109 В качестве действительного члена Физико-медицинского общества он присутствовал на всех его заседаниях и в 1865 году выступал «с рассуждением о признаках, по коим с большей или меньшей вероятностью можно отличить возвратную горячку от тифа». Его биографы не заметили, однако, что за несколько месяцев до того, как Захарьин обратил внимание на «возвратную горячку», Боткин уже опубликовал свои сообщения на ту же тему в медицинских изданиях Петербурга, а потом и Вены. Впрочем, Захарьин немного позднее превратил свой доклад в статью «О возвратной лихорадке» и напечатал её в медицинских журналах Москвы и Вены.110
При столь уплотнённом графике трудовых будней готовность Захарьина снять с себя хоть толику ответственности выглядела вполне естественной. Надо было только придать этому невысказанному желанию форму давно назревшей необходимости, а именно безусловной потребности медицинского факультета в создании двух специализированных клиник – детской и урологической. Неясно только, сам ли Захарьин выступил с такой инициативой, или это сделал директор факультетской хирургической клиники Басов, или оба вместе. Так или иначе, но Совет университета, а за ним и министр народного просвещения оное предложение одобрили, и 25 февраля 1866 года на Рождественке открылись детское отделение на 11 кроватей и клиника болезней мочевых и половых органов тоже на 11 кроватей. Первым заведующим детской клиникой назначили одного из верных друзей Захарьина доцента Тольского.111 Коечный фонд не только терапевтической, но и хирургической факультетской клиники сократился при этом с 60 до 50 кроватей.
К тому времени политические взгляды Захарьина сложились окончательно: он стал убеждённым и безусловным поклонником Каткова – редактора газеты «Московские Ведомости». Отстаивая принципы абсолютизма, централизма и национализма, Катков заслужил в консервативных кругах репутацию «государственного деятеля без государственной должности» и ревностного противника «так называемого правового порядка».112
Либеральная часть общества отзывалась о нем иначе: «это узкий фанатик, буйный помешанный, преисполненный тщеславия и опьянённый влиянием, которое ему предоставлено»; проповедник культа власти «как самодовлеющей цели»; публицист, печатающий в своей «лейб-газете» всякую «лейб-агитацию» и «возводящий, с одной стороны, произвол, а с другой – рабскую покорность в теорию». Особенно жёстко высказывался о Каткове историк, юрист и философ Чичерин: «Вместо того, чтобы высоко держать благородное знамя, завещанное предшественниками, он отбросил всякие нравственные требования и даже всякие литературные приличия. Он русских писателей и русскую публику приучил к бесстыдной лжи, к площадной брани, к презрению всего человечества. Он явил развращающий пример журналиста, который, злоупотребляя своим образованием и талантом, посредством наглости и лести достигает невиданного успеха». Редактор «Московских Ведомостей» однажды обозвал кого-то из своих оппонентов «мошенником пера и разбойником печати», после чего это определение прочно прилепилось к нему самому. В период Великих реформ он выступал фактически в роли идеолога и вдохновителя контрреформ. Как писал впоследствии обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев императору Александру III, Катков «стал предметом фанатической ненависти у всех врагов порядка и предметом поклонения, авторитетом у многих русских людей, стремящихся к водворению порядка».113
3.2. Университетские клиники на Рождественке (1880-е годы).
С 1863 года, когда в связи с польским восстанием печатная продукция Каткова приобрела крайне шовинистический характер, у Захарьина наладились самые доброжелательные отношения с редакцией «Московских Ведомостей». Непоколебимые консервативные воззрения убеждённого монархиста Каткова, слывшего некогда умеренным либералом, чрезвычайно импонировали Захарьину. Он внимательно читал все передовые статьи Каткова, находил в них «недосягаемый идеал» публицистики, помнил «наиболее выдающиеся из них и даже приводил из них на память целые цитаты».114 Почему преклонялся он перед человеком, которого порядочные люди именовали обычно подлецом и доносчиком, Герцен считал «полицейским содержателем публичного места в Москве», а бескомпромиссные антисемиты вроде историка Иловайского упрекали в симпатиях к отдельным представителям «еврейской эксплуатации», объяснялось ли это карьерными соображениями и надеждой на покровительство «первого патриотического журналиста» или было связано с особенностями воспитания и мировоззрения Захарьина, не имело в сущности никакого значения.
Последним отголоском его былых и крайне осторожных вольнодумных колебаний стало публичное выражение сочувствия уходившему в отставку Чичерину – некогда яркому представителю либерального течения в российской юриспруденции и философии. Захарьин не рискнул появиться на «печальном пиршестве», которое устроили Чичерину в начале февраля 1868 года свыше двухсот его коллег, но всё-таки прислал ему записку: «Милостивый государь Борис Николаевич! Лишённый возможности, за не терпевшими отлагательства делами, принять участие в прощальном обеде, который был предложен Вам, спешу обратиться к Вам с выражением моего глубокого сожаления о потере нашим университетом такого высокодаровитого, зрелого и так блестяще проходившего своё поприще деятеля, как Вы. Пользуюсь этим случаем, чтобы заявить Вам моё искреннее уважение. Гр.Захарьин».115
Нестандартный ординарный профессор
Приказом министра народного просвещения от 1 марта 1869 года Захарьин был утверждён в звании ординарного профессора по кафедре факультетской терапевтической клиники.116 При баллотировке в Совете университета 18 января 1869 года он получил 34 голоса «за» и лишь 5 «против».117 В тот же день, 18 января, его повысили и в чине, пожаловав ему «за отличие» чин статского советника.118
Новоявленный ординарный профессор сразу же повёл себя неординарно, выразив желание без особого промедления пуститься на год за границу «с учёной целью». В связи с этим 11 апреля того же года медицинский факультет направил Совету университета специальное донесение:
«Ординарный профессор Захарьин заявил, что находит нужным, для обозрения заграничных клиник и для критической оценки современных исследований в области диагностики и терапии, а также для ознакомления на месте с некоторыми минеральными водами, провести год за границею. Факультет, разделяя мнение профессора Захарьина, имеет честь покорнейше просить Университетский Совет ходатайствовать о командировании его за границу с учёной целью с 1 июля сего года по 1 сентября 1870 года с сохранением получаемого им содержания, но без выдачи добавочных денег из суммы сбора со студентов за слушание лекций. К сему факультет имеет честь присовокупить, что в случае командировки профессора Захарьина за границу преподавание в терапевтической факультетской клинике будет поручено одному из штатных преподавателей факультета».119
Согласно официальной информации, Захарьин числился в зарубежной командировке с 1 июня 1869 года.120 Когда он покинул Москву, куда направился и где побывал, осталось, однако, не совсем ясным. Сохранилось лишь его письмо, адресованное жене и отправленное из Голландии 24августа 1869года: «До Франкфурта, под влиянием простуды, плохого сна (хотя я ни одной ночи не провёл в дороге), а главное беспокойства о Саше121 и тоски обо всех вас, я чувствовал себя крайне дурно и беспрестанно впадал в такое состояние, что насилу мог удерживаться от слез. во Франкфурте, где Черинов меня несколько успокоил на ваш счёт, особенно насчёт Саши, я стал чувствовать себя попокойнее».122
Поскольку утешительные сведения от Черинова по поводу своей семьи Захарьин получил только в августе, можно полагать, что он подался за границу ещё в начале лета. Какие клиники и в каких городах и странах он посетил до встречи с Чериновым во Франкфурте, неизвестно, ибо на этот раз медицинский факультет не требовал от него отчётов о самоусовершенствовании «во врачебных науках». Нереально также найти ответ на вопрос, чем привлекла его Голландия, где не было ни минеральных источников, ни более или менее крупных клиник, сравнимых по авторитетности с берлинскими или парижскими. Но, может быть, его новый зарубежный вояж преследовал не столько познавательные, сколько потаённые коммерческие цели?
Замещать Захарьина в осеннем семестре 1869 года и в весеннем – 1870 года вызвался декан медицинского факультета Полунин. По свидетельству Белоголового, «это был человек пожилой, не даровитый, сухой схоластик в науке и с большою самоуверенностью в характере; лет 15– 20 назад он был очень трудолюбив и составлял полезность в университете на кафедре патологической анатомии, но с годами видимо отстал и вполне дельным представителем своей науки не был». Тем не менее Совет университета поручил патологоанатому «с дьячковским голосом и видом», по выражению Чичерина, руководить факультетской терапевтической клиникой на всё время зарубежной командировки Захарьина. «От одного этого назначения, – возмущался Белоголовый, – веет тем стародавним временем, когда профессора не стеснялись специальностями и по произволу меняли свои кафедры, когда клиническая профессура поручалась старейшему из профессоров в награду за долгую службу, как синекура, потому что служила к увеличению его практики».123
2.4. Ординарный профессор Московского университета А.И. Полунин.
Клинических лекций патологоанатома студенты не посещали. О последствиях столь тяжкого нарушения университетского распорядка рассказал в своих воспоминаниях Пётр Филатов: «Так как это совпадало с движением шестидесятников, то были произведены аресты, некоторых исключили навсегда, других на 2–3 года, иным дозволили перейти в другой университет. Надо полагать, что вся эта история, начавшаяся из-за Полунина и окончившаяся так серьёзно, тяжело отозвалась в душе доброго Алексея Ивановича, который так сердечно относился ко всем невзгодам окружающих. О нем ходили рассказы, что, приглашённый куда-нибудь к бедняку, он не только не брал за визит, но платил ему от себя или, получив за визит 3 рубля и увидев по обстановке, что это тяжело для больного, давал ему сдачи 2 рубля».124
С 1 сентября 1870 года Захарьин вновь приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Зачем укатил он год назад в Западную Европу, где побывал, какие новые идеи привёз оттуда в Москву – никаких сведений об этом не сохранилось. Может быть, он, человек замкнутый, и не рассказывал никому, кроме самых близких ему людей, в чем заключалась цель его путешествия? По воспоминаниям одного из его бывших слушателей, после возвращения стала у него проявляться «резкость в обращении», но чудачеств было мало, и повода к анекдотам о себе он пока ещё не давал.125
Его кафедра функционировала в прежнем режиме, только вместо Черинова, избранного в 1869 году приват-доцентом по кафедре врачебной диагностики и пропедевтической клиники, лабораторией заведовал сверхштатный лаборант Павлинов. Надо полагать, что директор факультетской терапевтической клиники приглядел для себя Павлинова ещё в 1867 году, когда тот, студент четвёртого курса медицинского факультета, был удостоен золотой медали за реферат на тему «Химический анализ крови и критический разбор методов анализа крови».126 Позднее Захарьину пришёлся по нраву студент Остроумов. По завершении «курса наук» Остроумов на протяжении почти четырёх лет «принимал участие в клинических занятиях» под испытующим присмотром Захарьина.127
Через пять месяцев после возвращения Захарьина из зарубежной командировки уровень его популярности в Московском университете поднялся так высоко, что 25 января 1871 года он был единодушно избран президентом (председателем) Физико-медицинского общества. В качестве главы этого старейшего и первого в Российской империи медицинского общества он присутствовал на всех его заседаниях вплоть до второй половины октября 1871 года, дважды выступал с небольшими сообщениями (одно – о пульсе печени, другое – о желчных камнях и печёночной нервной боли) и даже согласился занять кресло ответственного редактора запланированного коллегами еженедельника. Однако ни в ноябре, ни в последующие месяцы он не посетил ни одного заседания общества.128
Тем временем в Московском университете стало известно, что в ноябре 1871 года Захарьин решился на операцию «вытяжения седалищного нерва» в связи с упорной ишиалгией и, по возникшим значительно позднее слухам, поступил с этой целью в частную лечебницу доктора Кни. Но доктор Кни, по сообщениям прессы, основал свою хирургическую лечебницу в Большом Кадашевском переулке на Ордынке только в 1880 году.129 Так что на самом деле неизвестно, где Захарьина оперировали – в Москве, в Петербурге или в какой-нибудь заграничной клинике.
Затянувшаяся болезнь Захарьина вынудила медицинский факультет 15 января 1872 года обратиться к университетской администрации с ходатайством: «В истекшем семестре текущего академического года профессор Захарьин занемог и до сих пор ещё болен. для того, чтобы преподавание в терапевтической факультетской клинике не прерывалось, факультет, согласно с заявлением профессора Захарьина, имеет честь покорнейше просить Университетский Совет о разрешении допустить к преподаванию в названной клинике в текущем академическом году без особого вознаграждения доцента Черинова впредь до выздоровления профессора Захарьина». В конце января Совет университета удовлетворил прошение медицинского факультета.130
За последующие несколько месяцев послеоперационная рана у Захарьина полностью зажила. не позже мая 1872 года он поселился на даче графа Апраксина, где радушные хозяева, всячески его ублажая, помогали ему «лечиться от раздражительности» и восстанавливать силы.131 Осенью он вернулся на службу, опираясь на палку и «чрезвычайно ухаживая за своей больной ногой».132 Рассказывали, будто на одной из первых лекций в осеннем семестре он произнёс: «Со времени моего студенчества хирургия сделала большие успехи, мне сделали новейшую операцию, и хотя нет улучшения болезни, но нет и ухудшения».133 Из уважения к пострадавшему от неведомого хирурга профессору факультетскую терапевтическую клинику перевели впоследствии с третьего этажа на первый.
Его коллеги не сразу заметили, что после возвращения на кафедру Захарьин явно изменился. Достаточно бодрый и активный раньше, теперь он выглядел нередко угрюмым и утомлённым, а свойственная ему смолоду раздражительность всё чаще выливалась в откровенное самодурство. Всё меньше внимания уделял он своим профессорским обязанностям и всё более активно занимался частной практикой, словно уроки Родиона Геймана и тайного советника Овера, пренебрегавших преподаванием в последние годы службы, не прошли для него даром. Самым простым объяснением неожиданной для многих трансформации личности Захарьина была бы затянувшаяся послеоперационная астения, вынуждавшая его постепенно освобождаться от дополнительных, а то и непременных нагрузок, но в те годы такого клинического понятия ещё не существовало.
Прежде всего Захарьин отказался от кресла председателя Физико-медицинского общества. Его испытанный друг Тольский 18 сентября 1872 года довёл до сведения коллег: из-за болезни Захарьин не сможет отныне исполнять обязанности председателя общества и редактора предполагаемого издания.134
Вслед за тем Захарьин пожелал избавиться от клинической лаборатории и с этой целью реализовал трёхходовую комбинацию. Сначала правление Московского университета (формально по предложению Черинова) в 1873 году выделило необходимые средства для полной реконструкции лаборатории при факультетской терапевтической клинике и перевода её в новое помещение.135 Как только в марте 1874 года Черинова утвердили экстраординарным профессором по кафедре врачебной диагностики и пропедевтической клиники, Захарьин выделил для него 16 кроватей в своём 50-коечном отделении. С тех пор руководитель пропедевтической клиники всегда мог подменить директора терапевтической факультетской клиники в случае болезни последнего или его отсутствия в Москве по той или иной (весьма уважительной, разумеется) причине. Летом 1874 года Захарьин передал наконец по инвентарной описи, а Черинов принял в своё распоряжение лабораторию, 13 лет входившую в состав факультетской терапевтической клиники.136
3.3. Ординарный профессор кафедры врачебной диагностики и пропедевтической клиники М.П. Черинов (1880-е годы).
3.4. Ординарный профессор кафедры акушерства, женских и детских болезней Н.А. Тольский (1880-е годы).
Всяческие толки и анекдоты о необычайной раздражительности и уникальном самодурстве Захарьина муссировались к тому времени чуть ли не во всех университетских городах страны. Однако вряд ли избавился он от астении или почувствовал выраженное облегчение, поступив по принципу с глаз долой – из сердца вон, иначе говоря, сократив свою клинику до 34 кроватей и сняв с себя заботы о лаборатории. К тому же директорские обязанности побуждали его хоть изредка вникать в хозяйственные нужды клиники и предпринимать в связи с этим какие-то действия. Так, в мае 1875 года он обратился вдруг к университетской администрации «с покорнейшею просьбою» установить в палатах вентиляторы, реставрировать ветхие оконные рамы и соорудить для больных «подъёмное кресло» на второй этаж.137
Судьбоносный ординарный профессор
В 1876 году Захарьин совершил ещё одно удивившее коллег благодеяние, «уступив» четыре кровати в своём отделении Снегирёву, хлопотавшему об открытии гинекологической клиники, и оставив себе на последующие 15 лет ровно тридцать коек. Пожизненно признательный ему Снегирёв провозгласил его чутким врачом и человеком, которому «следует отдать справедливость в заслуге постановки специальных преподаваний в университете».138 После столь авторитетного заявления советским историкам медицины оставалось только утверждать: Захарьин способствовал (то ли умышленно, то ли невзначай) реформе высшего медицинского образования и выделению педиатрии и гинекологии в самостоятельные клинические дисциплины.
Вместе с тем он выступал в роли самобытного демиурга, вершившего судьбы своих подчинённых, и в первую очередь Остроумова и Павлинова. Первому он явно симпатизировал, ко второму же относился в лучшем случае с высокомерным безразличием.
Потомок священника, Остроумов окончил Московскую духовную семинарию (1865) и Московский университет (1870). По настойчивому повторному ходатайству медицинского факультета в мае 1871 года ему позволили остаться на два года в университете «для дальнейшего усовершенствования во врачебных науках и приготовления к профессорскому званию по кафедре факультетской терапевтической клиники».139 Через год после блестящей защиты докторской диссертации (1873) Совет университета согласился командировать Остроумова на два года за границу «для дальнейшего усовершенствования по предмету факультетской терапевтической клиники».140 Не вызывает сомнений, что Захарьин видел в Остроумове не только будущего напарника или, быть может, преемника, унаследующего когда-нибудь его кафедру, но и человека весьма близкого ему по духу.
Коллеги и последователи Захарьина всегда усматривали в директоре факультетской терапевтической клиники личность искреннюю и прямолинейную, обладавшую разносторонними способностями и превыше всего ставившую свою независимость. «Он очень умён и правдив», – отзывался о нем Лев Толстой.141 Примерно в таких же выражениях описывал душевный склад Остроумова один из его учеников: «Это был человек с очень твёрдым, независимым характером и редким присутствием духа. Всем известна была его прямота и правдивость, доходившие иногда до крайних степеней; они особенно ценились товарищами, но доставляли ему самому немало неприятностей во всех сферах его деятельности. В его личную внутреннюю жизнь лишь немногие имели доступ, он был очень замкнутый человек, но что он не мог скрыть от всех других, что прорывалось с неудержимой силой и поражало всех с первого же знакомства даже вне его специальной сферы деятельности – это громадный природный ум, широта его умственного кругозора, непринуждённость и удивительная свобода полёта его мыслей, наблюдательность, объективность и проницательность взглядов».142
После кончины ординарного профессора Варвинского, директора госпитальной терапевтической клиники, Захарьин, поддержанный своими сторонниками Бабухиным и Шереметевским, вознамерился во что бы то ни стало провести Остроумова на освободившуюся кафедру. Противоположная профессорская партия во главе с бывшим покровителем Захарьина деканом медицинского факультета Полуниным представила своего кандидата – доцента кафедры частной патологии и терапии Ельцинского. Неожиданно для всех прежний единомышленник Захарьина экстраординарный профессор Черинов выдвинул на должность руководителя кафедры своего друга Павлинова. На заседании медицинского факультета 15 ноября 1878 года Остроумова избрали доцентом для преподавания госпитальной терапевтической клиники, но большинством всего в один голос. Тогда Захарьин подготовил аргументированное письменное заявление в пользу своего протеже и 2 декабря 1878 года зачитал его на университетском Совете:
«Доктор Остроумов кончил университетский курс в 1870 году и тотчас же был оставлен при университете для усовершенствования в клинической медицине. Четыре года исполнял ординаторские обязанности в терапевтической факультетской клинике, в это же время занимался в лаборатории профессора Бабухина и защитил диссертацию на степень доктора медицины. По представлению факультета выбаллотирован Советом на отправление за границу на два года для усовершенствования в клинической медицине. В 1874 году отправился за границу, где пробыл два года. Ему теперь 33 года от роду, он в полноте здоровья и сил. Он владеет превосходным физиологическим образованием. <…>
Как свидетель его четырёхлетних занятий в терапевтической факультетской клинике, где он нёс обязанности ординатора, а по вечерам занимался со студентами, я должен засвидетельствовать об его редком врачебном даровании и преподавательском умении. По возвращении из-за границы, всего за два с половиной года, доктор Остроумов быстро стал одним из самых уважаемых консультантов в Москве: обстоятельство важное, потому что в нем сказывается признание не только врачебной зрелости, но и врачебного превосходства самыми компетентными судьями – практическими врачами, тем более важное, что доктор Остроумов обязан этим признанием чисто своим личным качествам; он не занимает никакого видного и влиятельного врачебного места, он не профессор клиники и не главный врач больницы. О таком же признании и по таким же поводам свидетельствует то обстоятельство, что доктор Остроумов состоит, уже второй выбор, председателем общества практических врачей, Московского медицинского общества, заботливо сохраняющего при стараниях председателя связь с научной медициной <…>
Позволю себе подвести итоги сказанному: преимущества доктора Остроумова – ещё не тронутые силы и вполне развернувшийся талант; современное научное образование; солидные учёные труды с признанными результатами, доставившими ему имя в европейской науке; врачебная зрелость, признанная компетентными судьями. Он вполне готовый клинический деятель и вместе [с тем] способный к дальнейшему развитию, далёкий от своего последнего слова. Самые благонадёжные задатки заставляют ждать от него долгой и плодотворной деятельности, а не лебединой только песни».143
При баллотировке на том же университетском Совете Остроумов снова набрал на один только голос больше, чем его соперники. Столь «нерешительное избрание» попечитель Московского учебного округа расценил как случайное и в звании доцента его не утвердил.144 Надо полагать, что попечитель не понял, какую ошибку допустил он в этой ситуации, ибо такого афронта Захарьин не стерпел.
Отказываться от своих планов, пасовать перед непреодолимыми, казалось бы, обстоятельствами Захарьин не мог никогда раньше и не собирался поступать так теперь, ибо уступчивость или податливость, как говорил профессор Снегирёв, «не были в его характере». Продолжая наступать с неукротимостью боевого слона из античных преданий, он вынудил медицинский факультет 15 января 1879 года выбрать Остроумова «сторонним преподавателем» госпитальной терапевтической клиники с оплатой доцентского оклада из остатков сумм, ассигнованных на личный состав факультета. Через неделю, 23 января, попечителю Московского учебного округа пришлось дать Остроумову разрешение начать чтение лекций.145
Часть профессуры совместно с высоким начальством бесстрастно сопротивлялась напору Захарьина, словно опасаясь, как бы приход на важную клиническую кафедру относительно молодого, талантливого и строптивого человека не нарушил неспешного чиновного уклада рутинного преподавания. Но угомониться Захарьин был просто не в состоянии и 28 февраля 1879 года предложил медицинскому факультету выбрать Остроумова сразу экстраординарным профессором. Изумлённые коллеги эту скороспелую идею тут же отвергли.146 Однако спустя две недели, 15 марта, медицинский факультет под давлением Захарьина всё-таки провёл Остроумова на штатную должность доцента госпитальной терапевтической клиники. Университетский Совет избрал его доцентом 23 марта, но попечитель Московского учебного округа утвердил Остроумова в этом звании только 11 сентября того же 1879 года.147 Лишь 2 октября 1880 года Остроумова избрали сверхштатным экстраординарным профессором; штатный же «оклад содержания, присвоенный его должности», ему предоставили с 1 ноября 1881 года.148
Возглавив госпитальную терапевтическую клинику ещё в звании доцента, Остроумов быстро завоевал симпатии студентов и врачей. Первые видели в нем «клинициста-физиолога, сочетавшего в себе физиологическую подготовку с клинической наблюдательностью и чутьём», человека, одним из первых признавшего медицину биологической дисциплиной; вторым же импонировал не только товарищ (заместитель) председателя (1877–1878) и председатель (1878–1889) Московского медицинского общества, не только организатор Пироговских съездов, но и блестящий доктор, «намечавший пути и принципы терапевтического мышления».149
Новая московская знаменитость с репутацией «очень либерального профессора», любимец студентов, охотно помогавший им и словом, и делом, и материальными средствами, он выглядел антиподом Захарьина. Такое впечатление усиливали не только грубоватая простота и неистощимый бурсацкий юмор Остроумова, но также его «независимый образ мыслей, не преклонявшийся ни перед какими авторитетами, не признававший никаких искусственных, хотя бы и общепринятых рамок». Аудитория Захарьина стала постепенно отходить на второй план, а его частная практика перетекала в руки Остроумова. К тому же последний не скупился на едкие и беспощадные критические выпады против своего недавнего патрона, опровергая его взгляды и терапевтические мероприятия.150 В итоге взаимоотношения между Захарьиным и Остроумовым к 1885 году разладились полностью.
В отличие от вольнолюбивого Остроумова, его коллега Павлинов не обладал ни юмором, ни обаянием, ни твёрдостью характера. Человек безусловно талантливый и не лишённый честолюбия, «пионер клинической биохимии», по выражению Плетнёва, он был настолько зависим от своего непосредственного начальника Захарьина, что знаменитый химик Марковников называл его «просто ничтожеством».151
Сын офицера, служившего в Забайкалье, Павлинов поступил на медицинский факультет Московского университета в качестве сибирского стипендиата и летом 1868 года получил диплом лекаря с отличием. Через год по протекции Захарьина его утвердили в должности сверхштатного лаборанта при терапевтической факультетской клинике. В октябре 1871 года он защитил докторскую диссертацию на тему «Место образования мочевой кислоты в организме»; в мае 1872 года по ходатайству Захарьина его освободили от обязательной службы в Восточной Сибири (иначе говоря, от выплаты долга за обучение в Московском университете) и в январе 1874 года командировали на два года за границу «для приготовления к преподаванию терапевтической клиники».152 Однако по возвращении в Москву он оказался без места; к тому же Захарьин по каким-то сугубо личным мотивам отказал ему в своей поддержке.
Дважды (в 1876 и 1877 годах) пытался Черинов провести его на должность доцента по своей кафедре врачебной диагностики, и дважды попечитель Московского учебного округа не находил к тому оснований «по сторонним причинам, не имевшим ничего общего с научным достоинством доктора Павлинова». В ноябре 1878 года он конкурировал с Остроумовым на кафедру госпитальной терапевтической клиники, но при баллотировке набрал 12 избирательных и 13 неизбирательных голосов.153 Вместо преподавательской и научной деятельности квалифицированному специалисту Павлинову пришлось стать вольнопрактикующим врачом и открыть собственную лечебницу в Леонтьевском переулке.
3.5. Сверхштатный экстраординарный профессор факультетской терапевтической клиники К.М. Павлинов (1890-е годы).
Ни удовлетворения, ни особого дохода скудная частная практика ему не доставляла. во всяком случае своего дома в городе или усадьбы в каком-нибудь уезде он не приобрёл. В довершение ко всем обидам его одолели семейные неприятности. Что уж там случилось в действительности, неизвестно, только 15 мая 1879 года Московская Духовная Консистория постановила брак Павлиновых расторгнуть «по его супружеской неверности»; ей разрешили вступить в новый брак, ему же предстояло отныне остаться «навсегда в безбрачии».154 Впрочем, впоследствии епархиальное начальство его простило, и он вновь обзавёлся семейством.
Прошли два года, и Захарьин вдруг изменил своё отношение к Павлинову. Крайне сомнительно, чтобы своенравный профессор испытал сочувствие или вернул благорасположение к бывшему сверхштатному лаборанту, впавшему в немилость несколько лет назад. Вероятнее всего, Захарьин счёл полезным переложить ещё часть профессорских обязанностей на одарённого, работоспособного, неприхотливого и, главное, абсолютно покорного ему сотрудника. Павлинова немедленно избрали приват-доцентом терапевтической факультетской клиники, и 4 июня 1881 года попечитель Московского учебного округа утвердил его в этом звании.155
Доверие начальства Павлинов постарался оправдать самоотверженным трудом. Кроме того, в 1882–1885 годах он опубликовал в Москве четыре оригинальных выпуска лекций по клинике внутренних болезней (вторая и третья книги его лекций были сразу же изданы в Берлине на немецком языке). за эти годы Захарьин, вполне довольный исполнительным и работящим помощником, постепенно свыкся с мыслью о целесообразности присвоения своему приват-доценту очередного преподавательского звания, и 22 ноября 1885 года Павлинова назначили сверхштатным (без содержания) экстраординарным профессором терапевтической факультетской клиники с правом читать лекции в Окружной больнице Московского Воспитательного Дома.156 С тех пор он фактически дублировал Захарьина, целиком поглощённого своекорыстными интересами.
Хотя директор факультетской терапевтической клиники сократил свои преподавательские функции до непристойного минимума, 15 мая 1883 года его произвели «за отличие» в чин тайного советника. Отныне к Захарьину надлежало обращаться не иначе, как «Ваше Высокопревосходительство». Намного точнее было бы объявить его коммерции советником от медицины, но такого ранга в Российской империи не было.
Заслуженный ординарный профессор
В начале 1885 года исполнилось 25 лет беспорочной плодотворной службы Захарьина на поприще высшего медицинского образования. По такому случаю министр народного просвещения своим приказом от 1 февраля 1885 года утвердил тайного советника Захарьина в звании заслуженного ординарного профессора.157 С той поры вся преподавательская деятельность Захарьина свелась к эпизодическому чтению лекций – по расписанию, трижды в неделю, с 10 до 12 часов утра, фактически же значительно реже, поскольку именитый профессор то чувствовал недомогание, то выезжал в Петербург для консультации какого-либо сановника, то не появлялся в аудитории по неизвестной причине.
Основную преподавательскую нагрузку на кафедре Захарьин возложил на своего сверхштатного экстраординарного профессора, читавшего курс факультетской терапевтической клиники и руководившего «практическими упражнениями» студентов в распознавании и лечении внутренних болезней.158 Наряду с этим Павлинов «служил факультету исполнением обязанностей штатного профессора», иными словами, постоянно участвовал в экзаменах и в различных комиссиях, а также выступал как официальный оппонент на докторских диспутах.
Времени не только на частную практику, но даже на адекватный отдых у него почти не оставалось. Тем не менее с 1888 года Павлинов приступил ещё и к чтению полного систематического курса частной патологии и терапии. В 1890 году он, словно опровергая презрительный отзыв о нем профессора Марковникова, выпустил в свет добротный оригинальный учебник «Частная патология и терапия внутренних болезней», в предисловии к которому разъяснил мотивы его создания: «Кроме преподавания факультетской терапевтической клиники я несколько лет назад по просьбе господ студентов начал чтение систематического курса внутренних болезней. <…> Помимо целей, которым служит такой учебник (конечно, никакой учебник не заменит клиники), публикацией его я удовлетворяю потребности высказать свои личные взгляды по некоторым вопросам внутренней медицины». Как писали в петиции «О включении Павлинова в число штатных профессоров» (28.III.1894) 25 его коллег (в частности, Черинов, Остроумов и Сеченов), преподавание он вёл «с выдающимся успехом», а его учебник представлял собою «капитальный труд и первое самостоятельное русское руководство по своему предмету».159 Однако Захарьин этого ходатайства не поддержал, и поэтому попечитель Московского учебного округа оставил «означенное заявление» без удовлетворения.
Осенью 1890 года часть клиник Московского университета переселилась в только что возведённые здания на Девичьем поле, при строительстве которых было похищено, по сведениям профессора Марковникова, до полумиллиона рублей.160 Открытая в новом помещении факультетская терапевтическая клиника на 67 кроватей (вместо прежних 30), начала функционировать под руководством Захарьина с 19 октября 1890 года. для Павлинова, прекратившего чтение систематического курса частной патологии и терапии, там места не нашлось. С разрешения попечителя Московского учебного округа он перебрался из Окружной больницы Московского Воспитательного Дома в Новоекатерининскую больницу, где получил отделение на 22 кровати. В соответствии с учебной программой Павлинов и Захарьин читали свои лекции по предмету факультетской терапевтической клиники в одни и те же дни недели и даже в одни и те же утренние часы вплоть до 1896 года.161
К тому времени авторитет и популярность Захарьина среди чиновников Москвы и Петербурга превысили все мыслимые и немыслимые пределы, чему энергично способствовал его покровитель граф Дмитрий Андреевич Толстой. Историк по образованию и типичный петербургский чиновник по мировоззрению, холодный и жёсткий человек с тусклыми глазами на бледном обвисшем лице, граф Толстой был, по сути, всего лишь беспардонным карьеристом. Исполняя обязанности обер-прокурора Святейшего Синода и вместе с тем министра народного просвещения при Александре II, он вкупе с идеологом высшей бюрократии Катковым создал «целую систему школьно-полицейского классицизма с целью наделать из учащейся молодёжи манекенов казённо-мундирной мысли, нравственно и умственно оскоплённых слуг царя и отечества».162
При Александре III он занимал посты не только министра внутренних дел и шефа жандармского корпуса, но и президента Императорской (Петербургской) Академии наук. Наряду с этим он (в качестве одного из главных вдохновителей и организаторов политической программы контрреформ) в союзе с тем же Катковым (страдавшим, как тогда говорили, «размягчением мозга») входил в состав «центра интриг» – команды тесно спаянных между собою высших сановников, включавшей в себя (помимо Толстого и Каткова) обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева (самую влиятельную персону при дворе Александра III), министра государственных имуществ Островского (брата известного драматурга) и министра народного просвещения графа Делянова163. Сам российский самодержец опасался козней Толстого и его приспешников, находившихся между собой, по выражению Каткова, «в полном принципиальном единомыслии по государственным вопросам»164.
Ещё в молодости граф Дмитрий Толстой сумел ошеломить профессора Грановского предложением вносить в историю консервативные начала. «Как это в историю вносить консервативные начала? – удивился Грановский. – Если они есть, то их нечего вносить, а если их нет, то как же искажать историю?»
«Немного можно назвать людей, которые бы сделали столько зла России, – писал о нём Чичерин. – Граф Толстой может в этом отношении стать наряду с Чернышевским и Катковым. Он был создан для того, чтобы служить орудием реакции: человек неглупый, с твёрдым характером, но бюрократ до мозга костей, узкий и упорный, не видавший ничего, кроме петербургских сфер, ненавидящий всякое независимое движение, всякое явление свободы, при этом лишённый всех нравственных побуждений, лживый, алчный, злой, мстительный, коварный, готовый на всё для достижения личных целей, а вместе с тем доводящий раболепство и угодничество до тех крайних пределов, которые обыкновенно нравятся царям, но во всех порядочных людях возбуждают омерзение».165
Тезис Чичерина о «неглупом человеке с твёрдым характером» оспаривали государственный секретарь Половцов и редактор-издатель журнала «Вестник Европы» Стасюлевич. Первый видел в Толстом человека «весьма дюжинного ума и чрезвычайного упрямства», с успехом заменявшего ему твёрдость характера, второй же рассматривал твёрдость и непреклонность Толстого только как результат «его несомненной способности путём интриг, иногда даже просто явной лжи и клеветы приобретать себе влияние».166 Однако Александр III, отдавая себе отчёт в глубоко эгоистических устремлениях этого «злого духа двух царствований», по выражению Кони, полагал всё же, что Толстой «оказывает благотворное, консервативное и строго монархическое влияние в государстве».167
Ранней весной 1885 года затянувшееся недомогание вынудило министра внутренних дел искать врачебной помощи. Кто-то посоветовал ему отдохнуть на Южном берегу Крыма, но там его самочувствие значительно ухудшилось. Испуганный и расстроенный, граф покинул Крым и на обратном пути в столицу завернул к Захарьину, оказавшему Толстому, по словам графа, «огромную пользу». Какой недуг сразил могущественного сановника, осталось, однако, государственной тайной. Злые языки, как это нередко бывает в подобных ситуациях, поговаривали о сифилисе сердца и даже ссылались на описанного Захарьиным больного, страдавшего частыми приступами сердечной астмы. По свидетельству государственного секретаря Половцова, зафиксированному в его дневнике 30 апреля 1885 года, Захарьин обнаружил, что граф «одержим четырьмя неизлечимыми болезнями».168
Согласно великосветским сплетням, Захарьин категорически отказывался от солидных гонораров, неоднократно предлагавшихся ему Толстым, и довольствовался одной лишь честью лечить Его Сиятельство. Совершенно растроганный заботой и почтительностью Захарьина, граф довольно долго ломал голову над проблемой адекватной оплаты услуг маститого профессора, пока не набрёл наконец на два нетрадиционных способа его вознаграждения. Прежде всего он заказал художнику свой портрет и 12 октября 1885 года отправил его Захарьину вместе с сопроводительной эпистолой, начертанной разборчивым, но дрожащим почерком:
Милостивый Государь Григорий Антонович,
Полагая, что Вам приятно будет вспомнить о человеке, обязанном Вам своим здоровьем, позволяю себе послать Вам на память обо мне мой портрет. Говорят, что он очень похож и что верно схвачено выражение лица. Если это так, то этот портрет должен выразить всю признательность к Вам за исцеление меня от опасной болезни.
Искренне признательный слуга Д.Толстой.169
С тех пор портрет Толстого служил единственным украшением приёмной Захарьина в его особняке на Первой Мещанской улице. Через два с половиной месяца Захарьин получил ещё одно послание графа, наглядно показавшее, что напускное бескорыстие способно приносить иногда весьма ощутимую прибыль:
Милостивый Государь Григорий Антонович!
Императорская Академия Наук, считая для себя высокою честью присоединить Ваше Превосходительство к своему личному составу в качестве Почётного Члена, избрала Вас в заседании своём 7 декабря 1885 года в означенное звание.
Поставляя себе в приятный долг уведомить Вас об этом, имею честь препроводить при сем к Вам, Милостивый Государь, установленный диплом на звание Почётного Члена Академии.
Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.
Граф Д. Толстой. 24 декабря 1885 года.170
Сам же больной граф стал постепенно пренебрегать государственными делами, перекладывать на своих заместителей решение важных вопросов, а в комитете министров появляться только «в чрезвычайных случаях».171 Полностью сосредоточенный на своём самочувствии и всё более зависимый от Захарьина, он беспрестанно расхваливал московского профессора в сановных кругах, незаметно для себя превращаясь из его покровителя в рекламного агента. «А всё-таки жалею, что не посоветовались с Захарьиным, – писал, например, граф Толстой прихворнувшему Победоносцеву 2 июня 1886 года. – Мне советы и лечение его приносят очевидную пользу. По временам он присылает ко мне из Москвы своего ассистента, который пока остаётся доволен моею физикою и главным её инструментом – сердцем».172
Но как бы ни старался граф аккуратно исполнять врачебные рекомендации, его здоровье ничуть не улучшалось. Резко похудевший, бледный и возбуждённый, измученный повторявшимися время от времени приступами сердечной астмы, летом 1888 года он без умолку рассказывал окружающим, что Захарьин «очень доволен» его состоянием. В последний раз он вернулся из Москвы «починенный Захарьиным» 11 апреля 1889 года, а через две недели скончался.173
Между тем Захарьин обзавёлся очередным необычным благодетелем и союзником в лице французского клинициста Анри Юшара. Осенью 1888 года правительство Франции командировало группу парижских врачей во главе с Юшаром в Россию и Германию «для изучения постановки медицинского преподавания и успехов терапии». Французская делегация приехала в Москву 1 октября. В понедельник, 3 октября, Юшар и его коллеги посетили Новоекатерининскую больницу и прослушали лекцию Остроумова. Утром 4 октября они отправились в факультетскую терапевтическую клинику, где Захарьин продемонстрировал больную, у которой диагностировал сифилис печени, и прочитал студентам лекцию на эту тему. По ходу лекции профессор разъяснял гостям на французском языке отдельные её положения, а закончив чтение, обратился к собравшимся с просьбой «приветствовать соотечественников Лаэннека, Пастера и Шарко».174 Советским биографам Захарьина удалось превратить этот эпизод в благолепную легенду посредством оригинального умозаключения, будто «из уважения к гостям» директор факультетской терапевтической клиники читал лекции для российских студентов на французском языке.175
Растроганный Юшар проникся глубокой симпатией к московскому коллеге, а после радушного приёма в доме Захарьина признал в своём новом знакомом человека исключительного врачебного искусства. «Всякий может быть учёным, то есть может иметь научные познания, – утверждал он, – но не каждый может быть клиницистом, ибо клиника есть искусство».176 Столь высокая оценка его врачебных способностей Захарьину пришлась, безусловно, по нраву. К тому же по возвращении в Париж Юшар предложил «дорогому собрату и уважаемому учителю» Захарьину свою помощь для публикации во Франции трудов российских врачей.177 Услугами Юшара Захарьин воспользовался при издании своих клинических лекций в Париже.
Через две недели после отъезда французских врачей из Москвы, 21 октября 1888 года, в клинику Захарьина наведался сам министр народного просвещения граф Делянов, никогда не выделявшийся ни оригинальностью суждений, ни широтой взглядов, зато обладавший особым верховым чутьём дрессированного чиновника. С интересом прослушав лекцию Захарьина о болезнях печени, министр выразил профессору своё удовлетворение, подчеркнув, «что при его талантливом чтении и неспециалисту становятся ясными болезненные проявления».178 Более чем странный визит хитроумного министра, способного безукоризненно ориентироваться в конъюнктуре, но не в медицине, в сопровождении свиты должностных лиц, не имевших ни малейшего представления о врачевании, в студенческую аудиторию вызывал естественный вопрос: Захарьин ли всё ещё украшал собою факультетскую терапевтическую клинику или место заслуженного ординарного профессора украшало теперь Захарьина? Однако у биографов Захарьина этого вопроса не возникало.
IV. Московский оригинал
Бургомистр. Прежде всего, будьте добры, говорите потише, по возможности без жестов, двигайтесь мягко и не смотрите мне в глаза.
Ланцелот. Почему?
Бургомистр. Потому что нервы у меня в ужасном состоянии.
Евгений Шварц. «Дракон»
Среди всевозможных чудаков и сумасбродов, то изумлявших, то ужасавших, но чаще забавлявших московских обывателей во второй половине XIX столетия, профессор Захарьин занимал чуть ли не первое место. Слухи о необыкновенных его проказах и фортелях становились порой основной темой застольных бесед и пересудов врачей. Однако раньше других кое-какие странности в его поведении и манерах уловили студенты – публика извечно любопытствующая и готовая подолгу обсуждать достоинства и недостатки своих наставников.
Чудаковатый преподаватель
Ещё в 1860-е годы, когда Захарьин служил экстраординарным профессором медицинского факультета Московского университета, студенты заметили, что он никогда не подъезжал к своей клинике на Рождественке в коляске, запряжённой парой лошадей, а пользовался только пролёткой, неторопливо влекомой старой и смирной кобылой. Зимою же не было случая, чтобы его доставили в присутствие на санях с застёгнутой медвежьей полостью – даже в крепкий мороз он накрывался пледом. Немного позднее выяснилось, что этот высокий, чернобородый, довольно энергичный человек плотного телосложения постоянно опасался всех мыслимых и немыслимых дорожных происшествий, но пуще всего боялся застёгнутой полости в санях, поскольку из неё нельзя было ни выпрыгнуть, ни благополучно вывалиться, если сани вдруг перевернутся.179
Вслед за тем обнаружилось ещё одно его свойство: на лекциях он не терпел ни малейших проявлений недостаточного внимания к его словам. «Господин студент! Как ваша фамилия? – грозно вопрошал он, увидев, как один из его слушателей осмелился вертеть в руках карандаш. – Что Вы делаете? Вы путаете мои мысли. Я не могу продолжать лекцию! Вы точно кавалерист какой!»180 Если же студенты на первом ряду позволяли себе какие-то непроизвольные движения ногами, он прекращал лекцию и, скрестив на груди руки, взволнованно произносил: «Не могу! не выношу! Прошу вас, господа, не качать ногами!».181 Особенно возмущал его любой, пусть самый незначительный и невинный шум в аудитории. Достаточно показателен в этом отношении рассказ одного из его бывших слушателей:
«В 1868 году на одной из его клинических лекций мне пришлось сидеть непосредственно позади него; записывая за ним лекцию в большую тетрадь из толстой бумаги и торопясь, я перевернул лист весьма быстро, причём последовал громкий звук хлопанья и шум шелеста бумаги. В этот момент Григорий Антонович остановился на полуслове и стал тяжело дышать. Вся аудитория как будто замерла, в тишине слышно было только дыхание больного и одышка профессора. Товарищи устремили на меня взгляды, полные укоризны, что вот де из-за тебя можем потерять лекцию. Нам, по преданию, было известно, что Григорий Антонович не переносит во время разбора больного постороннего шума, почему и было условлено, чтобы опоздавший на лекцию во время её уже не входил в аудиторию. Со своей стороны, я сидел в страхе и ожидании грозы или бури, но никакой бури не последовало. Когда миновала одышка, обернувшись в мою сторону, Григорий Антонович сказал, не возвышая при этом голоса: «Я всё делаю, чтобы избавиться от тягостной для меня раздражительности, вот, посмотрите мой затылок, жгу его йодистой настойкой, не щадя, но ничего не могу поделать. Прошу вас, будьте поосторожнее». И продолжал лекцию».182
Столь обострённое на протяжении многих лет восприятие несущественных шумов и оптических воздействий свидетельствовало о патологически повышенной чувствительности – стойкой психической гиперестезии как совершенно заурядном проявлении эмоциональной нестабильности. Однако у Захарьина слуховая гиперестезия с неадекватной реакцией на всякий неожиданный звук и даже шорох приобретала уже характер так называемого симптома заведённой пружины, нечаянно выдававшего его постоянную аффективную напряжённость.
Давно известно, что общая психическая гиперестезия в клинике невротических расстройств сочетается нередко с выраженными и продолжительными болезненными ощущениями по ходу позвоночника, в пояснично-крестцовой области и в нижних конечностях. Такой болевой синдром отдельные психиатры XIX века определяли как спинальную ипохондрию или спинальную неврастению, но терапевты и хирурги рассматривали только как ишиас (ишиалгию) органического происхождения. Был ли у Захарьина подлинный корешковый синдром или его терзала психогенная невралгия, ныне установить нереально. Известно лишь одно: в конце 1871 года он решился на операцию вытяжения седалищного нерва в связи с его предполагаемым хроническим раздражением или воспалением.183
Здравомыслящие и осторожные врачи неизменно отвергали такого рода хирургические вмешательства в силу их необоснованности, безуспешности и небезопасности, но для лиц, страдавших ипохондрическими расстройствами и жаждавших чуда быстрого и радикального избавления от своих тягостных ощущений, эти операции (иногда повторные) обладали особой притягательностью. Впоследствии Захарьин на одной из своих лекций высказался о хирургическом вытяжении седалищного нерва довольно сдержанно: «Надо мной самим проделали эту операцию. Друзья постарались. Что же. Я благодарен хирургу: я остался жив и невредим, но пользы от этого не получилось ни малейшей».184
Пользы от «варварской», по выражению того же Захарьина, операции действительно не было никакой, зато вреда – в избытке. Бессмысленное и, главное, кровавое хирургическое вмешательство не могло не привести к образованию множества спаек, сдавивших седалищный нерв. Веским подтверждением этого необратимого патологического процесса стали атрофия мышц нижней конечности и пожизненный болевой синдром (теперь уже преимущественно органической природы). С тех пор Захарьин, по словам профессора Голубова, часто сравнивал свой фактически ятрогенный ишиас с «ядром, прикованным к ноге каторжника».185
После операции его поведение совершенно преобразилось. Поглощённый неустанными заботами о больной ноге, он прежде всего свёл к минимуму свои профессорские обязанности, ограничив их одним лишь чтением лекций. Больных, поступавших в терапевтическую факультетскую клинику, с 1872 года лечили его ассистенты и ординаторы без какого-либо участия профессора.
В лекционные дни величественный Захарьин медленно входил в аудиторию, грузно опираясь на палку с резиновым наконечником и слегка подволакивая правую ногу, удобно размещался в кресле с решетчатым сиденьем и, окинув присутствующих пронзительным взором темно-карих глаз, начинал наконец лекцию. Замиравшие при его появлении, словно солдаты на полковом смотру, многочисленные слушатели немного расслаблялись и принимались записывать его речи в модные тогда плотные тетради. Порой Захарьин не сразу приступал к лекции, а минут десять молчал, неподвижно восседая в кресле, – не то совершал над собой усилие, чтобы собраться с мыслями, не то, будто опытный актёр, держал паузу. Большинству студентов его лекции (или, может быть, вернее беседы о медицине) импонировали своей простотой и полным отсутствием теоретических рассуждений, обдуманностью и логичностью, сжатостью и сугубо практическим, конкретным содержанием. Лишь немногие подмечали в профессорской манере чтения какой-то театральный оттенок, что-то напускное, не имевшее непосредственного отношения к делу и предназначенное, по всей вероятности, для того, чтобы заставить самых нерадивых студентов внимать ему с интересом.
4.1. Знаменитый французский врач, один из основоположников неврологии и психотерапии Ж.М. Шарко (конец 1880-х годов).
Через тридцать лет после его смерти профессор Голубов в порыве запоздалого подобострастия нарёк Захарьина «мастером живого слова», а по увлекательности лекций смог поставить с ним рядом одного только Шарко. Однако другие бывшие слушатели Захарьина находили его лекции трудными для восприятия из-за частых повторов, тяжести слога и неправильного употребления некоторых слов.186
Если в середине 1860-х годов Захарьин читал лекции с подробным разбором больных в строгом соответствии с учебной программой (причём в отдельные месяцы чуть ли не каждое утро, за исключением выходных дней), то после операции, когда его отношение к преподаванию радикально изменилось, он мог не появляться в аудитории по три-четыре недели кряду. С 1875 года он регулярно выезжал на лето за границу, а возвращался обычно в конце сентября, с лёгким сердцем прибавляя, таким образом, к своим каникулам первый месяц осеннего семестра.187
Вольнопрактикующий профессор
Превратив занимаемую им профессорскую должность в явную синекуру, Захарьин сосредоточился на частной практике. Прошли те времена, когда относительно молодой, ещё не достигший сорока лет директор факультетской терапевтической клиники ежедневно (иногда даже в праздники) совершал обстоятельные обходы своих пациентов, заглядывая в каждую палату, когда он сам, без всякой посторонней помощи обёртывал больных с высокой лихорадкой в холодные мокрые простыни, когда он лично проводил некоторые процедуры, названные впоследствии физиотерапевтическими. Отныне он лишь консультировал платёжеспособных больных, либо принимая их в своём домашнем кабинете (иногда в квартире своего ассистента), либо выезжая к ним (разумеется, за более высокий гонорар) не только в различные районы Москвы, но иной раз и в другие города. И каждая его встреча с больными оформлялась, по сути, как коммерческая сделка.
Неизвестно, довелось ли ему читать мемуары модного в середине XIX века виконта Шатобриана, но один из тезисов этого писателя – «Счастье можно найти лишь на проторённых дорогах» – Захарьин разделял безоговорочно. Навсегда уязвлённое самолюбие когда-то неимущего студента из глухой поволжской провинции вытолкнуло его на бесконечный путь стяжательства, давно вымощенный благими намерениями его предшественников. «Жизнь есть творчество», – настойчиво повторял Клод Бернар тем, кто был способен его услышать. Но Захарьин считал себя «аутодидактом», а потому думал иначе. Одержимый алчностью и тщеславием, он всю свою творческую энергию направил на приумножение капитала и продвижение по службе и в чинах. Он методично преобразовывал отдельные приёмы врачебного искусства, позаимствованные им у европейской профессуры, в незамысловатую сноровку продажного ремесла. И он явно не сознавал, что в погоне за выгодой любой ценой можно обогатиться, лишь утратив полученные от природы способности.
Пустив в ход неотразимую для российских обывателей аффективную логику, он провозгласил, что взаимоотношения врача и пациента необходимо строить только на рыночной основе. Если он, Захарьин, снизойдёт до того, чтобы оказать кому-то помощь, значит тот, кто в ней нуждался, должен будет вознаградить врача по заранее обусловленным расценкам. «Кому не нравится моя оценка своего труда и досуга – пусть лечится у других, – заявил он однажды. – Для бедных есть клиники, бесплатные лечебницы, больницы, и я не желаю отдавать свои силы и время на благотворение».188
Рыночную стоимость своих врачебных услуг он подвергал кардинальному пересмотру на каждой карьерной ступени. В должности адъюнкта (доцента) факультетской терапевтической клиники (1860–1864) с годовым жалованьем 714 рублей 80 копеек он тщательно обследовал всех приходивших к нему больных, плативших за его осмотр и советы не более трёх рублей.189 После того как летом 1864 года Захарьина утвердили в звании экстраординарного профессора той же клиники с годовым жалованьем две тысячи рублей (включая столовые и квартирные деньги), стоимость его рекомендаций подорожала сразу в пять раз и составила в среднем 15 рублей за визит.190 В начале 1869 года, когда его назначили ординарным профессором с годовым жалованьем три тысячи рублей, он не произвёл срочную переоценку стоимости своего умственного труда, поскольку спустя несколько месяцев уехал в продолжительную зарубежную командировку; зато через год, по возвращении в Москву, его персональный тариф повысился до 25 рублей за визит. В том же году он завёл лакея, задававшего каждому посетителю один и тот же вопрос: известны ли ему условия врачебного совета у доктора Захарьина.191
На протяжении последующих почти 15 лет оплата больными мыслительных затрат профессора не превышала в среднем 25 рублей за визит. Доходы Захарьина ощутимо возрастали на масленице, когда с купцов, понатужившихся блинами, он взимал от 300 до 500 рублей (в зависимости от биржевой стоимости каждого из них) за короткий осмотр раздутого живота захворавшего толстосума и назначение ему «героического слабительного».192
В 1885 году его социальный статус достиг апогея: за многолетнюю беспорочную службу его возвели в звание заслуженного ординарного профессора, дав ему взамен жалованья максимальную пенсию в размере трёх тысяч рублей в год, а за особые заслуги перед министром внутренних дел и по совместительству президентом Петербургской Академии наук графом Толстым назначили почётным членом этой академии. Фактически Захарьина приравняли тем самым к таким почётным академикам, как действительные тайные советники Победоносцев, Делянов и Островский. Теперь он вознёсся так высоко, что мог позволить себе любые низости. Более того, отныне он присвоил себе право не считаться ни с кем, за исключением правительственных чиновников, и выдавать собственную недоброкачественность за образец для подражания.
Гордый собою новоявленный почётный академик незамедлительно модифицировал прежние расценки, установив их на уровне пятидесяти рублей за консультацию больного в кабинете профессора и ста рублей – за выезд профессора в дом больного. Если Захарьин милостиво соглашался прибыть к захворавшему, то пациенту надлежало оплатить не только тяжкие труды профессорских ассистентов (в пределах от 10 до 25 рублей каждому или по принципу «сколько не жалко»), но и потратить 25 рублей на специальную наёмную карету с необычной высотой сиденья – для безопасной транспортировки именитого доктора. Вскоре Захарьин откорректировал и эту таксу, вывесив в амбулатории факультетской терапевтической клиники объявление, в какие дни недели больным полагалось выкладывать за посещение профессора пятьдесят рублей, а в какие – целых сто. В дальнейшем приглашать его несколько раз могли только лица очень обеспеченные или высокопоставленные; для человека среднего достатка лечиться у него было равносильно чуть ли не разорению.193
Падкая на сенсации пресса не преминула сообщить публике о двух случаях феноменального гонорара маститого профессора. В 1878 году один недомогавший торговец из Одессы обещал Захарьину шесть тысяч рублей (помимо оплаты транспортных расходов), если профессор за три дня распознает его заболевание и укажет необходимое лечение. Ответная телеграмма Захарьина гласила: «Приеду на три часа, гонорар тот же». Больной принял эти условия. Захарьин прикатил в Одессу, проконсультировал больного и через три часа умчался, прижимая к сердцу шесть тысяч рублей.194 Через десять лет Захарьин вновь получил «очень почтенный гонорар» – шесть тысяч рублей за непродолжительную консультацию некурабельного больного в Киеве. На просьбу семьи больного задержаться в Киеве хотя бы на сутки при условии той же повторной оплаты Захарьин ответил категорическим отказом и устремился на вокзал. На следующий день после его торопливого отъезда больной скончался.195
Какие соображения вынуждали немолодого уже профессора, предпочитавшего испытанную пролётку всем другим видам транспорта, совершать такие поездки? Одна ли только алчность гнала его, известного всей стране миллионера, за крупным гонораром в Одессу и в Киев? Может быть, здесь действовал древний коммерческий принцип никогда (даже в ущерб здоровью) не отказываться от выгодной сделки? Друзья и ученики Захарьина оставили эти вопросы без ответа; лишь профессор Голубов признал как-то, что Захарьин просто любил «честно заработанные деньги».
Всячески стараясь оградить своего бывшего шефа от обвинений в скупости и своекорыстии, профессор Голубов в 1927 году уверял, будто в один незабываемый день Захарьин бесплатно (!) «провозился» свыше двух часов с какой-то провинциальной учительницей. Эта трогательная история не производила, однако, впечатления подлинной хотя бы потому, что любимый ученик московской знаменитости слишком часто принимал желаемое за реальное. Вместе с тем тот же профессор Голубов в 1905 году использовал иные доводы в защиту Захарьина: «Частная практика профессоров регулируется более высоким гонораром, при котором нет материальной нужды гоняться за массой консультаций и за десятками больных на домашних приёмах. У покойного профессора Захарьина в разгар его славы редко бывало более 2 консультаций в день; очень часто бывали дни, что их и вовсе не было. На его домашних приёмах (2 дня в неделю) бывало по 2–4 человека».196
Стандартные побочные доходы Захарьина после 1885 года колебались, если принять на веру утверждение профессора Голубова, в пределах от 200 до 800 рублей в неделю. В действительности, по воспоминаниям многих современников, в приёмной Захарьина скапливалось иной раз до 20 посетителей, неукоснительно соблюдавших, очевидно, прадедовское назидание: доверяйся врачу старому, а хирургу – молодому. Ретроспективное исчисление подлинного барыша Захарьина на протяжении одной недели становилось в итоге невозможным. Стоит отметить при этом, что по тарифу, установленному Медицинским Департаментом Министерства внутренних дел, максимальное вознаграждение за медицинскую помощь человеку зажиточному не должно было превышать пяти рублей при визите врача к больному и трёх рублей при обращении больного в приёмную врача.197 В то же время годовое жалованье московского городского врача доходило до 200 рублей, клинического ординатора до 400, а военного врача – до 600 рублей, и только земским врачам в отдельных губерниях платили 1500 рублей в год.198 Так что пока замечательный французский физиолог Клод Бернар рассуждал в Париже о том, что такое медицина – искусство или наука, и находил аргументы в пользу того и другого, «знаменитый по Москве не столько своей учёностью, сколько анекдотическою практикою доктор Захарьин»199 наглядно показал: медицина – это ремесло личного обогащения.
На первый невнимательный взгляд, могло показаться, будто по степени алчности Захарьин напоминал, по определению Достоевского, «бестолковейшего сумасброда» Фёдора Павловича Карамазова, развившего в себе «особенное уменье сколачивать и выколачивать деньгу». В сущности, однако, сходство между ними исчерпывалось одним лишь ненасытным сребролюбием; по характеру и повадкам, образованию и уровню интеллекта, социальному положению и образу действий они были несопоставимы.
Более того, в отличие от сквалыги Карамазова, не упускавшего обыкновенно своей выгоды, Захарьин трижды поступал как тайный альтруист. Так, он не взял денег за свои врачебные услуги художнику Перову, проконсультированному им по просьбе Льва Толстого, за свои советы сотруднику «Московских Ведомостей» Говорухе-Отроку, статьи которого отличались непоколебимым и бескрайним консерватизмом, и за осмотр редактора той же газеты, страстного монархиста и осторожного антисемита Тихомирова.200 Можно полагать также, что меркантильные соображения не одолевали Захарьина при его неоднократных встречах со Львом Толстым. Зато перед высшими сановниками и членами императорского дома он охотно демонстрировал напускное бескорыстие, а те, в свою очередь, расплачивались с ним орденами, чинами и собственными легендами о лучшем, по их мнению, клиницисте страны.
4.2. Французский физиолог Клод Бернар.
Сумасброд
Непомерные доходы от частной практики не принесли Захарьину душевного покоя. Если раньше, в бытность свою экстраординарным профессором, он обращался с коллегами и больными достаточно корректно, хотя и допускал иногда резкость тона и высказываний при консультации какой-нибудь болтливой барыни или дородного купца, то с 1872 года, после совершенно бессмысленной и покалечившей его операции, механизмы самоконтроля у него почти полностью разладились. Сколько бы ни обжигал он себе шею крепкой настойкой йода, эта отвлекающая процедура не предотвращала его эмоциональных разрядов, и тяготившая самого Захарьина раздражительность отныне с удручающим постоянством бросалась в глаза всем окружающим.
В московских гостиных всё чаще толковали о странностях Захарьина, о том, что делает он всё не по-людски, вопреки традициям, попирая общее мнение, но, как обычно случается в таких ситуациях, разговоры о чудачествах достославного профессора служили ему неплохой рекламой. Его частная практика непрестанно расширялась, а вместе с тем множились профессорские капризы и причуды, порождавшие невольные ассоциации с поведением не то истеричных дам, не то гневливых инвалидов войны.
Достаточно уравновешенный, казалось бы, раньше человек, Захарьин стал теперь нетерпимым и несдержанным. Он позволял себе грубо распекать собственных ординаторов за малейшую, нередко мнимую провинность или безжалостно бранить их в присутствии посторонних лиц, откровенно куражиться над больными и вволю унижать их родственников. Отвергая элементарные этические нормы, он мог вдруг, ни с того ни с сего опорочить перед больным незнакомого ему врача или вволю поглумиться над неприятным ему тучным пациентом, запрягая его, как лошадь, в пролётку и гоняя кругами по двору – для похудания. Считая себя непогрешимым, он рассорился с большинством коллег на факультете (в том числе с профессором Склифосовским, которому когда-то протежировал) лишь из-за того, что отдельные их суждения не совпадали с его воззрениями. Он вовсе не сомневался в своём праве кричать, стуча кулаком по столу, на ректора университета, не исполнившего какого-то его пожелания.201