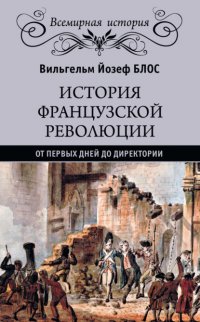
Читать онлайн История французской революции. От первых дней до Директории бесплатно
- Все книги автора: Вильгельм Йозеф Блос
Вильгельм Йозеф Блос
История французской революции. От первых дней до Директории
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
* * *
I. Старая Франция
То великое движение конца восемнадцатого века, которое имело своим последствием переворот во Франции и на большей части европейского континента, мы называем просто Французской революцией и не даем ему более определенного обозначения. Однако это не была только политическая революция, это не был простой государственный переворот, как революция в Англии или в Северной Америке; по существу своему, она была социальным переворотом. До сегодняшнего дня мы на каждом шагу чувствуем ее громадное значение. Она преобразовала и демократическое общество. Ее поэтому нельзя ставить на одну доску с позднейшими французскими революциями, которые являются почти исключительно политическими государственными переворотами, революциями в полном смысле этого слова.
Старая Франция, состояние которой вызвало этот крупнейший из переворотов в истории нового времени, а может быть, и в истории вообще, представляла тогда весьма расчлененное общественное здание. Пьедесталом, на котором покоится все это общественное здание, являются широкие народные массы, выступившие во время революции как «третье сословие». В общественном смысле это понятие включало в себя всех, кто должен был выносить на своих плечах государственные и общественные тяготы: буржуа, рабочих, крестьян, поденщиков и крепостных. На этом широком и глубоком фундаменте покоилась могущественная надстройка господствующих классов, целая масса феодальных, иерархических и аристократических привилегий, увенчивавшихся неограниченной монархией и ее двором. Королевский престол возвышался на вершине государственного и общественного строя.
Тупой, темный и невежественный народ целые столетия безропотно выносил на своих плечах тяжелую надстройку. Те, кто сидели на вершине, привыкли к этому и стали думать, что иначе и быть не может: строение общественного здания считалось предопределенным делом Провидения, но отнюдь не преходящей фазой развития. Привилегии становились все разнообразнее и разнообразнее и все большею тяжестью ложились на народные массы. Борьба за существование, да и самое существование все больше становилось для последних непрекращающейся мукой. В восемнадцатом веке новые идеи немного осветили и ту темную глубину, в которой до тех пор царила одна нищета. Мысль о возможности избавления стала распространяться все шире. Но тяготы все возрастали, пока они не исчерпали пределов возможного и не наткнулись на противодействие. Тогда уже нужен был толчок для того, чтобы вызвать переворот во всех общественных отношениях. Толчок не заставил себя ждать, и общественная почва зашаталась: что раньше было внизу, быстро очутилось наверху, что было вверху, исчезло, как в бездонной пропасти. Феодально-иерархическая надстройка обрушилась со страшным треском, и обломки ее исчезли в бездне революции. Среди этого кружащегося бурного хаоса в страшных муках явилось на свет новое общество.
Монархия и двор
Франция за время Людовиков превратилась в неограниченную монархию. Общеизвестное выражение Людовика XIV «Государство – это я» (L’état c’est moi) вполне соответствовало действительности. Все, что могло противиться королевской власти, было укрощено. Основного государственного закона не существовало; абсолютизм из обычного права превратился и «историческое». Существовало одно только ограничение королевской власти; само по себе оно было незначительно, но впоследствии оно стало для нее роковым: это было право высших судебных учреждений, парламентов, вносить королевские указы в реестр и придавать им тем силу закона. В тех случаях, когда парламент, основываясь на этом установленном обычаем праве, отказывался внести королевский указ в реестр и тем лишал его юридического значения, король лично являлся в парламент, выслушивал дебаты об указе и ставил вопрос на баллотировку. Это называли королевским заседанием. Но если и такое заседание не помогало, то король появлялся в полном облачении, со всеми внешними отличиями своего звания, причем усаживался на пять подушек. Это называли подушечным заседанием. В этом случае были безразличны результаты голосования: король приказывал внести указ в реестр, и там прибавляли только, что он внесен «по королевскому повелению». Упорная борьба между королями и парламентами особенно обострялась при назначении новых налогов, но королевская власть постоянно выходила из нее победительницей. Парламенты, благодаря этому, были популярнее, чем они этого заслуживали; состоя из представителей привилегированных сословий, они, понятно, заботились только о защите интересов стих сословий. Но угнетенному народу было приятно всякое сопротивление верхам, хотя бы оно даже вредило его интересам, как мы это увидим ниже.
Людовик XIV самым широким образом пользовался неограниченной властью, которую он окончательно установил за собой. На государственные доходы он смотрел, как на источник средств, чтоб сделать свой двор самым блестящим и роскошным в Европе; продолжительные и разорительные войны, которые он вел, вполне истощили страну и не принесли ему никакой выгоды. При нем женщины получили при дворе господствующее значение, и это уронило в глазах народа и Европы французскую монархию, а стране принесло неописуемые бедствия. Можно сказать, что направление французской политики в течение полувека зависело от капризов кокоток и что капризы эти сегодня питались ханжеством, а завтра распущенностью. Двадцать пять миллионов людей сгибали шею под капризами какой-нибудь Ментенон, Помпадур или Дюбарри; они свергали правительство, когда им не нравились реверансы первого министра.
Людовика XIV сменило регенство безнравственного герцога Орлеанского; при нем правительство превратилось в шайку биржевых спекулянтов, а в результате мошеннических финансовых операций знаменитого Ло наступило настоящее банкротство. При Людовике XV распущенность двора достигла крайних пределов, а расточение государственных доходов в пользу любимцев и любовниц приняло безумный характер. Нам незачем подробно описывать знаменитый сераль, известный под названием Оленьего парка, который построила королю его любовница Помпадур, когда она отцвела и хотела сохранить за собой его привязанность; высшей точки нравственного падения правительство Людовика XV достигло тогда, когда он на закате дней своих увлекся бывшей проституткой знаменитой Дюбарри, и последняя держала в своих руках правительство до самой его смерти. Было бы интересно сосчитать, сколько стоили Франции царственные метрессы обоих Людовиков; сумма, наверное, необычайно громадная.
В то же время происходили неудачные войны, тяготы и подати народные росли, народ все больше нищал. Когда Людовик XV умер, то его уже провожали в могилу брань и проклятие народное. Государственные колеса так глубоко увязли в грязи, что только такое правительство, которое одарено было бы железной силой, необыкновенным пониманием и талантом, могло бы вытащить их на твердую почву. Но развратного Людовика XV сменил слабый, ограниченный, хотя и добродетельный Людовик XVI, и по какому-то капризу всемирной истории как раз он попал в великую революционную бурю и был ею скошен.
Уже перед смертью Людовика XV находились люди, которые предвидели предстоящий взрыв, предупреждали привилегированных, что они пируют на вулкане. Но кто прислушивался к этим предостережениям? Привилегированные сословия состояли из дворянства и духовенства; по их исторически сложившемуся мнению, третье сословие, т. е. все, начиная от буржуа и работника и кончая крестьянином и крепостным поденщиком, только затем и существовали, чтобы создавать средства для двора. Как государственное сословие, правительство признавало третьим сословием только тех буржуа, которые имели самостоятельный промысел и не зависели от феодальных господ; на языке же революции третье сословие было более широким, выше разъясненным нами понятием.
Познакомимся же с этими тремя сословиями поближе.
Духовенство
Еще до Карла Великого целая треть земельных владений во Франции принадлежала церкви, т. е. духовенству. Благодаря этому сила, богатство, влияние и численность духовенства достигли необычайных размеров. Оно опутало Францию густою сетью организаций, от которых нельзя было скрыться.
Считают, что перед революцией духовенство владело одной пятой всей земельной площади Франции, с доходом в сто миллионов. Десятина (церковный налог) приносила ему еще двадцать три миллиона. Что касается численности, то во Франции было 2800 прелатов и генеральных викариев, 5600 каноников и настоятелей, 60 000 приходских и викарных священников. В монастырях находилось 24 000 монахов и 30 000 монахинь. Люди третьего сословия, буржуа и крестьяне, должны были содержать эту огромную организацию, как паутиной опутавшую страну; на это с них взимались бенефиции и подати. Само духовенство было свободно от податного бремени: оно добилось «исторического права» лишь в эпоху особенной нужды подвергать себя самообложению; оно, действительно, ежегодно давало стране добровольную подать, делало, так сказать, государству подарок, который, к слову сказать, никогда не превышал шестнадцати миллионов.
Как всегда, среди духовенства процветали теологические споры, и преследование «еретических мнений» было повседневным явлением. С другой стороны, образ жизни значительного числа высокопоставленных духовных лиц стоял в резком противоречии с христианским учением. Были такие духовные князья, которые на доходы, получаемые ими от государства, церкви и народа, вели роскошный и распутный образ жизни. Часто они являли собой прямо обидные примеры безнравственности. Отчасти они были заражены радикальной философией восемнадцатого века; они посмеивались над церковью, папой, религией, глупым народом, а иногда даже строили глазки атеизму. О грядущей революции они говорили, как об интересном приключении, ожидающем их в будущем. Они с особым удовольствием читали сатиры на религию, духовенство и церковь, но это нисколько не мешало им ревностно преследовать и строго наказывать свободомыслящих писателей. Как все вообще представители привилегированных классов, они признавали, что религия очень хорошая вещь для бедняков, надеющихся, что на том свете они будут вознаграждены за свои муки на земле: что же касается образованных и просвещенных людей, то для них религия лишена содержания, а церковь представляет собой общественную силу.
Низшее, пролетаризированное духовенство раздувало обнаружившееся скоро недовольство высокомерием и ханжеством высшего духовенства. Дело в том, что мелкое духовенство ничего не получало из крупных церковных доходов. Доход сельского священника колебался между 500 и 200 франков; из этой суммы они часто должны были, еще уделять до 100 франков на ежегодный «подарок» церкви государству. Этот духовный пролетариат склонялся к новым идеям восемнадцатого века; то, что столь многие представители низшего духовенства оказались впоследствии на стороне революции, объясняется, таким образом, его печальным положением.
Как всегда, церковь располагала большим числом благотворительных капиталов, предназначенных на пособия бедным. Эти благотворительные капиталы были известны под именем «достояния бедных людей». Во время революции это обстоятельство причинило много бед; лицемерные попы перенесли этот термин на всю церковную собственность, и когда стали секвестрировать церковные имущества, они подняли крик, что у бедняков отнимают их достояние. Немало глупых бедняков поверили этому и убили не одного революционера.
Дворянство
До революции французское дворянство представляло собой очень многочисленный класс; но численность его не установлена. Высчитано, что духовенство вместе с дворянством составляли 270 000 человек, но надо принять во внимание, что эти два понятия не были строги разграничены: все высокие, влиятельные и хорошо оплачивавшиеся церковные должности и бенефиции король в виде милости обыкновенно замещал дворянами. По наиболее удовлетворяющему нас расчету, число дворян в начале революции достигало 140 000 человек, т. е. приблизительно 30 000 семейств.
В боях фронды была сокрушена сила дворянства, и оно с тех пор начало вырождаться; скоро оно превратилось в смешную карикатуру на грубое, но могучее рыцарство прежних веков. Извелись гордые властители замков, строго охранявшие привилегии своей касты, но стоявшие на уровне просвещения своего времени и соблюдавшие патриархальность по отношению к подвластным им людям. Поместное дворянство обеднело и огрубело. Высокомерное, необразованное и глупое, оно ненавидело дворян-бюрократов, называя их «писцами». Приходится, таким образом, отличать придворное дворянство, служилое, заседавшее в парламентах, и поместное. Дворянство почти вполне свободно было от податей и сумело освободиться даже от земельных налогов, придумав для этого особые формы эксплуатации своих поместий.
Заниматься каким-нибудь промыслом представители этого класса считали для себя позором. Дворяне жили или податями с подвластных им крестьян, или от доходов с имений, или, наконец, служили офицерами в войске. Офицерские должности были почти исключительно в руках дворянства, и еще Людовик XVI издавал распоряжения, имевшие целью затруднить буржуазии доступ к офицерским должностям.
Придворное дворянство вполне зависело от милости короля и было самым высокомерным представителем приверженцев старого порядка; оно состояло, главным образом, из жалких выскочек, распутных и легкомысленных людей, не имевших совести и не понимавших современности. Были люди, которые старались найти остроумие в распутстве этого дворянства, а в придворном этикете – утонченные жизненные формы; но революция прекрасно раскрыла им его действительный характер.
В течение всех периодов революции из образованной и просвещенной части дворянства вышел целый ряд выдающихся людей и передовых борцов. Мирабо, Лафайет, Клермон Топнер, Ларошфуко, Петион, Баррер и, наконец, Робеспьер были дворянами по происхождению. Однако, как класс или как сословие, дворянство, вполне естественно, было решительным врагом тех нововведений, которыми сопровождались первые стадии революции. Привилегии ему были так дороги, что для восстановления старого порядка во Франции оно не остановилось перед союзом с иностранцами.
По мере того как дворянство беднело, оно все больше теснило и обременяло крестьян, которые должны были ему платить оброк и нести барщину. Если на буржуа и на всякого, кто честным путем зарабатывал себе пропитание и не жил на чужой счет, дворянин смотрел с оскорбительным высокомерием, то в крестьянине и крепостном он видел не человека, а вьючное животное. Яснее всего обнаруживалось высокомерие дворянства во время охот: крестьяне страдали тогда столько же от ловчих, сколько и от самой дичи.
Преимущество рождения в то время всегда было решающим моментом. Отменив его, революция резко изменила характер будущего общественного развития.
Но еще до революции остроумный Бомарше в одной из своих комедий критически уничтожил преимущество рождения в прекрасной насмешке. «Кто они? – говорится в “Свадьбе Фигаро” по адресу дворянства. – Они взяли на себя труд родиться!» Напыщенное дворянство сидело в ложах театров и до полусмерти хохотало над шуткой, и ему в голову не приходило, что Бомарше возвестил ему близкую гибель.
Оба эти сословия, дворянство и духовенство, владели двумя третями земельной площади Франции и платили весьма незначительную сумму налогов. Буржуа и крестьяне, которым принадлежала только одна треть земельной площади Франции, должны были нести на себе не только страшные государственные тяготы, но еще трудом своим поддерживать существование тех двух сословий.
Этот факт объясняет всю французскую революцию.
Буржуазия
Поскольку буржуазия официально составляла третье сословие, она состояла из тех подданных недворянского происхождения, которые не находились в личной зависимости от кого бы то ни было, самостоятельно вели свой промысел и не несли личной службы. Хотя по численности третье сословие во много и много раз превышало другие два сословия, оно в генеральных штатах не имело большего численно представительства, чем дворянство и духовенство. Государственные тяготы тяжелым бременем лежали на третьем сословии, но по отдельным провинциям они были распределены очень неравномерно.
Состоятельная буржуазия, понятно, больше всего чувствовала высокомерие дворянства и тяжесть абсолютизма. Поэтому, как всегда, зачатки сопротивления господству абсолютизма раньше всего обнаружились среди имущих буржуазных классов. Отличия между имущими и неимущими классами проявились только позднее, в начале же, когда буря только надвигалась, все единодушно боролись за новую свободу, одинаково желанную для всех. Только в дальнейшем ходе великого переворота обнаружилось, что буржуазный государственный строй, увековечивающий классовые отличия, не то же самое для неимущих классов, что для имущих, – и тогда только это вполне поняли.
Буржуазия, как носительница богатства и образования, очень рано сумела выставить ряд смелых борцов, начавших в печати и в собраниях борьбу с господствовавшими деспотизмом и абсолютизмом. В этих кругах находили себе поддержку все, кто явно или тайно был против двора, дворянства или духовенства. Блестящая и радикальная философия XVIII века пустила глубокие корни в среде этой буржуазии: учение Вольтера, Руссо, Дидро и даже Гольбаха воспламенило широкие круги. Настоящая крупная буржуазия еще не выделилась в отдельный класс, так как у нее не было никаких политических прав. Но в имущей и образованной буржуазии были скрыты уже те элементы, которым предстояло взять на себя управление будущим государством. Государственные деятели, полководцы, юристы и бюрократы новой Франции вышли из этой буржуазии.
Когда-то буржуазия крупных французских городов была очень могущественна, потому что общественное управление городов носило большею частью демократический характер. В пятнадцатом веке это, можно сказать, было общим правилом. Города выделены были как самостоятельные республики; они много боролись с королями и сохранили по отношению к ним независимое положение. Но среди них не было достаточно единения, и долго они не могли противиться централизованной королевской власти. В религиозных движениях XVI и XVII веков короли нашли желанный повод, чтоб сломить власть городов, и в исходе XVII века абсолютизм достиг уже своего расцвета.
Инертная масса мелкой буржуазии сгибалась под тяжестью абсолютизма и долгое время покорно несла тяготы, которые он взваливал на нее. Но когда гнет стал слишком силен, масса пришла в движение и отдалась революционной буре.
Ремесло и промышленность
В 1789 году в Париже был 41 цех. Во время реформатских попыток министерства Тюрго, о которых речь будет еще впереди, они были упразднены, но вслед за тем немедленно вновь восстановлены.
Это были уже мертвенные организации, и они стояли под сильным влиянием полиции. Можно было думать, что их вновь восстановили только для того, чтобы они платили свой промысловый налог. Для принятия в цех были необходимы достижение двадцатилетнего возраста и четырехлетняя ученическая практика. Пробная работа была отменена; при приеме в цех предпочтение отдавалось сыновьям мастеров и мастериц.
На цеховых собраниях в Париже участвовали только члены, платившие наивысший размер налогов, в других городах – все члены. Правительство опасалось, как бы на цеховых собраниях не стали проявляться революционные течения, и полиция стала заботиться об ограничении их. Цехи имели депутатов, начальников, синдиков и адъюнктов; вместе со всемогущей полицией они представляли городское управление. Торговое сословие тоже имело начальников и адъюнктов. Синдики, начальники и адъюнкты, по крайней мере, четыре раза в течение года обходили всех мастеров, чтобы убедиться в том, исполняют ли они цеховые правила и как себя ведут подмастерья, ученики и приказчики. Когда они находили правонарушения, они докладывали о них депутатскому собранию, вызывавшему обвиняемых к себе для внушения, в случае же повторных правонарушений депутатское собрание предавало их суду.
Профессии делились на свободные и несвободные. О занятии свободной профессией достаточно было только заявить полицейскому офицеру; к свободным профессиям относились: беление, производство щеток, чесание шерсти, торговля цветами, парикмахерское, канатное дело, торговля старым платьем, приготовление кнутов, торговля льном, производимая женщинами, садоводство, торговля пряниками, обучение танцам, приготовление матов, торговля птицами, выделка корзин, венков из роз, пробок, крючков, содержание бань, подметание улиц, ткание льна. Однако и свободные профессии находились под строгим наблюдением полиции и не были свободны от притеснений.
Ремесленник чувствовал себя очень скверно в полицейских тисках; полицейская опека становилась для него особенно невыносимой, когда он мысленно переносился в прежние времена, когда ремесленники жили свободными общинами и были пропитаны средневековой гордостью горожанина.
Промышленность тоже не могла развиться во Франции, Кольбер, этот идеал всех промышленников, считавший возможным всего достигнуть при помощи разных «регламентов», пытался создать расцвет промышленности приказами высшего начальства. Он не успел еще состариться, как его деятельность уже пошла прахом. Непрерывные войны увеличивали долги Франции, в 1714 году они уже составляли 3500 миллионов и убивали всякую промышленную инициативу. Если где-нибудь и был слабый зародыш развития, то абсолютизм немедленно парализовал его. Ло с его спекуляциями на бумагах совершенно расшатал экономическое и финансовое состояние страны. Последователи Кольбера еще ревностнее шли по пути регламентов. Особенно деспотическим было отношение к бумажной и ткацкой промышленности, так что эти отрасли производства не могли удовлетворить требованиям и потребностям современности. В 1734 году купцам запрещено было издавать рекламы, «так как они не вправе прибегать к искусственным средствам для завлечения покупателей». «Регламенты» устанавливали длину и толщину ниток для основы и для ушка, число их, длину и ширину сукна и устройство ткацкого станка. Если сукно было длиннее, чем допускал регламент, то королевский чиновник-инспектор отрезал лишнюю часть и отдавал бедным; бывали случаи, что большое количество кусков сукна, не соответствовавших регламенту, сжигалось. За такие проступки фабрикант мог быть даже выставлен к позорному столбу. Такими бессмысленными предписаниями правительство думало поднять на известную высоту качество всех товаров, но успеха оно, конечно, не имело. Все объединились для противодействия правительству и стали нарушать регламент. В 1776 году промышленности дали возможность свободнее вздохнуть, но тяготевший над ней гнет еще долго давал себя чувствовать.
Таким образом, и у промышленности было немало причин сопротивляться гнету старого порядка. Долгое время потом она еще не могла оправиться.
Промышленные рабочие и подмастерья
Незадолго до революции заработная плата во Франции средним числом составляла 26 су для рабочего и 15 су для работницы (20 су = 1 франку = 40 к.). Комиссия, назначенная учредительным собранием, выяснила, что средняя заработная плата составляла 50 сантимов (1/2 фр.) в день. Положение промышленных рабочих было очень скверное, и рано мы встречаемся уже с движениями, имевшими целью поднятие материального положения условий труда рабочего. Центром этих движений был Лион, и картина состояния его промышленности может нам, скорее всего, дать представление о положении промышленных рабочих во Франции восемнадцатого века.
В пятнадцатом веке в Лионе впервые появляется шелковое производство. В 1566 году оно уже давало работу 12 000 рабочих, а при Людовике XIV мы наблюдаем уже упадок его. Но одному из регламентов эпохи Кольбера в шелковой промышленности Лиона устанавливались три класса, представлявших вместе целое сословие. К высшему классу относились капиталисты:, предприниматели и торговцы. Все они были очень богаты. Второй класс составляли мастера; их было в десять раз больше, чем торговцев; они работали дома на собственных станках на свой собственный счет или на счет капиталиста. Третий класс, класс подмастерьев, работал за заработную плату и по численности в десять раз превышал класс мастеров. Кроме того, шелковая промышленность насчитывала 40 000 человек рабочих, мужчин, женщин и детей; они не входили в состав сословий, подвергались безграничной эксплуатации и жили в страшной нищете, Когда возникали недоразумения, их разрешали шесть надсмотрщиков; первоначально двое из них назначались городским управлением, а остальные четверо выбирались из среды бывших начальников и из тридцати мастеров, указанных мэром, носившим тогда также название консула. При Людовике же XVI было постановлено, чтобы мелкие производства, т. е. мастера, выбирали только двух надсмотрщиков, а крупные, т. е. капиталисты и предприниматели, четырех. Затем в 1761 году еще был издан декрет государственного сонета, чтобы мастера, работавшие на счет торговцев, не имели у себя более четырех ткацких станков; тем же рабочим, которые сами и непосредственно продавали свои произведения, запретили иметь больше двух станков, нанимать подмастерьев или принимать учеников. Шелковая промышленность насчитывала тогда 10 000 рабочих, 10 торговцев, 800 мастеров и 8000 подмастерьев. Декрет 1761 года всецело отдал все сословие во власть торговцев.
Правда, в 1731 году этот злополучный декрет был отменен, но в течение 1741–1744 годов были изданы новые распоряжения, благоприятствующие торговцам и направленные против мастеров, подмастерьев и рабочих. Мастера утверждали, что даже при напряженной и непрерывной работе они ежегодно должны делать на 250 франков долга. И до того времени жалкая заработная плата опустилась до минимума. Это привело в 1744 году к крупной стачке подмастерьев и мастеров; во Франции это была первая большая стачка. Присоединились и рабочие, не принадлежавшие к сословию. Требования были такие: повышение заработной платы на 1 су с аршина, уравнение классов сословия при выборе начальников, отмена налога в 300 франков за утверждение в звании мастера, право подмастерьев и мастеров свободно работать за свой или чужой счет. Почти все остальные производства в Лионе тоже приостановили работу, и первый промышленный город страны в течение восьми дней находился во власти пролетариата, не учинившего за это время никаких насилий или беспорядков. Консул удовлетворил требования рабочих, которые, в сущности, были очень скромны. Но в феврале 1745 года все уступки были взяты обратно. Торговцы снова получили преобладающее значение; весьма вероятно, что они подкупили министров. Несколько рабочих были убиты, другие сосланы на галеры. Войска были оставлены у горожан на постое. Словом, в ответ на свои требования рабочие получили только пули.
Под страшным гнетом жили рабочие шелкового производства с того времени до 1786 года. Этот год ознаменовался новой стачкой. Они требовали прибавки двух су на аршин. Вооруженные палками рабочие толпами ходили по городу; консульство испугалось и согласилось на все. Но появилось войско, уступки были взяты обратно, а троих ремесленников «для примера» повесили за то, что они не уплатили какого-то сбора. Такса заработной платы была отменена и поставлена в зависимость от личного соглашения, последствием чего, понятно, было понижение заработной платы. В 1788 году урожай шелка выпал незначительный, – остановилось 5400 станков, и 40 000 рабочих остались без хлеба. Ужасное положение рабочих во время этого кризиса не поддается описанию. Город Лион получил разрешение на заем в 300 000 франков на пособие рабочим; этим, однако, нельзя было помочь горю, так как наступила дороговизна и зима была очень суровой. Много рабочих и мастеров должны были эмигрировать, многие покончили самоубийством, наконец, третьи работали по 18 часов в сутки, чтобы как-нибудь прожить.
Уже в 1789 году крупная промышленность произвела чистку среди мастеров; она насчитывала 14 700 ткацких станков и 58 000 работников. Но только 3400 из них принадлежали к сословию и могли принять участие в выборах в Генеральные штаты 1789 г., так как только принадлежность к сословию давала право голоса.
Филантропический институт вторично добыл 300 000 франков для рабочих, но это только послужило хорошим поводом для торговцев еще больше сбавить жалкую заработную плату.
Так-то в Лионе очень рано началось рабочее движение, и очень рано мы уже видим здесь разграничение между пролетариатом и буржуазными партиями. Это обнаружилось уже при выборах в генеральные штаты. Мы ниже увидим, что и в Париже рабочие выступили на защиту своих интересов, но безуспешно.
Еще в начале средних исков среди французских промышленных рабочих существовали союзы подмастерьев. Они известны были под именем compagnonnage. Союзы эти указывают на то, что промышленный пролетариат там очень рано уже ограничил себя от мастеров и капиталистов; возникновение этих союзов обозначало начавшийся процесс отделения труда от капитала. Эта форма союзов просуществовала вплоть до Второй империи и тогда только уступила место другим союзам. По происхождению своему эти союзы подмастерьев носили характер религиозный, только впоследствии они стали преследовать, кроме того, и материальные цели. В этих союзах демократическая организация соединялась с большим количеством своеобразных обычаев, на которые надо смотреть, как на пережитки религиозных церемоний. Это были замкнутые корпорации подмастерьев в противовес мастерам, и в эпоху своего расцвета они очень много сделали для интересов ремесленного пролетариата. Они организовали много стачек, из-за которых мастера жаловались на них представителям государственной власти. Кольбер не прочь был регламентировать даже образ жизни рабочего, но союзы подмастерьев, распространенные во всей Франции, обнаружили много самостоятельности. После руанской стачки 1679 г., когда в течение месяца не работало 3000 суконных ткачей по той причине, что чужие рабочие были там приняты на службу, полиция обратила свое внимание на союзы подмастерьев. Хотя эти союзы не выступали вполне открыто и были довольно неуловимы, однако, против них приняты были строгие меры. Братства и союзы ремесленных подмастерьев были запрещены, ношение оружия и палок тоже было воспрещено. Была введена обязательность предварительного заявления о желании оставить работу через известный срок, минимум которого был установлен правительством. В 1771 г. последовало определение, по которому колбасный подмастерье должен был оставаться у мастера не менее года; были введены: аттестаты, а в 1781 году появились рабочие книжки, крайне стеснительные и ненавистные веем рабочим. Союзы подмастерьев часто спорили между собой, и раздоры нередко оканчивались кровавыми столкновениями. Крупные столкновения такого рода произошли в 1730 году близ Арля, а в 1743 году в Нанте. В Париже, где такие драки не прекращались, парламент воспретил в 1778 году союзам подмастерьев собираться и носить оружие или палки.
В боях революции французские промышленные и ремесленные рабочие, получавшие столь жалкую заработную плату и притесняемые полицией, сражались в одних рядах с крупной и мелкой буржуазией.
Третье и могучее четвертое сословие относились друг к другу недоверчиво, но общая ненависть к абсолютизму объединила их. Когда третье сословие победило и власть перешла в его руки, рабочие стали требовать облегчения своей участи. Мы увидим, чем ответило на это очутившееся у власти третье сословие.
До отделения четвертого сословия от третьего было уже недалеко. (Мы употребляем здесь общепринятое выражение «четвертое сословие», но мы вовсе не забываем при этом, конечно, о том, насколько это обозначение не подходит к рабочему классу.)
Сельское население
Во время революции население Франции составляло около двадцати пяти миллионов людей, и из них двадцать один миллион жил земледелием. Поверхность Франции составляла пятьдесят один миллион гектаров, и из них обрабатывались тридцать пять миллионов.
Та часть земли, которая не составляла собственности духовенства, дворянства и короны, принадлежала мелким землевладельцам; по показаниям одного из наблюдателей того времени, во Фландрии, Эльзасе и северной Бретани эти мелкие собственники были довольно состоятельны, в других же местах, особенно Шампани и Лотарингии, они были очень бедны и даже нищенствовали. Раздробленность владений была крайне велика; были владения в десять сажей с одним деревом на них, представителем угодий. Среднего сельского сословия почти не существовало; сельское население почти исключительно состояло из крупных помещиков, обедневших крестьян, арендаторов и пролетариата различных ступеней, вплоть до крепостного. Только в Вандее между провинциальным дворянством и крестьянами сохранились до некоторой степени патриархальные отношения; впоследствии это явилось даже причиной разыгравшихся в этой провинции кровавых боев; в других местах почти всюду помещик грубо обращался с крестьянином и эксплуатировал его до последней возможности. Чем больше дворянство беднело, тем больше оно старалось выжать из крестьян. Таким-то образом, ко времени революции феодальные тяготы достигли пределов возможного, а вместе с громадными государственными повинностями они превращали жизнь сельского населения в ад; было бы удивительно, если бы в этой среде не отнеслись сочувственно к какому-нибудь изменению существующего порядка вещей.
До революции французский крестьянин должен был вести образ жизни, мало чем отличавшийся от жизни животного. Способы обработки носили еще первобытный характер и не могли настолько использовать плодородие почвы, чтобы дать благосостояние населению. Было еще много свободной земли и пустырей, до которых никому не было никакого дела. Крестьяне жили в жалких глиняных лачугах, крытых соломой, и частью без окон. Было бы удивительно, если бы они не были грязны, грубы и невежественны; господствующей власти совсем невыгодно было дать доступ свету просвещения в эту массу несчастных блуждающих во тьме людей. Было очень мало крестьян, умевших читать и писать. В состав сельского населения Франции до революции входили еще полтора миллиона крепостных, которые должны были платить своему помещику подати и нести барщину. Помещик имел над ним право суда, они же не имели право свидетельствовать на суде и свободно распоряжаться своим движимым имуществом. Крестьянин не имел права протестовать против опустошений, которые производила у него дичь, и под страхом строгого наказания не должен был иметь у себя оружия.
Особенно тяжелым налогом были для крестьянина церковная и светская десятины, которые он должен был вносить духовенству и помещику. Десятина составляла десятую часть всего дохода с хозяйства. Расчет производился на очень неопределенных основаниях, и десятая часть могла превратиться в треть, половину, три четверти или даже большую часть чистого дохода и могла страшным бременем ложиться на крестьянина. Значительное число собственников с акра пшеницы должны были отдавать седьмую часть. Виноградари очень часто должны были отдавать седьмую часть добытого ими вина. Большое число натуральных повинностей сохранилось со Средних веков в виде «исторического права»; некоторые участки должны были поставлять добавочные взносы рожью, птицей, свиньями, яйцами, дровами, воском и цветами; кроме того, наряду с обыкновенной барщиной было также много добавочной. Во многих случаях мы встречаемся и с особыми денежными налогами. Рядом с помещиком стояло государство и обращалось к крестьянину с требованиями, на исполнении которых оно настаивало с такою же неумолимостью, как и феодал. На первом месте здесь стоял земельный налог; дворянство изворачивалось так, что почти не платило его, духовенство было освобождено от него, а крестьянство должно было вносить его неукоснительно. Земельный налог приносил в общем 110 миллионов франков. После него следовали ненавистный соляной налог, доходы на предметы потребления, пошлины на товары, съестные припасы, на передвижение. Высчитано, что в областях наибольшего обложения из ста франков крестьянин должен был платить государству 53 франка земельного, подушного и подоходного налога, 14 франков помещику, 14 франков десятины духовенству. Из оставшихся 19 франков надо еще отсчитать кое-что на соляной налог и налог на потребление. Таким образом, легко себе представить, что непрерывно голодавших крестьян было немало.
К этим ужасным тяготам присоединился еще недород. Зверства помещиков и сборщиков податей не раз доводили сельское население до отчаяния и бунтов, подавлявшихся военной силой. Так, в 1775 году произошел крестьянский бунт, так называемая война за муку. Плохой урожай, дороговизна и агитация врагов правительства довели крестьян до того, что они решились толпой пойти в Версаль и требовать от короля помощи. В Париже в это время тоже происходили сборища и беспорядки; народ грабил булочные и разрушал хлебные магазины, Людовик XVI что-то пообещал, и крестьяне успокоились. Пока что в обычное время столь благоразумный министр его Тюрго ничего лучшего не придумал, как призвать войска. Было пущено в ход оружие, и толпа была рассеяна. «Для примера» двоих повесили. И так поступил сам Тюрго! Легко понять, что больше всех мучились крепостные. Вольтер, один из наиболее выдающихся умов того времени, выступил со своим сильным пером на борьбу с этим варварским учреждением. Вот что он, между прочим, писал Людовику XV: «Ваше величество! В вашей армии имеется более 130 000 крепостных. Если некоторые из них дослужатся до офицерского чина, получат отставку и пенсию, но не возвратятся в свою жалкую лачугу к родителям и родственникам, а поселятся в городе, займут лучшую квартиру, то перед смертью они все-таки не вправе будут распорядиться своим имуществом и сбережениями: после их смерти все должно принадлежать их господину!» Ограниченный Людовик XV, целиком предавшийся разврату, не обращал внимания на эти слова, но Вольтер продолжал свою критику крепостничества. Он придал бессмертную редакцию собранным им жалобам крепостных. «Мы, – заставляет он их говорить, – рабы вместе со всем, что принадлежит нам. Остаемся ли мы в доме родителей, обзаводимся ли мы после женитьбы своим хозяйством, – когда один из нас умирает, имущество его принадлежит монахам. Нас гонят из родительской лачуги, и мы должны просить милостыни у порога того дома, где мы родились. Нам не только подают подаяния, но господин наш вправе не платить за лекарства и бульоны, которые мы берем для наших родственников. Поэтому когда мы больны, ни одни купец не дает нам тряпки в кредит, ни один мясник не поверит фунта мяса, а аптекарь отказывает нам в лекарстве, которое могло бы спасти нам жизнь. Мы умираем, покинутые всеми, и в могилу мы можем сойти только с печальным сознанием, что дети наши тоже останутся в рабстве и нищете. Когда пришелец, незнакомый с местными условиями, по какой-нибудь несчастной случайности пробудет один год и один день в этом варварском месте С.-Клод (Юра), то он становится таким же рабочим монахов, как мы. Пусть он разбогатеет в другой стране – богатство его принадлежит монахам из С.-Клода; в какой угодно стране на свете они вправе требовать себе это богатство, и это известно под именем права на наследование. Когда монахам удастся доказать, что девушка, вышедшая замуж, не провела первую ночь после венца в отцовском доме, а в доме мужа своего, то она теряет право наследовать своему отцу. Нередки случаи, когда такие свидетельские показания вынуждаются угрозами, и наследство достается монахам. Дело может идти о 20 талерах или 100 000 франков, – они всегда сумеют их получить. Эти монахи сосут из нас соки, пока мы живы, сдирают шкуру, когда мы умираем, а все остальное бросают в живодерню». Герцогу Шуазелю он так писал: «Меня посетили на днях крепостной и крепостная из С.-Клода. Крепостной занимает должность почтмейстера в С.-Амуре и приказчика у вашего родственника графа Шуазеля; вы являетесь, таким образом, собственником его на двух основаниях, и капитул С.-Клода вовсе не вправе обращаться с этими людьми, как с крепостными. Между тем их бьют, каноники высасывают из них соки, и – вы увидите это – все население выселится в Швейцарию, если вы не возьмете его под свою защиту». Понятно, герцог Шуазель ничего для них не сделал, но приведенные Вольтером факты, высказанные им замечания снова всплыли во время революции. Его друг и соратник Кристен был председателем той комиссии учредительного собрания, которая составила знаменитый доклад против крепостного права. В нем говорится: «Статья 3 обычного права графств предусматривает, что если свободный человек женится на дочери крепостного и останется жить в доме жены своей, то он не становится крепостным, если он не умрет в доме жены своей, в противном случае он и дети его становятся крепостными». Таким образом, когда такой человек, отец семейства, заболевал, его должны были перенести на землю свободного человека, в противном случае детям угрожала опасность впасть в нищету и позорное рабство. Не один раз, конечно, статья эта была причиной смертельного исхода болезни.
Сколько отчаяния и озлобления должно было накопиться у этих бедных, истощенных крестьян, полуголодных поденщиков, замученных крепостных. Они гибли в нищете и грубости, и ужасно было, действительно, их восстание, когда пожар революции зажег страну и сельское население поднялось против своих притеснителей.
Правительство и управление
Образ правления старой Франции был вполне деспотический. Можно было подумать, что вся задача его заключается в изыскании средств на роскошь двора и придворных, в охране преимуществ привилегированных сословий и в подавлении всяких признаков недовольства. Неограниченная монархия признавала только подданных, но не граждан, и поэтому свободы личности не существовало. В суде дарил произвол, подкуп; он низко пал и не вселял доверия. Наибольшим нарушением и угрозой личной свободы французского населения были знаменитые бланки для задержания; при помощи такого бланка двор и близкие ему люди могли кого угодно заточить в страшную государственную тюрьму Бастилию: достаточно было не угодить им.
Юридической защиты против такого насилия не существовало. Если кто-нибудь был так неосторожен, что в присутствии шпиона выказывал свое свободомыслие, то он мог уже наперед знать, что ему придется исчезнуть за толстыми стенами Бастилии. Писатель, ратовавший против общественных злоупотреблений, всегда должен был опасаться, что его запрячут в Бастилию, а работу его сожгут рукой палача. Кто не угодил придворному или придворной даме, мог попасть в Бастилию, не зная за что. В этой темнице люди сидели годы, умирали, не быв даже ни разу допрошены, не услышав ни одного слова о том, за что их арестовали. Там, например, был заключенный, который просидел в Бастилии целых шестнадцать лет и просил в прошении на имя короля сказать ему, что стало за эти шестнадцать лет с его женой и детьми, если уж ему не говорят о причине его заключения. Немало блестящих умов перебывало за стенами этой крепости. Во Франции было много еще таких тюрем; Бастилия была только наиболее знаменита среди них.
Если при помощи этих бланков о задержании абсолютизм мог распоряжаться только личной свободой французского населения, то для распоряжения его имуществом существовали произвольные налоги, установленные несмотря на протест парламентов. О несправедливости обложения и о свободе дворянства и духовенства от налогов мы уже говорили. Правительство отдавало налоги сборщикам на откуп; сборщики уплачивали правительству известную сумму, а потом уже взыскивали с населения налог самым безжалостным образом, так как собранная ими сумма уже принадлежала им. Применявшиеся ими меры взыскания отличались ужасной жестокостью, и великая ненависть к крупным сборщикам, главным-откупщикам, нашла себе выход во время террора революции; все откупщики, которых удалось поймать, погибли на эшафоте. Особенно ненавистен был соляной налог, значительно колебавшийся в различных областях, вследствие отсутствия единства в управлении; цена на центнер соли колебалась, вследствие этого, между 8 и 62 франками. Каждый француз старше семи лет должен был ежегодно покупать у государства семь фунтов соли; очень много бедняков, не сделавших этого, наказывались принудительной продажей имущества. Число таких случаев доходило до 4000 в год. Считают, что в связи со взысканием этого налога ежегодно производили 3500 арестов; арестованным же нередко угрожал кнут или каторжные работы (галеры).
Необычайно громадное число нищих, бродяг, воров и всякого рода сомнительных личностей слонялось по стране и вело постоянную борьбу с полицией, которой было недостаточно, чтобы бороться с ними. В сельских местностях организовались целые разбойничьи шайки, державшие в страхе всю округу. Как последствие жестоких и несправедливых законов об охоте, возникла организация для кражи дичи. На границе приходилось держать 50 000 человек пограничной стражи для борьбы с контрабандой, столь выгодной вследствие высоких пошлин, но сколько-нибудь успешно вести борьбу с контрабандистами все-таки не удавалось. Ни один год не обходился без множества смертных казней; колесовали, рубили головы, вешали, сжигали, пытали, рвали раскаленными щипцами и даже четвертовали. Для большего устрашения придумывали возможно более мучительные казни. Тюрьмы были переполнены заключенными всякого возраста обоего пола, и все это было втиснуто в одно помещение; на продовольствие человека отпускалось пять су; оно было столь же жалким, сколь варварским было обращение с арестованными.
Наряду с такой народной нищетой стояла бессмысленная расточительность двора. Цивильный лист короля, равно как жалованье членам королевского дома были слишком высоки для того времени. Целая толпа дармоедов, льстецов, авантюристов, мошенников и лакеев примостилась ко двору, получала значительное, часто даже громадное жалованье по цивильному листу короля, т. е. из государственной кассы. Двор состоял из 1500 человек. О расточительности этого двора можно себе составить представление хотя бы по тому, что гувернантка королевских детей получала 50 000 франков жалованья в год. При Людовике XVI один из государственных секретарей жаловался, что 180 000 франков ему не хватает, и ему прибавили 40 000.
Грубость полиции, высокомерие важных господ по отношению к податному населению и истощенному крестьянину, всесторонний гнет – все это вместе подготовило благоприятную почву для философской и литературной революции, предтечи великого переворота.
Дух времени
Правящие классы старой Франции с большой настойчивостью отражали всякое покушение на их привилегии; однако, и они прекрасно сознавали, что все их роскошное высокомерное существование непрочно, что они пируют на вулкане, в темной и беспокойной глубине которого таятся страшные силы; они знали, что достаточно малейшего толчка – и силы эти проснутся, превратят старый мир в пепел и развалины. О том, что все чувствовали наступающую грозу, достаточно свидетельствуют хотя бы известные слова мадам Помпадур: «После нас – хоть потоп!» (Après nous le déluge). Слова эти стали паролем того легкомысленного общества, которое правило старой Францией; оно поставило себе целью возможно веселее и утонченнее провести время, оставшееся до прихода бури, провести последний час своей жизни в непрерывном веселом опьянении. Ради шутки не щадили ни других, ни себя. Это была какая-то безумная охота за наслаждениями, и редко в истории можно встретить эпоху, когда люди с такой лихорадочной поспешностью переходили бы от одного удовольствия к другому. Это обстоятельство объясняет нам, почему в этом смешанном и запутавшемся обществе восемнадцатого века так много сомнительных личностей могло играть крупную роль наряду с блестящими и крупными фигурами. Дурачество в этот век трудно было отличить от глупости. Всякого рода авантюристы и мошенники легко расчищали себе путь, находили себе всюду радушный прием, так как с ними приятно было коротать время. Общество вернулось к алхимии и к разного рода магии; это было время, когда шут Калиостро пользовался во Франции наибольшим успехом. При всем том в правящих классах находили себе почву и новые идеи, которые не только предсказывали, что старая Франция подвергнется коренным изменениям, но которые прямо стремились к этому изменению. Образованная буржуазия занялась новыми идеями с полным сознанием их политического значения, легкомысленная же аристократия только играла ими. Она находила эти идеи очень пикантными, и те сочинения, которые подготовили революцию и погубили старую Францию, очень часто получали распространение только благодаря защите и помощи аристократии.
Материалистическая философия, так сильно возбудившая умы Франции, была английского происхождения. Локк и Юм заложили ее основание. Если Юм дошел до того, что оспаривал бессмертие души, то последовавший за ним Гельвеций утверждал, что только удовлетворение здоровой чувственности может сделать здоровым человечество. Самый сильный и влиятельный из этих новых философов Вольтер направил свои смертельные удары главным образом против церкви и против религии вообще. Раны, которые нанесены им, оказались неизлечимыми. Не было ничего, чего бы он ни облил ядом уничтожающей насмешки; всех французов он сделал скептиками, опровергнув установившиеся авторитеты. Для своих земляков у него не было другого названия, кроме общества «тигров и обезьян», напоминавшего им о том, что надо стать людьми. Со всякими злоупотреблениями он, как мы видели, боролся с большим мужеством и самоотвержением. Знаменитым процессом Каласа он пригвоздил юстицию к позорному столбу. Когда палач сжег его сочинения, он, смеясь, ответил, что сожжение не ответ. И он был прав, потому что ответом на его сочинения была революция.
Материалистическая философия делала все большие успехи; прошло немного времени, и она пришла к отрицанию всех общепринятых государственных и общественных идей, на смену которых явился целый мир новых. Дух нового времени получил наиболее полное выражение в большом сочинении многих авторов, известном под именем Энциклопедии; оно стало так известно, что авторов стали называть энциклопедистами. Душу этой новой школы составили Дидро и Даламбер; они были самыми последовательными представителями материалистической философии, один старался превзойти другого. Доводы Ламеттри против бессмертия души заходили еще дальше, чем философский материализм Дидро, но дальше всех пошел Гольбах, проживавший во Франции немец. В своей «Системе природы» он утверждал, что всё можно объяснить материей и ее движением и дошел до атеизма.
В своих глубоких и остроумных размышлениях о «Духе законов» Монтескье преподнес Франции картину свободного государства; она поневоле должна была сравнить с этой картиной ужасное состояние страны и незаметно для себя исполниться стремлением к свободе.
В это время выступил Жан-Жак Руссо, провозгласивший, что человеческое общество испорчено и объяснивший эту испорченность дурными общественными учреждениями. Он призывал вернуться к естественной простоте и отказаться от крайней извращенности. Новые и смелые идеи и блестящая критика этого философа вызвали возбуждение во всех слоях общества. Ни одна его книга не повлияла в столь сильной степени на ход революции, как его «Общественный договор», в котором он провозгласил принцип народного суверенитета в форме заключенного народом общественного договора. По этому договору, правитель мог только править, законы же издавал народ, и в таком обществе любой человек являлся, таким образом, и подданным, т. е. гражданином, и представителем верховной власти. Некоторые пошли, однако, еще дальше. Морелли и Мабли обрушились на господствующие понятия о собственности, а к ним присоединились Кондорсе и Бриссо, прославившиеся впоследствии как вожди жирондистов. Бриссо же принадлежит вызывающее гиперболическое выражение «собственность – это кража»; обыкновенно автором его считают Прудона, но это неверно.
Энциклопедистов очень часто преследовали судебным порядком, но могущественные представители дворянства очень часто заступались за них. Новые идеи были и для них забавой, и ради удовольствия с ними знакомились даже при дворе. К тому же это было время просвещенного деспотизма. Было немало князей, бравших под свою защиту наиболее радикальных мыслителей. Фридрих II Прусский находился в тесной дружбе в Вольтером и Ламеттри, а в последние годы своей жизни он виделся с Мирабо и Лафайетом; Екатерина II, управлявшая Россией как азиатский деспот, находилась в интимной переписке с выдающимися энциклопедистами. Все, кто хотел казаться умным, играли с новыми идеями как с красивым, но опасным огнем.
Сюда присоединилась еще начавшаяся незадолго до революции борьба североамериканских колоний Англии за независимость. Когда знаменитый Бенджамин Франклин прибыл в Париж, двор и дворянство встретили его с таким же восторгом, как и народ. Франция давно уже соперничала с Англией в Северной Америке; очень много французов из любви к свободе направились в Северную Америку, чтобы стать под знамена популярного вождя революционной армии Вашингтона. В числе их были уже и те, которым суждено было прославиться во время Французской революции, например Лафайет, Журден, Рошамбо, Кюстин и др. Особенно сильное впечатление произвело участие в этой революционной борьбе такого родовитого дворянина, как Лафайет, и, когда он вернулся во Францию, Людовик XVI даровал ему прощение за его, как говорили тогда, простительную шалость.
Таким-то образом, самые разнообразные обстоятельства соединились для того, чтобы подготовить и вызвать к концу восемнадцатого века давно ожидавшийся глубокий переворот. Казалось, сам воздух был насыщен новыми идеями, и все с замиранием сердца ожидали реформ. Все жили ожиданием революции, все сроднились с мыслью о ней. Когда же она пришла, она оказалась совсем не такой, как люди ожидали и представляли себе. Философы и поэты мечтали, что это будет короткий период проявления народной силы и насилия. Потом, надеялись они, сейчас же начнется давно желанная счастливая эра. Государственные люди не представляли себе, правда, этой задачи в столь простом виде, но и они не думали, что живут накануне такой грозы, которая в течение двадцати лет не перестанет поражать Европу громом и молнией. Поэты, конечно, могут думать, что тысячелетнее зло можно в один год вырвать с корнем, мыслящий же ум всегда поймет, что это невозможно.
Людовик XVI и его государственные люди
В 1774 году скончался Людовик XV, и господство его любовницы Дюбарри кончилось. Преемником Людовика XV был его внук Людовик XVI. Молодой король даже с внешней стороны не производил выгодного впечатления; он был как-то неуверен и неловок в обращении с людьми. Больше всего он питал пристрастие к охоте, меньше же всего, вероятно, к народному благосостоянию. Он вовсе не был столь добродушным человеком, каким его обыкновенно рисуют; если он нам кажется несколько другим, чем обыкновенные неограниченные властители, то в этом виновата только его трагическая судьба. У него не было своих мыслей, характера у него тоже не было, и он был всецело в руках своих приближенных, особенно же в руках своей жены. Во время революции ему пришлось ответить за многое, в чем он вовсе не был виновен, но в качестве монарха он был главным представителем старой Франции, и над ним поэтому и разразились, главным образом, громы революции.
Королева Мария-Антуанетта, дочь императрицы Марии-Терезии Австрийской и сестра императора Иосифа II, благодаря своему превосходству, держала мужа своего в своих руках. Несмотря на фамильную габсбургскую отвислую нижнюю губу, она была красива, притом еще остроумна и любезна. В то же время она является наиболее высокомерной аристократкой своего времени. Эта гордая женщина, воспитанная в предрассудках против народа, возмущалась малейшей уступкой духу нового времени, и «австриячка» стала ненавистна народу. Ее считали распутной женщиной, о ней рассказывали массу любовных приключений; мы не можем сказать, насколько это справедливо; в конце концов, данные скандальной хроники того сплетнического времени тоже нельзя считать надежным доказательством. С другой стороны, распутная королева была бы вполне понятным явлением во Франции того времени.
Брак Людовика XVI с Марией-Антуанеттой имел своим основанием соображения государственного характера; когда же наступила революция, этот брак был одним из факторов, ускоривших вмешательство иностранных держав во внутренние дела Франции.
Когда Людовик ХVI вступил на престол, он тоже чувствовал, что правительство при нем должно стать другим, чем оно было при Людовике XV. Ход мыслей его был очень прост: при двух предшественниках его особую ненависть заслужило господство любовниц, и он решился поэтому назначить руководителем государственной политики человека, у которого господство любовниц всегда было бельмом на глазу. Первым министром своим он назначил графа Морена. Впрочем, он мог делать все, что ему угодно, потому что государственные дела, мало озабочивали короля. Он гораздо больше думал об охоте, об оленях, сернах, лисицах, зайцах и барсуках; в течение года он собственноручно убивал до 10 000 животных. Вопрос об охоте был для него настолько важным, что, несмотря на желание иметь государственные сословия подальше от возбужденной столицы, он, однако, не перенес их дальше Версаля; причиной, по его собственным словам, была опять-таки охота. Он вел дневник, и когда проводил один день без охоты, то против этого дня отмечал: «Ничего». 14 июля 1789 года – день взятия Бастилии тоже отмечен у него: «Ничего». Штурм Бастилии – и «ничего»! Видно, собственноручно убитый заяц имел для него большее всемирно-историческое значение.
Назначение Морена не осталось без последствий. Правда, этот старый царедворец был лишен того, что называется государственной жилкой, но он призвал ко власти трех человек, которые не были противниками коренных реформ. Это были маркиз де Верженн, министр иностранных дел, Ламуаньон Мальзерб, министр внутренних дел, и Тюрго, министр финансов. Эти люди видели надвигающийся переворот и пытались путем мирных реформ способствовать возрождению Старой Франции, Их планы и идеи были смелы для того времени, но выполнимы, и если они потерпели неудачу, то только вследствие противодействия привилегированных сословий. Слабый и нерешительный король не мог пристать ни к реформаторам-министрам, ни к защитникам старых привилегий.
Кроткий по натуре Мальзерб пытался очистить авгиевы конюшни юстиции и хотел уничтожить бланки о задержании, отменить пытки. Он стоял за свободу печати и боролся с цензурой, хотел восстановить Нантский эдикт и религиозную терпимость. Гораздо более решительный характер имели реформаторские попытки его товарища Тюрго, которого совершенно неправильно часто называли социалистом. Он был учеником школы физиократов, исходивших из устарелой и ныне критически опровергнутой доктрины, что земля – источник всех ценностей. Реформы Тюрго свидетельствуют о необыкновенной дальновидности его; путем приказаний сверху он хотел распутать те оковы, которые потом во время революции были разбиты силою. Он хотел расчистить путь могучему росту третьего сословия, уничтожив устарелые средневековые формы сообщений, торговли и производства. Тюрго был противником займов и повышения налогов, сторонником бережливости, свободы торговли и развития путей сообщения. Первоначально ему удалось склонить на свою сторону молодого короля, которому едва только минуло двадцать лет и на которого подействовала нарисованная им грозная картина грядущей революции. Прежде всего Тюрго отменил все стеснения для хлебной торговли. Это была крупнейшая реформа, так как до того времени на перевозку хлеба из одной провинции в другую требовалось особое разрешение властей. Несоблюдение этого требования наказывалось галерами и даже смертью. При таком порядке вещей в одной провинции мог царить голод, в другой изобилие. Урожай 1774 года был очень плох, и Тюрго надеялся предоставлением свободы хлебной торговли принести пользу сельскому населению. Но привилегированные сословия выступили против этого. Представитель их, парижский парламент, в «подушечном заседании", правда, вынужден был внести в реестр эдикт о свободе хлебной торговли, но зато он старался убедить народ в том, что причина дороговизны хлеба заключается в свободе торговли им, и ему, в конце концов, удалось восстановить невежественную массу против министра-реформатора. Началась уже упомянутая нами война за муку; народ разносил государственные и частные хлебные склады, и положение все ухудшалось. Но главная причина неудачи этой реформы Тюрго заключалась в неорганизованности и в несовершенстве путей сообщения.
Эта первая неудача не разбила энергии Тюрго. Ему снова удалось склонить молодого короля на сторону своих реформ, и в феврале 1776 г. было опубликовано шесть знаменитых декретов, вызвавших сильное возбуждение среди представителей старой Франции.
В этих декретах юный король возвещал населению, что барщина крестьян и поденщиков отменяется, Кроме того, он отменял целый ряд предписаний, стеснявших сношения и торговлю жизненными продуктами. Четвертый декрет отменял цехи и союзы мастеров и предоставлял право свободно заниматься торговлей и промышленностью. Исключение из этого составляли только парикмахеры, аптекари, ювелиры, типографии и книжные торговли.
Эти декреты Тюрго снабдил несколько доктринерской, но красиво составленной пояснительной запиской. В записке к эдикту об уничтожении цехов говорилось, между прочим, следующее: «Мы считаем своим долгом каждому из наших подданных обеспечить все принадлежащие ему права; в особенности наш долг сделать это по отношению к тому классу людей, у которого, кроме труда и прилежания, нет никакой собственности и который тем более вынужден и вправе возможно больше черпать из этого единственного источника своего существования. С душевным прискорбием взирали мы на различные нарушения этого естественного и всеобщего права разными старинными учреждениями; однако, ни древность этих учреждений, ни господствующее мнение, ни действия охранявших их властей не могут оправдать этих ограничений» Эти слова в устах французского короля произвели огромное впечатление. Это было формальное провозглашение права на труд, именно в другом месте этого замечательного документа было сказано, что Господь, дав человеку потребности, одарил его вместе с тем и правом на труд. Впоследствии мы увидим, что вопрос о «праве на труд» всплывал неоднократно в различные фазы революции. Но о способах практического осуществления этого права тогда еще меньше знали, чем теперь.
Однако в целом рассуждения Тюрго были только гимном свободной конкуренции.
Среди привилегированных политика Тюрго вызвала сильное возмущение. Они согласились бы пожертвовать цехами, но отмена барщины была уже для них слишком чувствительным ударом. Совесть дворянства и духовенства была неспокойна; они начинали опасаться, что не пройдет много времени и их земельная собственность и доходы тоже подвергнутся обложению. Цеховые ремесленники-мастера тоже были в высшей степени недовольны, так как они теряли свое привилегированное положение в качестве мастеров. Высказывалось опасение, что по освобождении промышленности сельское население наводнит города, и некому будет заниматься земледелием. Двор и восстановленный Людовиком XVI парламент восстали против этих реформ. И несмотря на то что в «подушечном заседании» эти шесть эдиктов пришлось зарегистрировать, парламент все же продолжал свою оппозицию. Когда же Тюрго высказал мысль о таком народном правительстве, в котором ни дворянство, ни духовенство не будут иметь, отдельных представителей, для борьбы с ним соединились и двор, и парламенты, и даже народ, в пользу которого Тюрго предпринимал эти реформы и который они сумели обмануть и восстановить против него. Им удалось убедить слабого и легкомысленного короля в том, что Тюрго стремится вызвать ту самую революцию, которую он, в действительности, старался предотвратить. Через два месяца после того, как он вынудил парламент зарегистрировать эдикты Тюрго, он его уволил. Уже в августе 1776 года цехи, с некоторыми, правда, изменениями, были восстановлены, а также и барщина. Тюрго освободил фабрики от знаменитых «регламентов» – теперь они тоже были восстановлены. Сочувствовавший Тюрго Мальзерб тоже подал в отставку, и старый царедворец Морена был очень рад, что освободился от этих двух опасных реформаторов.