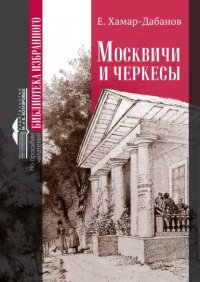
Читать онлайн Москвичи и черкесы бесплатно
- Все книги автора: Е. Хамар-Дабанов
Не любо – не слушай,
А лгать не мешай!
Русская пословица
© Е. Хамар-Дабанов, 2021
© Издательство М. и В. Котляровых, 2021
Часть первая
I
Москва и события предшествовавшие
О вы, почтенные супруги!
Вам предложу мои услуги;
Прошу мою заметить речь:
Я вас хочу предостеречь.
А. Пушкин
«Нет, матушка, воля ваша, я не могу продолжать служить!» Вот что говорил кавалерийский офицер лет двадцати пяти, приехавший в домовый отпуск к матушке своей, Прасковье Петровне Пустогородовой. Это было зимой, когда, как русская патриотка старого покроя, Прасковья Петровна постоянно приезжала в нашу родную Белокаменную кушать откормленных и замороженных пулярд [1], каплунов, индеек и свиней, привозимых длинным обозом добрых мужиков из деревни в Москву в счет зимней барщины.
Прасковья Петровна, действительно ли, или притворно, ничего не слыхала и продолжала свои канвовые вычисления для ковра, который она делала по обету во время летней засухи, грозившей всеобщим неурожаем вотчине, где она ежегодно проводила лето.
Немного погодя опять послышался голос, умильно просящий и почти отчаянный:
– Матушка! Сделайте милость, позвольте мне выйти в отставку.
– Ах, Николаша, Николаша! Ты знаешь, что отец против этого! Ну, как он откажет тебе в содержании? Ведь имение все его! У меня ровно ничего нет: чем будешь жить?
Да что тебе так не хочется служить? А в отставке что будешь делать?
– Матушка! Зависимость состояния принуждает меня стараться склонить вас к тому, чтобы вы выпросили согласие отца на мое желание. Моя служба мне в тягость; однообразие жизни и обязанностей, это товарищество без дружбы, среди противоречия страстей, чувств, склонностей и видов, все это день ото дня делается удушливее для меня. Если бы я служил во времена незабвенной Отечественной войны, страдания бивуачной жизни, лишения в походах, гром и кровь в битвах, трупы, устланные по полю сражения, пожары сел и городов, слава, венчающая счастливцев, награды, украшающие груди отличившихся, вот это усытило бы жажду, которая меня томит, в которой сам себе не могу дать отчета; но теперь я волочу жизнь угрюмую, неудовлетворенную. В настоящем все, что вижу, слышу, встречаю, несносно мне надоедает; от моей неудачной службы в будущем ничего не ожидаю и не предвижу. Я хочу обмануть тоску, развлечь ее разнообразием, и надеюсь, путешествуя по чужим краям, найти то удовольствие и развлечение, которых доселе тщетно искал.
Только что Николаша кончил эту длинную, трагическую тираду, как вошел официант просить Прасковью Петровну к ее матушке. Получив в ответ «Сейчас приду» и приказание доложить, когда Петр Петрович воротится, официант вышел. Прасковья Петровна встала, обеими руками взяла Николашу за голову, поцеловала его в лоб и промолвила:
– Ну, моя беспутная головушка, поговорю с отцом, посмотрю, что он на это скажет! Только ты ему ни слова не говори, а то разгневишь его и ничего не выпросишь.
Всегда осторожная, Прасковья Петровна пошла в девичью приказать своим двум пригожим субреткам [2], чтобы они, в случае если она пришлет за носовым платком, велели сказать, что кто-нибудь ее ждет, предоставя выбор лица их собственной проницательности. Проходя через кабинет, она застала Николашу, который задумчиво сидел на том же месте; мимоходом спросила, не поедет ли он куда со двора, и, получив отрицательный ответ, отправилась на половину, занимаемую матерью.
Николаша привстал и из-за двери посмотрел, как удаляется его матушка, которая некогда славилась своим сложением, ростом, красотою, умом, любезностию, а теперь была шестидесятилетняя, тучная, но свежая старуха.
Когда наш угрюмый философ расчел, что матушка дошла до бабушки, он одним скачком очутился в маменькиной спальне, вмиг перебежал ее, как вихрь ворвался в девичью, чмок одну субретку, чмок другую, и пошла возня, – совершенно, впрочем, платоническая: описывать тут нечего. Кто не был молод? Кто маменькиных субреток в девичьих не щипал? Кто с ними не заводил возни? Кто не видал их притворных слез, поддельного гнева? Кто не слыхал этой речи, никогда не исполняемой: «Да что это такое? Право, я маменьке пожалуюсь»? Кто не прятался куда попало, когда слышал, что матушка идет? Какая маменька не притворялась, будто не замечает, что сынок перед ее приходом геройствовал в девичьей, или не видит, что ее пригожая субретка запыхалась, что она красна как рак вареный, что у нее измяты платье и спереди весь шейный платочек, а волосы растрепаны? Маменьки знают очень хорошо, что такая возня совершенно невинна, и потому на все проказы сынков в девичьей смотрят, как говорится, сквозь пальцы. Испытавшие все это могут догадаться, что началось в девичьей с появлением Николаши.
В другой половине дома происходила совсем другого рода беседа.
Прасковья Петровна застала свою матушку, девяностолетнюю почтенную старушку, в больших вольтеровских креслах; развернутое письмо и серебряные очки старинного фасона лежали у нее на коленях; она беспрестанно утирала платком свои слезы и если не рыдала, то частые вздохи доказывали, что она очень расстроена.
Прасковья Петровна подошла, поцеловала руку огорченной старухи, спросила, что с ней, и, вероятно, тронутая слезами матери, не заметила письма. В самом деле, прискорбно было видеть простоволосую старуху, у которой уже не волосы, а белый шелк покрывал лоб и падал на сморщенное, но небезобразное лицо, выражавшее искреннюю, глубокую печаль.
– Параша, ты заставляешь меня плакать у преддверия гроба: твое пристрастие, твоя несправедливость… Бог тебя прости, а право грешно тебе!
– Матушка, да что с вами? Ведь теперь только двенадцатый час; меня задержали: простите, что опоздала прийти с вами поздороваться.
– Послушай, Параша, я немножко ворчу, когда ты поздно приходишь: ты этого не понимаешь, потому что не дожила еще до тех лет, когда всякий час думаешь – немного уж остается жить! Первая мысль моя поутру – благодарить создателя и помолиться ему; вторая – скоро ли придешь ты? Творец испытал меня, но еще милостив: взяв всех детей, он сохранил мне тебя. Когда ты долго не идешь, я начинаю думать, что я тебе в тягость и не нужна более, что пора мне умереть! Теперь бог меня тобою же наказывает за эту мысль, происходящую от искусительного помышления. Мне ли рассуждать – должно ли жить или умереть? Но я убедилась, что еще нужна здесь: авось бог даст, слезы матери смягчат твою жестокость!
– Да не мучьте меня, матушка!.. Скажите, в чем дело?
– На, читай вслух письмо, которое я сейчас получила.
Прасковья Петровна, увидев почерк, приметно смутилась. В лице ее выразилось сильное негодование; но, повинуясь приказанию матери, она беспрекословно начала читать:
«Добрая бабушка,
Вы всегда были ко мне милостивы и снисходительны; к вам я наконец решаюсь прибегнуть как к последней моей надежде: умилостивьте отца и мать! Матушка – ваша дочь: она от вас выслушает то, чего ни от кого не захочет слышать. Я не жалуюсь, но нахожусь в отчаянном положении. Прибегая к последнему средству, надеюсь еще умилостивить ее и, через нее, смягчить отца. С этой целью вам, бабушка, открою всю истину: вы одни не изменились ко мне в продолжении пятнадцати лет испытаний, посланных на меня судьбою.
Я был виноват. Законы осудили меня; преступление мое относилось к обществу, а не к родителям; но я не оправдываю себя за горе, которое им причинил, обманув их надежды. Чувствуя это, я покорно и с благодарностью принимал от родителей скудные средства к жизни, которые далеки от того, что они могли бы уделять мне. Со всем тем сознание вины относительно к ним воспретило мне просить их быть щедрее, и я предпочел терпеть недостаток, даже нужду; льстил себя надеждою, что, достигнув производства в офицеры, и будучи прощен людьми, возвращу к себе прежние чувства родителей. Усилия мои были вознаграждены, и, благословляя творца и милосердие правительства, я опять надел эполеты. Однако письма родителей все так же были редки, холодны и с упреками. Я получил несколько наград, которыми грудь моя постепенно украшалась; но родители оставались в том же предубеждении против мета. Наконец, с последнею почтою я получил деньги на текущую треть с письмом отцовского приказчика, в котором он уведомляет меня, что отец и мать недовольны мною, что поэтому ко мне не пишут и не желают более получать моих писем, а ему приказали по-прежнему присылать мне деньги.
Я понимаю, что люди могут меня преследовать, даже мстить мне: это им свойственно. Но отец и мать за что неумолимы? Порочен ли я? Пускай скажут, в чем! Пускай расспросят и узнают, какою общей любовью, каким уважением я здесь пользуюсь! Ослушен ли я их воле? Да я ее никогда не слыхал! Тем ли заслуживаю родительский гнев, что к ним не еду? Они знают, это от меня не зависит! Или они заключают, что я ничего не стою, не получив награды за последнюю экспедицию? Пускай увидят участие, принимаемое во мне всеми товарищами! Они не могут даже упрекать меня, зачем доселе я не убит: какая-то странная судьба смешно хранит меня. Словом, умилостивьте, бабушка, родителей, да узнайте, чего они хотят от меня: всякая их воля для меня священна…
Более не в состоянии вам писать: так крепко расстроен. Целую ваши ручки.
Ваш почтительный внук
Александр [3]».
Старуха зарыдала. Прасковья Петровна, имея правилом подумать прежде обо всем и не зная теперь, что отвечать матери, позвонила и приказала официанту спросить в девичьей носовой платок.
Николаша, в пылу геройства, услышав, что кто-то идет, кинулся опрометью в противную сторону, разбил стеклянную дверь и побежал вниз по лестнице, на которой опрокинул прачку, несшую выглаженное белье. Через заднее крыльцо он отправился в конюшню, арапником заставил поплясать лошадей в стойлах и этим освежился. Субретка, та, которая последняя была в его львиных лапах, начала наскоро оправляться, а другая выбежала навстречу официанту и, услышав, зачем он прислан, начала доставать носовой платок.
Уши у официантов очень хороши, а ум наметан на догадки. Поэтому понятен был его вопрос:
– А! Николаю Петровичу надоело вас ломать, так он принялся за стеклянные двери!
– Что с вами-с?.. Кажется, бредите-с? – возразила субретка с полным самодовольством, отдавая платок. – Что Николай Петрович будет в девичьей делать?.. Прошу-с не догадываться и держать свое при себе-с! Да доложите Прасковье Петровне, что смотрительница богадельни пришла, очень нужно ей видеть барыню, а ждать некогда; так не прикажет ли прийти в другое время?
Когда официант принес платок и исполнил данное служанкою поручение, старуха еще плакала. Прасковья Петровна приказала позвать матушкину девушку, велела ей тут быть, сама же, смущенная, встала и, поцеловав руку старухи, сказала: «Матушка, я сейчас приду; мне надо на минутку сходить к себе». Старуха пожала ей руку и сквозь слезы умильно посмотрела на нее.
Прасковья Петровна отправилась в свою половину и пошла в девичью приказать одной из субреток сидеть в кабинете, покуда она в спальне отдыхает. Увидев разбитую стеклянную дверь, она спросила:
– Что это такое?
Субретка отвечала:
– Говоря с Машей, я отворила дверь и не видела, что сзади истопник нес дрова.
– Какая ветреница!.. Велеть вставить стекло… – был весь ответ барыни, которая пошла в спальню подумать лежа о двух предметах: первый, как отделаться от хлопот, наделанных старшим сыном; это было нелегко: она чувствовала себя виновною в несправедливости к нему; тем более самолюбие, как водится, требовало доказать, что она прекрасно поступала. Второй предмет был Николаша. Покуда она погружена в рассуждения, надо описать кое-какие подробности нрава и жизни ее. Это необходимо, чтобы понять быт семейства, скажем мимоходом, весьма обыкновенный, ежедневно встречающийся, только не всеми замечаемый.
Прасковья Петровна, одаренная проницательным умом, красавица, богатая невеста, вышла замуж лет двадцати трех. Поэтому она успела надуматься, какого рода мужа ей лучше всего взять. Да-с, взять: богатые невесты, к тому ж красавицы и умницы, когда надевают брачный венец, имея за двадцать лет, в полном смысле берут мужей.
Судьба помогла ей обдумать и определить, какого рода муж всего лучше: она следила супружескую жизнь своих родителей. Ее матушка, с которой мы уже знакомы, была женщина добрая, плаксивая и хоть не дура, а весьма ограниченного ума и без воли. Отец, напротив, слыл человеком замечательным по уму, расточительности, разврату, буйному своеволию и вспыльчивости. Ему надоели слезы, ревность, упреки жены; она сделалась ему несносною; и он обходился с ней грубо: беспрестанно оскорблял, всячески старался выводить из терпения, при малейшем возражении принимался просто колотить. Этот обычай не совсем вышел из моды: еще случается, и нередко, что муж побьет жену кулаками, чубуком, иногда казачьей плетью. Плеть, однако ж, не у всякого имеется; для этого надо родиться казаком. Арапником – другое дело: это у всякого есть и, стало быть, тут уж нет остановок. Я очень любопытен от рождения: поэтому на великолепных балах всегда с особым вниманием рассматриваю те части тела замужних женщин, которых не покрывают пышные наряды. Случалось видеть знаки синие, темно-желтые, зеленоватые; признаки ногтей, даже зубов. Прасковья Петровна, с которою я очень дружен, уверяла меня, что она часто не верила своим глазам, видя поутру свою матушку всю избитую и в синяках, а вечером, когда оденется ехать на бал, свеженькую, как будто ни в чем не бывало. Основываясь на рассказах подруг, она убеждена была также, что прежде дюжина, а теперь полдюжины эластических, фланелевых и всякого рода юбок придуманы женами, чтоб лучше защититься от ударов мужей.
Итак, Прасковья Петровна решилась взять мужа поглупее, посмирнее и, разумеется, не драчуна и не кусаку. Скоро в толпе бальных полотеров Петр Петрович обратил на себя ее внимание скромностью, застенчивостью, робостью нрава. Его состояние не было тогда велико (после он получил значительное наследство); но на это не смотрела она, потому что сама слыла богатою невестой. Имение отца ее не было еще продано с аукционного торга или, по модному выражению, с молотка: так она и решилась взять Петра Петровича мужем, предупредила мать, уговорила отца и приказала теперешнему своему супругу за себя свататься. Вскоре запели им: «Роститеся, множитеся, наполняйте землю, и да будет плод ваш благословен!» А сказать попросту, по-русски, скрутили их.
Как обыкновенно водится, у них было несколько деток; одни померли, другие живут: но зачем говорить о том, что всякий день случается на всем земном шаре! Вообще тайны брачных ночей и супружеского быта – весьма сухая и скучная материя, нередко даже безобразная картина.
Прасковья Петровна оказалась в замужестве женщиною холодною, без желаний, без страстей: стало быть, и в физическом отношении была создана повелевать мужем. Недаром слепое поверье вкоренилось в прелестном поле, что, возбуждая желания и страсти в муже, легко его поработить. Дело в том только, что не все женщины одинаково сложены: холодная жена всегда свое возьмет, а пылкое, милое создание – бедняжка! – не выдержит своего характера.
Таким-то образом наша Прасковья Петровна скоро достигла безотчетной власти над мужем; но, как умная женщина, она поняла, что выгоднее это скрывать. Вот и начертала она себе образ поведения, который строго воспрещал ей, в свете, при свидетелях, иметь свою волю. На всякое предложение или приглашение она отвечала: «Хорошо, если муж позволит! Хорошо, если муж согласится!» Разумеется, с мужем она никогда не спорила при людях, а оказывала ему совершенную покорность. Труднее всего было достигнуть, чтобы муж не имел ни одной мысли, ни одного желания, которые бы не истекали из ее воли: но есть ли невозможное для умной женщины? Прасковья Петровна и до того добилась, не могу знать какими средствами.
Свет решил, наконец, что в Петре Петровиче нет ничего особенного или замечательно светского, но что это примерный глава семейства, с волею твердой, неколебимой. Впрочем, и сам он был того же мнения, нисколько не подозревая себя самым глупым и пустым созданием в поднебесной. Но что нам до этого? Как все добродушные, то есть незлые, дураки, он был спокоен, счастлив и доволен судьбою.
Много значит умная жена! Не будем, однако, обманывать, скажем правду: Прасковья Петровна не прошла всей супружеской жизни без камней преткновения. В 1812 году она оставила страны, наводненные неприятелем, что, впрочем, заметим с гордостью, не она одна сделала, а все сословия; и уехала не знаю в какой отдаленный город. Там, грустя о бедствиях родной, любезной стороны, о пожаре Белокаменной с ее святынями, она опустила бразды, которыми правила Петром Петровичем. Следствием этого послабления было то, что он попался в круг любителей цыган и связался с одною черноокой девой, – вкус хоть и неуместный для женатого человека, однако ж весьма понятный для меня.
В таборе, куда он часто езжал, была шестнадцатилетняя прелестная Ольга: она пела прекрасно, плясала очаровательно. Бывало, утомленная ночами, проведенными без сна в плясках и песнях вроде –
Не будите меня молоду
Раным-рано поутру! –
она, на заре, уходила в свою комнату и, раздевшись, скоро засыпала. Он любил тогда входить к ней, любоваться на милое, спящее создание, тихонько поправлять черные, раскинутые кудри, дышать теплотой юного тела, украдкой касаться полунагого плеча и девственной груди. Тогда-то, как бы по тайному призыву, грудь внезапно твердела и греза сладострастия тревожила сон девы: ее руки сжимались, едва заметная дрожь пробегала по телу, губы вполовину растворялись, дыхание делалось реже, но сильнее, она как будто задыхалась. И вдруг все тело вытягивалось, вырывался глубокий вздох, невидимая, но понятная слабость овладевала милой цыганкой. Грёза девы кончилась: немое чувство наслаждений улетело…
В Ольгу-то Петр Петрович влюбился. Прасковья Петровна начала подозревать в этом мужа; потом догадываться; наконец, узнала все, притворяясь, что ничего не ведает. В самом деле, как умной женщине показать, что муж изменил ей, что для него цыганка милее, пригожее, полнее наслаждений, чем жена? Это словно сказать, что цыганка лучше барыни: обида смертельная, вопиющая!
В это время сотнями пригоняли во внутренние города пленных французов и других немцев: положение их было жалко. Израненные, не привыкшие к суровости нашей родной страны, они подвергались мучительным болезням.
Сострадание, человеколюбие – чувства, которые природа и мода присвоили женскому полу. Прасковья Петровна свято исполняла все, что требовалось в этом отношении: посещала пленных, посылала больным хорошо изготовленный суп и белье, щипала корпию для раненых.
В числе этих несчастных был один молодой тяжелораненый генерал Великой Армии. Как наполеоновский офицер, Ж*** проложил себе путь к почестям отважною храбростью. Родясь в низшем сословии, он не получил воспитания и никогда не бывал в хорошем обществе: но для тяжелораненого всего этого не нужно; тем более что генерал говорил на языке наших гостиных: стало быть, имел свободный вход в русские дома, всегда гостеприимные для таких иностранцев. Прасковья Петровна часто посещала этого раненого. Он обращал ее особенное внимание, потому что был генерал, тяжело ранен, страдал, говорил по-французски и имел взор наглый, в котором женщины воображают видеть энергию, храбрость. Впрочем, он был в полном смысле красивый мужчина и мог очень нравиться Прасковье Петровне. Возвращаясь домой и размышляя о поступке мужа, о раненом генерале, она начала разбирать в уме, что такое положение замужней женщины, которая возьмет себе друга. Honny soit qui mal y pensel!.. [4] Прасковья Петровна думала о платоническом друге! Эти размышления породили любопытство, а чувство любопытства и мести всемогущи в женском сердце.
Но нельзя было скоро привести в исполнение тайных желаний: генерал был слишком тяжело ранен. Она решилась ожидать его выздоровления и покамест дать во всем полную волю Петру Петровичу, исключая того, что касалось до управления домом, имением и до значительных издержек.
Понимая, однако ж, что без денег не будут пускать в цыганский табор, она уделяла ему безотчетную сумму, которой давалось название: «Для картежной игры».
Наконец, в 1813 году, генерал совершенно оправился, сделал визит Прасковье Петровне и скоро завязалось у них нечто, чему Петр Петрович ничуть не мешал, никогда не бывая дома да и ничего не подозревая.
Скоро, однако ж, Прасковья Петровна разочаровалась насчет своего генерала: он сделался ей несносным своей грубостью, хвастливыми выходками, самонадеянностью, наконец, наглыми и бессовестными требованиями. Она говаривала, что если бы спросили ее мнения, кого лучше допустить в свое общество, она без сомнения советовала бы предпочесть русского кучера с широкой бородою французскому генералу: не знаю, многие ли последовали ее советам. Наконец она решительно хотела отделаться от Ж***, но не знала как, тем более что, заметив маленькое изменение в периферии Прасковьи Петровны, его превосходительство говаривал: «Не уеду в отечество, пока не увижу результата».
Судьба ей помогла.
Однажды Александр, старший сын Прасковьи Петровны, заметив конфеты в ее кабинете и полагая, что она уехала со двора, обманул всех и прокрался с намерением полакомиться. Он застал маменьку с генералом. Александру запрещали отходить от своего дядьки; это было необходимо, потому что, хотя мальчику считалось только шесть лет, но он был самый резвый плут. В наказание Прасковья Петровна приговорила ослушника стоять во время обеда в столовой на коленях, а генерал подрал его за волосы и за уши.
Этот день Петр Петрович обедал дома. Увидев Александра на коленях, он спросил о причине. Прасковья Петровна сухо отвечала: «За ослушание». Генерал отпустил несколько шуток, которые оскорбили ребенка, а этот и без того ненавидел француза. Обед кончился; Александра освободили от наказания; он стал за дверью и начал горько плакать, браня про себя француза. Отец, который точно от всей души любил сына, возвращался в столовую. Услышав слова дитяти, он взял Александра на колени и спросил, за что он так сердит на француза. Александру запрещали и словом и помышлением бранить кого бы то ни было. Он долго отпирался; наконец, убежденный ласками Петра Петровича, рассказал, что француз в тот день выдрал ему волосы и уши в маменькином кабинете и настоял, чтобы его поставили на колени. На вопрос отца, кто был в кабинете, Александр отвечал: «Маменька и генерал». – «Что ж они делали?» – «Ссорились, маменька плакала». Петр Петрович, при всем своем скудоумии, понял, что дело плохо: поцеловал дитя и пошел к себе в кабинет, а камердинера послал сказать жене, чтоб дала ему знать, когда гость уедет.
Он долго ходил по комнате и несколько раз спрашивал, уехал ли гость. Ведь мужчины, как бы мало ни были привязаны к женщине, когда узнают первую измену, приходят в бешенство! Зато, успокоясь, чувствуют горькую, невознаградимую, неизгладимую печаль.
Официант пришел, наконец, доложить Петру Петровичу, что его супруга одна. Он побежал как сумасшедший, и первым его восклицанием было:
– Я все знаю! Все! Решительно все! Александр был наказан за ослушание?.. А? И ты позволила врагу рвать при себе волосы, уши моему сыну!
Час мести, час торжества, час избавления Прасковьи Петровны настал, хотя весьма неожиданно. Она воспользовалась им, разумеется, в свою выгоду: она знала, что много говорить – значит, ничего не сказать, и хладнокровно, серьезно спросила:
– Что знаешь? Объяснись!
Петр Петрович вне себя от ярости отвечал:
– Знаю, знаю твою связь с французом проклятым! – И пошел, как водится, городить: за упреками следовали угрозы, проклятия и так далее. Наконец, все высказав и видя непоколебимое хладнокровие жены, он кончил вопросом: – Что ты на это скажешь?
Прасковья Петровна, ничуть не смутившись, отвечала:
– Скажу – не вижу, чем ты так обижаешься: что я предпочла тебе изувеченного, заслуженного генерала?.. Вот уже два года, как ты покинул и променял меня на Ольгу, цыганку.
Петр Петрович остолбенел. Прасковья Петровна продолжала:
– Не отпирайся, я давно все знаю. Скажи, где ты проживал деньги, которые брал у меня для картежной игры?
– Деньги мои! Я их издерживал где и как хотел. Но не в этом дело. Я не хочу, чтобы этот француз бывал более в моем доме. Сейчас поеду к губернатору, все расскажу и буду просить, чтоб сегодня же выслали его из города.
– Делай, как хочешь! Чего до этого времени никто не знает и не будет знать, рассказывай ты сам и давай повод прозвать себя Петром Рогоносцем. Между тем будь уверен, что тебя же обвинят: все знают твою связь с цыганкою и в один голос жалеют обо мне.
Петр Петрович стал в тупик; потом пришел в себя и уже просил жену уладить все так, чтобы никто ничего не знал. Тут объявил он свое намерение покинуть ее и удалиться в деревню. Это было весьма кстати. После подобных супружеских гроз надо дать время успокоиться страстям. Но Прасковья Петровна чувствовала, что по некоторым причинам должно было торопиться заключением мира, и сказала:
– Еще будет время думать об отъезде; я тебе обещаю прекратить все сношения с генералом и более не принимать его, с тем только, чтобы ты мне обещал оставить свою цыганку. Поезжай сейчас к ней, обещай сколько хочешь денег за то, что ее покидаешь, и раз навсегда распростись с нею.
Петр Петрович с покорною головою ушел; потом вскоре уехал со двора. Прасковья Петровна послала за генералом, рассказала ему, что муж узнал об их дружбе, и просьбами, убеждениями, наконец, самым красноречивым средством, деньгами, убедила его уехать тогда же. Впрочем, это стоило ей много труда, потому что генерал, родом гасконец, следовательно, хвастун в высшей степени, уверял, будто непременно вызовет Петра Петровича на поединок и раскроит ему череп. Однако ж, успокоившись, дал клятву и честное слово не разглашать ничего и от нее требовал только обета быть к результату ласковее и добрее, нежели как она была к Александру. На другой же день вечером его превосходительство изволил отправиться не знаю куда.
Петр Петрович, покорный приказанию жены, поехал сделать прощальный визит своей Ольге: грустно было расставаться!.. Он засиделся, заговорился, занежился и возвратился домой уже на другой день в первом часу днем, всю ночь не сомкнув глаз.
Прасковья Петровна между тем обласкала Александра, надавала ему конфет, совершенно вкралась в его душу. Перед обедом она повезла его в лавки, дала выбрать и купить игрушку и, приехав домой, подарила ее будто в награду за то, что он исполнил ее приказание, рассказал отцу историю о кабинете. Она примолвила с весьма строгим видом: «Ведь ты помнишь, когда я тебе это велела?» Ребенок, привыкший бояться матери, теперь, осчастливленный ее ласками, был в восхищении от своей игрушки и, опасаясь, чтобы ее не отняли, отвечал: «Как же, помню, маменька!» Прасковья Петровна поцеловала его, прибавив: «Смотри, никогда не забывай, что мать тебе говорит или приказывает! Ведь я именно тебе сказала: расскажи отцу историю о кабинете».
Вечером Прасковья Петровна поехала со двора, покуда муж еще спал.
Петр Петрович, проснувшись, пошел в детскую, где Александр, на это время счастливейшее создание в свете, забавлялся своею игрушкою. Ребенок едва обратил внимание на приход отца, который, видя радость сына, заметил: «Какая славная игрушка! Кто тебе ее подарил?» – «Маменька!» – «Когда?» – «Сегодня». – «За что? Верно, хорошо учился и был послушен!» – «Нет, за то, что исполнил маменькино приказание, рассказал вам историю о кабинете». Тут пошли вопросы и ответы, которые, впрочем, весьма надоедали Александру, занятому игрушкою.
Воспоминание происшествия в кабинете погрузило Петра Петровича в грустную задумчивость. Он пошел в свой кабинет, походил вдоль и поперек, и наконец, чтоб развлечь себя, отправился в гости, где всю ночь проиграл в карты.
Прасковья Петровна приехала домой рано и, приказав разбудить себя к обедне, легла; но долго не могла сомкнуть глаз: мятежные думы отгоняли от нее сон. Она помышляла, что необходимо скорее помириться с мужем: участь результата зависела от этого. Потом она оправдывала себя в своем поступке, рассчитывая, что если бы иначе поступила, то навсегда потеряла бы мужа; понимала, сколько слезы, упреки, ревность покинутой жены унизительны; понимала, что это значило бы сознать всю необходимость в муже, узаконить всю привязанность женщины к супругу. «Подобные чувства благоразумно скрывать, – думала она, – ревнивая жена делается, наконец, бременем в домашнем быту!» По всему этому Прасковья Петровна была очень довольна своей местью, которая доказала мужу, что она не есть создание слабое, безоружное, что она рассердила его, но не надоела ему. Вот вам философия: до каких софизмов не может довести самооправдание!
Между тем, еще при объяснении, которое Прасковья Петровна имела с мужем, сообразила она необходимость разуверить его в своей слабости к французу. Теперь эта мысль внушила ей целый ряд аксиом: первая состояла в том, что, хоть она совершенно бесстрастна, не менее того любит своего мужа. Сознаюсь, я подозреваю – не было ли это сознанием безотчетной привычки, или скорее то отсутствие отвращения, которое она принимала за любовь. Вторая аксиома была: если оставить мужа убежденным в чем-то таком между нею и генералом, то как бы ни была согласна их будущая жизнь, память этого происшествия будет всегда отравлять чувства Петра Петровича грустью. Ничто на свете не может изгладить того, что однажды было. Третья аксиома та, что люди, в особенности мужья, всегда готовы убедиться в том, чего желают. Заключением всего: надо непременно удостоверить Петра Петровича и притом единственно для его же спокойствия, что у ней не было ничего такого с генералом.
Рано поутру Прасковья Петровна поехала к обедне, оттуда в монастырь отслужить молебен, потом сделала несколько визитов, потом отобедала у своей матушки, потом приехала домой и легла уснуть, не приказывая себя будить.
Петр Петрович с нетерпением желал видеться с женою, постараться еще повыведать кое-какие подробности о том, что он грубо называл «связью», похвастать, что покинул цыганку, и, если найдет, к чему придраться, побраниться и опять объявить свое намерение расстаться. Несколько раз он приходил на ее половину, но получал в ответ, то – дома нет, то изволят почивать.
Прасковья Петровна слышала, как в последний раз он спрашивал у субретки, можно ли видеть барыню, и получил отказ. Она была очень довольна и сказала про себя: «Слава богу!» И правда: дело уже слажено, коль скоро муж сам идет к жене. Но еще было светло: подождать вечера выгоднее. Смерклось. Прасковья Петровна встала, приказала никого не пускать и отправилась в уборную. С удивительным кокетством примеряла она разные фальшивые букли; наконец надела одни, почти распущенные, которые всего более придавали вид грусти, тоски, нездоровья.
Затем надела самый простой чепчик с маленькою кружевною оборочкой и широкими распущенными лентами. Это было необходимо, чтобы виделись сережки, подаренные мужем на другое утро замужества, при словах: «Вот тебе, в память твоей покойной невинности». В заключение Прасковья Петровна обулась с большим вниманием; на полукорсет надела ослепительной белизны юбку, весьма невысоко покрывавшую грудь и обшитую вверху узеньким кружевцем; сверху надела белый пеньюар с широкими рукавами и расходящимися полами; подошла к зеркалу и улыбнулась с самодовольством: в самом деле, она была восхитительна, так и растравливала желания при помощи прелестного, изящного кокетства.
Приказав зажечь лампу с матовым стеклом, висевшую посередине будуара, она пошла в этот полусвет, легла на кушетку, обитую темным бархатом, и поправила платье, так, чтобы ножки едва проглядывали из-под юбки и манили желание видеть еще более прекрасную обувь. Разумеется, платок, непременная принадлежность женщины, готовящейся разыграть семейную драму, не был забыт. Прасковья Петровна взяла книгу, не знаю какую. Ручаюсь, однако ж, что это не был ни Жилблаз, ни Фоблас [5] и ничто подобное. Но она не читала: она ждала. Кого? Разумеется, мужа. Какой вздор! – скажете вы: оскорбленный супруг, целый день, не достучавшись у дверей жены, когда пора ему по обыкновению ехать со двора, придет ли выслушивать, как субретка выпроваживает его словами: «Изволят почивать»?
Ну, а я буду иметь честь вам доложить, что вы не знаете Петра Петровича и ему подобных. Да-с! Придет, уверяю вас, придет!.. И в самом деле, послышались шаги. Прасковья Петровна вздрогнула. Всякий из нас испытал, что такое ждать и опасаться, что ждешь, быть может, тщетно. Как прислушиваешься к малейшему шороху, не переводишь духу, от нетерпения досадуешь и вдруг поневоле вздрогнешь, когда ясно послышится, что ожидаемое лицо идет. Таковы были чувства, волновавшие Прасковью Петровну, когда за дверью раздался голос, который спрашивал, можно ли войти. На ответ – «Можно» – Петр Петрович явился во фраке со шляпою в руках. Прасковья Петровна позвонила, приказала вошедшему официанту подать кресло, сделала мужу знак сесть и спросила, не хочет ли он чаю… Вслед за тем отправила официанта за чаем.
Петр Петрович с удивлением смотрел на жену: он не помнил, чтобы когда-нибудь она была так увлекательна, так прелестна. И неудивительно: тогда в первый раз она старалась увлечь, прельстить его! Все враждебные замыслы пропали, и он начал:
– Ну, Прасковья Петровна, я исполнил твою волю, разошелся с Ольгой.
– Надолго ли? – печально и лениво спросила его жена.
– Навсегда.
– А кто ее заменит?
– Никто на свете, поверь мне.
– Нет, не верю.
Петр Петрович поспешно возразил:
– Ты на меня сердишься? Прости меня! – И хотел взять милую ручку. Но Прасковья Петровна презрительно оторвала ее и сказала:
– Я прошу вас не дотрагиваться до меня; вам, верно, очень забавно, проведя ночь в оскверненных объятиях цыганки, приехать домой и пожать руку жены. Но знайте, что это не по моему вкусу… я этого не позволю!
Послышались шаги официанта, несшего чай. Оба замолкли. Покуда слуга был тут, Прасковья Петровна жаловалась на головную боль, на бессонницу, на усталость и так далее. Петр Петрович имел время обдумать и вспомнил, что у него есть оружие, которым может принудить жену заключить мир. Только он не вдруг решился, как начать нападение. Наконец, когда понесли пустые чашки и официант удалился, он начал:
– Какую славную игрушку ты подарила Александру! Он от нее в восхищении. Что тебе вздумалось сделать ему этот подарок?
Прасковья Петровна с явным негодованием и нетерпением отвечала:
– Оттого, что я была им довольна.
– Я не понял, что он мне сказал!
Бросив сердитый взор на мужа, Прасковья Петровна спросила:
– А что он тебе говорил?
– Александр пробормотал мне, что он получил игрушку за исполнение маменькиного приказания, то есть за то, что рассказал мне историю о кабинете.
– И он это тебе смел пересказать! – вскричала гневно Прасковья Петровна, протягивая руку к колокольчику, но Петр Петрович успел его взять и спросил:
– Что ты хочешь?
– Велеть позвать Александра и перед тобою же его наказать, чтобы он знал исполнять и хранить поверенную себе тайну! Я должна быть еще строже с ним, потому что ты, распутный муж, покинувший свою жену, хочешь развратить еще и сына. – Тут слезы полились, и пошла работа платком. Между тем она продолжала: – Поручая ему надзор за мною, ты не понимаешь, что через твои глупые расспросы отымаешь первую добродетель у твоего сына – уважение к матери! За этим, разумеется, последует презрение, потом ненависть к самому тебе. Отдай колокольчик или сам позвони!
– Нет, Прасковья Петровна, прости, на коленях тебя прошу, прости Александра!
Тут Петр Петрович стал на колени.
– Верно, цыганка и выучила тебя так унижаться. Знай же, что я твоя жена и подобный образ мольбы меня оскорбляет.
Пристыженный Петр Петрович встал; на уме его было уйти, но…. невозможно!.. Жена так хороша! Надо хоть поцеловать ее. Он уселся и, подумав, спросил:
– Сделай милость! Объясни мне причину твоего подарка Александру.
– Ступай к своей цыганке!.. Она должна быть ворожея, тебе всю правду скажет.
Петр Петрович стал молить прощения, клянясь, что никогда не впадет опять в искушение. Наконец он опять решился взять ту же ручку. Ему не дали, но без гнева и ничего не сказав. Ободренный этим, он возобновил свои обещания и просьбы, в третий раз потянулся за рукою, поймал ее и в восторге спросил:
– Ты прощаешь мне? Ты более не сердишься?
Прасковья Петровна с недоверчивостью возразила:
– Могу ли верить твоим словам? Ты раз уже клялся перед алтарем сохранить мне свою верность. Хорошо исполнил свой обет!
– Право, не изменю более! Буду верен! Испытай раз еще, в последний раз!
– А сына будешь ли развращать?
– Никогда, право, никогда!
– Будешь ли у него расспрашивать о матери?.. А?
– Никогда, ни слова, поверь мне!.. Право, прости меня!.. Прошу, прости!.. – говорил тронутый Петр Петрович.
Прасковья Петровна отвечала важно:
– Успокойся и выслушай! Прежде чем простить, я все выскажу, чтобы ты видел, сколько виноват передо мной. Знай же, все, что рассказал тебе Александр, было нарочно сочинено мною. В самом деле, если бы я действительно имела, как ты по-цыгански говоришь, связь, как можно думать, чтобы я была до того глупа и неосторожна, чтоб мой сын, ребенок, ее открыл? Правда, генерал за мною очень ухаживал, но я тебе ничего не говорила, потому что он объявил мне: если ему откажут от дома, он тебя вызовет на поединок. Третьего дня он уже решился ехать: поэтому я приказала Александру рассказать тебе все, что ты от него слышал. А был он наказан за ослушание: генерал выдрал ему уши за то, что он ударил его, думая заступаться за меня, горемычную: связей у меня с французами и ни с кем на свете не было и не будет. Я употребила этот вымысел, чтобы возвратить тебя к супружеской жизни, зная, что ни слезы, ни упреки на тебя бы не подействовали; мне же становилось невмочь терпеть твою измену. Вот тебе вся правда.
Петр Петрович, кажется, поверил этой поэме. Да, впрочем, не тому еще поверишь, когда чему любо верить. Мир был заключен. Петр Петрович не поехал со двора. Когда потушили огни, в девичьей первая горничная, ложась спать, заметила: «Завтра Прасковья Петровна будет весела, никого из нас не побранит, да и поздно встанет!»
Вскоре после этих происшествий Петр Петрович получил большое наследство. Отец Прасковьи Петровны умер, оставив кучу долгов. Все имение продали. Прасковья Петровна перевезла мать к себе и отдала ей во владение свое приданое имение.
Месяцев семь спустя Прасковья Петровна начала ночью ужасно кричать, стонать: муж перепугался; она не хотела ничего понимать, что у нее ни спрашивали, послали за лекарем, за бабкою… На другой день у Прасковьи Петровны и Петра Петровича родился сын, названный Николаем.
Петр Петрович был в восторге, что имеет сына, но опасался его недолговечности. Он ясно видел, что это был недоносок. Мать, как уверял он после, изволила плотно поужинать накануне, видела во сне страшное привидение, которое давило ее, и с испугу родила прежде времени. Оттого добрый Петр Петрович с особым усердием всегда уговаривал беременных женщин не ужинать.
С Николаем Петровичем мы уже знакомы: теперь несколько ясна страстная любовь матери к нему и первая причина предубеждения против Александра.
Но вина Александра была еще другая и гораздо сильнейшая: он обманул надежды матери, оскорбил ее гордость.
Достигнув возраста юноши, Александр обращал на себя общее внимание стройностью, красотою, живостью, богатыми дарованиями ума. Служба, как говорится, ему везла и предвещала блистательный карьер, как вдруг молодец попался, был предан суду и разжалован в рядовые без выслуги с лишением чинов и дворянства, не знаю за что, потому что я принял за правило редко верить рассказам разжалованных. Между тем у нас на родной Руси законы наказуют, а святая милость прощает. Александр испытал то и другое.
Но Прасковья Петровна судила по-своему. Она не озлобилась на своего старшего сына за то, что впал в проступок, который предал его правосудию законов; но, напыщенная аристократической спесью, она не могла ему простить того, что потеряла надежду видеть сына в генеральских эполетах, со звездами на груди, с крестами на шее. Словом, Прасковья Петровна была подобна многим матерям на свете и почти всем родственникам, всегдашним поклонникам счастья, никогда личных достоинств.
В оправдание чувств Прасковьи Петровны должно заметить, что уже пятнадцать лет как она не видала Александра: это очень много значит! В столь долговременной разлуке привыкнешь не видеть, не нуждаться друг в друге, не знаешь взаимных привычек, взаимного образа мыслей: стало быть, вспоминаешь о человеке почти так же, как о произведении художества, которое некогда, быть может, пленяло нас, но о котором одно осталось воспоминание.
Глубокие размышления Прасковьи Петровны были прерваны входом субретки с известием, что Петр Петрович возвратился домой.
– Просить его ко мне! – было ответом, который получила субретка.
Прасковья Петровна прервала размышление о старшем сыне, чтобы подумать о меньшом. Скоро она раскаялась согласию, изъявленному на его желание выйти в отставку и ехать в чужие края. «Ну, как он встретится с французским генералом! – подумала она. – Эти французы такие хвастуны!..» Он, пожалуй, скажет Николаше, что она была ему друг, а может быть, и что-нибудь ужаснее? Прасковья Петровна понимала, что страшно положение матери, когда сын станет подозревать, да еще умолять, чтобы она ему все рассказала: каково тогда ей! Как она унижена! Останется одно – со слезами молить сына не верить вралям французам и не отказывать ей в том уважении, которого недавно она требовала по праву, данному ей богом и людьми.
Так, решено: Николаша не едет во Францию, чтобы не встретиться с генералом Ж***, не едет и в Англию, Германию, Италию: чего доброго, он сосвоевольничает, отправится в Париж. С этим твердым намерением Прасковья Петровна встала и пошла в кабинет шить свой ковер.
На другой половине дома почтенная старушка, матушка Прасковьи Петровны, в туфлях на огромных каблуках тихонько ходила в гостиной, переваливаясь с ноги на ногу. Обе ее руки были запрятаны в боковых карманах: в левой, судя по бряцанию, она держала связку ключей, а правою по временам вынимала носовой платок и утирала слезы. По задумчивости ее можно было заключить, что она умственно творит молитву, с утешительным убеждением быть услышанной творцом.
Вдруг вошел Петр Петрович. Читатель знаком с его молодостью. Теперь, когда Николаша уже был избалованным корнетом, а Александр храбрым воином, он приметно постарел, равнодушно глядел на цыганок, не прельщался нежной ручкой жены, а полюбил херес, стерляжью уху и свежие щечки пятнадцатилетних девушек; Он уже был более чем сутуловат, чуть не сгорблен. С приметной, радостной улыбкой на лице он подошел к старухе, не замечая ее заплаканных глаз, поцеловал руку и сказал:
– Ну, матушка, как раз вовремя попал в охотный ряд! Первый купил навагу, корюшку и ряпушку. Что за прелесть!.. И как свежи: только что привезли! Оттуда заехал в рыбный ряд, застал много знакомых, однако успел купить пять желтобрюхих стерлядей: животрепещут, матушка! Две из них – в аршин длиною: одну отвез к преосвященному, но его не видал; он нездоров. В передней застал Катерину Павловну и Катерину Сергеевну: они привезли какой-то потогонной травы; обе в одно время, одна заикаясь, другая гоня слова на курьерских, рассказывали эконому, как приготовлять и пить эту траву; у меня спросили о вашем здоровье, хотели завтра побывать. Как же, матушка, прикажете изготовить стрелядок-то, отварить или уху сделать?
Почтенная старуха, пережившая все радости, все желания, имела еще слабость хорошо покушать и особенно любила лакомую рыбу; зять делал ей всегда удовольствие, по крайней мере, столько же, сколько самому себе, заботясь об отыскании хорошей рыбы. Она посмотрела на часы и отвечала:
– Спасибо, Петр Петрович! Вряд ли успеют сварить уху; лучше отварить стерлядку.
Петр Петрович позвонил, передал это приказание официанту и уселся в кресла с надеждою, что старуха, имея в виду полакомиться, будет в хорошем расположении духа и доброхотнее послушает все сплетни и новости, которыми он запасся в английском клубе, у своих приятелей, как и он, непременных ежеутренних посетителей охотного и рыбного рядов.
Он систематически высморкался, понюхал табаку и уже собирался раскрыть свой короб новостей и насмешливых сплетен, когда старуха, сев против него, со слезами сказала:
– А я, Петр Петрович, получила письмо сегодня от Александра. Как тебе и Параше не грешно так гнать сына? Ужели недостаточно: судьба и люди преследуют его? Чем он вновь провинился, что вы оба запрещаете ему писать к вам?
Петр Петрович искренно любил Александра и часто старался умилостивить к нему свою жену, но всегда тщетно. Несколько раз решался он выйти из ее повиновения в этом отношении: но что значит решиться для человека слабого нрава?.. Ничего! Привычка всегда покорствовать жене превозмогала, и Петр Петрович, послушный воле Прасковьи Петровны, каждый раз оставался при своем неисполненном намерении. Теперь Петр Петрович был в весьма затруднительном положении. Из опасения жены, он не смел открыть старухе своих чувств к сыну, а между тем надо было что-нибудь отвечать. Подумав, он сказал:
– Матушка, я и Прасковья Петровна, мы решились прекратить переписку с Александром, желая ему добра и надеясь тем принудить его выйти из настоящего расположения духа. Вот в чем дело. Месяца полтора тому назад я встретил в английском клубе какого-то полковника, приехавшего с Кавказа, где он провел несколько лет. Я спросил, не встречал ли он Пустогородова. А тот сказал в ответ: «Как же! Я с ним очень знаком и даже не раз делал вместе экспедиции». Тогда я объявил, что это мой сын, и просил описать его подробно. «Весьма приятна мне эта встреча, – сказал полковник, – надеюсь, что вы вместе со мною убедите Александра Петровича приняться за прежнюю свою неутомимость и оставить план, который он себе начертал и пунктуально исполняет; мне он мог не поверить, потому что годами я моложе его, а опытностью гожусь ему во внуки; но я вижу дело беспристрастно, хладнокровно, а он, как человек огорченный, обманутый в своих надеждах, односторонен во всем, что касается до него самого; должен вам доложить, между своими одночинцами Александр Петрович нелюбим – это понятно: ни годами, ни склонностями, ни мнениями он не может им быть товарищем; даже это было бы неприлично; но все они его уважают за правила, за безукоризненное поведение, за ум и большую опытность. Начальники отдают ему справедливость: его рвение было истинно примерное; он исполнил отлично многие поручения, сопряженные с опасностью и весьма трудные, требующие твердой воли, ума, неутомимости и всей его опытности. Им были совершенно довольны, громко хвалили, но он ничего не получил, тогда как другие, отличившиеся чем-нибудь, были щедро награждены. Это очень огорчало вашего сына, однако он надеялся еще, что судьба перестанет, наконец, его преследовать. Вдруг, видя, что гонение рока не прекращается, он совершенно переменил образ поведения и стал отдаляться от службы. Однажды случилось мне его представить к награде; начальник призвал меня и, возвращая представление, сказал: «Ты забыл, Пустогородов был разжалован… нельзя покровительствовать подобных офицеров!» На мое возражение, что таким офицером можно дорожить, что служба в нем много потеряет, мой начальник отвечал: «Зато его ласкают!.. Но куда же денется он с Кавказа?» Я рассказал это Александру Петровичу, присовокупляя, что ему легче было бы достигнуть генерал-майорского чина, если б он не был пятнадцать лет тому назад разжалован, чем дослужиться до капитана теперь, как он сделал проступок. Ваш сын улыбнулся и отвечал: «Если так, то с этого дня не стану брать на себя обязанностей, не подлежащих моей части, буду только исполнять необходимое по роду моей службы и по чину, сделаюсь боевым офицером. Пускай употребляют кого хотят на другое. Я почитаю, что исполнил долг подданного, и я уж расплатился с лихвою за свой проступок». Тщетно представлял я ему, что без него обойдутся и он только навлечет на себя новые неприятности. Александр Петрович отвечал: «По крайней мере, я сохраню здоровье, спокойствие и свои деньги». Как сказал, так и делает: его способности, богатая опытность потеряны для службы и, стало быть, без пользы для него. Начальники недовольны им; на всякое предложение о командировке он говорит: «Служа и считаясь во фронте, я не могу иметь нужных познаний для исполнения этого поручения». За такой ответ его раз отправили в укрепление, лежащее в ужасной глуши, а ему и горя мало! Всему смеется! Нечего было делать. Не хотелось скучать, он взял переводчика и давай учиться туземному языку. Около двух месяцев пробыл он там, занемог: его привезли на Линию; наконец выздоровел; хотели дать поручение, он опять свое. Это надоело, и его отпустили в свой полк, где я сына вашего и оставил». Вот, матушка, за что мы недовольны Александром и решились не писать к нему! Авось ли бог даст, он в угоду нашу покинет упрямство, вредное для него же самого.
Камердинер Петра Петровича вошел доложить, что Прасковья Петровна уже три раза за ним присылала: он встал поспешно, хотел идти, но старуха удержала его и сама с ним отправилась к дочери.
Петр Петрович рассказал всю истинную правду, только выдал женино заключение и решение за свое. Это был пунктуальный приговор Прасковьи Петровны, давно уже искавшей благовидной причины прервать все сношения с Александром.
Когда все три лица собрались вместе, умная Прасковья Петровна, разумеется, со всевозможною почтительностью к старухе доказала, что она примерная мать и готова с первой почтою написать к Александру, хотя полагает, что было б лучше, если б бабушка взяла на себя уведомить его о причине гнева родительского. Ей кстати баловать внука; родители же должны всегда и во всем быть в полном смысле отцом и матерью для своих детей, а отец и подавно, как глава семейства. Петр Петрович подтвердил это мнение, не из убеждения и не по чувствам, а потому что не смел противоречить жене. Добрая, почтенная старуха радехонька была, что нашлась на что-нибудь полезною, и охотно приняла предложение.
– Беда с детьми! – сказала несколько времени спустя Прасковья Петровна. – Александр, кажется, довольно стоит нам слез и хлопот: пора бы дать старикам отдохнуть, а тут Николаша начинает. Он умоляет меня выпросить, Петр Петрович, твое позволение выйти в отставку и поехать в чужие края. Я долго отказывала ему в этом, но, убедясь, что это в нем не ветреная мысль, а обдуманный план, рассудила: не будет толку его принуждать служить!.. Он сделается нерадивым, пожалуй, еще наделает глупостей и попадет в беду. Поэтому я и решилась поговорить с тобой и спросить твоего согласия. Надеюсь, однако ж, что ты не позволишь ему ехать в Европу. В самом деле, что ему там делать? Все любопытное описано сто раз, нарисовано еще более. На иностранцев всех наций он довольно может насмотреться и в России, от сапожника до аристократа. Я полагаю даже опасным молодому человеку ехать путешествовать по Европе: во Франции, того и смотри, попадет в круг либералов, наговорит или наделает на свою шею глупостей. В Германии боюсь философов, а пуще всего пантеистов. В Италии он как раз влюбится, женится, перекрестится, и не видать нам Николаши; сверх того, опасаюсь вообще нравственного разврата: он заживется в Европе, не скоро его оттуда выживешь, а возвратится – что толку из его путешествия? Будет с ума сходить по чужим краям, не из убеждения, а потому только, что все это делают; будет осуждать отечественное, тогда как он русский и в России должен жить: здесь прах его предков, его имение, его обязанности. Пожалуй, еще воротится развращенным чудаком, причесанным a la moujik [6], или арапом! Где его молодой голове перенимать что-нибудь полезное, истинно хорошее!.. А причуды, пороки, странности как раз переймет и поработит ими себя. Поэтому, мое мнение, если Николаша будет у тебя просить позволение путешествовать, назначить ему содержание приличное и отпустить в Персию, в Турцию, даже в Египет, но ни под каким видом не соглашаться на его желание видеть Европу.
Только что Прасковья Петровна окончила речь, которая ужасно надоела ее мужу, почтенная старуха сказала:
– Правда твоя, Параша, истинная правда! Только надолго ли поедет Николай? Ведь ты и отец его немолоды; ужель никому из ваших детей не достанется закрыть вам глаз? Я не говорю о себе!
Прасковья Петровна не любила вспоминать, что ей должно когда-нибудь умереть; она боялась смерти и даже встречи с похоронами: ее люди объезжали улицы, где замечали приготовления к погребению. Впрочем, эта странность не ее изобретение: найдете много подобных москвитянок. Замечание старухи не очень понравилось дочери, которая возразила:
– Матушка, я и об этом думала; не беспокойтесь, Николаша там не заживется, скоро соскучится, особливо при воспоминании, что на родине гораздо лучше и веселее. Петр Петрович, если ты согласен на просьбу сына и одобряешь мое мнение, так сам ему объяви о том, а я пойду одеться к столу: уже пора.
Петр Петрович, размышляя, что уже давно время обеда, и желая узнать скорее вкус выбранной стерляди, очнулся и сказал:
– Согласен!.. Согласен, Прасковья Петровна!.. Правда! Истинно так! – Потом позвонил и приказал позвать Николашу.
Долго искали по всему дому мечтателя; наконец, догадались, что он должен быть на половине своей бабушки; догадались потому именно, что она была у Прасковьи Петровны. Николаша возился в девичьей: когда отец прислал за ним, он взглянул на себя в зеркало, нашел, что слишком растрепан и красен, а потому отвечал: «Сейчас приду». И сам побежал умыться к себе в комнату.
Николаша боялся отца. Это внушила ему мать: показаться растрепанным и красным казалось ему сознаться, от каких занятий его отозвали. Притом отец, по наущению жены, часто бранил его за всегдашнюю праздность.
Наконец Николаша явился. Отец спросил, где он был, что не дождешься его.
– У себя в комнате, папенька!
– Зачем у тебя волосы мокры?
– Со сна умылся, папенька!
– Все спишь да спишь!.. Какое мясо!.. Что бы заняться делом?
– Голова ужасно болит, сам не знаю, отчего.
Николашу усадили, Петр Петрович передал ему за свое все сказанное Прасковьей Петровною и кончил словами:
– Вот тебе мое позволение и мои условия: хочешь их принять, выходи в отставку, не хочешь, оставайся на службе. Ты знаешь, я никогда не переменю своего: что сказал, то свято!
После обеда все разошлись. Николаша уехал со двора: у него были причины, по которым он не хотел еще объявить, на что решается.
Вечером он отправился в знакомый дом, где обыкновенно проводили время за карточными столиками. Войдя в гостиную, он подошел к хозяйке дома, потом к хозяину, пробормотал какие-то приветствия и начал оглядываться. Скоро заметил он Елизавету Григорьевну, молодую женщину его лет. Она сидела в углу комнаты между четырьмя молодыми людьми. Все они стояли, пятый сидел рядом с нею; разговор оживлялся занимательностью и смехом. Елизавета Григорьевна была прелестна, мила: черные орлиные глаза, открытый лоб, черные волосы, римский нос, рот с тоненькими губками, родимое пятнышко на подбородке, смуглый цвет лица, хороший рост, пленительный стан – все в ней очаровывало с первого раза. Николаша посмотрел на эту беседу, нахмурился и подошел к хозяйке дома, дряхлой старушке, подсел к ней и начал толковать не знаю о чем. Стали составлять партии. Николаша просил хозяйку позволить ему быть в ее бостоне – это очень обрадовало старуху, которая тут же начала составлять десятикопеечный бостон; нашли еще старика, не находили только четвертого, и немудрено! Бостон невесел сам по себе и делается убийственно скучен, когда составляется для забавы глухой старухи. Не найдя никого, посадили восемнадцатилетнюю прекрасную немочку Китхен, воспитанницу дома.
Елизавета Григорьевна отказалась от игры и по приглашению хозяйки села за фортепиано. Окруженная своими обожателями, она начала петь. На многих столах приостановились играть, чтоб вслушаться в этот голос, пленительный до волшебства.
Наконец Елизавета Григорьевна встала, сказав своим окружающим: «Я еще не сидела около бабушки». Молодежь в один голос пожелала ей удовольствия в этой приятной беседе; она отправилась к бостонному столу, за которым Николаша сидел задумчиво.
Николаша был высокий и стройный мужчина с лицом правильным и красивым. Он был белокур и имел взгляд словно подернутый туманом. Бледность лица и губ доказывала, как рано он предался страстям, насыщая их обманами. Но вид его имел всю прелесть и нравился женщинам.
Заметя, как Елизавета Григорьевна подходит, он вперил глаза в немочку и стал пристально на нее глядеть. Китхен, полусмущенная, проводя рукою по волосам, спросила:
– Что вы так на меня смотрите?
– Тщетно я стараюсь найти одну хоть малейше неправильную черту в вашем лице!
– И ручаюсь, не найдете! – возразила Елизавета Григорьевна. Николаша взглянул на нее, встретил ее гневный взор и с полуулыбкою отвечал:
– Дай бог вашему предсказанию сбыться и мне, наконец, найти совершенство, которого до сего времени я искал тщетно. Когда найду его, дай судьба – более не разочаровываться!
– А вам случалось разочаровываться?
– Случалось!
– Часто?
– До этого времени всегда!
– Без исключения?
– Без всякого!
– Жалею вас, и более, чем вы, вероятно, думаете.
– Благодарю, но не принимаю вашего сожаления, потому что оно мне не нужно.
Елизавета Григорьевна задумалась и с приметным негодованием начала наблюдать Николашу, который притворился еще задумчивее и исподтишка поглядывал на немочку. Наконец Елизавета Григорьевна сказала:
– Как вы задумчивы сегодня, Николай Петрович! Кажется, вы со мной еще не кланялись.
– Извините, я вам кланялся, но вы этого, вероятно, не заметили, слишком были заняты каким-то новоприезжим, которого в первый раз я вижу.
Елизавета Григорьевна, улыбаясь, отвечала:
– Простите, если я вас не заметила; сознаюсь, что этот приезжий обратил все мое внимание.
Сдача кончилась, начались переговоры. Немочка играла бостон, Николаша ей вистовал, притворяясь еще угрюмее.
Елизавета Григорьевна спросила его насмешливо:
– Вы, верно, так задумчивы оттого, что проигрываете?
– Напротив, я очень рад, что мне нечего терять.
– Как нечего? – спросила с гневом Елизавета Григорьевна.
– Да, я все фишки проиграл! Виноват, хотел сказать, избавился, передав желающим.
– Я вас, Николай Петрович, не понимаю; скажите, пожалуйста, что с вами?
– От сегодняшнего пресыщения и излишнего удовольствия я устал.
– Я все-таки ничего не понимаю; пожалуйста, объясните эти выражения.
– Весьма сожалею, что не могу.
– Так прошу вас хоть намекнуть… я пойму.
Николаша взглянул на Елизавету Григорьевну, встретил ее гневный взор и значительно посмотрел на немочку.
– Понимаю, но не верю, – рассмеявшись, сказала Елизавета Григорьевна.
– Ошиблись, – отвечал Николаша, – я намекаю на причину молчания.
Пошли переговоры, сыграли бостон; немочка поставила ремиз: Елизавета Григорьевна заметила, что она плохо играет, и предложила сесть за нее. Китхен ушла. Елизавета Григорьевна спросила у Николаши: где он был и что делал во весь день?
– Одному духовнику я каюсь в своих поступках и помышлениях; был сегодня после обеда сначала у цыган, а после в театре за кулисами, – отвечал Пустогородов.
– Я уверена, что вы нарочно это говорите, по страсти нынешних молодых людей казаться хуже, чем они в самом деле.
– Уверяю вас, я говорю истину; да и не вижу, почему нам, холостым, не бывать там, где встречаешь женатых людей, предпочитающих актрис своим женам, которые, без сомнения, несносно им надоели.
– Зачем же вы приехали сюда? Лучше было отдохнуть дома.
– Я желал вас видеть; муж ваш, которого я встретил за кулисами, сказал мне, что, вероятно, вы здесь проведете вечер.
Начались переговоры. Елизавета Григорьевна играла бостон, проиграла и, ставя два ремиза, разгневанная, сказала Николаше:
– Видите эти ремизы, вы им виноваты; вы должны были мне вистовать, вам угодно было меня оставить: я не прощу этого, не надейтесь более на меня, не стану вам вистовать.
Николаша, засмеясь, отвечал:
– Судьба мне не изменяла еще, и я уверен, что найду вист гораздо лучше вашего.
Все утихли и молча играли; наконец Елизавета Григорьевна спросила:
– Что же хорошего за кулисами?
– Новая молоденькая балетчица.
– Верно, красавица?
– Довольно что новая, моложе и свежее прочих, чего более желать? Особенно когда прежние пригляделись, надоели!
Опять переговоры. Елизавета Григорьевна сердито сказала:
– Не забудьте же, Николай Петрович, я вам непременно отомщу.
– Трудно будет, когда я сам не хочу вашего виста.
– Да куда девалась Китхен?
Тут подошел новоприезжий мужчина, на которого намекал Николаша, и сказал Елизавете Григорьевне:
– Сестра! Ты уселась играть, а я хотел ехать домой, устал с дороги.
– Подожди немного, я играю за Китхен; она сейчас придет, тогда пойдем.
Мужчина удалился. Николаша спросил у Елизаветы Григорьевны, кто он такой. Это был ее родной брат, только что приехавший в Москву.
Между тем Китхен пришла. Во время игры Николаша, несколько пристыженный, сказал Елизавете Григорьевне:
– Я забыл просить вас прислать мне непременно вторую часть книги, которую я у вас взял; завтра утром возвращу вам первую.
– Я не пришлю книги, потому что сама ее читаю. Пора мне ехать; жаль, не обремизила вас, но знайте, что сдержу свое обещание.
– Хорошо, мстите; где гнев, там и милость! Только шутки в сторону, прошу вас прислать мне книгу; я скоро, вероятно, уеду и хочу дочитать описание, которое мне, – не говоря о любопытстве, – нужно, даже необходимо.
Елизавета Григорьевна уехала, не дав никакого ответа. Бостон кончился. Гости разъехались. Николаша очутился у себя, весьма недовольный всем своим днем.
Надев халат и расхаживая по комнате с трубкою, он вдруг ударил себя кулаком в лоб, промолвив: «Какой же я дурак! Сегодня вечером принял брата за будущего любовника, поссорился с Лизой, тогда как необходимо было с нею серьезно поговорить; план наш расстроен, покамест прощай Италия, где мы должны были обвенчаться и провести остальные дни вместе! Отца никогда не переспорю. Завтра с утра родители будут требовать от меня на что-нибудь решиться, а я не знаю, чего хочет Лиза!»
Он вздумал написать Елизавете Григорьевне.
Обычаи во всем изменяются. Давно ли сентиментальные письма, записки писались на прекрасной розовой бумаге, изукрашенной разными виньетками? Тут чаще всего изображены были или пара голубков, соединяющих носики, или амур-колченосец, пронзающий сердце легкою стрелою. Эти записки запечатывались аллегорически-сентиментальными изображениями и всегда были раздушены как благовониями, так и выражениями. Теперь все это считается варварством, незнанием правил du comme il faut [7]. Письмо или записка любовной связи должна быть написана на самой обыкновенной бумаге, притом потаенными чернилами, самое легкое сентиментальное выражение – есть непростительная пошлость, совершенное незнание общежития; нынешнее любовное письмо непременно должно служить оберткою книги или чего другого, посылаемого к возлюбленной. Если хотите совершенно исполнить требования этикета, закурите эту обертку табаком, сделайте на ней несколько чернильных пятен; впрочем, эти пятна иногда имеют иероглифические значения.
Николаша, в полном смысле поклонник моды, велел подать себе лист простой бумаги и стал писать потаенными чернилами; несколько раз задумывался, чернила высыхали, он не знал, как продолжать, и начинал строку где попало. Он описывал условия, на которых отец позволяет ему выйти в отставку, жаловался на скотские понятия старика о Европе, сожалел, что не зависит от умной и просвещенной матери, грустил о зависимости состояния, которое его столько угнетает, и в заключение всего умолял Лизу дать скорее совет и требовал свидания; намекал слегка на вечернюю встречу с уверенностью, что комедия, разыгранная им, будет забыта в обстоятельствах столь важных. Он взял книгу, прожег ее в одном месте и, небрежно завернув в письмо, приказал камердинеру утром в девять часов отнести к Елизавете Григорьевне и просить следующую часть. Николаша, кончив это, был очень доволен собою и, ложась спать, не велел будить себя, а если отец или мать спросят, сказать, что он очень поздно заснул.
Елизавета Григорьевна, возвратясь домой, забыла обо всем происшедшем на вечере и долго сидела с братом, которого давно не видала. Муж ее, Илья Денисьевич, изволил уже почивать.
Илья Денисьевич был человек лет сорока пяти, в молодости лихой гусар; он утратил здоровье и силы в распутной и разгульной жизни; несколько раз ездил лечиться на Кавказские воды и, наконец, вышел в отставку, получив огромное имение от отца. Как все мужчины, он был ревнив, когда был холост, несмотря на то, что смеялся глупости мужей, опасающихся быть рогоносцами, между тем как никто еще не видел ни одной пары человеческих рогов. В этих случаях он прибавлял: «Пускай муж сам не будет плох, так нечего ему и опасаться!» Несмотря на это, он не расчел и женился почти истощенный.
Не за него, а за его состояние отдали Елизавету Григорьевну. Она не знала его почти, да, кажется, чуть ли не была влюблена в молодого человека, которого судьба от нее оторвала. Сначала она не хотела выходить замуж; но домашние убедили ее, представляя, что эта свадьба необходима для счастья всего семейства. Этими доводами бедняжку уговорили. Первые годы брачной жизни домашний их быт шел кое-как; но Илья Денисьевич преждевременно одряхлел. Тут настала трудная эпоха. Муж чем ранее дряхлеет, тем более самолюбие его скрывает это; тогда-то он прикидывается волокитою. Молодая жена сначала не понимает этого. Самолюбие бушует в ней: она подозревает, что покинута, променена на соперницу. Начинаются слезы, ревность, ссоры и замыслы мщения. Если же жена постигнет истину, что, впрочем, не всегда случается, – она делается самым усердным сообщником мужниной тайны, но скрытно от него, – у нее свои виды! Вот они. Всякая женщина притворяется чуждою огня страстей, подавая вид, что выше их; в любовной связи она уверяет любовника, клянется, что увлечена его нравственными добродетелями, дарованиями. Ее прямой расчет, следовательно, скрывать дряхлость мужа; она никогда в ней не сознается. Муж, со своей стороны, на все готов согласиться, лишь бы только лучше скрыть свою тайну, которую он никому ни за что на свете не поверит. Тут заключение брачного мира обыкновенно имеет следующую форму: «Любезная жена! Я тебя искренно люблю и предан тебе, будь в этом уверена: ты полная хозяйка в доме и моем имении, но прошу тебя, не будь так строга ко мне, извиняй кое-как брачные измены, ведь твоя ревность ни к чему не послужит, кроме семейных ссор; мы, мужчины, так сотворены, таковы наши права, наши привычки! Об одном только тебя прошу: не забывай, что я поверяю тебе свою честь». Эта последняя речь в женском лексиконе переводится так: «Ты, жена, можешь иметь любовника, только тщательно скрывай свою связь от мужа, а пуще всего от света!»
Семейный быт Елизаветы Григорьевны и Ильи Денисьевича, лиц, впрочем, весьма обыкновенных, был таков, как выше сказано. Их брачная жизнь дошла до периода только что поясненного; формула наша оказалась в этом случае весьма уместной. Условия ее исполнялись со всевозможной точностью.
Елизавета Григорьевна неоднократно замечала, что ее муж делается одолжительнее после головомоек, которые даны ему при свидетелях, под предлогом ревности. Она взяла это себе на ум.
На другой день после описанного вечера, в десятом часу утра, она сидела за чайным столом со своими тремя детьми, уродцами, черными, нечесаными, неумытыми, которые скоро между собою передрались и расплакались, так что мать их прогнала. Илья Денисьевич вошел, как добрый муж, поздоровался с женою, поцеловал ей ручку и уселся в ожидании чая.
Елизавета Григорьевна, понюхав табаку, сказала очень гневно:
– Послушай, если ты дурачишься и забываешь приличие, так я, по крайней мере, требую, чтобы ты не смел поминать обо мне в местах, где, если б у тебя была совесть, ты б никогда не заглядывал.
Пошли прения, ссоры, и когда Елизавета Григорьевна пришла вне себя, то есть притворилась разгневанной, послышались шаги. Это был домашний доктор. Невозможно было явиться более кстати. Доктора в домах – семьяне. Они все видят, все знают, все слышат и удивительно верно отгадывают то, чего им не сказывают. Редко кому рассказывают они важные семейные тайны; зато ссоры, мелочные или смешные происшествия столько же раз в сутки повторяют, сколько получают десятирублевых ассигнаций. Высыпаясь в каретах, они почти всегда видят во сне семейные распри: это случаи для них самые выгодные. Обыкновенно они пропишут жене успокоительное лекарство, чаще всего отварную воду с сахаром, на рецепте сделают незаметный иероглиф; аптекарь, обязанный платить значительный процент врачу, возьмет в двадцать, а иногда в сто раз более ценности медикамента; больная, очень довольная вкусом сладкой воды, прославляет удачное лечение ее притворной болезни, а медик в продолжение дня должен сделать второй визит, узнать о действии лекарства, то есть получить другую ассигнацию. Серьезные болезни – несчастья для медика: во-первых, его слава страждет, когда больной умирает на его руках; во-вторых, доктора, занимающиеся практикой, всегда добродушные люди, привязанные к пациентам. В них чувства не грубеют, как у госпитального лекаря, на которого смерть больного не производит ровно никакого впечатления.
Доктор, старый немец, вошел, поклонился, посмотрел на Елизавету Григорьевну и спросил, что с ней? Видно, она очень расстроена?
– Муж сокрушает. Вообразите, вчера изволил провести вечер в театре за кулисами. Мало того – не о чем было говорить, у него достало духа завести разговор о жене. С кем же? С молодым ветреником.
Доктор начал успокаивать Елизавету Григорьевну, пощупал пульс, потребовал бумаги и чернильницу, прописал рецепт, приказал тотчас же послать в аптеку, принимать лекарство через час по чайной ложке, и никак не держать его в слишком теплом месте, разумеется, не ставить в печку, а то склянка может лопнуть. Говорите после этого, что доктора вообще аллопаты! Нет-с, они гомеопаты, коль скоро велят принимать по чайной ложке лекарство, которое всякий из нас в детстве охотно пивал полными стаканами.
Илья Денисьевич находился в весьма затруднительном положении; душевно желая прослыть волокитой, он должен был из приличия показаться смущенным, немного прогневанным, почти присовещенным. Как водится, он сделал тут прежалкую фигуру.
Вошел официант с завернутою книгой, Илья Денисьевич спросил:
– Что это такое?
– К Елизавете Григорьевне от Николая Петровича Пустогородова, приказали просить другую.
– Подай сюда! – Илья Денисьевич развернул книгу, заметил, что она прожжена, и, пересматривая, сказал: – Какова нынешняя молодежь! Какие невежды! Вот прожег книгу, хоть бы строчку написал в извинение! – завернул ее опять и отдал официанту. Елизавета Григорьевна, не смотря на человека, приказала положить ее к ней в будуар, на стол, и велела сказать, что другую книгу сама читает.
Сметливый доктор, понявший одолжение, которое сделает обоим супругам, если заведет разговор, спросил у Елизаветы Григорьевны, где она провела вечер?
– У бабушки! – отвечала она. – Играла в бостон за вашу дочь Китхен.
Илья Денисьевич воспользовался этим удобным случаем, чтобы встать и поскорее уйти. Доктор последовал его примеру немного погодя, а для Елизаветы Григорьевны начался день светской женщины, то есть во все утро до второго часа – получение и отправление дюжин двух записок, потом принятие и делание визитов. Не приняла, однако ж, она Николашу. Это взбесило его, потому что, не получив ожидаемой книги, он отправился к ней объясниться. Позднее, когда он ехал по городу, он встретился с матерью, которая остановилась, посадила его к себе в карету и вынудила согласиться выйти в отставку и отправиться путешествовать на Восток.
Николаше необходимо было видеть Елизавету Григорьевну. Он начал ломать голову, где она проведет вечер? Но все его предположения были сомнительны. Наконец он решился послать своего камердинера прохаживаться около ее дома и подслушать, куда она поедет. Поручение не совсем приятное, особенно когда на дворе мороз в 25° по Реомюру [8]. Камердинер довольно долго прогуливался около дома, проклиная про себя влюбленных пар и все в мире любовные связи. Очень приятно был он обрадован, когда увидел на дворе фонари их кучеров, запрягавших экипаж; карета выехала со двора, ее подали к крыльцу; вскоре лакей отворил дверцы, посадил Илью Денисьевича и ожидал… Ведь только женихи сажают в карету невест. Мужья делают это со своими женами лишь в первый год женитьбы, а со второго передают эту обязанность лакеям. Впрочем, разве эта одна обязанность им передается? Не берусь решать. Жених, любовник, сажая в карету предмет своего обожания, всегда пожмет рукою локоть, подавит ладонь, и счастливец получает в ответ почти незаметное движение пальцами, которое в светском лексиконе переводится словами: «Она пожала мне руку!» Наконец, явилась Елизавета Григорьевна. Ее посадили. Камердинер Николаши услышал ее голосок: «В Петровский театр!», потом громкий голос лакея: «Пошел в Петровский театр!» Полупьяный бас кучера заревел: «Пошел в Петровский театр!» и карета помчалась. Через четверть часа Николаша у дома своего садился в сани, говоря: «В Петровский театр!»
Первое действие началось, когда Николаша вошел в театр и, остановясь у входа залы, навел свой лорнет на ложу Елизаветы Григорьевны. Она сидела вдвоем с мужем и, казалось, была очень задумчива, даже скучна. «Ага! – подумал Николаша. – Каешься, что со мною поссорилась! Боишься быть покинутой! Я же проучу, помучу ее порядком!»
Входя в залу, Николаша прошел к своему креслу и уселся тихо, поглядывая, смотрит ли на него Елизавета Григорьевна? Но незаметно было, чтобы она обращала внимание в ту сторону.
Занавесь спустилась. Николаша отправился в ложу Елизаветы Григорьевны, где очень сухо был принят ею и мужем. Не обращая на это внимания, он спросил:
– Вы получили книгу? Видели, она прожжена?
– Да, получила, но не развертывала ее; впрочем, муж открывал и сказал мне, что она прожжена.
– Вы меня прощаете?
– Что толку, если б я не простила!
– Вы дадите мне завтра другую часть?
– Нет, не дам! Не умея сберегать, что вам дают, вы лишаетесь доверенности.
– Не стану беспокоить вас просьбами.
Илья Денисьевич вышел из ложи. Николаша спросил Елизавету Григорьевну, что за причина ее грусти, и получил в ответ:
– Я скажу вам правду, вы должны это знать. Вчера у бабушки вы сказали мне, что встретили мужа за кулисами. Это возбудило во мне сильную ревность. Огорченная, я всю ночь не спала и, наконец, опомнилась: с какого права, подумала я, волнует меня измена мужа, когда я сама ему неверна? Этот вопрос успокоил меня, и ревность затихла. Я стала хладнокровно рассуждать и убедилась, что истинно привязана к мужу. Он также любит меня. Я разочла, сколько моя измена его огорчит, упрекала себя в ветрености, по которой нарушила священные обязанности и узы; с угрызением совести, с благодарностью к судьбе, скрывшей от мужа мой проступок, я решилась расстаться с вами.
Илья Денисьевич возвратился. Жена его хладнокровно спросила Николашу:
– Где для вас приятнее быть во время представления, за кулисами или в зале?
– Этого нельзя сравнивать: в зале увлекаешься, прельщаешься, но все это пустой призрак, свет со своим ослепительным обманом. За кулисами темно, грязно, загромождено машинами грубой работы; видишь черную и безобразную изнанку декораций, уродливо нарумяненных актрис и актеров, их мишурное одеяние. Мнится, будто перед тобой масляничные паяцы и шуты. Чтобы вернее объясниться, скажу, что за кулисами весь чар, все волшебство исчезает; видишь предмет своего наслаждения во всей его отвратительной наготе, во всем наглом обмане, в презрительном ничтожестве. Первый раз, когда я увидел закулисный быт, мне сделалось грустно, и зала не развлекала меня более; но я скоро привык и с той поры к тому и другому равнодушен.
– Зачем же вы бываете в театре, если он вас не развлекает?
– Мало ли что делаешь от нечего делать! Ездишь в театр, на бал, на вечера, волочишься.
– Ужели это все делается от нечего делать?
– Помилуйте, да это вся наша бесплодная светская жизнь! К тому же все это – вечное одно и то же.
– Каким образом одно и то же? Желаю, чтобы вы это доказали мне.
– Ничего нет легче. Разительное противоречие между театральной залой и кулисами вы встречаете между блеском женских бальных нарядов и их наготой в уборных, когда они приедут домой уставшие, полусонные. В волокитстве точно так же предмет нашего внимания есть сначала то же, что театральная зала. Когда достигнем желаний, перешли за кулисы в полном смысле слова.
– Скажите, пожалуйста, как вы так молоды и уже так разочарованы; с таким мрачным предубеждением смотрите на жизнь, и где вы набрались подобных мыслей?
– Я, конечно, молод годами, но стар опытностью; рожден с пылкими страстями и предался было им чистосердечно, с полным самозабвением; я даже чувствовал себя в состоянии всем жертвовать для страсти, но преданность моя не была оценена. Раз навсегда я разочаровался, ко всему охладел и на все смотрю без соучастия и озлобления, без любви и без ненависти.
Елизавета Григорьевна расхохоталась, заметив, что озлобленный философ предпочитает однако ж сидеть в ложах и креслах, чем идти за кулисы.
– Я еще буду и за кулисами, – отвечал Николаша, откланиваясь, и вышел в полном смысле взбешенный.
Скоро наш скептик явился в директорской ложе, против яруса, в котором сидела Елизавета Григорьевна.
Занавесь поднялась. Николаша стоял уже за кулисой и смотрел в ложу Елизаветы Григорьевны. Заметно было, что он разговаривал с большим жаром; но с кем, не было видно. Только по краю юбки, которая видна была из ложи, можно было подумать, что это было с женщиною. Лорнет Елизаветы Григорьевны не сходил с Николаши; он притворялся, что даже не смотрит в ту сторону. Наконец, и он, и юбка скрылись. Только подошва со шпорой осталась на том месте, где он стоял. Нетрудно было догадаться, что проказник был на коленях, но мгновенно – из-за этой кулисы выбежала молоденькая, хорошенькая актриса, которая начала разыгрывать свою роль. Илья Денисьевич обратил на нее все свое внимание. Елизавета Григорьевна вне себя, готова была уехать, но, не видя более Николашу за кулисами и хорошенькую актрису на сцене, начала лорнетом рассматривать ложи. Глядь – Николаша над директорскою хохочет с четырьмя румяными женщинами. Показывая в эту сторону, она спросила у мужа:
– Пуфинька! У кого в ложе Пустогородов?
Илья Денисьевич по-нашему, а по жениному ласковому выражению пуфинька, угрюмо посмотрел и, зевая, отвечал:
– А кто его знает? Это ложа каких-то актрис.
Всматриваясь внимательнее, он начал, однако ж, оказывать признаки сильного нетерпения.
Посидев у этих женщин, Николаша опять очутился у директора. Занавесь опустилась.
Затем Пустогородов явился опять к Елизавете Григорьевне и сказал пуфиньке:
– Илья Денисьевич! Директор поручил мне просить вас после театра приехать в английский клуб.
– Ах, благодарю; совсем было забыл, что надо мне с ним видеться. Если вам нечего делать, посидите, пожалуйста, здесь с женою, а я к нему схожу на минуту.
– Очень хорошо! – отвечал Николаша самым скептическим голосом, а Илья Денисьевич отправился. Елизавета Григорьевна, внутренне раздраженная, насмешливо сказала Николаше:
– Я вас видела за кулисами.
– Я сказал вам, что туда иду.
– Как я рада, что, наконец, опомнилась! Какому развратному человеку я было вверила себя, какому неблагодарному! Никогда себе этого не прощу. Перед какою актрисою вы становились на колени? Я это видела, не отпирайтесь.
– Послушай, Лиза! Мне отпираться нечего, я тебе был верен всегда; теперь же ты сама мне объявила, что мы расстаемся, стало быть, ты не имеешь более ни малейшего права требовать отчета в моих поступках! Я к тебе истинно привязан и верно не подавал повода называть себя неблагодарным. Если бы ты сегодня прочла мое письмо, ты это увидела бы. Я просил твоего совета, ты мне его не дала; теперь уже поздно. Я стремился покинуть отечество, родных, все для тебя, и по нашему условию ехать в Италию; но решено иначе. Я выхожу в отставку, родители меня отправляют путешествовать на Восток.
– Да, ты мне всегда был верен! А Китхен? Что на это скажешь? Я знаю твое оправдание: ты шутил! Не стыдно ли, шутя, соблазнять беззащитную девушку? Если она дастся в обман и сердцем привяжется к тебе, что ты ей скажешь? Как сметь презирать до такой степени пол, к которому я принадлежу? А меня ты уверяешь, будто привязан ко мне. Если бы ты чувствовал, что говоришь, так уважал и почитал бы меня во всем моем поле.
– Ошибаешься, Лиза! Я не то скажу, а напомню мои всегдашние мольбы к тебе отдалять от себя мужчин, менее стараться им нравиться. Чувство мести, ревности внушило вчера мое поведение с Китхен.
– Стыдись! К кому меня ревновал – к родному брату! Каковы должны быть правила человека, у которого рождаются такие подозрения? Не стараться нравиться мужчинам, ты меня просил? Ужели ты полагаешь, я тебе бы нравилась, и ты продолжал бы за мной ухаживать, если б увидел, что никто меня не замечает? Нет, видя меня покинутою, не обращающею ничьего внимания, ты покинул бы меня. С того же дня я стала бы тебе в тягость, сделалась несносною, надоела бы неблагодарному. Любя тебя, желая сохранить твою привязанность, я стараюсь пленять собою людей, быть окруженной мужчинами; а ты упрекаешь меня этим, ты, которого я одного отличаю среди всей этой ничтожной толпы!
– Лиза, прости меня, забудь прошедшее, виноват! Скажи скорее, простила ли ты меня? Твой проклятый пуфинька вышел из ложи, сейчас сюда придет. Нам надо непременно видеться, дело важное! Когда же и где?
Елизавета Григорьевна, взглянув на директорскую ложу и видя, что муж ее уже вышел, поспешно отвечала:
– Послезавтра на Кузнецком мосту, в два часа пополудни. Завтра я больна; на другой день утром пошлю просить модистку привезти мне новый корсет и бальное платье. Она должна отказаться под каким-либо предлогом. Я с пуфинькою приду в магазин, модистка попросит меня в свои комнаты примерить корсет и платье; будет перешивать то и другое, а его отправит.
Послышались шаги. Она прибавила:
– Хорошо, Николай Петрович, если послезавтра останусь на бал до мазурки, то буду ее с вами танцевать.
Илья Денисьевич вошел, поблагодарил Николашу и извинился, что долго его задержал в ложе. Того требовала учтивость. Пустогородов, посмотрев на часы, сказал:
– Ах, опоздал! Я дал слово быть в десять часов в одном месте, а теперь скоро одиннадцать. – Потом встал и откланялся.
На другой день утром Елизавета Григорьевна не вставала; она была нездорова, имела сильный мигрень. Доктор пощупал ей пульс, прописал нюхательный спирт и какое-то лекарство и ждал, покуда все принесут.
Между тем Елизавета Григорьевна спросила у доктора, скоро ли будет свадьба его дочери, и получила ответ, что еще дело не решено.
В первом часу Николаша вошел в модный магазин на Кузнецком мосту к мадам Комплезанс. Несколько покупательниц занимали толстую, краснощекую, затянутую в корсет, с лишком сорокалетнюю хозяйку. Когда она поотделалась, подошла к Николаше и спросила, что ему угодно.
– Мне из провинции прислали деньги, чтобы по этому реестру я накупил женских уборов; вот вам деньги, возьмите на себя труд комиссии.
Содержание реестра было: «Завтра в два часа пополудни мне надо иметь свидание с известною вам особой, прошу одолжить ваши комнаты. Теперь меня вызовите, мне нужно с вами переговорить».
Мадам Комплезанс объявила, что у нее все это есть, с радостью берет комиссию и просила Николашу войти в ее комнату взглянуть на вещи.
Николаша вышел из магазина и наедине передал ей все, что Елизавета Григорьевна ему сказала о плане для свидания. Дело решено.
Елизавета Григорьевна целый день пролежала, не думала даже выезжать. На другое утро лекарство принесло пользу: она хорошо спала ночь, встала как встрепанная я послала карету за мадам Комплезанс, чтобы привезти ей корсет и несколько платьев на выбор для вечернего бала. Она еще сидела за чайным столом со своим благоверным супругом, когда официант пришел доложить, что карета воротилась, а мадам не приехала но причине болезни.
Трудно описать сокрушение Елизаветы Григорьевны. Пуфинька начал ее утешать, и решили, что в два часа они вместе поедут в магазин Комплезанс, где пуфинька выберет платье для жены. Вы спросите: зачем же его возить? Подумайте, так и узнаете, что расточительные жены, щеголихи, всегда притворяются скупыми. Несмотря на то, мужья поварчивают о деньгах, кидаемых на туалет, а когда жене вздумается блеснуть своим бальным нарядом, она везет своего пуфиньку в модный магазин, и он должен выбрать сам платье. Мужья самолюбивы и любят видеть жен пышно наряженными. Поэтому их выбор всегда бывает щегольской; жена на другой день получает счет от модистки, передает его мужу, который посмотрит на итог, почешет себе лоб и вынимает деньги.
В два часа Елизавета Григорьевна с пуфинькой входила в магазин мадам Комплезанс. Подвязанная хозяйка, кашляя, извинялась, что не могла приехать. Спросила корсет: сказали есть, спросили бальные платья, их целую дюжину вынесли. Пуфиньке позволено было выбрать; он не ударил лицом в грязь. Надо примерить выбранное платье. Елизавета Григорьевна пошла в комнаты мадам Комплезанс; и стали раздевать ее в премилой уборной, в которой, разумеется, находились и прекрасное трюмо, и кушетка, и все нужное…
Сначала примерили корсет; в нем почти нечего было переделывать. Через полчаса будет готов. Как мила хорошенькая женщина, когда примеряет корсет! Без корсета же, сознаюсь, не всякая хороша, иную упаси судьба видеть! Не захочешь глядеть и на истинно хорошеньких. Решив одно, принялись за платье. В нем было более переделки, чем в корсете; а потому мадам Комплезанс пошла в магазин объявить зевавшему пуфиньке женино позволение: взять экипаж и ехать куда ему угодно; но чтобы через два часа прислал обратно карету. Между тем Елизавета Григорьевна дождется, покуда платье поспеет. Сама же не может выйти, потому что раздета. Покорный муж посмотрел на часы и обещал прислать карету через два часа.
Недели полторы спустя в этой же уборной Елизавета Григорьевна прощалась с Николашею. Ничего не было забыто при этом случае; лились обеты взаимной вечной верности и обещания писать друг к другу! Впрочем, тут нечего распространяться. Не раз случалось мне подсматривать в замочную щелку прощания этого рода и подслушивать такие обещания. Я убедился, чем притворнее они, тем смешнее, глупее и приторнее! Когда же в таких случаях прощающиеся истинно тронуты, тогда они не плачут, не пустословят, а глубоко, сильно чувствуют и – молчат.
Николаша совсем собрался ехать в полк и там подать в отставку. В присутствии семейства отслужили молебен с водосвятием. Бабка и мать чистосердечно плакали, благословляя Николашу. Петр Петрович воспользовался тем временем взглянуть на часы – грустная дума волновала его… Он боялся опоздать в рыбный ряд и уже в тот день не достать лучших стерлядей. Наконец и до него дошла очередь благословить отъезжающего.
Драма кончена. Николаша несется по столбовой и вместо субреток в девичьих возится на станциях, пока смотрители, по своему обыкновению, с тысячью грубостей отказывают дать лошадей, стращая и всячески притесняя проезжающего.
Да с кем же он возится? – спросите вы.
Разумеется, с ямскими кухарками.
II
Приезд на кавказскую линию
And as far as mortal eye can compass sight,
The mou ntain howitzer, the broken road,
The bristling palisade, the fosse o`erflow`d,
The station`d bands, the never vacant watch,
The magazine in rocky durance stow`d,
The holster`d steed beneath the shed of thatch,
The ball-piled pyramid, the ever blazing match.
Byron [9]
По общему выражению Кавказская линия, по военно-техническому – Кавказская кордонная линия [10] есть протяжение от Черного моря до Каспийского, тянущееся сначала вверх по правому берегу Кубани, потом недлинною сухою границей, и наконец по левым берегам рек Малки и Терека.
По этой линии проложена большая почтовая дорога, почти круглый год безопасная. На противолежащих же берегах русскому нельзя и носа показать без прикрытия, не подвергаясь опасности быть схваченным в плен или убитым хищниками.
Впрочем, каждый год временно воспрещается ночная езда по большой дороге: такое время называется на линии тревогою и продолжается иногда недели две. Тревога состоит в следующем. Лазутчики (военные шпионы) уведомляют, что горцы в таком-то числе собрались в известном месте и намерены вторгнуться в наши пределы: здесь делаются распоряжения для прикрытия пространства, грозимого прорывом, и принимаются меры предосторожности, пока начальник участка, который называется еще кордонным, не сосредоточит легкого отряда и не нападет внезапно на скопище. Меры предосторожности всегда одни и те же: всех казаков, служащих и не служащих, расположенных внутри Линии, высылают в пограничные станицы. Эти последние запирают, то есть жителей не выпускают из них на полевые работы, а скот выгоняют на пастбище, лишь когда нет тумана и солнце уже довольно высоко на небе; проезжающих задерживают по ночам и рано утром.
Раннею весною, то есть в конце марта, по большой дороге, прилегающей к Кубани, катилась коляска, запряженная шестью изнуренными лошадьми. Сырой туман, падавший влажной, едва заметной росой, не совсем еще рассеялся. Молодой человек, сидевший в коляске, курил трубку и гневно повторял ямщику: «Пошел! Пошел же!», прибавляя к этому несколько известных национальных фраз.
Дорога эта стелется по крутому, возвышенному берегу Кубани, так что реки не видно. Вдали лежат безлюдные закубанские степи; на горизонте рисуются горы в вечной синеве. Мрачен их вид! Горы вдали наводят всегда уныние, взор не перекатывается по живописному разнообразию уступов, не наслаждается зрелищем очаровательных горных потоков, и воздух не навевает чувств доблести и отваги, которыми дышится в горах. Природа гор и жизнь их обитателей – все скрыто. Лишь горизонт заслонен мертвыми, однообразными массами.
Путешественнику наскучила дорога, надоело и браниться с ямщиком. От нечего делать он стал расспрашивать мужика о предметах, которые попадались ему на глаза.
– Что за столб на холме с камышовою крышей? И вот человек стоит около него, другой лежит, видишь – вон впереди? Вот и две оседланные лошади! Да это не черкесы ли? Говорят, у вас здесь тревога, меня не пустили ехать ночью, задержали в станице даже утром, черт знает до какой поры, – сказав это, проезжий стал вынимать пистолеты.
– Нет, барин! Это не черкесы, а линейные казаки на дневном бекете; стоит часовой и смотрит за Кубань; лежит его товарищ; а это их лошади ходят стреноженные; столб с крышею сделан для лета, чтоб от солнца был холодок.
– Да разве этот пикет не по случаю тревоги выставлен?
– Нет, он тут круглый год и всплошь по всей Линии, каждые две или три версты такие же.
– А ночью куда деваются эти казаки?
Уезжают на пост.
Проехав несколько верст, проезжий опять спросил:
– А это что за плетень на возвышенности? За плетнем видны крыши, вон там высокая каланча также с крышею: на ней человек стоит?
– Это пост, каждые семь верст такие же.
– Ну, а это что за лошади возле нас?
– Казачьи лошади, барин, целый день оседланные и встреноженные ходят около поста; вон там лежит казак в бурке и на аркане пасет своего коня – то табунный часовой.
– А эта канава зачем вокруг плетня и сверху хворост?
– Посты окопаны. По верху плетня прикрепляется сухой колючий кустарник, чтобы нельзя было перелезть.
– Ну, а эта высокая каланча – что такое?
– Это по-нашему вышка, на ней стоит часовой и смотрит за Кубань.
– А это что за крыши видны на посту?
– Одна – казарма, другая – конюшня, третья – сарай для орудия.
– Разве есть и орудия на этих постах?
– Нет, теперь не ставят без особой надобности.
– Много ли казаков на постах?
– Разно, от тридцати до сорока и более. Ведь им большой расход: ночью занимают секреты по Кубани, делают разъезды, днем конвоируют проезжих, возят бумаги.
– А это что за трое верховых перед нами едут?
– А кто их знает, казаки!
Три всадника ехали по дороге в бурках и башлыках [11].
Один был на серой, видной, с огромным [12] шагом лошади; за ним другие два рысью. Поравнявшись с постом, они повернули по тропе, которая вела к нему. В это мгновение из поста стремглав выехал верховой в черкеске, с обнаженным ружьем за плечом. Не удерживая коня, он спустился в глубокий овраг, выскочил из него и, доехав до всадника на сером жеребце, быстро остановил поворотом свою лошадь и с видом почтения что-то сказал ему. Тот, не обращая внимания, продолжал ехать.
Путешественник спросил у ямщика, что значило виденное.
– Это постовой урядник выехал рапортовать, а тот верно какой-нибудь кордонный пан.
– Как его зовут?
– Кто его знает! Этих панов мы не возим. Они ездят всегда на станичных почтах.
– А это что за почты?
– Во всякой станице держат по десяти троек, почтарь нанятый от станицы.
– Какой почтарь?
– По-вашему подрядчик, что ли?
Коляска въехала в станицу.
Путешественник велел везти себя на квартиру Пустогородова.
Выйдя из экипажа, он спросил Александра Петровича, ему отвечали, что нет дома, но скоро будет. Приезжий приказал отпрягать коляску, а сам остался ожидать хозяина. Квартира Пустогородова состояла из двух чистых комнат; стены, выбеленные мелом, придавали ей вид чрезвычайно светлый. В первой комнате, очень невеликой, которая была, однако, просторнее второй, стоял большой подушечный диван, несколько складных походных стульев и стол простого дерева и изделия; в одном углу находились чубуки с трубками. В другой комнате, против окна, на большом складном столе были чернильницы, перья, ножницы, несколько ножей, карандаши, писчая бумага, сургуч, печать и облатки; к стене прислонена была складная кровать, покрытая красивым вязаным шерстяным одеялом; вышитая по канве подушка лежала в изголовье.
У кровати стоял складной столик, на нем было несколько номеров русских и иностранных газет, сочинение Байрона, английский словарь, вторая часть сочинения Дюбуа о Кавказе, несколько сигар, сигарочница, фосфорические спички и футляр для часов. В этой комнате находились также три походных складных стула, к стене приделаны были полки, на которых лежало несколько больших портфелей и кипа журналов. Около кровати, на прибитом к стене персидском ковре, висели две шашки, двуствольное и одно черкесское ружье, пара европейских пистолетов, кинжал с поясом, несколько разновидных пороховниц, плеть и казачье богатое форменное офицерское седло. Несколько пустых мест доказывали, что не вся оружейная была налицо; у постели, на полу, разостлана была тигровая кожа. На противоположной стене висели два черкесских седла с бурочными чехлами.
Путешественник застал в первой комнате слугу Пустогородова и мальчика лет двенадцати в красных шальварах, в чевяках [13] и бешмете, перетянутом поясом, на котором висел кинжал; сверху была на нем темно-желтого цвета черкеска, а на голове кабардинская шапка. Прекрасное лицо и благородная осанка мальчика, родом тавлинца [14], обратили на себя внимание приезжего. Вскоре оно еще более привлечено было шестилетнею, в полном смысле очаровательною девочкой, которая вошла в комнату. На голове у нее была чалма темного цвета, желтая шелковая коротенькая рубашка виднелась из-под расстегнутого голубого шелкового бешмета, опушенного мехом, из-под рубашки выходили красные шелковые шальвары, чрезвычайно широкие, так что походили на юбку; ножки ее удивительной белизны оставались босые; для ходьбы она надевала туфли на двух каблуках, один у носка, другой у пятки; между ними находились небольшой колокольчик и два бубенчика, которые извещали издали о ее приближении – изобретение азиатской ревности! Женщины отвечают за подошву ног своих, в туфлях же слышно, когда и куда они идут. Девочка называлась Айшат. И она, и Дыду остались в плену под Ахулго и взяты были Пустогородовым на свое попечение.
Человек Пустогородова взглянул в окно, сказал: «Вот и Александр Петрович идет!» Приезжий выглянул и, не видя никого, спросил: «Где же?» – «Да вот его борзые бегут, сам верно к полковнику заехал».
Путешественник по привычке, желая поправить длинные волосы свои, причесанные a la moujik, стал искать по стенам зеркало, и не найдя его нигде, подумал: «Вот вандал! Даже зеркала в доме не имеет».
– Неужели у вас и зеркала-то нет? – спросил он, обращаясь к слуге.
– Как же-с, есть. Александр Петрович всегда сам изволит бриться, – отвечал слуга, подавая небольшое складное зеркало.
– Только для бритья; разве он в другое время не смотрится?
– Никогда-с.
Едва приезжий, совершенный денди, успел поправить свою прическу и запретил людям сказывать, кто он, как на двор въехал всадник на сером жеребце с двумя спутниками, которые проворно соскочили с коней. Один из них взял за повод серую лошадь и держал за стремя, покуда офицер медленно слезал, спрашивая: «Чья это коляска?» Ему отвечал: «Не могим знать». Другой взбежал на крыльцо и снял с него башлык и бурку. Между тем легавые и борзые собаки визгом приветствовали хозяина, отталкивая друг друга от рук его.
Александр Петрович вошел в комнату и в спальне своей нашел приезжего, который, кланяясь, подал ему письмо.
– От матушки! – сказал он и, взглянув на адрес и кидая письмо на столик, спросил: – Откуда едете?
– Из Крыма, в Грузию.
– Вероятно, по новому переобразованию края?
Путешественник молча любовался Александром, высоким, плечистым мужчиной, стоявшим пред ним в шапке. Лицо его было открыто и приятно; он не носил бакенбард; в глазах выражалась предприимчивость и решительность; одеяние состояло в простой туземной черкеске, ловко перехватывавшей стройный стан; обувь на нем была также туземная. Но приезжему не долго пришлось любоваться им; слуга стал отстегивать шашку, Дыду снимал три пистолета, заткнутые за пояс, между тем как сам Пустогородов вынимал из карманов часы, платок, кошелек и расстегивал пояс, на котором висел кинжал. Приказав вытереть хорошо оружие и разрядить пистолеты, он сказал: «Я весь промок, выкупался в Кубани». В самом деле, он был мокрехонек. Дыду, взяв оружие, вышел вон. Пустогородов обратился к приезжему со словами: «Извините, что при вас стану раздеваться». Сбросив с себя черкеску, бешмет, он надел халат и уселся на кровать, покуда человек его разувал. Айшат явилась с длинною трубкою; Александр Петрович, затянувшись дымом, поставил чубук около себя и, взяв на колени Айшат, стал ее целовать. Тавлинка обняла его обеими ручонками и спросила:
– Зачем так мокр твоя?
– Искал броду по Кубани; твои земляки хотят к нам прийти, надо знать, где смогут переправиться.
Когда человек разул Александра Петровича, он лег в постель и приказал послать к себе старшего урядника; между тем спросил водки, жалуясь на внутреннюю дрожь, и велел готовить стол к обеду. Айшат села возле него и играла усами, покуда он с заметной грустью распечатывал письмо матери своей. Прасковья Петровна начинала так: «Пишу к тебе, любезный!..» Необыкновенное выражение! Удивленный, он всматривался в строки, перечитывал их, желая убедиться, не чудится ли ему; но письмо действительно было начертано ее рукою. Он продолжал: «Любезный Александр! чрез брата твоего Николашу…»
Александр Петрович, устремив взор на путешественника, сказал:
– Николаша! Это ты?
– Я, – отвечал он лукаво.
– Ты приехал играть комедию?
– Я хотел видеть, узнаешь ли ты меня?
– Ты с ума сошел! Ведь я оставил тебя десятилетним ребенком и баловнем; а теперь передо мною двадцатипятилетний модник, чиновник с бородою. Да полно ломаться, поди поцелуй меня, видишь, я босой, не могу встать; впрочем, если не хочешь… – тут нахмурились брови Александра Петровича, – делай как знаешь, мы, казаки, не просим. Я вам – счастливцам света, матушке и тебе – ничем не обязан и кланяться не стану, отвергать также не буду; вы мне не нужны: я на опыте узнал это; многие бедственные, горчайшие годины прожил я без вас!..
При этих словах он опустился на подушку и держал письмо перед глазами, будто читая. Негодование к несправедливости матери и света овладело им; он ничего не видел, ничего не понимал; нравственные силы в нем замолкли; он чувствовал лишь несносное давление в груди; слышал только, как кровь ударяла ему в сердце и потом останавливалась, словно застывая в его жилах. Это трудное мгновенье казалось ему удушливою вечностью.
Николаша сначала оскорбился, что брат затронул его фашьонабельное самолюбие [15]; но вскоре кровь, кровь родства поработила в нем все прочие чувства. Он подошел к кровати и крепко поцеловал брата, несмотря на крик маленькой Айшат, которая ручонками своими старалась оттолкнуть приезжего. Александр Петрович с искренностью прижал к груди Николашу и сказал:
– Послушай, соперничества между нами быть не может: мы братья, носим одно имя. Предрассудки света не приковывают нас, по мнению, что между нами может существовать оскорбление, которое мы должны были бы смыть кровью; среди достоинств светских, я должен гордиться твоему счастию, точно так же, как ты должен показывать, что радуешься моему; даже и тогда, когда б мы чувствовали иначе – мы не можем не показывать этого перед светом, если не хотим подвергнуться общему суду и презрению. – Улыбаясь, он прибавил: – В женщинах разве могло бы быть между нами соперничество; но вот тебе доказательство, что и тут его не будет. – Он приподнял шапку и обнажил голову, совершенно седую, коротко обстриженную.
Александр Петрович взял опять письмо в руки и продолжал читать. Прасковья Петровна писала ласково, даже нежно; она обвиняла себя в несправедливости, в жестокости; благодарила старуху мать, что открыла ей глаза, и в заключение уговаривала Александра выйти в отставку и приехать усладить ее старость. Александр, всегда недоверчивый, подумав про себя: «Что-нибудь да под этим таится! Не проведут же они меня!», спросил у Николаши: долго ли он намерен гостить у него и как заехал сюда?
– Хотел тебя видеть, брат! Я еду в Персию, бог весть когда встретимся опять, погощу у тебя несколько дней. Да! Ведь у меня есть посылка к тебе от бабушки; только еще не разобрали вещей. Могу ли я остановиться у тебя?
– Разумеется, можешь; вон тебе та комната, здесь будет тесно.
Николаша вышел приказать своим людям выносить вещи из коляски. В это время вошел в комнату молодой человек красивой наружности, с выражением благородным, одетый в простую черкеску. Это был молодой горец, воспитанный в одном из кадетских корпусов и выпущенный в офицеры с прикомандированием к Кавказскому казачьему линейному войску. Он состоял в сотне у Пустогородова и был его закадычным другом.
– Здравствуйте, Пшемаф! Я хотел было за вами посылать – пора обедать.
– Верно, у вас нынче за обедом ветчина, что с таким нетерпением меня ждали, – смеясь отвечал черкес; потом промолвил: – Да, что это за модник к вам приехал?
– Это брат мой, – отвечал Александр, улыбаясь.
– В самом деле? Нет, вы шутите; он на вас совсем не похож. А что, хороший малый?
– Право, родной брат мой! А каков он, совсем не знаю; я его в первый раз вижу.
Николаша возвратился в комнату. Пустогородов сказал ему:
– Брат! Вот мой короткий кунак (приятель) Пшемаф, познакомься с ним.
Франт отставил ногу вперед, протянул нежную, белую ручку с длинными прозрачными ногтями и чопорно отвечал:
– Господин Пшемаф, очень рад иметь честь с вами познакомиться.
Черкес сильно, смуглою рукою ударил по протянутой ручке и сказал:
– Будемте знакомы!
Александр рассмеялся.
– Пшемаф! – заметил он, – если б ты меня слушался да мыл руки, так они были б у тебя так же чисты, как у брата.
Черкес вспыхнул.
– А на что мне такие руки? – отвечал он. – Прозументы разве ткать? Я их мою пять раз в день, по заповеди пророка; а теперь они черные потому, что я возился с вашими пистолетами здесь на крыльце: казаки нехорошо их разряжали.
Дыду пришел с шашкою, кинжалом и тремя пистолетами. Положив их на стол, он встал на кровать и повесил на стену шашку, походную трубку, зрительную трубу и ружье, принесенное за ним казаком; потом снял пороховницу, мешочек с пулями, прибойник и подал их Александру, который стал заряжать один пистолет, между тем как Пшемаф заряжал другие два. Когда это было кончено, Дыду положил пистолет, заряженный Пустогородовым, с кинжалом под его подушку, другие два повесил с прочим оружием.
Доложили о приходе старшего урядника.
– Пускай идет сюда! – отвечал Александр Петрович.
В комнату вошел высокий, сильный мужчина в черкеске, при шашке, с кинжалом у пояса, с Георгиевским крестом и бантом на груди, что доказывало троекратную заслугу доблестного знака, и с медалями за персидскую и турецкую войны, равно и штурмовою ахулговскою.
– Ступай к станичному начальнику, – сказал ему Александр Петрович, – и передай приказание полковника тотчас же выслать десять человек не служащих казаков на ближний пост для занятия ночных секретов у брода, открытого мной, – приказный на посту покажет его. Я вплавь переехал через Кубань и нашел на том берегу следы черкесов, искавших брода. Их было, должно быть, не более десяти человек, но зато напали на славный брод, по брюхо лошади не хватает. Сегодня или завтра надо непременно ожидать прорыва. Полковник приказал мне быть наготове с сотнею и ехать за Кубань; так смотри, чтобы у тебя было человек восемьдесят молодцев начеку и лошади на ночь оседланы. Да объяви – беда тому, кто опоздает выехать на тревогу. Те же, которые в деле всегда при мне, пускай ночуют здесь на дворе: жены их не станут очень горевать.
– Слушаю, ваше благородие! Только людей нельзя набрать.
– Да, полковник приказал сменить с постов недостающих людей в моей сотне, а вместо их послать туда прикомандированных из новых станиц, которых не велено брать за Кубань. Сколько их у нас?
– Было, ваше благородие, двести пятнадцать; да вряд ли все налицо.
– Где же они?
– Офицер пораспустил. Наверно не знаю, а стороною слышал, что сегодня утром человек двадцать домой ушли.
– А ты чего смотришь? Позвать ко мне хорунжего.
Урядник вышел.
Черкес с истинным, непритворным восхищением сказал:
– Александр Петрович! В самом деле, будет тревога? Вы возьмете меня с собою за Кубань? Славно подеремся!
– Нет, не возьму. Полковник приказал назначить для вас человек сорок; он, кажется, намерен послать вас по сакме [16]; впрочем, не стоит об этом говорить – бог даст, не будет и прорыва, а то, право, жаль лошадей – их совсем загоняли. Куда скучны эти беспрерывные тревоги!
Доложили об обеде. Не стану распространяться о нем: фазаны, олени, кабаны, осетры и другая лакомая рыба, овощи – все это в изобилии на Кавказе и за бесценок; вина также изрядные, нередко и хорошие, за умеренную плату. Поэтому вино пьется не рюмками, а стаканами.
Во время обеда явился казачий офицер, за которым посылал Александр Петрович. Он был видный собою мужчина, с наглым взором, одетый в форменную одежду. Бешмет его и все платье было в пятнах и совершенно полиняло.
– Здравствуйте, хорунжий! – сказал ему Александр Петрович. – Я вас не приглашаю за стол, потому что вы поститесь. Пожалуйте сюда… – и оба вышли в другую комнату. Александр затворил за собою дверь.
– Послушайте! Долго ли вы будете своевольничать? У себя в станице делайте с сотней что хотите – это не мое дело; но здесь, когда вы вошли в состав моей команды, я не позволю делать все, что вам вздумается. Вы пришли сюда с двумястами пятнадцатью казаками: извольте мне сказать, сколько их теперь у вас налицо?
– Много в расходе, капитан! То нарочными отправлены, то на постах…
– Не о том я вас спрашиваю. Сколько вы отпустили казаков домой?
– Сегодня двадцать человек.
– А кто вам позволил?
– Помилуйте, капитан! Я обязан вникать в положение казака моей сотни; я взял наскоро из станицы кого попало, а теперь отпустил худоконных, бедных и одиноких; вместо же их велел выслать доброконных и достаточных.
– Во-первых, вы не должны были отпускать ни одного человека без моего ведома, потому что вы здесь покамест не начальник сотни, а офицер, состоящий под моею командою. Я ваш сотенный командир – пора вам службу знать, то есть исполнять, потому что вы ее знаете. Во-вторых, вы отпустили не худоконных и не бедных, а тех, кто заплатил вам по рублю серебром. За что извольте сдать вашу часть Пшемафу, а сами останетесь в моей сотне без команды. О вашем же поступке я представлю. Только за этим и звал я вас.
– Напрасно, капитан! Я не брал по рублю серебром с казака; вам ложно донесли. Если когда-либо и воспользуюсь – войдите же в мое положение: вот год, как я произведен; обмундировка мне стоила 350 рублей; за лошадь заплатил 250 рублей – она в пух уже разбита; мундир – вы видите. Прошлую осень я конвоировал генерала 28 верст; скакали во всю конскую мочь; солнце палило, пыль вилась столбом; когда мы подъезжали к станции, пошел сильный дождь, бурки я не смел надеть – и вот как отделал мундир; между тем к инспекторскому смотру должен сшить новый – так от нас требуется. Состояния у меня вовсе нет, это вам известно, а должен одеть, прокормить жену и четверых детей; получаю я всего 16 рублей ассигнациями годового жалованья: как прикажете быть? Хорошо вашему старшему уряднику, который смолоду догадался, отперся, что знает грамоту – теперь ему и горя мало! Хотят представить в офицеры – нельзя: грамоте не знает, а он лучше меня пишет, только скрывает, не хочет быть офицером. Он предпочитает остаться бедным, да честным. Воля ваша, вы можете меня представить, но войдите же в мое положение!
– Это не мое дело. Я должен иметь вверенную мне часть в надлежащем виде, иначе могу сам попасть под ответственность. Полковник будет иметь право взыскать с меня. Теперь судите сами, приятно ли за других отвечать? Дай бог и за себя не подвергаться неприятностям!
– Что ж мне делать, капитан? Помогите.
– Я не могу и не желаю вам помочь; ваш поступок довольно черен, чтобы подавить всякое сожаление. Советую вам идти просто к полковому командиру, объявить ему, что я отнял у вас часть, сознаться в вине своей и просить на этот раз пощады. Наш полковой командир почтенный человек, с ним стыдно не быть откровенным. О поступке вашем, во всяком случае, он будет знать, ибо я никак этого не скрою.
Александр Петрович вышел в столовую и, обращаясь к черкесу, сказал:
– Пшемаф! Тотчас после обеда вы примете от хорунжего людей; да велите старшему уряднику приготовить от меня донесение к полковому командиру о числе казаков, своевольно отпущенных офицером, и просить распоряжения полковника, чтоб возвратили нам людей.
Потом он поклонился офицеру, который вышел вон.
– Какой мошенник! – заметил Александр Петрович Пшемафу.
– Как вам его не жаль? – отвечал последний, – он так беден, к тому же молодец в деле.
– Вы мне не говорите о нем. Я знаю, он беден и из лучших боевых офицеров в полку, так пускай же будет и честен, а не взяточник. Прошу вас поверить казаков его сотни как можно точнее и объявить старшему уряднику, ежели он скроет хотя одного человека – дешево со мною не разделается. Между тем в нашей сотне прикажите узнать обо всем подробно; наш старший урядник – вот честный человек, и в деле никому не уступит!
– Отчего ж этому бедняку не помогает полковой командир? – спросил Николаша.
– Чем прикажешь? – отвечал Александр, – ведь с казачьего полка ровно ничего не получишь; между тем как жалованье одинаковое, столовых денег втрое меньше, чем в регулярных полках.
– Тотчас после обеда Пшемаф ушел.
Николаша, оставшись с братом наедине, велел подать посылку, привезенную им от бабушки, – это был портфель. Александр Петрович вынул из него два письма: одно от отца, совершенно дружеское; другое от бабушки, в котором старуха уведомляла, что, получив согласие зятя своего, она назначает ему в наследство имение, бывшее приданым матери и переданное старухе по купчей. Она писала об истинной любви к нему отца, но прибавляла, что мать, по-видимому, имеет что-то против него. Это обстоятельство вынудило старуху на назначение, которое она делает своему имению, из опасения, что из отцовского ему ничего не достанется, хотя зять и уверяет, что этого не случится. Она советовала Александру все-таки не надеяться на имение отца. К письму была приложена копия с духовного завещания старухи, засвидетельствованная Петром Петровичем.
Прочитав все, Александр лег в постель: его клонило ко сну. Николаша вышел в другую комнату и также лег; он долго думал на кровати, как бы удостовериться, справедлива ли молва об увлекательности линейных казачек?
Под вечер оба брата сидели и пили чай, когда к ним вошел низенький старичок, в простой черкеске, украшенный сединами и ранами. Радушие, изображавшееся в его чертах, внушало какое-то невольное уважение к нему. Александр, вскочив с места, почтительно сказал ему:
– Извините, полковник, что застали меня в шубе: после давешнего купания никак еще не согреюсь. Представляю вам брата моего, который сегодня приехал.
Старик наречием, доказывавшим германское происхождение, отвечал:
– Очень приятно познакомиться! А вы, Александр Петрович, напрасно не пьете сбитню; кроме того, ложка рому, и все прошло бы. Под Лейпцигом я заболел лихорадкою, пил и английский пунш, и немецкий глинтвейн – ничто не согревало. Я командовал гусарским эскадроном. Гусары меня любили. При рапорте вечером: «Вахмистр, – сказал я, – я болен; скажи адъютанту, у меня лихорадка». – «Слушаю, ваше благородие! Позвольте вылечить». – «Ну лечи, черт возьми!» Он взял стакан водки, насыпал туда горсть перцу и сказал: «Кушайте на здоровье, ваше благородие!» – «Черт возьми, – отвечал я, – какое на здоровье – я издохну!» Выпил стакан, сильно опьянел и заснул. Просыпаюсь, вахмистр тут подает стакан сбитню с ромом и опять говорит: «Кушайте, ваше благородие, на здоровье!» – «Фу, черт! Разве на смерть», – сказал я и выпил; опять заснул; с тех пор всегда здоров. Нет, немецкие, французские и английские лекарства все вздор, – одно русское хорошо. Право, славное лекарство! – И добрый старик уселся.
Александр приказал подать чаю.
– Полковник! – сказал он, – я сегодня погонял хорунжего, он верно жаловался вам на меня. Хотя мне до него дела нет; но я не хотел подвергнуться вашему негодованию за то, что людей своевольно распустили.
– Фуй! Вы чем виноваты? Я четырнадцать лет командую этими казаками и знаю, что во всем свете нет подобного войска; но и знаю их блохи: мы после поговорим; такой шпектакель должен кончиться в полку между своими. Ведь этот хорунжий прехрабрый; он нужен в полку, а надо между тем и проучить его. Если представить теперешний поступок, с ним будет беда, – а я вот что думаю сделать: за другую вину отниму сотню и представлю его на шесть месяцев в Капыл, покормить комаров. За казаками, которых он отпустил, я уже послал и назначу их на целый месяц без очереди на кордон. Как вы думаете, Александр Петрович?
– Я думаю, для казаков это будет тяжело. Верно, домашний быт требовал их присутствия, поэтому они и решились откупиться деньгами. Если же хорунжего послать в Капыл, это совершенно его разорит.
– Фуй! Поверьте, бедный казак не заплатит, чтобы его отпустили; он усерден к службе, притом ему нечего дать; зажиточные лентяи одни откупаются. Хорунжего – черт возьми! И сухаря пожует, так не беда! Если по бедности дозволить им мошенничать, особенно во время тревоги, тогда вся служба пропадет: офицеры станут грабить свои сотни пуще черкес. В случае прорыва вы, Александр Петрович, с восьмьюдесятью казаками скачите за Кубань наперерез хищникам; туда же понесутся сотни прибрежных соседственных станиц верхней и нижней; у нас останутся только малые команды. Пшемаф с сорока казаками отправится по сакме, а из остальных я составлю резерв и, если нужно, пришлю к вам с одним орудием нашего полка. Говорят, у неприятеля сильное скопище; вероятно, прежде нескольких дней они не предпримут ничего важного, а теперь разве небольшие партии в сто или двести человек – и могут покуситься на грабеж.
– Давно ли вы на Линии, полковник? – спросил Николаша у старика.
– Четырнадцать лет.
– И не надоело вам?
– Что же? Смолоду здесь скучал, да делать было нечего: служить в России я не мог.
– Почему же, полковник?
– О! Я там шпектакель наделал. Наши отчаянные гусары много терпели от командира; наконец, потеряв терпение, вздумали его похоронить; заказали гроб, подушки для орденов и все нужное на погребение. В один летний день процессия прошла мимо его балкона; он послал узнать, кого хоронят, и получил в ответ: такого-то, то есть его самого. Разумеется, процессию до кладбища не допустили, а поворотили на гауптвахту; после этого никому из нас оставаться в корпусе нельзя было; кто вышел в отставку, а кто в перевод; я же попал на Кавказ. Когда явился к Алексею Петровичу [17], он тотчас же представил меня в командиры этого полка. Однако прощайте, господа, я заговорился, у меня есть дело дома.
Полковник ушел. Николаша спросил у брата, куда хочет старик послать провинившегося офицера?
– В Капыл, – отвечал Александр, – это пост в Черноморском войске, посреди камышей, где такая гибель комаров, что самые загрубелые черноморские казаки и те изобретают всевозможные средства, чтоб укрыться от этих ничем не одолимых насекомых; туда посылают за наказание офицеров и нижних чинов.
Вскоре явился Пшемаф с полковым лекарем. Поставили стол. Подали карты и сели играть в преферанс. Старший Пустогородов, когда вошел урядник с рапортом, оставил карты, отдал все нужные приказания в случае тревоги и возвратился к игре.
Николаше очень не нравились собеседники брата. Привыкший уважать людей по богатству, по наружному блеску, по почестям, он не мог ценить этих простых, безвестных людей, проводящих жизнь в добродетелях без тщеславия, в доблестях без суетности. В его глазах никакой цены не имела жизнь этих людей, жизнь без блеска, соединенная с трудами, с ежечасными опасностями, с забвением собственных выгод. Эти простые стоические нравы казались ему невежеством. Ему не приходило и на ум, что уменье обманывать скуку, не предаваться порочным страстям в такой безотрадной, безвестной глуши есть уже великая добродетель, нравственный подвиг, заслуживающий полное уважение человека мыслящего.
На улице послышалась повозка, свист и понуканье ямщика. Александр Петрович заметил неосторожность путешественников, ездящих по ночам во время тревоги и подвергающих себя опасности. Едва проговорил он, как к нему вошел священник лет по крайней мере шестидесяти; высокого роста, свежий и сильный мужчина. Густые и совершенно белые волосы, тщательно расчесанные, стлались по широким плечам его; большие черные глаза, осененные густыми бровями, сияли умом и чистотою помышлений. Седая, окладистая борода закрывала верхнюю часть его груди. Осанка его внушала почтение; одежда состояла из опрятной рясы, без всякой пышности.
– А, Иов Семеныч! – воскликнул Александр, пожимая руку старика. – Откуда неожиданный гость? Поздненько! Жаль, не слыхали, что я сейчас говорил насчет поздних путешественников в тревожное время.
– Я не виноват, мне дали лошадей совсем присталых [18], насилу четыре версты в час ехал.
Преферанс кончился. Покуда готовили стол к ужину, отец Иов и Александр говорили наедине. Почтенный пастырь пользовался всею доверенностью капитана и знал все его семейные дела. Александр дал ему прочесть полученные письма.
Николаша от нечего делать расспрашивал лекаря: откуда он, кто он, где воспитывался и пр.
Лекарь Кутья, березовский уроженец из Сибири, был сын городского священника. Воспитание его началось в отцовском доме и кончилось в Тобольской семинарии, откуда, по вызову желающих, он отправился в Московскую медико-хирургическую академию. Кончив курс, он был произведен в лекаря и назначен в Кавказский корпус. Лекарь Кутья сознавался в своих ограниченных познаниях вообще и в медицинских науках в частности, но не менее того слыл одним из лучших медиков, потому что был человек добросовестный, усердный в отправлении своей обязанности и очень внимательный к больным. Частою практикою он приобрел большую опытность в лечении болезней, свойственных климату, которыми наполнялись госпитали и лазареты Кавказской линии. Нравственные добродетели его состояли в посредственном уме, большой начитанности, трезвости, бескорыстии и строгой честности. Главный недостаток нрава его была строптивость. Во всех сношениях с людьми ему чудилось неуважение или желание его оскорбить.
Наши собеседники сели за ужин. Николаша и лекарь не прекращали разговора, который сделался общим. Любопытен был рассказ сибиряка о езде на собаках, о прогулках на лыжах по льдистым степям, о том, каким образом в Березове хлеб заменяется осетровым тельным, как толкут эту рыбу в порошок и делают из нее продовольственные годовые запасы; как жилые дома заносятся снегом и тем предохраняются от стужи. Дабы сразить своих слушателей противоположностью, лекарь заговорил вслед за этим о благодатном крае, известном под названием Сибирской линии, о прекрасном климате и богатстве природы, как, например, Бухтарминской крепости, превозносил радушие и простоту нравов жителей; коснулся только слегка Восточной Сибири, знакомой ему лишь понаслышке, и в заключение с гордым видом сказал:
– Но я говорю о временах былых, истекших, о которых я все-таки с удовольствием и гордостью вспоминаю.
Теперь Сибирь, мой родной край, преисполненный богатейшей будущности, неимоверно двинулся вперед. Здесь, на Кавказе, я встречал людей степенных, бывших в той стороне позднее; рассказываемое ими превосходит все ожидания. Они-то, полные благодарности к Сибири, называют ее милым отечеством, а сибиряков – дорогими соотечественниками.





