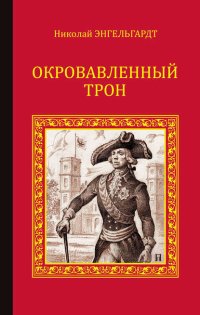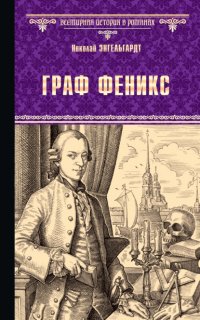
Читать онлайн Граф Феникс. Калиостро бесплатно
- Все книги автора: Николай Энгельгардт
© ООО «Издательство «Вече», 2021
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2021
ООО «Издательство «Вече»
http://www.veche.ru
Об авторе
Николай Александрович Энгельгардт, русский писатель, поэт, публицист, литературный критик, родился в Санкт-Петербурге 3 (15) февраля 1867 г. Отцом его был Александр Николаевич Энгельгардт – ученый-агрохимик, профессор Санкт-Петербургского земледельческого института, автор популярных в конце позапрошлого века «Писем из деревни» (кстати, не раз переиздававшихся в СССР и Российской Федерации), исповедовавший народнические взгляды. В какой-то степени это мировоззрение отразилось и в жизненной философии сына. Мать, Анна Николаевна, в девичестве Макарова, была писательницей, переводчицей, филологом. Литературный дар, безусловно, был передан сыну матерью. Заметное влияние на Николая оказал старший брат Михаил, исключенный за участие в студенческих волнениях из университета и сосланный в Сибирь. В зрелом возрасте Михаил выступал то как переводчик, то как популяризатор науки, то как независимый самостоятельный мыслитель. К произведениям философского жанра принадлежат такие его сочинения, как «Прогресс как эволюция жестокости», «Вечный мир и разоружение», «Вредные и благородные расы» и др.
Николай Энгельгардт закончил Смоленскую гимназию и поступил в Лесной институт, но бросил его, занявшись литературным творчеством. Он писал под псевдонимом Гард стихи и сказки. Первый поэтический сборник выпустил в 1890 г. Книга получила высокую оценку К.Д. Бальмонта, назвавшего Энгельгардта «истинным поэтом», «мечтателем», «умницей». А Бальмонта трудно упрекнуть в излишней пристрастности, потому как в 1894 г. Николай сочетался браком с бывшей женой поэта Ларисой Михайловной Гарелиной (Бальмонт). Наряду с поэтическим творчеством развивался и публицистический талант писателя. Он сотрудничал в «Санкт-Петербургских ведомостях», «Вестнике иностранной литературы», «Неделе», «Русском вестнике», суворинском «Новом времени» (1897–1904); а в 1906 г. очень недолго был главным редактором еженедельника «Новая Россия». Всего, как вспоминал Н.А. Энгельгардт позднее, он сотрудничал до октября 1917 г. в 25 журналах. В 1902–1903 гг. он выпустил двухтомную «Историю русской литературы XIX столетия». Выпуск книги был встречен литературной общественностью неоднозначно ввиду пристрастности ряда оценок и оригинальности критических взглядов автора. «История» даже вызвала контрвыпад со стороны Владимира Добролюбова, посчитавшего, что задето имя его брата, Н.А. Добролюбова, и других писателей-разночинцев.
Взрыв русской революции 1905–1907 гг. подтолкнул Н.А. Энгельгардта к монархистам и националистам; некоторые исследователи даже объявляют его союзником черносотенцев. Он был одним из учредителей Русского Собрания (РС), а в 1906 г. около полугода исполнял обязанности председателя Совета РС. После Первой русской революции, и даже немного раньше, Энгельгардт обращается к жанру исторического романа. В 1908 г. в «Голосе Москвы» он начинает публиковать роман «Московское рушение. Из эпохи Петра Великого», но публикация оборвалась по окончании второй части книги. Среди произведений писателя стоит отметить роман из эпохи императора Павла I «Окровавленный трон», «Екатерининский колосс» и «Граф Феникс». Романы и повести писателя в основном публиковались в журнале «Исторический вестник». Издавать их отдельными книгами Энгельгардт почему-то не стал, кроме повести «Огненная купель», выпущенной в 1916 г. В Советской России пробивался случайными заработками: в 1918–1919 гг. читал лекции в Институте живого слова в Петрограде, потом работал в Политпросвете, выступая с лекциями по истории литературы на вечерних курсах, работал на заводе, участвовал в переписи 1920 г. С 1921 г. стал «ученым библиографом» при фундаментальной библиотеке Государственного института опытной агрономии, поскольку имел диплом агронома. Последним его печатным трудом была статья «Мелодика тургеневской прозы» в сборнике, посвященном И.С. Тургеневу (1923). Одно время писатель увлекся сочинением драматических произведений, но лишь одна его пьеса – «Любительница Голубой Мечты» (1917) – была поставлена на сцене Передвижного театра (1922). Попытки заинтересовать серьезную труппу (Александрийский театр), которые он предпринимал вплоть до 1935 г., терпели по разным причинам неудачу. В 1934–1939 гг. писатель работал над мемуарами, отрывок из которых был опубликован только в 1998 г. в 24 томе исторического альманаха «Минувшее». Умер Николай Александрович Энгельгардт в суровую блокадную зиму 1942 г… В тот же год оборвалась жизнь и его дочери Анны, второй жены Н.С. Гумилева.
А.Г. Москвин
Избранная библиография Н.А. Энгельгардта:
«Стихотворения» (1890)
«Окровавленный трон» (1907)
«Екатерининский колосс» (1908)
«Граф Феникс» (1909)
«Давние эпизоды» (1911)
«Огненная купель» (1916)
Предисловие
Мы хотим ввести вас, почтенней читатель, в «подполье» XVIII века, познакомить с таинственными сообществами, отростки которых опутывали Европу. Движущей силой этих сообществ, связанных клятвами, странными ритуалами, узнававших друг друга при помощи секретных слов, знаков, рукопожатий, было веяние духа времени, предчувствие кружения старых форм жизни. Россия не осталась чуждой этому движению. И в ней работали таинственные строители. В золотой, сверкающей бриллиантами толпе вельмож северной Семирамиды[1] скользили странные тени, люди пасмурные, одетые в темное платье, сторонящиеся оргий. Эти тени собирались где-то в «подполье»… И великий поэт той эпохи выразил внутреннее противоречие блестящего царствования в беседе предостерегающего голоса с сибаритом, покоящимся на лоне сладострастия.
- Проснися, сибарит![2] Ты спишь
- Иль только в сладкой неге дремлешь,
- Несчастных голосу не внемлешь…
- «…Мне миг покоя моего
- Дороже, чем в исторьи веки;
- Жить для себя лишь одного,
- Лишь радостей уметь пить реки,
- Лишь ветром плыть, несть чернь ярмом;
- Стыд, совесть – слабых душ тревога!..
- Нет добродетели! Нет… Бога».
- Злодей, увы! – И грянул гром.
Да, гром грянул, молния пала, но, сокрушив трон Людовика XVI, она миновала престол урожденной Ангальт-Цербстской принцессы. Екатерина спокойно кончила свои дни среди бар-сибаритов и безгласных рабов. Но именно монархи и принцы крови стояли во главе тех тайных обществ и орденов, целью которых было уничтожение всяких титулов, всякого кастового неравенства. Ослепленные, обманутые, эти принцы вместе со многими аристократами брали в руки символический молоток и надевали символический передник грядущего царства буржуазии и демократии.
Преображение Европы готовилось издавна, предчувствия его мы читаем у поэтов и драматургов XVIII века. Творец изящных, игривых оперетт-комедий Фавар[3] вдруг произносит со сцены устами невольницы гарема пророческие слова, обращая их к партеру с беспечными пудреными маркизами и аббатами, к ложам, где улыбаются принцы и сеньоры Франции: «Все ваши величия – маскарад, детская игра – все ваши предприятия; когда упадет занавес, императоры и подданные – все окажутся равными и товарищами».
Огромную роль тайных обществ и орденов XVIII века в подготовке революции признает, например, Луи Блан[4]. Накануне французской революции сообщество, составленное из людей всех наций, религий, состояний, связанное клятвой хранить тайну и условными символическими знаками, – масонство – распространилось по всей Европе. Масоны внушали смутный страх наиболее подозрительным правительствам. Папа Климент XII предал их орден анафеме; их преследовала инквизиция; их гнали в Неаполе; в 1779 году, когда происходит действие нашего романа, с кафедры собора в Экс-ла-Шапель доминиканец Гренеман и капуцин Шуф в проповедях называли франкмасонов «предшественниками Антихриста», а Сорбонна в лице факультета теологии объявила их «достойными вечных мук», но в дни Вольтера и энциклопедистов уже не решились предложить целение материальным огнем. А принцы, правители и аристократы во имя толерантности и просвещения становились во главе ордена: в Германии то был Фридрих Великий, во Франции гроссмейстером ордена еще в 1772 году стал герцог Шартрский, будущий Филипп Эгалите, друг Дантона… На страницах масонского катехизиса говорится, что масонство не только имеет покровителями и членами «сыновей наших королей», в списках своих оно вообще видит имена величайших принцев Европы и прекраснейших гениев мира, каковы Фридрихи, Гельвеции, Вольтеры, Лаланды и т. д. Большинство будущих героев революции были масонами, как указывает Луи Блан: Тара, Камилл Демулен, Дантон, Петион – члены ложи «Девяти сестер» и др. Но особое развитие приняли тайные общества, когда в 1776 году двадцативосьмилетний профессор канонического права Вейсгаупт создал «систему иллюминизма», цель которой была низвергнуть все политическое и гражданское устройство мира и «сделать из рода человеческого – без различия наций, званий, профессий – одну счастливую и добрую семью».
Цели иллюминизма были близки к масонству, в катехизисе которого на вопрос: «Скажи мне, кто такой масон?» – следовал ответ: «Свободный человек, верный законам, брат и друг королей и пастухов, когда они добродетельны»… Доктрина естественного закона, проповедуемая Руссо, вдохновляла и Вейсгаупта, и маркиза де Сен-Мартена. Титулы и происхождение не имели значения. «Священное тройное число» – «свобода, равенство и братство» – лежало в основе каббалистики[5] всех этих сообществ: масонов, иллюминатов, мартинистов, сведенборгианцев, тамплиеров[6], ноехитов, розенкрейцеров и тех «эклектических систем», которые скоро составились из всех «отростков» странного древа тайны, укоренившегося во многих государствах и раскидавшего ветви на весь земной шар.
Правда, гонимые отцы иезуиты тоже организовали свое масонство, четыре высших градуса которого соответствовали четырем разрядам самих членов Иисусова ордена, а Вейсгаупт как воспитанник иезуитов, хотя и проникшийся к ним неугасимой ненавистью, внес все приемы отцов в свою организацию. Тогда явилась какая-то таинственная, вездесущая администрация, о которой так часто говорят писатели XVIII века: «братья исследователи», «вкрадывающиеся братья» шпионили во всех центрах Европы, при всех дворах, во всех учреждениях имели «своих людей»: неуловимые доносчики быстро, как по телеграфу, передавали из одного места в другое секреты, выведанные при дворах, в коллегиях, канцеляриях, судах, консисториях. В столицах проживали какие-то таинственные путешественники; их настоящее имя, происхождение и звание, цель их пребывания, источник огромных средств, которыми они располагали, были загадкой для всех. То были медики, алхимики, вызыватели духов и мистагоги.
Эти агенты «подполья» при каждом переезде в новую страну меняли имя, часто распуская слух о своей смерти в старом облике. По всему миру летал таинственный, легендарный феникс, сгорал и возрождался вновь. В гуманистические идеи, в политический фанатизм, в восторженный мистицизм возрождения, освобождения и преображения мира и человека влилась при этом муть шарлатанства, пройдошества, честолюбия и алчности к влиянию и золоту. В числе этих агентов «подполья» XVIII века был и знаменитый Калиостро, непостижимая смесь гения и низости, знаний и невежества, великодушия и пройдошества, авантюрист и миссионер, жрец тайны, алхимик и врач, «умеющий читать сверкающую книгу небес». Калиостро появляется в различных странах под разными именами. В 1779 году он явился в Петербург и прожил здесь около девяти месяцев. Этот именно эпизод и взят темой нашего романа.
В петербургском обществе тогда господствовал фривольный и насмешливый атеизм во вкусе Вольтера. Обряды церкви соблюдались лишь для приличия, «для людей». Императрица-вольтерьянка, поклонница и воспитанница методически ясной и поверхностной доктрины энциклопедистов, либералка для Европы, феодалка у себя дома, хитрая и ловкая, не терпела мистической темноты. Но в Гатчине находился «малый двор» ее сына. Уже из одного духа противоречия все отвергаемое «большим двором» имело успех при «малом». Мистицизм и таинственное были в высшей степени близки причудливому, странному, мечтательно-романтическому характеру Павла Петровича.
Письма цесаревича к митрополиту Московскому, красноречивому Платону[7], обыкновенно благословлявшему аристократических дам, знаменуя (крест) благоуханной живой (розой), письма эти показывают в Павле Петровиче глубоко религиозного человека. Он стремился к Богу с экстазом, с пламенным мистицизмом. Это настроение Павла делало его отзывчивым к тем течениям европейской мысли, которые вели к увлечению оккультными знаниями, к духовидению, к общению с другими мирами. Рядом со скептической системой, и отчасти как реакция на нее, всех объяла тогда странная жажда чудесного. Сухой рационализм, безличный, абстрактный Бог философов не отвечали страстным исканиям идеала, буре закипающих революционных чувств. Мистицизм особенно развился в Германии. Лафатером[8] и Сведенборгом[9] увлекались все. Возникли бесчисленные мистические ассоциации и оккультные общества. Но дух века превращал их в горнила грядущего европейского переворота. Секта теософов, принявшая средневековое наименование Розы и Креста[10], в лице Шрепфера, открывшего в 1772 году ложу в Лейпциге, привлекла множество адептов; идеи розенкрейцеров привил великой ложе Берлина теософ и шарлатан Веллнер.
Это странное состояние умов перешло и в Россию. Доктрины теософов проникли из Германии в замки курляндских баронов: там занимались вызыванием духов, астрологией, алхимией, магией. Далее мистические учения распространились в Петербурге и Москве. Здесь увлеклись мечтаниями Сведенборга. Еще около 1765 года знаменитый адепт магии, составитель гороскопов и вызыватель духов граф де Сен-Жермен[11] волновал чудесными историями своими аристократию Петербурга. В 1779 году Петербург посетил Месмер[12] и увлек многих темным учением о мировой жидкости, о цепи живых существ, о токах, скопляемых сильной волей человека. Только и говорили, что о чудесных исцелениях, совершенных Месмером. Скоро масонские ложи чрезвычайно размножились. П. Дешамп в одном из своих сочинений утверждал, что в 1787 году в России считалось 145 лож, а в Польше – 75. Особенно сильно было влияние на русское масонство Сен-Мартена[13]. Книга его «О заблуждении и истине» была переведена, хотя и с пропусками многих мест, на русский язык.
Мечтательный, экзальтированный великий князь Павел Петрович увлекся мистикой: он любил мистерии, оккультные ассоциации, адептов и книги, проповедовавшие эти идеи. К тому же все принцы той эпохи знались с очарователями. Шведский король был напитан мистикой и окружен ясновидящими; его брат герцог Зюдерманландский по ночам в пустынных парках совершал таинственные заклинания. Интимным другом Павла Петровича, ведшим с ним сердечную переписку, был прусский король Фридрих-Вильгельм, всецело преданный теургии[14] и герметическим наукам, который, едва вступив на престол, окружил себя магами, духовидцами и теософами. Два авантюриста высокой марки, Веллнер и Бишофвердер, наставляли наследника Фридриха Великого в оккультных науках. Влияние розенкрейцеров и роль престидижитаторов[15] в Европе была огромна. Павел Петрович, несомненно, находился под сильнейшим влиянием берлинских иллюминатов. Кроме того, во время заграничного путешествия он посетил в Швейцарии Лафатера и потом переписывался с ним. Что касается Сен-Мартена, то он был весьма близок с августейшим семейством герцогов Вюртемберг-Монбельяров. Сен-Мартен имел в числе наиболее усердных учеников многих членов высшей аристократии. Одним из многочисленных русских друзей основателя секты мартинистов, приобретенных им в Лондоне, был Кошелев. Последний и представил Сен-Мартена ко двору замка Монбельяров; августейшая родительница Марии Федоровны[16] прониклась к нему обожанием. Философ, русский вельможа и принцесса завтракали втроем в гроте Этюпа и вели сладостную беседу.
Насколько велико было влияние герметизма[17] и теософии на русскую аристократию, видно из того, что оно продолжалось и в XIX веке, даже еще в царствование императора Николая Павловича. «Влияние энциклопедистов на двор Екатерины II миновало, уступив место разного рода попыткам, – говорит в своих воспоминаниях граф В.А. Соллогуб. – Возникли идеологи, мыслители, искатели социальной правды и даже философского камня, что, впрочем, одно и то же… С трудом верится, чтобы целое поколение отборных умов могло углубляться не только в изучение халдейской премудрости[18] и формул умозрительной символистики, но еще серьезно занималось алхимическими препаратами, основанными на Меркурии и имеющими целью создать золото.
После тестя моего, графа Михаила Юрьевича Виельгорского, осталось несколько тысяч книг герметического содержания. Большая часть этой драгоценной библиотеки поступила в императорскую публичную библиотеку… Некоторую часть я имел случай отыскать в амбаре курского имения вместе с разными каббалистическими рукописями и частными письмами масонского содержания. Это собрание… указывает на переход герметизма к иллюминизму, к мистицизму, к пиетизму, а впоследствии дело довели к скептицизму, к либерализму, к гегелизму, к коммунизму и к нигилизму, уже мечтавшему о терроризме. Любопытно было бы проследить, как каждый новый ток мышления возбуждал восторг и казался последним словом отвлеченной мудрости».
Действительно, идеи мистиков-масонов XVIII века содержали начала всех последующих «токов мышления», по меткому выражению графа Соллогуба. Так, просматривая в публичной библиотеке инвентарную опись книг графа Виельгорского, мы нашли латинский трактат – полную систему философского нигилизма, изданный в Венеции в 1734 году.
Что касается коммунизма, то в собрании французских и голландских масонских песен, первое издание которого вышло в 1766 году, находим такой гимн: «Когда под властию Астреи невинность направляла наши стопы, более не видно было битв и земля не поглощала мертвецов. И вот причина тому, братья: весь человек был истинным масоном! Великий и малый, чтобы быть счастливыми, без всякой жалобы и недовольства делили тогда между собою блага, производимые природой…»
Коммунистический принцип полюбовного раздела продуктов труда между работниками, между великими и малыми ярко выражен в этой старинной песне.
Николай Энгельгардт
Часть первая
…Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного… Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова[19] в своих Записках говорит, что он был шпион; впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный.
Пиковая дама
Маркиз Пеллегрини и сиер Бабю
В первых числах мая месяца 1779 года в седьмом часу утра по Невской перспективе от старой Московской дороги мимо литовских огородов шел человек, не возбуждавший ничьего внимания, тем более что в столь ранний час некому было любопытствовать. Столица северной Семирамиды покоилась еще беспечным сном. Попадался лишь рабочий люд, охтинские поселянки в их чухонских нарядах спешили с кувшинами молока, да хозяйки попроще поднялись, чтоб закупить с возов раньше других припасы с уступкой для почина. Даже слуги богатых домов теперь спали, равно как и чиновники, хотя по регламенту им уже пора было чинить перья и доставать бумаги. Сладко спали и молодые гвардейцы в караулах, беспечно совлекши с себя амуницию и примостившись на мягких креслах и софах, присланных им на абвахты и в кордегардии попечительными домашними.
В счастливое время царствования мудрой Астреи бог Морфей[20] вместе с Фортуной занимали главное место в капище избалованных петербуржцев. Лишь приказная тля, ябедники, крапивное семя в халатах, с подвязанными зубами, с суконными мешками под мышкой и с чернильными пузырьками на шнурках, зацепленными за пуговицы, спешили в присутственные места, в палаты правосудия ловить столь же мелкотравчатых ранних клиентов, да просители и просительницы: вдовы, инвалиды на деревянных ногах, а также заимодавцы пробирались на пышные крыльца под фронтоны вельмож и бар, имея в виду проникнуть в передние, лишь только подымутся ленивый привратник и жирный дворецкий.
Приятное весеннее утро бодрило и веселило идущих по Невской перспективе. Свежий ветерок тянул со взморья и перебирал листы старых берез и лип, в два ряда росших вдоль длиннейшей столичной улицы.
Человек, не возбуждавший, как уже сказано, ничьего внимания, шел под деревьями мерным, торжественным и неспешным шагом. Среднего роста, он был необыкновенно широк и дюж в плечах, и вообще его можно было назвать квадратным – и большая голова на бычьей, короткой и толстой, шее, и грудь, и спина – все у него казалось квадратным. Поярковая черная шляпа с тремя загнутыми краями на манер пирога расстегая не имела никаких украшений, кроме небольшой розетки из лент зеленого и красного цвета. Локоны сырцового парика были упрятаны сзади в черный кошелек. С плеч спускался черный же длинный женевский плащ. Под ним виден был синий, грубого сукна, поношенный бастрак – род куртки, запрятанной в короткие штаны. Серые чулки обтягивали замечательно толстые икры и коленки не по росту коротких ног. Огромные ступни покоились в башмаках с квадратными носками и стальными пряжками. Человек этот обладал порядочным животом и необыкновенно белыми, красивыми, аристократическими, с тонкими пальцами кистями рук, украшенных дорогими кружевными манжетами и перстнями. Руки совсем не соответствовали его вульгарной фигуре.
Как сказано, шел человек медленно, выступая важно, причем обращал лицо свое к небу, навстречу утренним лучам весеннего солнца и опираясь на короткую трость с агатовым набалдашником. Повернутое к солнцу лицо незнакомца можно было хорошо разглядеть. Оливковый отлив бритых щек и губ и большие темные глаза обличали в нем южанина, а весь облик – иностранца, вернее всего, итальянца. Лоб его был широк, с сильно развитыми надбровными шишками. Черные брови выгибались двумя правильными дугами. Вообще верхняя часть лица его была красива и благородного склада. А нос – приплюснутый, как у готтентота[21], с широкими круглыми ноздрями. Небольшой рот сложен сердечком и окружен складками жирных щек и двойного подбородка, соединявшегося с шеей отложениями жира. Нижняя часть лица поэтому имела крайне незначительное и даже пошлое выражение. Когда большие темные глаза иностранец обращал к небу и солнцу, то созерцательная мечтательность делала его взгляд мягким. Но едва опускал взор к предметам земного горизонта, зрачки его расширялись, как у кошки, и глаза принимали подозрительное и скаредное выражение.
Незнакомец дошел наконец до Владимирской, где помещался Обжорный ряд, посещаемый преимущественно простым людом. Тут сидели у лотков бабы, предлагая пироги с печенкой, луком, перцем, жареную рыбу, вареное мясо; стояли обмотанные тряпьем медные бадьи со сбитнем, и лихие сбитенщики зазывали виршами неприхотливых потребителей горячего, пенистого, пахнущего мятой и полынью народного напитка; из горшков, прикрытых собственными телесами дебелых торговок, можно было получить в поливанную плошку суточных щей с приложением ковриги решетного хлеба[22], угощались и ситником с патокой. Трудовой народ, чернорабочие, со следами их профессии на платье, дворовые, крепостные ремесленники на оброке и разный затрапезный и шляющийся люд густо толпился в Обжорном и подкреплялся на две копейки медью ранним завтраком, согревая желудки перед началом дневного труда или безделья.
Свернув с перспективы, незнакомец смешался с простонародной толпой столь естественно, как бы он сам принадлежал к ней. Видимо, он был бы своим в любой толпе европейского города, будь то матросы приморского порта или каменщики, или другой рабочий люд. Он раздвигал стоявших ловкими, привычными движениями дюжих плеч, не возбуждая у окружающих ни удивления, ни внимания к своей особе. Скоро он очутился у лотка с масляными, пахучими пирогами. На грубом своеобразном французском языке, дополняя речь быстрыми, одушевленными жестами тонких белых пальцев, незнакомец отлично изъяснял бабе-пирожнице, столь же замасляной, как и ее товар, что ему требуется, и был понят, видимо, совершенно удовлетворительно. Баба подала ему огромный пирог и плеснула из горшка в плошку горячих щей. Присев на тумбу, мужчина принялся с видимым удовольствием насыщаться неприхотливой снедью.
Насытившись, он вытер рот и засаленные пальцы тонким дорогим платком, заплатил что требовалось, предложив торговке взять монету из горсти медных, протянутых ей на ладони, и затем спокойно выбрался из толпы и двинулся дальше по перспективе. Он шел, не останавливаясь, мимо магазинов мод, мимо кирок и домов с гербами, мимо палат бар, свернул затем на Мойку с берегами, заросшими зеленой муравой и укрепленными рядами вбитых внизу черных свай. И, наконец, достиг площадки перед Синим мостом с гранитными башенками и покрашенными в синюю краску цепями и балясинами деревянных перил. Здесь производился торг людьми, как семьями, так и в розницу, несмотря на воспрещающий последнее указ человеколюбивой императрицы, а также и наем вольных и отпущенных господами на оброк.
Сей род невольничьего рынка посреди столицы поразил бы не привыкшего к ужасающим злоупотреблениям крепостного права странными и часто трагическими картинами. Тут важные управляющие выбирали из толпы подходящих людей на черные работы, а так же и выискивали искусных ремесленников, музыкантов, живописцев, танцоров; покупали девушек, осматривая их с истинно восточной бесцеремонностью: степной помещик искал годных в актрисы для заводимого им в подражание важным барам домашнего театра, а может быть, и для своего гарема; старая барыня в сопровождении ливрейного лакея выбирала мастериц-рукодельниц, кружевниц и белошвеек; проигравшийся щеголь явился с заспанным малым – отпущенным с ним из дому провинциальным слугой и, поставив его в ряд, делал вид, что пришел совсем не для продажи человека, – и это показывало, что в обществе начинало распространяться понимание гнусности рабовладения. Но большинство продавало и покупало совершенно спокойно, с обычным при всякой продаже одушевлением, торгуясь, расхваливая или пороча товар, уступая и набавляя, как будто речь шла не о живых человеческих душах. Да это и были лишь «ревизские души».
Душераздирающие сцены происходили, когда разлучали супругов или мать с ее детьми или продавали старуху-бабушку отдельно от внучат…
Незнакомец, казалось, с негодованием наблюдал за происходившим, прохаживаясь по площадке между оживленными группами покупающих и продающих живой товар. Вдруг громкое французское восклицание раздалось за его спиной:
– Господин маркиз! Господин маркиз Пеллегрини! Вас ли я вижу?
Названный маркизом незнакомец живо обернулся. Перед ним стоял одетый в ливрейный кафтан с большими гербовыми пуговицами, но при шпаге, с пышным жабо и манжетами, в пышном парике с плюмажем невысокий, тощий и носатый человек с двумя крупными бородавками на лбу и на щеке. Он радостно улыбался и потирал руки.
– Сиер Бабю? Вот счастливая встреча! – сказал маркиз, широким жестом протягивая руку господину в кафтане.
Тот вложил в нее свою, и несколько мгновений они стояли, обмениваясь рукопожатиями и многозначительно улыбаясь.
– Давно ли вы пожаловали в Петербург, господин маркиз? – спросил наконец Бабю.
– Не слишком давно, – уклончиво отвечал Пеллегрини.
– Не слишком! Ха! Но слишком много воды утекло с тех пор, как мы встречались с вами в Париже! – оживленно говорил Бабю. – Колесо фортуны несколько раз оборачивалось для меня то верхом, то низом, и вот я очутился в этой странной столице просвещения и варварства.
– И что же, вы хорошо устроились здесь, сиер Бабю?
– Не могу пожаловаться. Я имею весьма почетное положение и выгодное место.
– А именно?
– Я состою главным кондитером при поварнях господина Бецкого[23]. Это один из первейших вельмож Петербурга и лицо, приближенное к императрице, – важно объяснил Бабю.
– Знаю, – кивнул маркиз. – Очень рад, что вы нашли применение своим кулинарным талантам и знаниям. Но помните, в Париже, когда я встретился с вами, иные намерения вас увлекали, любезный мой Бабю. Вы искали возможности приблизиться к источнику любомудрия и стать в ряды благотворителей человечества, работая на преображение мира по планам высшего художества.
– Да, да! Я все это помню, господин маркиз, и былые стремления не угасли у меня в груди. О, если б вы знали, как меня тяготит необходимость быть слугой! Но вы знаете, что у меня престарелые родители, братья и сестры. Я добрый сын, добрый отец, добрый муж, добрый друг и добрый гражданин, господин маркиз. И вот я принужден был направиться в варварскую Россию, где многие соотечественники, как я знал, нажились возле расточительных вельмож. Отложив в сторону любомудрие и благотворение, я занялся кондитерским искусством.
– Впрочем, честное ремесло не может мешать великому делу любомудрия, – сказал успокоительно Пеллегрини. – Тем более что я слышал о Бецком как о вельможе просвещенном.
– Да, это почтенный старец. Он творец всех благотворительных учреждений для девиц, для кадетов, Академии художеств, Воспитательного дома. Но, конечно, скромный кондитер Бабю не может привлечь внимания сего вельможи: он не подозревает о высоких стремлениях того, кто готовит к его столу торты, кремы, сооружает сахарные и карамельные замки и воздвигает храмы из желе и мусса!.. Впрочем, здесь много соотечественников среди прислуги богатых домов, и мы составляем свой клуб, где отдыхаем за поучительными беседами и невинными увеселениями. Многие из нас деятельно служат музам. Но сами вы, господин маркиз? Если позволите спросить, с какой целью пожаловали в Петербург?
Пеллегрини с важностью взял кондитера под руку и заговорил внушительно:
– Милейший мой сиер Бабю! Вы знаете, что лишь высшие цели благотворения человечеству руководят мной. Взор служителей истины и добродетели, строителей великого храма свободы, равенства и братства обращен на сию несчастную страну, где сгустел мрак невежества, где дикое самовластие опирает стопы о тлетворное рабство. От сих-то неизвестных благотворителей прибыл я сюда с высокими полномочиями, чрезвычайными силами, наставлениями, рекомендациями, чтобы потрясти царство застоя, внести сияние света во тьму, пролить елей на раны страждущих, объединить людей доброй воли, сокрушить или хотя бы ослабить цепи, лежащие на рабах, и преподать самой властительнице порабощенных миллионов великие истины! Взгляните, сиер Бабю, – продолжал он воодушевленно, – взгляните вокруг себя! Здесь, не стесняясь, идет торг людьми. Спокойно продают и покупают живые души человеческие! Взор мерзится сим скаредным и преступным зрелищем! И это совершается в столице могущественнейшей монархии, которую прославляют философы века, прельщенные ее золотом и лестью. Пусть бы пожаловал сюда господин Вольтер, который расточал передо мной столько похвал русской государыне во время моей беседы с ним перед отъездом в пределы Севера!
– Вы совершенно правы, господин маркиз, в своем человеколюбивом негодовании, – сказал кондитер. – Но все же я посоветовал бы быть осторожнее в речах. Вас могут подслушать и донести, – опасливо озираясь, предостерег он.
– Но кто же понимает здесь французский язык? – возразил маркиз.
– Кто? Да вот хотя бы этот бледный молодой лакей! – указал Бабю на стоявшего в двух шагах бедно одетого юношу. – По выражению его лица я заключаю, что он вас слышал и понял.
– Пусть! То, что я сказал, повторю везде. Заметьте, сиер Бабю, что меня охраняет некое тайное преосенение. Земные власти и враги мне не страшны. Имею врагов ужаснейших иного мира. С ними борьба труднее. Но и против тех я вооружен, ибо я есмь человек. Ничье происхождение не превышает сего происхождения. Я древнее всякого существа в натуре. Ибо я – человек! Я существовал прежде рождения всякого семени, однако явился в мир после всех них. Но тем я был выше всех сих существ, что им надлежало рождаться от отца и матери, а человек не имел матери. Сверх того человек всегда должен был сражаться, дабы прекратить беспорядок и привести все к единице, а их дело – повиноваться человеку. Но как сражения, к которым обязан он был, могли ему быть только опасны, для сего был он покрыт бронею непроницаемой и сверх того вооружен копием, составленным из четырех металлов. Сие копие имело свойство жечь, как огонь, и одним разом ударяло в два места. Но человек прельстился и пал! Тогда, лишася позорно всех своих прав, низвержен был в страну отцов и матерей, где с того времени и находится, сетуя и сокрушаясь о том, что видит себя смешанным с прочими существами натуры. В сем плачевном состоянии потерял он копие, и самая броня исчезла от него. Однако отец его, наказывая таким образом, не хотел лишить его всей надежды и совершенно предать его ярости врагов; тронут будучи раскаянием и стыдом его, обещал возвратить ему прежнее состояние, если только употребит к тому тщание, и броню и копие потерянные. Сего-то несравненного оружия исканием человеки должны заниматься! Искатель не утомится, найдет его. Указан ему путь земной к месту хранения и дверь в хранилище! Стучащему – отворят! Ищущий – найдет!
Произнося все эти непонятные слова с необычайным одушевлением и важной напыщенностью, Пеллегрини обращал взоры свои к небу, а при последних фразах несколько раз топнул ногой о землю.
Сиер Бабю слушал его с величайшим вниманием и благоговением, хотя едва ли понимал хоть слово.
– Все суть гиероглифы[24]! – как бы самому себе, в изъяснение произнес кондитер, когда маркиз наконец умолк.
Бедно одетый юноша, обративший на себя их внимание, между тем, очевидно, вслушивался в речь Пеллегрини, который затем вдруг повернулся к нему и, шагнув, положил руку на плечо юноши, устремив пронзительный взор прямо в лицо смутившегося парня.
В Итальянских улицах
– Молодой человек, вы понимаете по-французски? – спросил затем маркиз.
– Понимаю, – смущенно отвечал юноша тоже по-французски.
– И слышали многое из сказанного мной? – продолжал допрос маркиз.
– Я имею уши, чтобы слушать, и глаза, чтобы видеть, – пожимая плечами, отвечал юноша. – И ваша милость изволили изъясняться так громко, как будто находятся среди глухих.
– Эге, вы, я вижу, острый слуга! Мне такого и надо. Ведь вы пришли сюда наниматься в услужение?
– И в этом ваша милость не ошиблись. Я вольный человек и даже польский шляхтич. Обучался наукам. Но бедность и необходимость помогать больной сестре моей заставляет меня искать должность слуги.
– Очень хорошо. А я именно с этой же целью явился на сей невольничий рынок: чтобы нанять расторопного молодого человека, который мог бы выполнять разнообразные поручения. Судьба посылает мне вас, любезный Казимир. Ведь, не правда ли, вас зовут Казимиром?
– Совершенно верно. Но как ваша милость узнали мое имя? – изумился молодой человек.
– Э, любезнейший, я могу прочесть нечто большее, если вы позволите мне коснуться вашей головы. – И, говоря это, маркиз быстро сунул руку под поношенную шляпу Казимира и мгновенно ощупал весь его череп. – О, я читаю, как в открытой книге! Вы большой честолюбец, любезный Казимир! Ого, вы даже мечтали о духовной карьере… потом о светской… Погодите! Что это? Вы хотели быть кардиналом и папой… О, еще выше! Вы метили даже на польский престол… Krol Poniatowski – kiep zaski Boskiey[25]. Чем он лучше вас? Природный шляхтич на крыльях золотой свободы может вознестись до высочайших степеней…
– Боже мой, как ваша милость догадались? – смущенно пробормотал Казимир. Это были сокровеннейшие думы несчастливца, утешавшегося фантазиями в горькой действительности.
– Вы много бедствовали… Покушались даже покончить с собой… Писали стихи… Ага! Безнадежная любовь к недоступной аристократке…
– Кто вы? – выворачивая голову из-под быстрых пальцев Пеллегрини, со страхом вскричал Казимир. – Ваша милость – пророк?!
– Я показал вам ничтожнейшее из моих искусств, любезнейший, – с важностью сказал Пеллегрини. – Кто я – вы скоро узнаете. Я беру вас к себе в услужение. О цене мы сговоримся. Вы не будете обижены. Покамест вот вам задаток, – опуская руку в карман и затем протягивая ее Казимиру, говорил маркиз.
Казимир протянул руку и ощутил на ладони три новеньких блестящих червонца. Казимир стал ловить руку маркиза, намереваясь поцеловать ее, но тот отдернул.
– За ничтожную щепотку блестящего металла вы хотите, Казимир, поцеловать мне руку! Что бы вы сделали, если б я открыл вам дверь всех месторождений металлов драгоценных? Научил бы спускаться на дно голубых вод, где образуются совершеннейшие перлы?! Но довольно о сем. Отныне вы приобрели господина, а я приобрел слугу.
– Падам до ног паньских! – вскричал Казимир. – Вы найдете во мне вернейшего исполнителя всех ваших распоряжений.
– Посмотрим. Пока же расстанемся. А в понедельник утром приходите в Итальянские улицы. Отыщите дом придворного костюмера синьора Горгонзолло, а в нем спросите квартиру графини ди Санта-Кроче. Запомните хорошенько. А теперь прощайте.
Маркиз в сопровождении сиера Бабю отошел, провожаемый низкими поклонами нанятого им слуги.
Некоторое время они безмолвно пробирались среди торгующихся групп, наемников и рабов. Выйдя на набережную Канавы, маркиз стал прощаться с кондитером.
– Очень рад, мой достопочтеннейший сиер Бабю, что встретил вас, – произнес он приветливо.
– Надеюсь, что я еще буду иметь счастье видеть вас, господин маркиз, – ответил кондитер с жаром, – и насладиться вашей ученой и возвышенной беседой?
– Да, да! Все люди доброй воли должны соединиться! Я еще увижусь с вами, увижусь, – рассеянно говорил маркиз, как будто занятый обдумыванием важного предмета.
– Могу я спросить вас, господин маркиз, где вы остановились?
– Сие излишне. Пребывание мое непостоянно. Я сам навещу вас, любезнейший Бабю.
– Величайшая честь для меня! Дом Бецкого укажет вам всякий. Спросите меня в службах, и я…
– Хорошо, любезный сиер Бабю, хорошо, – согласился поспешно маркиз. – Я найду вас. А теперь пока расстанемся.
С этими словами маркиз кивнул кондитеру и быстро пошел по направлению к Итальянским улицам.
Эти улицы, узкие и застроенные высокими для того времени двух- и трехэтажными каменными домами, содержимыми весьма грязно, хотя и украшенными кариатидами, вазами, балконами и другими архитектурными ухищрениями, сосредоточивали в себе почти всю итальянскую колонию Петербурга.
Певцы, певицы, живописцы, танцоры и танцорки, искусники всякого рода, кончая фокусниками и директорами собачьих комедий, все ютились здесь, занимая соответствующие своему положению помещения в разных этажах, в подвалах, на чердаках и в задних дворах. Запах итальянской кухни, обильно сдабривающей кушанья оливковым маслом и луком, распространялся в обеденные часы. Здесь можно было услышать говоры всех провинций Италии и наблюдать экспансивные семейные сцены пылких южан. Из открытых окон неслись фиоритуры певцов и певиц, с балконов – напыщенная декламация классических трагедий. Дома здесь принадлежали солидным коммерсантам-итальянцам: банкиры, булочники, торговцы надгробными памятниками воздвигали здесь здания, как-то напоминавшие своей архитектурой ремесло их владельцев.
Маркиз Пеллегрини вступил в одну из этих улиц, когда молодой полицейский офицер, стоявший на углу, закивал ему, улыбаясь и делая рукой знаки. Тот подошел на зов.
– С добрым утром, господин полковник, – приветствовал его полицейский офицер по-немецки.
– С добрым утром, господин фон Фогель, – отвечал на том же языке маркиз, названный теперь полковником.
– Однако сколь ранний час выбираете вы, любезнейший доктор, для своих прогулок, – продолжал, приятно улыбаясь, фон Фогель.
– Ранние весенние часы – лучшее для сего занятия время. К тому же день мой столь занят и принадлежит стольким страждущим, что я не имею иного времени для моциона.
– Да, да, вы совершенно правы, полковник, вы совершенно правы. Я только что проходил мимо вашего дома и видел: двор полон ожидающими вас больными. Хвост стоит на лестнице и даже на улице.
– Целить страждущих людей есть предназначение мое, господин фон Фогель, – важно ответил человек, названный полковником и доктором. – Обладая огромным наследственным состоянием моих предков, замками и поместьями как в Германии, так и в Испании, будучи во всем обеспечен и к тому же скромностью личных потребностей избавлен от излишних на себя расходов, всецело предался я безвозмездному врачеванию несчастных.
– Высокий подвиг, полковник! А смею спросить, вы начали служить прямо в испанских войсках?
– Да, я поступил в них волонтером. Но именно зрелище полей сражений, крови, ран, трупов, госпиталей и всего ужаса нашего ремесла заставило меня выйти в отставку и заняться медициной.
– И где же вы проходили ученый курс, полковник?
– Мой милейший фон Фогель! Я слушал курсы медицины в Саламанке, в Падуе, в Париже. Но сии курсы только убедили меня в ничтожестве ученой медицины и презренном шарлатанстве ученых докторов, на трупах думающих изучить живое тело, лечащих внешние проявления болезней, не зная и не понимая Архея, обитающего храмину тела человеческого, сего микрокосмоса[26], и движений его, от первоначального Движителя макрокосмоса исходящих. Познав все, чему учат в университетах и академиях, понял я, что не знаю ничего. Мог бы я сие невежество прикрыть многими дипломами, докторской мантией и беретом. Я сего не сделал. Я разорвал и бросил в огонь шарлатанские знаки мнимого знания, данные мне невеждами, именующими себя учеными докторами. И самый прах отряс я с ног своих и ушел…
Полковник испанской службы смолк и как бы углубился в размышления.
– Куда же вы ушли, почтеннейший доктор? – не дождавшись продолжения, спросил заинтересованный рассказом полицейский чиновник.
– Куда? На Восток, да! – поднимая голову и обращая глаза к небу, ответил доктор-полковник. – Там, в Медине, я провел восемьдесят лет у ног некоего мудрого старца и познал великие тайны, переданные мне с тем, чтобы я безвозмездно целил страждущих всюду, где встречу их, – а где нет страждущих?! Все человечество стонет в узах рабства! Зло и страдание царят на этой бедной, мрачной планете.
– Восемьдесят лет! Возможно ли сие, господин полковник? – с сомнением вскричал фон Фогель. – На вид вам не дашь более сорока.
– На вид! О, мирозапутанные странники юдоли плача! На вид! Вы обо всем судите по внешности, потому что суд ваш и не идет далее внешности. Но полно о сем. Не все ли равно, где, когда и во сколько лет я приобрел мои знания, если помогаю болящим, целю немощных, не взимая за то никакой платы?
– Совершенная истина. Вы не похожи на прочих приезжих докторов и врачевателей, которые здесь изрядно наживаются, – сказал полицейский офицер.
– Изрядно наживаются? – живо переспросил полковник испанской службы и врач. – Кто же именно? Скажите. Я отлично знаю всех шарлатанов Европы, выдающих себя за медиков.
Говоря это, он устремил глаза, до сих пор блуждавшие по весеннему небу, на ближние предметы, и взор его принял подозрительное, скаредное выражение. Глаза его забегали, как высунувшие нос из норы и нюхающие воздух мыши. Но это продолжалось лишь несколько мгновений. Полковник вновь воздел очи к небу и принял вдохновенную и мечтательную осанку.
– Кто именно, хотите вы знать, из лечащих иностранцев? Да вот хотя бы господин Месмер, уехавший на днях. Можно сказать, двор и вельможи сошли с ума от него, и теперь все только и бредят токами, вдохновениями, влияниями и живыми цепями, составляющимися из человеческих тел в их соприкосновении. Господин Месмер собрал здесь обильную жатву и оставил несколько пламенных последовательниц.
– Так господин Месмер уже уехал? Вы это наверное знаете? – переспросил полковник.
– Как же не знать, если обо всяком отъезжающем из столицы за границу обязательно трижды сообщается в «Ведомостях»!
– Я этого не знал. Так господин Месмер уехал! Должен я, однако, по совести сказать, что сей муж, хотя и не получил тех высших тайн великого врачевания человечества, которые мне открыты, однако исполнен многими силами и добродетелями. Но вы упоминали о его последовательницах. Кто же они?
– Господин Месмер принят был в Гатчине, и, как слышно, фрейлина цесаревны Катерина Ивановна Нелидова прониклась его учением. А затем и госпожа Ковалинская, супруга правителя дел князя Григория Александровича Потемкина[27], стала погружаться в месмерический[28] сон и в том сне произносить прорицания, подобно древней Сибилле[29].
– Скажите, господин фон Фогель, кто еще из иностранцев занимается здесь врачеванием?
– А вот хотя бы проживающие на Большой Морской у его сиятельства графа Остермана братья Пелье, французские глазные лекари. Объявили, что они искусство свое ежедневно подтверждают, возвращая зрение многим слепым.
– Презренные обманщики и шарлатаны! Слепцы, ведущие слепцов и вместе в ров низвергающиеся! А еще кто?
– Из Парижа зубной врач Шоберт лечит зубы от удара воздуха.
– Низкий плут и мошенник!
– Однако он весьма хорошо зарабатывает. Но, конечно, больше всех наш российский искусник.
– Кто это такой?
– О, простой российский мужичок, даже неграмотный – Ерофеич. Он лечит и простых, и вельмож одинаково удачно своего рода эликсиром, который даже и получил название «ерофеича». Он им натирает и внутрь дает…
– Сей простец, может быть, один что-либо знает, – с важной снисходительностью промолвил доктор-полковник. – Истина нередко благоволит и открывается смиренным и младенцам. Но скажите, что обо мне говорят в столице?
– Слух о вашем бескорыстии, полковник, и весьма удачном врачевании разошелся и достиг даже высших кругов. Но сие может принести вам неприятности. Многие доктора на вас в претензии и находят недопустимым, чтобы лицо, не имеющее ученой степени, занималось врачеванием. Так что вы напрасно разорвали ваши дипломы, полковник!
– Я это знал! Во всех столицах мира сии жадные невежды подвергают меня гонениям. Безвозмездность моя – вот что их возмущает! Сии книжники, взявшие ключ разумения и сами не входящие и других не впускающие, готовы побить камнями того, кто лечит даром, нарушая обычаи их гнусной касты! Но сие мне не страшно. Я всюду имею невидимых покровителей.
– Из петербургских докторов особенно враждебен вам домашний доктор князя Потемкина. Но я дам вам против него в руки оружие. Мы, полицейские, знаем многое и отовсюду получаем неожиданные сведения. Так о сем докторе узнана следующая история…
Тут полицейский офицер, улыбаясь и краснея от свойственной немцам целомудренности, приблизил губы к уху полковника и что-то стал ему шептать. Тот вдруг резко и неприятно засмеялся.
– Каков голубчик, а? – заключил Фогель свой рассказ. – Ну, я заговорился с вами. Больные ждут вас, а меня призывают обязанности службы. Но очень хотел и я, полковник, навестить вас в свободные часы и побеседовать с вами. Я происхожу из бедной, но честной дворянской семьи из Лифляндии, получил образование, хотя и домашнее, но достаточное. Необходимость заставила меня перейти из полка на полицейскую службу. Но я всегда чувствовал влечение к естествоиспытанию, к химии и медицине. Если бы вы не отказались посвятить меня хотя бы в начатки вашего искусства, я сбросил бы этот мундир и отдался врачеванию.
– Очень рад буду видеть вас у себя, любезный фон Фогель, – покровительственно отвечал полковник испанской службы. – Заходите ко мне… – Он ненадолго задумался. – Приходите через четыре дня… Да, да! Когда у нас новолуние? Да, приходите в полночь через четыре дня.
– В полночь, полковник? – озадаченно переспросил офицер.
Но доктор уже повернулся и мерным, величественным шагом пошел по Итальянской.
Камердинер Потемкина
В воротах и во дворе дома, где обитал полковник и врач, еще полчаса тому на площадке у Синего моста опознанный как маркиз Пеллегрини, действительно толпились люди разного звания, пола и возраста, одержимые самыми разнообразными, но преимущественно хроническими недугами. Все они с нетерпением ждали появления бескорыстного доктора, вот уже третий месяц лечившего и бедных, и богатых, никому не отказывая ни в советах, ни в лекарствах, и притом ни с кого не беря ни копейки. В ожидании его пациенты рассказывали друг другу случаи разных чудесных исцелений безнадежных больных, от которых отказывались все доктора.
В то время как доктор подходил с одной стороны улицы к воротам, с другого ее конца подкатил кабриолет, запряженный парой вороных. В нем сидел толстый человек, весьма пестро и роскошно одетый. Жилет, кафтан, шляпа, табакерка, перстни, трость, пряжки на башмаках – все было по последней моде. Он сам правил, но сзади кабриолета, между красными огромными колесами и рессорами, в особой сидейке помещался негр в ливрее. Появление господина в кабриолете произвело сильное впечатление на пациентов, толпившихся у ворот.
– Не здесь ли живет вольнопрактикующий врач, полковник испанской службы господин Фридрих Гвальдо? – спросил барин из кабриолета, остановив мощной десницей своих черных буцефалов[30].
– Врач Гвальдо живет здесь, и он к вашим услугам, – сказал только что подошедший полковник на довольно чистом русском языке.
– Вы господин Фридрих Гвальдо, вольнопрактикующий врач? – переспросил толстяк, переходя на испанский язык.
– Именно я, – отвечал полковник по-испански.
– В таком случае, – несколько отодвигая свою тушу и освобождая рядом с собой место, достаточное разве лишь для десятилетнего ребенка, сказал барин властно, – в таком случае потрудитесь сесть со мной рядом и последовать со мной.
– Очень хорошо, сударь, – отвечал спокойно доктор, – но с кем я имею честь разговаривать?
– Вы меня не знаете? – надувая щеки, с удивлением спросил толстяк. – Впрочем, вы иностранец и недавно еще в столице Российской империи. Я испанский камердинер князя Потемкина. Я при самой особе светлейшего! – многозначительно проговорил испанец, поднимая руки с вожжами, бичом и тростью, зажатыми в чудовищном кулаке.
– Очень хорошо, господин камердинер. Но а что же вам от меня нужно?
– Что? – пожал плечами толстяк. – Я уже сказал вам. Садитесь и едемте со мной.
– Куда и на какой предмет?
– Зачем вам это знать? Разве вам того не довольно, что сам светлейший изволил прислать за вами кабриолет с личным особы своей камердинером? Что же вы медлите?
– Мне совершенно этого недостаточно. Изъясните, зачем я понадобился князю?
– Ах, Боже мой! Ведь вы – врач. От вас, конечно, и потребуют врачевания. Но если хотите знать, то вот в чем дело. Младенец племянницы светлейшего, фрейлины Варвары Васильевны, супруги князя Сергея Федоровича Голицына, флигель-адъютанта императрицы, недомогает. Врачи объявили дитя безнадежным. Прослышав о ваших успешных врачеваниях, светлейший посылает за вами. Садитесь скорее, едемте!
– Вы видите, господин камердинер, – произнес невозмутимо полковник, указывая на толпящихся в воротах пациентов, – меня здесь ожидают многие страждущие. Кроме того, отпустив их, имею еще до вечера несколько обязательных визитов в дом к тяжело болящим. Итак, передайте князю, что сейчас прибыть к нему никак не могу.
– Эге, почтеннейший. Хоть вы и знаете свое ремесло, но раз удостоились быть позванным светлейшим, то оставьте свои уловки. Всякий знает щедрость князя Потемкина. В случае успешного лечения он вас осыплет золотом.
– Здесь много свидетелей, – холодно отвечал Гвальдо, – что я лечу и бедных, и богатых совершенно безвозмездно. Земные сокровища для меня сор и паутина. Если бы я пожелал, неиссякаемые реки золота пролились бы на меня! Кроме того, имею я обыкновение являться к вельможам мира сего только по личному их зову. Итак, если княгиня Голицына и ее светлейший дядя желают, чтобы я пользовал их болящего ребенка, пусть супруг княгини пожалует ко мне лично и пригласит меня. А засим прощайте, господин камердинер. Не имею времени для дальнейшей беседы с вами!
Говоря это, Гвальдо вошел в ворота своего дома.
Тщетно толстяк взывал к нему из кабриолета:
– Господин Гвальдо! Господин Гвальдо! Постойте! Погодите! Как же так пренебречь толиким вельможей?!
Но Гвальдо не отозвался, он ушел во двор, и пациенты толпой повалили за ним.
Камердинер Потемкина произнес несколько испанских ругательств, ударил бичом коней и покатил прочь от дома дерзкого врача.
Графиня ди Санта-Кроче
Едва полковник Фридрих Гвальдо вступил во двор своего дома, как его окружили пациенты, прося о помощи и торопясь рассказать о своих недугах, кажется, на всех языках Европы, так как тут были лица разных национальностей пестрого населения Северной Пальмиры. Полковник, однако, на немецком языке изъяснил, что в этот день приема у него не будет, так как в настоящий момент небесная констелляция, сиречь положение звезд, не благоприятствует врачеванию. Ответ сей понимавшими по-немецки был переведен остальным и выслушан с величайшим благоговением.
Врач вежливо поклонился и поспешно скрылся на одной из лестниц, выходивших в узкий, сырой, колодцеобразный и достаточно зловонный двор итальянского дома. Лестница, по которой подымался Гвальдо, была тоже темна и смрадна, с узкими, выщербленными каменными ступенями, со сводами, мрачными нишами, толстым столбом, вокруг которого следовало карабкаться наверх. Держаться можно было только за веревку, продетую в кольца, закрепленные в стене, и заменявшую перила. Поднявшись на третий этаж, выше которого был только чердак, господин Гвальдо толкнул ногой дверь и вступил в небольшую переднюю. Из внутренних покоев донеслись к нему звон струн и прекрасный женский голос, певший итальянский романс:
- Тихий ветерок,
- Пролетая около прекрасной,
- Скажи ей, что ты – вздох,
- Но не говори – чей…
Пиччикато[31] ритурнели последовало за первым куплетом романса. И тут господин Гвальдо довольно приятным и отработанным баритоном запел второй куплет:
- Прозрачный ручеек,
- Если ты встретишься с нею,
- Скажи ей, что ты – слезы,
- Но не журчи о том, кто их льет…
С последними словами куплета господин Гвальдо распахнул дверь и, сияя улыбкой, вступил в обширную комнату, роскошно убранную коврами, гобеленами, мягкой мебелью, с большим окном, выходившим на крыши соседних строений. Оно было открыто, и через него обильно лился солнечный свет и врывалось свежее дыхание весеннего ветра. На подоконнике стояло множество горшков с цветущими розами. Ароматные, цветущие деревца в кадках стояли и в разных местах покоя.
На диване полулежала женщина в легком кружевном домашнем наряде, распахнутом на груди. Она была не первой молодости, но поразительной красоты. Черные кудри рассыпались на ее классической головке, покоившейся на подушках, налитые плечи и грудь, лебединая шея – все казалось взятым у античной нимфы. Пристальное исследование при столь ярком утреннем свете обнаружило бы немало изъянов во внешности красавицы: взор больших черных глаз ее был явно утомлен жизнью, полнота членов начинала переходить пределы совершенства. Но, вероятно, вечером она еще могла поражать мужчин своей яркой итальянской красотой.
В руках женщины была гитара, струны ее перебирали прелестные тонкие пальцы. Одна ножка свешивалась с дивана, раздвинув легкие одежды, и открывалась до колена. Золотая туфелька с красным каблучком упала на ковер, и можно было любоваться изяществом ее маленькой ступни.
Войдя в покой к сей прелестнице, Гвальдо направился прямо к дивану и хотел привлечь к себе женщину, но та резко отстранилась от него, и лицо ее выразило гневное неудовольствие.
– К чему эти нежности, Джузеппе? – спросила она насмешливым тоном по-итальянски. – К чему это пение? Ни к вашему брюху, ни к докторской профессии не идут такие ухватки.
– Будьте снисходительны, дорогая Лоренца, – возразил ей тоже по-итальянски доктор, названный теперь именем Джузеппе, впрочем, совершенно равнодушно отходя от дивана и садясь в кресло. – Ваше пение пробудило во мне воспоминание былых, счастливых, дней.
– Вместо воспоминаний я просила бы вас, Джузеппе, заняться делом. Я не понимаю, чего мы здесь дожидаемся уже третий месяц. Вы заставляете меня проводить дни в скучном затворничестве. Если бы не мои соотечественницы, которые оказались в этом доме, и не общение с ними, я, право, умерла бы со скуки.
– А именно соотечественницы для вас и опасны, дорогая Лоренца, – наставительно заметил Джузеппе. – Они могут собрать сведения о вашем прошлом и распустить про нас невыгодные слухи.
– Итак, вы хотите, чтобы я даже лица человеческого не видела? – с досадой вскричала Лоренца.
– Вы видите меня, значит, нельзя сказать этого, – смиренно возразил Джузеппе.
Красавица с явным неудовольствием отвернулась от него. Последовало краткое молчание. Потом вдруг Лоренца засмеялась, обнажая жемчужные зубы, и захлопала в ладоши.
– Ах, знаете ли, Джузеппе, с кем я вчера познакомилась?
– С кем же?
– С карлицей певицы Габриэлли, что живет в доме напротив вместе с еще одной артисткой, Давией. Это певицы придворной оперы. Карлица чрезвычайно умная и забавная особа. Она знает весь Петербург, рассказала мне много интересного о покровителе Давии, сеньоре Безбородко[32]. Это знатный и богатый человек! Карлица уверяла, что при моей наружности и голосе я могла бы обворожить всех петербуржцев. Она сулит мне огромный успех. А между тем по вашей прихоти я теряю даром время, скучая в этой противной комнате, как пленница!
– Еще немного терпения, дорогая Лоренца, и вы будете вознаграждены. Уже сегодня я получил приглашение от князя Потемкина. Но принужден был от него уклониться, так как оно было сделано в небрежной форме.
– Зачем? Зачем уклонился? Я хочу видеть Потемкина! Это такой вельможа! – с живостью вскричала Лоренца.
– Потемкин не уйдет от нас. Если рыбка клюнула мою наживку, случая еще не бывало, чтобы она сорвалась с крючка. Предоставьте это моей опытности. А знакомство ваше с карлицей весьма кстати. О Габриэлли я много слышал. Ей покровительствует господин Елагин[33], главный директор театра и секретарь императрицы.
– Габриэлли – дочь повара, а принята ко двору и осыпана бриллиантами! Чем я хуже ее? – капризно заговорила Лоренца.
– При моем содействии, дорогая, вы получите здесь положение выше какой-нибудь актрисы, которая является во дворец, чтобы пропеть арию. Вельможи обнимаются с ней за кулисами, как с женщиной легкого поведения, но в обществе она не принята. Поприще иное, блистательнейшее, предстоит вам! Немножко лишь терпения. Однако знакомство с госпожой Габриэлли для нас весьма ценно, и я сегодня же буду у нее от вашего имени как урожденной графини ди Санта-Кроче.
При последних словах Джузеппе оба громко захохотали Но затем Лоренца снова приняла недовольный вид.
– Терпение! Терпение! – сказала она. – Вам хорошо проповедовать терпение. Отправив меня в Петербург, вы сами отлично проводили время в Курляндии, ухаживая за сентиментальной немкой, сладкие письма которой столь вас занимают.
– Вы напрасно меня упрекаете, Лоренца Я провел время прескучно в проклятом замке барона Медема. Скудный стол тяжеловесные баронессы, унылый климат – проклятье! Но я там сделал важные знакомства. Шарлотта фон дер Рекке урожденная баронесса Медем, конечно, не более чем сентиментальная дура. Но в нашем ремесле такие и нужны. Связи и родство ее огромны. От родителей Шарлотты я получил важные рекомендательные письма.
– Прекрасно! Но тогда чего же вы здесь дожидаетесь вот уже третий месяц? Имея столько рекомендаций и дипломов, почему вы, Джузеппе, не откроетесь?
– Потому что я должен был собрать все нужные сведения и прощупать почву. А кроме того, здесь был господин Месмер. А мы никогда не начинаем работу в городе, где уже кто-либо действует с надлежащими полномочиями. Теперь господин Месмер отбыл. Я это узнал только сегодня и на днях выступлю из тени. Вам еще много будет работы, Лоренца!
– Ах, мне уже надоело работать на вас, Джузеппе! Мне надоело скитаться по Европе из одной столицы в другую! Я утомлена кочеванием и хотела бы пристать к покойной пристани.
– Вы работаете не на меня, Лоренца, а на великое дело преображения человечества! – важно заявил собеседник красавицы. – Вы знаете, что я имею начальников и выполняю волю пославших меня сюда.
Лоренца пожала плечами и стала перебирать струны гитары.
– Однако нужно одеться! – подымаясь с кресла, с живостью заметил Джузеппе и вышел из комнаты.
Лоренца посмотрела ему вслед мрачным, полным ненависти взглядом черных очей, потом взяла несколько аккордов и запела…
Придворные певицы в домашней обстановке
Джузеппе-Гвальдо-Пеллегрини прошел на свою половину, состоявшую из докторского кабинета и весьма небольшой приемной комнаты, где обыкновенно дожидались больные. Кроме простых табуреток, в приемной не было никакой мебели. В кабинете имелся пульт с огромной чернильницей и толстой книгой, развернутой на странице с изображением человеческой фигуры с распростертыми руками в пятиконечной звезде и окруженной какими-то иероглифами. Здесь же стоял стеклянный узкий шкаф, в какие обычно помещают стенные часы, но вместо них там находился полный человеческий скелет, который жутко скалил зубы. Кроме сих предметов на окнах светились бутыли с разноцветными взварами и эссенциями, которые доктор отпускал пациентам. На ковре стоял род саркофага на ножках, с подушками внутри. В этот саркофаг таинственный медик укладывал пациентов обоего пола, коих желал осмотреть подробно. Это всегда производило на больных сильное впечатление.
В потолке кабинета имелся люк, винтовая лестница вела на огромный чердак, наполненный «реквизитом» доктора. Туда он теперь и полез.
Чрево чердака, сумрак которого пыльными струями рассеивал свет, проходивший в полукруглые слуховые окна, наполнено было самыми разнообразными предметами. На растянутых веревках висели мантии, восточные одеяния, необыкновенные мундиры, обшитые мишурой, кафтаны, принадлежности женского туалета в античном вкусе. Сундуки и чемоданы разбросаны были по разным углам чердака. Некоторые из них были раскрыты, и в них виднелись пергаментные фолианты, оружие удивительных форм, узкогорлые и пузатые сосуды, машины, инструменты непонятного назначения.
В этом хаосе у одного из слуховых окон помещался туалетный стол с зеркалом, заставленным баночками и скляницами с притираниями и снадобьями для гримировки.
Владелец всех этих сокровищ, скинув плащ и синий бастрак, подсел к столу и тщательно занялся своей особой. Он умягчал лицо различными эссенциями, лощил зубы и ногти, выщипывал волоски, торчащие из круглых ноздрей готтентотского носа, и подправлял брови. Вместе с тем он принимал перед зеркалом различные позы и придавал лицу выражения то вдохновения, то набожности, то благородства, то экстаза – так тренируется актер, готовящийся выступить в новой для него роли.
Закончив эти приготовления, наш герой принялся снимать с веревок и доставать из сундуков различные принадлежности туалета: достал тончайшие рубашки с кружевными манжетами и белоснежным жабо, камзол и жилет, бархатные белые короткие панталоны и такие же белые шелковые чулки, голубой с дорогими пуговицами и каким-то восточным орденом кафтан, щегольскую шпагу с богатой отделкой и башмаки с изящными пряжками. Ко всему этому присоединил обильно напудренный парик, заботливо приготовленный заранее, шляпу со страусовым пером, табакерку, перстни с крупными камнями, платок и увесистый мешочек со шнурками, в котором звенело золото. Собрав все это, Джузеппе-Гвальдо-Пеллегрини стал одеваться и скоро оказался в великолепнейшем наряде. Оставалось только взять трость с золотым набалдашником.
В таком наряде он спустился с чердака и вновь вошел в комнату Лоренцы. Теперь это был знатный и богатый господин с самыми изысканными манерами. Правда, в его движениях и жестах сквозили чрезмерная напыщенность, а наряд был слишком криклив и аффектирован.
– Я иду с визитом к Габриэлли, дорогая Лоренца, – заявил он с важным видом. – Забыл тебе сказать, что я нашел сегодня весьма расторопного слугу – поляка из мелких шляхтичей Он придет завтра утром и спросит графиню ди Санта-Кроче. А теперь – до свидания.
Перейдя через улицу, Джузеппе легко отыскал квартиру певиц придворной оперы. В нее вела столь же узкая и грязная лестница, а обитали они так же высоко, как и он сам, несмотря на то что обе получали огромные деньги, не считая драгоценностей, от своих вельможных покровителей. В сумраке нащупав дверь, гость принялся без церемоний стучать в нее кулаком, так как ни звонка, ни молотка не имелось. Женский голос произнес за дверью несколько итальянских проклятий, и затем дверь распахнулась. Из нее хлынули клубы мокрого пара и чад подгоревшего оливкового масла. Сквозь пар посетитель разглядел мощную, с пышной грудью и крутыми бедрами, бабу с крупными чертами лица итальянско-еврейского типа. Ее пестрая полосатая юбка была высоко подоткнута и обнаруживала великолепные икры босых ног. В голых, открытых до плеч руках она держала мочалку, с которой текла мыльная вода; целое озеро расплывалось по полу вокруг нее. Из прихожей дверь вела в кухню, где слышались шипение и кипение, именно оттуда и валил пар. Не менее мощная, чем первая, и столь же простонародно одетая стряпуха виднелась там под кастрюлями и сковородками с ложкой в руке. Видимо, она приготовляла обед.
– Что вам угодно, синьор? – спросила итальянка, мывшая пол.
– Я желал бы видеть, любезная матрона, вашу хозяйку, певицу придворной ее величества оперы госпожу Габриэлли, – отвечал нарядный посетитель, сторонясь воды и мокрой мочалки.
– Это я сама перед вами, – спокойно отвечала босоногая женщина.
– Вы?! Возможно ли, синьора?! – вскричал пораженный гость. – Вы знаменитая в Европе певица Габриэлли?!
– Не прикажете ли спеть вам, синьор, для доказательства этого? Да, я – Габриэлли. А вон та, на кухне, моя подруга Давия, – продолжала певица, указывая на пифию среди кастрюль и оливкового чада[34]. – Чему же вы удивляетесь? Мы заняты своим хозяйством. Мы все делаем сами и потому всегда веселы и здоровы. Но кто вы, синьор? И что вам угодно?
– Граф Феникс ди Санта-Кроче, синьора! – внушительно произнес гость. – Явился засвидетельствовать вам свое почтение, отдать дань уважения вашим несравненным талантам, прославляемым всей Европой, и вместе с тем передать поклон от моей супруги, графини Серафимы.
– Ах, моя карлица Грациэлла рассказывала о ней! Грациэллы нет дома. Я послала ее за припасами. Она расхваливала красоту и голос вашей супруги.
– Трудно хвалить в вашем присутствии, синьора, чей-либо голос или внешность! Когда всходит сияющее солнце, меркнут крупнейшие звезды. Но я привез вам привет от некоторых ваших друзей из Италии и вот это письмо от принца, утратившего из-за вашего отъезда в Россию всю радость жизни.
Говоря это, граф Феникс достал письмо и махал им, не зная, как отдать в мокрые ручки певицы послание меланхолического принца.
– Пройдите сюда, граф, – сказала певица, бросая мочалку в лужу грязной воды. Затем она отерла руки о пеструю юбку и спустила ее так, чтобы скрыть мощные ляжки. Граф Феникс осторожно прошел в указанную комнату. Здесь певица приняла от него письмо, небрежно разорвала конверт, пробежала страстные строки августейшего обожателя и равнодушно бросила письмо на доску камина.
– Он надоел мне еще в Милане, – пояснила она.
– Бедный принц! Неужели столь разительное в наш безнравственный век постоянство не трогает ваше сердце, синьора? – говорил гость. – Впрочем, всеобщее обожание, которое окружает вас здесь, конечно, изгладило из вашей памяти образ далекого юного поклонника. Дивный ваш голос, мощный гений, пламень духа, совершенно обворожительная красота гремят по всей Европе! Все цивилизованное человечество, синьора, воздает вам хвалу!
Габриэлли совершенно равнодушно слушала слащавую лесть посетителя, однако она все же была ей приятна.
– Вы очень любезны, граф, – сказала она. – Может быть, вы желали бы познакомиться с моей подругой? – И, не дожидаясь ответа, крикнула звучным сильным голосом: – Давия, поди сюда!
Сейчас же явилась из кухни с пылающими щеками, вся дышащая ароматами лука и пряных специй женщина.
– Это наш соотечественник, недавно в Петербурге. Это граф ди Санта-Кроче, о супруге которого нам сегодня рассказывала Грациэлла, – представила Габриэлли.
Давия радостно всплеснула руками и засыпала графа потоком итальянских слов, расспрашивая о различных своих знакомых аристократах в Риме, Падуе, Венеции, Неаполе и еще дюжине других городов и городишек Италии. Граф знал многих из них и, пересыпая ответы свои любезностями и похвалами таланту и красоте артистки, сообщил немало новостей. В беседе приняла участие и Габриэлли.
Певицы усадили графа в кресло, достали из пузатого шкафчика вино, фрукты, угощали его и сами исправно пили за его здоровье. Не прошло и получаса, как между итальянскими певицами и гостем установились самые приятные, откровенные отношения. Граф оказался любезнейшим кавалером, к тому же, казалось, объехал весь свет, знал всех выдающихся людей, принцев, вельмож. Уже принесена была гитара, и артистки исполнили небесными своими голосами дуэт из новейшей оперы аббата Пьетро Метастазио[35]. Восторженный граф становился попеременно перед каждой из них на колени, целуя красавицам ручки, хотя они у Габриэлли сильно припахивали сырым мылом, а у Давии – подгорелым оливковым маслом. В то же время граф не забывал искусно расспрашивать певиц о петербургском дворе и свете, о всех певицах и актрисах Эрмитажа, об их покровителях, о домах вельмож, их женах, любовницах и скандальных связях, тайных и полуявных… Между прочим завел он речь и о покровителе Габриэлли, старом директоре театров и всяческих зрелищ господине Елагине…
– Господин Елагин мне известен как муж, исполненный высоких добродетелей, – важно говорил граф Феникс, – огромной учености и государственного опыта. Я слышал о нем в бытность мою в Лондоне от друга моего, герцога де Бофора. Имею и письма к сему достопочтеннейшему лицу от мужей рассвета, восхода солнца, от тайного места, где имеет свое пребывание великая мудрость, господствует мир, согласие и тишина!
– Что он такое говорит? – спросила недоуменно Давия, очень усердно прикладывая свои коралловые уста к кубу с вином, может, потому, что кулинарные занятия у пылающего очага пробудили в ней неуемную жажду. – Что он говорит? О каком рассвете и тайном месте? Что за каббалистика? И в первый раз слышу о добродетелях господина Елагина. Спросите у Габриэлли, она вам расскажет, что это за добродетели. Ха! Ха! Ха!
– Оставь в покое моего доброго старичка, Давия, – поморщилась Габриэлли.
– Доброго? Да, к тебе он добр, и ты с ним делаешь все, что только пожелаешь! Но другим в труппе житья нет от этой противной старой и капризной крысы.
– Я еще раз говорю тебе, Давия, оставь в покое моего старого покровителя! – уже сердилась Габриэлли.
– Вот еще! Ты, кажется, хочешь мне приказывать! Но я никогда и никому еще не подчинялась, тем более тебе! Чем я хуже тебя? Кажется, ничем. Хочу – и буду говорить, буду!
– Молчи! Молчи! – вскрикивая и топая ногой, кричала Габриэлли, черные кудри ее, как змеи, разметались вокруг головы.
Давия тоже вскочила и встряхивала в гневе своими великолепными волосами цвета венецианского красного золота. Вырвавшись из-под шелковой сетки, они рассыпались по плечам и груди певицы, едва прикрытой воздушной рубашкой и коротеньким фигаро. Затем обе певицы уперли в крутые бедра мощные длани и стали наступать друг на друга, одновременно пронзительно крича:
– Я буду говорить, буду кричать всегда, всюду, что твой старикашка – безнравственная обезьяна! Коротышка! Уродец! Задыхается! Косой! Глухой! Скупой! Носит по три года один кафтан. Всем надоедает! Ничего не смыслит в искусстве! Противный! Отвратительный!
– Он лучше в тысячу раз твоего жирного мопса Безбородко! Пьяницы! Грубияна! Варвара! Который таскается по кабакам и непотребным домам и заставляет тебя делить его любовь с уличными грязными тварями!
– Это все же лучше, чем жить со стариком, развалиной, немощным подагриком только потому, что он главный директор театров и дает тебе первые роли!
– Я живу со стариком, а ты кроме своего бегемота еще с тремя. С несчастным мальчиком – графом Бобринским[36], которого растлеваешь и почти довела до чахотки! И с братьями, родными братьями!
– Что, я живу с родными братьями?
– Да, да, я знаю! С одним Рибасом[37] и с другим Рибасом! Это смертный грех! Это кровосмешение!
– Фурия!
– Мегера!
– Цыганка!
– Жидовка!
Певицы до того разъярились, что, казалось, готовы были вцепиться друг другу в волосы.
Граф Феникс внимал перебранке с полнейшим спокойствием, улыбаясь и прихлебывая вино из кубка.
– Ты – жидовка и готова удавиться за горсть червонцев! – кричала Давия.
– А ты цыганка, у тебя нет религии! Ты служишь сатане! – кричала Габриэлли.
– Дура! Обе мы пойдем в ад, если только он существует!
– Слышите! Она не верует в учение Святой Церкви! Я – жидовка, ты говоришь? Но я верую! Я никогда не позволяла себе вступить в связь с двумя близкими родственниками одновременно, тем более с родными братьями!
– Какая святая, подумаешь! Кому ты говоришь? Разве я не знаю твоих похождений?
– Ты – кровосмесительница. И я донесу на тебя аббату Николю.
– Ха! Ха! Ха! Доноси хоть самой инквизиции. Мы в России. Здесь меня не достанешь. Да и в Риме у меня достаточно знакомых кардиналов, которые любят жить весело.
– Когда ты умрешь, Святая Церковь откажет тебе в погребении!
– Всех актрис лишают погребения в освященной земле. Да не все ли равно мертвецу?
– Тебя не похоронят! Тебя не похоронят!
– Нет, похоронят!
– Нет, не похоронят!
– Да ведь я провоняю.
Последний аргумент Давии был столь неожидан, что Габриэлли не нашлась что сказать и замолчала.
Громкие аплодисменты вдруг раздались в дверях покоев. Певицы и внимавший их своеобразному объяснению граф невольно повернулись туда.
Российский комедиант
В дверях стоял стройный, изящный и чрезвычайно живописный молодой человек. Длинные напудренные натуральные волосы его были зачесаны назад, открывая высокий мыслящий лоб; черты лица имел он необыкновенно правильные, глаза большие, умные, серые с поволокой. Одет он был чрезвычайно опрятно, со щегольской простотой, в суконный коричневый кафтан французского покроя со стальными пуговицами, шитый шелковый жилет с брыжами и манжетами. Когда находившиеся в комнате обернулись к нему, он всем пленительно улыбнулся, обнажив белые, как слоновая кость, зубы.
Казалось, появление его мгновенно успокоило воспламенившиеся страсти итальянок и внесло меру, гармонию и учтивую приятность. Обе певицы просияли и бросились к нему. Каждую он брал за обе руки повыше локтя и с какой-то отеческой лаской целовал в уста. Потом они похватали его под локти и ввели в покой.
– Мы немного повздорили, Жан, – небрежно пояснила Габриэлли.
– О, я слышал, божественная! – мягким приятным голосом сказал по-французски молодой человек. – Я слышал. И должен сказать, что наша очаровательная Давия проявила в споре изумительную находчивость. Аргументы ее были неотразимы. Но все же я более люблю, когда вы состязаетесь в своем искусстве, чем в дидактике.
Говоря это, молодой человек вглядывался в сидевшего с важным спокойствием гостя певиц. Удивление появилось на его лице. Казалось, он узнавал и не узнавал эту личность. Наконец он сделал два шага к нему и учтиво поклонился. Тот отвечал величественным кивком лобастой головы, храня на лице холодное равнодушие. Однако глаза его, блуждавшие ранее по потолку, вдруг обратились к молодому человеку. Взгляд его стал острым и подозрительным, и на мгновение в нем мелькнуло что-то вроде испуга и оторопелости. Но вслед за тем маслинообразные глаза итальянца вновь вознеслись кверху…
– Это наш новый знакомый, – представила Габриэлли, – граф Феникс ди Санта-Кроче!
– Российский комедиант ее величества Иван Дмитриевский[38], – назвал себя с новым учтивым поклоном молодой человек.
Граф еще раз снисходительно кивнул.
– Ведь это вы, граф, писали к господину главному директору театров и зрелищ статс-секретарю императрицы, его превосходительству Ивану Перфильевичу Елагину? – садясь в кресло, продолжал российский комедиант.
Обе певицы стали по бокам кресла, опираясь на спинку его, и заглядывали в лицо молодому человеку, оправляя его волосы и жабо.
– Вы не ошибаетесь, господин Дмитриевский, вы не ошибаетесь, – на грубом французском с итальянским акцентом языке подтвердил граф. – Я писал господину Елагину.
– Очень хорошо. Встреча наша пришлась весьма кстати. Именно я имел поручение от его превосходительства Ивана Перфильевича посетить вас и передать приглашение господина статс-секретаря пожаловать к нему сегодня в девять часов вечера.
– Хотя я крайне занят сегодня, но постараюсь прибыть, – отвечал граф все с тем же рассеянным видом.
Комедиант внимательно, хотя и с учтивой ненавязчивостью разглядывал лицо графа Феникса.
– Давно ли вы в России, граф, смею спросить?
– И давно, и недавно, господин Дмитриевский, – неопределенно ответил граф.
– Вероятно, вы много путешествовали по Европе? – продолжал свои расспросы актер.
– О, даже сидя в этом кресле, я путешествую, так как Земля со всем, что на ней пребывает, неутомимо несется в пространстве к востоку.
– Что касается меня, – не обращая внимания на странную форму ответа его собеседника, продолжал Дмитриевский, – то еще недавно по поручению его превосходительства Ивана Перфильевича я посетил Париж и Лондон. Собственно, с целью как лично усовершенствоваться в искусстве, так и пригласить несколько выдающихся артистов и актрис в труппу ее величества. И могу сказать, что приобрел в Лондоне дружбу величайшего из актеров нашего времени – Гаррика[39]. Вам не случалось, граф, будучи в Лондоне, видеть Гаррика в «Лире» или «Макбете»?
Граф в ответ что-то промычал, продолжая витать в мыслях далеко от этой комнаты.
– Великий художник! Мастер несравненный! И посмотрите, каким высоким почетом пользуется он в своей стране! На ужинах у герцога де Бофора…
– Граф говорил, что он – друг герцога, – заметила Габриэлли, которая, стоя возле кресла актера, во время беседы перебегала взглядом с него на графа и обратно.
– Вот как?! Друг? – протянул Дмитриевский. – О чем я говорил? Да, Гаррик! Волшебник! Что бы я дал за одну десятую его гения! Но я говорил о том уважении, которым пользуются актеры в Лондоне. Когда я вошел сюда, то услышал спор божественной Габриэлли и несравненной Давии, небесные голоса которых пробуждают в каждом воспоминания о потерянном рае. Не достойно ли горького смеха, что в наше время, в просвещенный век Руссо и Вольтера, Фридриха и Екатерины, актер и актриса считаются отверженными существами, их высокое, благородное искусство – зазорным ремеслом, и Церковь отказывается погребать их тела в освященной земле! Как упорно невежество! Как неискоренимы предрассудки, внедренные фанатизмом! Но послушайте, прелестные, – продолжал Дмитриевский, обращаясь к певицам, – вы принимаете столь знатного гостя, иностранного графа, в совершенно домашнем легком наряде! Я – свой человек, российский комедиант, но граф… – Неуловимо-насмешливая интонация прозвучала в этих словах актера.
– Ах, в самом деле, нам пора одеваться и ехать на репетицию, – всполошилась Габриэлли. – Граф нас застал за занятием домашним хозяйством. Он извинит нас. Грациэлла ушла на рынок. Я мыла полы…
– А, так вот почему дверь на лестницу была распахнута и в прихожей наводнение! – весело вскричал Дмитриевский. – Столь высокий посетитель, иностранный граф, друг герцога де Бофора, и вдруг – мочалка и мыльная вода!
– А Давия готовила обед! – со смехом произнесла Габриэлли.
Как раз при этих словах с кухни донеслось шипение и клокотание, а затем в покой ворвались клубы чада.
– Ах, я совсем забыла о кухне! Там все перекипело, подгорело! – вскричала Давия и кинулась вон из гостиной.
Вслед за ней вышла и Габриэлли – переодеваться. Граф и Дмитриевский остались наедине. Оба некоторое время молчали. Граф все так же предавался своим мыслям. Актер рассматривал его уже без стеснения.
– Шевалье Вальдоне! – наконец сказал актер. – А ведь это вы!
– Что ж из того, милейший мой Жан Дмитриевский? Что ж из того? – равнодушно отвечал таинственный иностранец, и взор его, приняв бегающее, мышиное выражение, остановился изучающе на благородном, прекрасном лице актера. Затем в этом взгляде сверкнула наглая злоба. – Пусть я именно то лицо, которое вы встречали в Лондоне под именем шевалье Вальдоне! Здесь, в Петербурге, я граф Феникс ди Санта-Кроче и имею на сие звание надлежащий патент.
– Работы несравненного маэстро Оттавио Никастро?! – презрительно сказал актер.
– Увы, нет! Почтенный Оттавио кончил жизнь на виселице в Венеции. А разве вы пользовались его каллиграфическим искусством, милейший? Мой же патент подлинный. В Лондоне я был инкогнито. Вот почему вы встречали меня там под именем шевалье Вальдоне. – Все это граф проговорил с немалой развязностью и спокойствием.
На минуту Дмитриевский потерял самообладание.
– Встречал в Лондоне! – вскричал он. – Но припомните, где и при каких обстоятельствах я встречал вас там. Не приказал ли герцог де Бофор, которого вы здесь именуете «другом», за ваши разоблаченные им фокусы с тенями и огненными руками, вышвырнуть вас на навозную кучу и затем отколотить палками? Не удостоил ли вас Гаррик полновесной оплеухой за кулисами в присутствии всей труппы за ваше гнусное сводничество? Не изобличила ли вас собственная жена или особа, которую вы выдавали за свою жену, прелестная, несравненная Лоренца Феличиани? Вспомните, как вы гнили потом в долговой тюрьме, и не сам ли я участвовал в складчине, чтобы выкупить вас оттуда? Скажите, не было ли всего этого?
– Да, вы видели меня в унижении, в минуты злые, когда мои незримые враги и искусители временно низвергли меня в бездны порока, преступления, гибели! Но почему они это сделали со мной? Чтобы отвлечь меня от великого дела, которому я служу! – без смущения напыщенно отвечал шевалье Вальдоне, подымая очи к потолку.
– Я знаю, что вы ловкий, смелый плут! Сам герцог де Бофор долго ловился на ваши уловки и благородные речи. Но ведь тогда были собраны сведения о ваших приключениях в различных столицах Европы, где вы появлялись, неуловимый и изменчивый, как некий Протей[40], под различными фамилиями. Вы знаете, какие это были сведения?
– Если я, по вашим же словам, оставался неуловимым, то что же полиция могла собрать, кроме сплетен и клевет моих врагов? Совершенное другими – приписывали мне. Не отрицаю – ужасные искушения преследовали меня, как и всякого, вступающего на путь совершенства, служения человечеству, строительству храмины всеобщего блаженства. Черные силы зла, слуги князя мира сего, мрачные некроманты[41] и какоманты[42] устремляются против рыцаря Соломонова храма[43], против дерзнувшего сотрясти вековечное царство тирании, невежества, фанатизма и предрассудков! В борьбе он иногда слабеет, падает тем ниже, чем выше возносится. Но не судите о нем в унижении его! Вновь он восстанет и явится в сиянии славы, силы и мудрости от вечности предопределенный человек!
Говоря это, Вальдоне встал и весь преобразился, приняв вдохновенный вид.
– Не падши – не спасешься, то правда, – проговорил по-русски актер, видимо поколебленный в своих подозрениях, но старавшийся не поддаваться силе влияния, исходившей от этого загадочного человека.
– Молодой человек, – проникновенно продолжал Вальдоне, – разве вы не подвержены искушениям? Разве в том же Лондоне, где вы встретили меня в падении, временном падении, и я вас не видел среди оргий, за чашей опьянения, в объятиях хотя и прекрасных, но дурных женщин? Или вы про то забыли?
– Нет, не забыл! И в особенности хорошо помню, что вы – опаснейший шарлатан и промышленник! – воспламеняясь при этих обличениях, вскричал Дмитриевский. – Я жил, как все актеры, и не выдавал себя за провидца, чародея, святого и духовидца, как вы! Теперь же вы появляетесь в Петербурге, хотите проникнуть к Ивану Перфильевичу Елагину, очевидно прислав ему какие-нибудь столь же «достоверные» рекомендации, как и ваш диплом на графское достоинство. И вас Елагин приглашает сегодня, когда у него будет заседание капитула всех здешних лож! Могу ли я допустить проникновение в это святилище темного проходимца, за какого вас почитаю! Если вы явитесь сегодня к Елагину, я изобличу вас при всех, знайте это!
Актер поднялся и погрозил рукой Вальдоне. Глаза этого злодея засверкали.
– Дерзновенный! – грозным шепотом произнес он. – Против кого ты идешь? Я раздавлю тебя, как ничтожного червя! Знай, что дни унижения, когда ты видел меня в грязи и позоре, давно миновали. Перед тобой муж, облеченный высшей властью решать и вязать, возведенный в совершеннейшие степени могущества, наставленный в тайнах тайн и откровениях откровений! Высшие персоны инкогнито послали меня на изнывающий во мраке невежества Север совершить великое дело, о котором кто услышит, у того зазвенит в ушах!
– Кто же вы? И где доказательства ваших полномочий? – спросил неуверенно несколько устрашенный и поколебленный в своих подозрениях актер.
– Доказательства достаточные верховного моего посланничества будут представлены мною сегодня на заседании капитула! Кто я – сегодня же узнают и не узнают. Но вы, хоть и достигли звания избранного шотландского мастера, находитесь на столь низком по отношению ко мне градусе, что обязаны беспрекословно мне подчиняться! Сей знак тебя удостоверит!
При этих словах неизвестный протянул руку и совершил пред трепещущим молодым человеком таинственное и странное знамение.
Дмитриевский схватил его руку и поцеловал.
В капитуле
Поблизости Царицына Луга, в особняке, задвинутом другими строениями и расположенном среди старых лип небольшого сада, в продолговатой зале со сводами и с плотно завешенными окнами происходило торжественное собрание капитула избранных шотландских мастеров.
После обычных вопросов: который час? бдительна ли стража? хорошо ли укрыто святилище для безопасности работы? – великий наместный мастер VIII провинции, каковой считалась во всемирном ордене Россия, Иван Перфильевич Елагин, в зеленой ленте через плечо, с привешенным к ней золотым циркулем и треугольником, поднялся с председательских кресел, взял молоток и, ударив по алтарю шесть раз подряд и три погодя, открыл собрание капитула.
Кресла Елагина, изображавшие Соломонов трон[44], помещались на высоте залы, на возвышенном помосте со ступенями и балюстрадой. Рядом стояли другие кресла, поменьше. В них сидел в фиолетовой ленте через плечо великий мастер ложи «Астреи» князь Иван Сергеевич Гагарин[45].
На маленьком столике перед ними, покрытом ковром, лежал человеческий череп, книга «Премудрость Соломона» и стоял подсвечник с тремя восковыми зажженными свечами, дававшими весьма мало света для такой большой залы. Перед помостом, посредине залы, на полу были начертаны мелом большой квадрат и в нем разнообразные символические фигуры: пламенеющая звезда, колонны, орудия каменщиков, черепа и кости и др.
То был символический ковер капитула.
Посреди чертежа стоял гроб на ножках, покрытый черным покровом с вышитыми на нем слезами, Адамовой головой и ветвью акации. Кругом гроба и по краям «ковра» расставлены были девять высоких шандалов с горевшими толстыми сальными свечами.
По сторонам у стен в круглых креслах сидели члены капитула. Надзиратели стояли за ними со шпагами. У входных, плотно занавешенных дверей стоял церемониймейстер с жезлом и страж врат с мечом. Большая часть залы была погружена в сумрак, а лица братьев масонов, освещенные свечами, стоявшими на полу, приобретали особое, таинственное и странное выражение.
Мрачность обстановки усиливали черные плащи и шляпы мастеров, их неподвижность и величественная осанка. Все они были при шпагах, в передниках и лентах разных цветов, с золотыми знаками на груди на цепях, с молотками в руках, в белых перчатках с широкими раструбами Тут находились первейшие вельможи Екатерины: граф Александр Сергеевич Строганов, князь Александр Иванович Мещерский, великий мастер ложи «Эрато» князь Александр Борисович Куракин, князь Сергей Федорович Голицын, супруг племянницы светлейшего Варвары Васильевны, прозванной дядей Улыбочкой.
За особым столиком сбоку эстрады сидели провинциальный великий секретарь поэт Василий Майков[46] и секретарь шотландского капитула и личный Елагина – князь Юрий Михайлович Кориат.
Должность надзирателей исполняли Александр Андреевич Ржевский и Иван Афанасьевич Дмитриевский; церемониймейстера и стража – два немца, курляндские бароны фон Менар и фон Саломон.
После открытия заседания ложи последовало некоторое общее молчание. Все стояли, мысленно обращаясь к Великому Архитектору Вселенной. Затем, когда все сели, председатель произнес речь:
– Всем и каждому нашим почтеннейшим и любезнейшим братьям я, Иван Елагин, от главные английские ложи учрежденный в России над всеми древнего и почтенного масонского ордена братьями провинциальный великий мастер, здравия желаю!
Достопочтеннейшие и достолюбезнейшие братья, сведомы вы не менее моего о сумятице в здешних ложах, новоизмышленными учениями и системами произведенной… Нововымышления брауншвейгские! Прежде стрикт-обсерванц, а потом карлсбадская система! Иллюминаты! Гиероглифы, из Лондона присланные! Катехизис рыцарей Розе-Круа! Краткое известие из Авиньона! Облако над святилищем из Мюнхена! Все сие обилие привело нас к нищете, и ложи, по разным системам учреждая работы, пришли в полное расстройство, вавилонскому столпотворению подобное. Вкрались ложные братья, настали споры и смятения и во взаимном озлоблении всеобщая друг ко другу неприязнь. Священные начала равенства и любви как бы забываются. Брат идет на брата. В сих обстоятельствах собрал я капитул собственно для того, чтобы обсудить, как привести ложи к единению и согласию, имея в виду, что без правильных чертежей работать невозможно. И теперь, достопочтеннейшие и достолюбезнейшие братья, каждого прошу высказать свое мнение, как нам в сем лабиринте систем ариаднину нить обрести[47].
Великий наместный мастер поклонился и умолк. Заговорил князь Гагарин:
– Еще не время ордену выказать себя во всем своем величии, но оно не далеко. Орден не останется в том положении, в каком он ныне. В Писании есть место: «Я хочу прийти к тебе, но дух страны противодействует мне». Так теперь противодействует диавол всем розенкрейцерам в России, чтобы в царстве тьмы удержать тьму!
– Полагаю, что пришествий к нам было достаточно, – возразил Елагин. – Вот и сегодня жду я визитора.
– Визитор! Кто такой? Откуда? – послышались голоса братьев.
– Сие лицо уже третий месяц пребывает в столице, инкогнито под именем Фридриха Гвальдо, полковника испанской службы, занимающегося вольным врачеванием.
– Фридрих Гвальдо! Но я о нем слышал, – сказал князь Голицын. – Сегодня светлейший даже посылал за ним камердинера на предмет пользования нашего болящего малютки, но сей нагло приехать отказался!
– Достопочтеннейший брат, сие можете сегодня выяснить. Я же должен о сем лице заявить, что присланы им ко мне письма от весьма значительных особ, а именно от герцога де Бофора из Лондона, от герцога Шартрского из Парижа и от принца Гессен-Кассельского и пребывающего при дворе его на покое знаменитого графа де Сен-Жермена!
– О! Вот что! – послышались возгласы удивления.
– Во всех сих письмах, – продолжал Елагин, – неизвестное оное лицо рекомендуется как облеченное высшими полномочиями и присылаемое в Россию собственно с тем, чтобы инспектировать наши работы, сообщить чертежи на текущее десятилетие, открыть некие высокие тайны и наставить нас, бедных, в совершенстве. Что мы получим, что увидим и услышим, тому скоро будет опыт, но счел я за благо начать заседание капитула за час до прибытия визитора, дабы несколько сговориться. Прискорбно будет, ежели наша сумятица глазам сего незнакомца откроется. Просил бы вас, достопочтенные братья, решить, какой системой нам ограничиться? Нужны ли нам Розе-Круа, или мюнхенское святилище, или градусы токмо Соломоновых наук.
– Я полагаю, – сказал граф Строганов, – что особенно важно нам открыть у себя алхимические градусы и приступить к высшим работам, каковы суть приготовления хаосского минерального электрума, познание минеральной силы природы, познание совершенное земно-философского солнца, изготовление партикуляр-камней и познание великого универсала.
– Ах, граф, алхимических сил природы испытание еще есть внешняя наука, – возразил князь Мещерский. – Должно совершенствоваться во внутреннем тайноведении. А до сего всячески стараться получить изъяснение гиероглифов и знаков искусства, начертанных на девяти дугах около святого гроба.
– Но в наших таинствах, князь, уже мы не меньшее, а большее имеем, – сказал Куракин. – Адам из первого совершенства своего, или образа и подобия Божьего, пал тремя ступенями из духовного человека в зидерического[48], а из зидерического, что есть астральный астросом[49], в грубо плотского. В мастерскую степень принимаемый повергается в гроб тремя же ударами, а восстает посредством пяти мастерских пунктов – пяти язв Высочайшего Мастера. Вот почему предписывается нам…
– Братья, прошу прощения! – возгласил тут Гагарин, перебивая его. – Самодовольство всякого от совершенства отводит. Что мы делаем, кроме столовых лож, где поем песни и служим Бахусу? В чем работы наши? Где дела? Ничего я не вижу. Между тем в Германии подлинно явились адепты истины светозарной. Приступим же! Призовем сих мужей! Отвернем сии таинственные кладези!
– Из сих кладезей пока лишь смрадные пары и туманы исходят! – запальчиво возразил Елагин. – Не вижу, чего нам недостает. Минуло тридцать пять годов, или, лучше сказать, око светозарное естественных кругов совершило 35 зим, 35 осеней, 35 лет и 35 весен, то есть 140 годовых четверовремяниц, или две великие седмицы, как я в ложе аглицкой принят в так называемые свободные каменщики. Время принятия моего я объявил! Объявил бы и вес, сколько в сие время касающихся до сего ордена книг, начиная от Ермия, Моисея[50], Зороастра, Пифагора и других, с прилежанием и особливым прочел вниманием. Показал бы вам и меру, которою с Соломоном и египетскими священниками измерял я столпы, жертвенники и храмы, учася царственные науки! И что же? Ныне я слышу, что я раб ленивый, наемник, а не пастырь и ничего не имею. Сие горько и обидно!
– Не именно о вашем превосходительстве я сказал, а вообще, – с досадой отвечал князь Гагарин. – Кроме произнесения темных речей, ничем мы не заняты. Где плоды трудов наших? Посему я сказал, что должно обратиться нам туда, где сияет свет!
– Я, держащий в деснице своей молоток, дающий мне, яко великому провинциальному мастеру, начальство…
– Но сие вашего превосходительства начальство не простирается настолько, чтобы нам глаза завязать и погрузить в полную тьму! – закричал Гагарин.
– Братья! Достолюбезнейшие братья! – простирая руки к спорящим, возопил Куракин. – Это ли сумятицы нашей умиротворение! Сейчас явится визитор, а мы в смятении…
– Я, великий наместный мастер, оскорблен князем и святилище, когда держал в руке молоток! – кричал Елагин.
– Я ваше превосходительство оскорблять не желал, признаю ваше звание, но я сам великий мастер, а не мальчик, чтобы меня на помочах водить!
– Достолюбезнейшие братья! Ваше превосходительство! Князь! – вопил Куракин. – Успокойтесь!
Елагин и Гагарин умолкли и, отдуваясь, сели на свои седалища.
– Мы соединились в ложе, – заговорил между тем Куракин, – для упражнения точнейшим образом в священных работах по торжественным законам и обычаям нашего царственного искусства, к умножению блеска и совершенства нашего высокого ордена. Великий Строитель мира да приимет же сей храм под свою защиту, да соизволит Он быть в нем седалищу мудрости и добродетели, да разольет Он там свет ордена до совершенства!
– Но мы совсем в потемках, – сказал Ржевский.
В самом деле – именно при последних словах Куракина в зале стало совсем темно. Во время спора никто не следил за сальными свечами, стоявшими на полу. Они сильно нагорели и еле краснели под шапками нагара.
Достав щипцы, Ржевский стал снимать со свечей нагар. Сразу посветлело.
Вдруг три сильных удара потрясли входную дверь.
– Визитор! – прошелестел шепот среди членов капитула. Они приняли торжественные позы, погрузились в глубокомыслие и величественно застыли.
Визитор, присланный от верховных правителей ордена из Европы, интересовал всех чрезвычайно.
Сумятица
Хотя и обязанный, на основании присланных писем, принять визитора и допустить его к рассмотрению работ петербургских лож, Елагин был недоволен бесцеремонным вмешательством лондонской ложи-матери, гроссмейстера великого Востока Франции и принца Гессен-Кассельского. Он находил, что хотя Россия как провинция и обязана известному повиновению высшим ордена особам в Европе, но более в смысле выражения почтения и принесения дани сердечной благодарности. А засим полная самостоятельность и независимость его, наместного мастера, очевидна. Если же и возможно допустить инспектирование работ российских лож, то, во всяком случае, и герцог де Бофор, и герцог Шартрский, и принц Гессен должны были послать письма непосредственно ему, Елагину, провинциальному великому мастеру всей России, предупреждая о прибытии инспектора. Сильно не понравилось Елагину и то обстоятельство, что сей инспектор инкогнито прожил в Петербурге около трех месяцев, не давая о себе знать уместному мастеру. Очевидно, это время он употребил на собирание сведений о состоянии лож и их работах. Может быть, вступил и в сепаратные переговоры с мастерами помимо него, Елагина. Глубоко оскорбило его и то, что инспектор не явился лично вручить ему верительные письма, а прислал их в пакете, запечатанном большой печатью Соломонова храма, которой владел только один граф де Сен-Жермен, великий алхимик, магик и астролог, а по убеждению Елагина – великий шарлатан.
Все это заставило Елагина смотреть на прибытие инспектора как на интригу, против него направленную. Возведенный в звание наместного мастера России еще 26 февраля 1772 года герцогом де Бофором, в удостоверении чего ему был дан диплом на пергаменте, наклеенном на синий атлас и обложенном вокруг золотым гиероглифическим тиснением, он к тому времени состоял вольным каменщиком уже тридцать пять лет. За это время Елагин набрался опыта, много чего перевидел в практике действий ордена, чтобы сохранить наивное доверие к европейским системам. Правда, он продолжал глубоко верить в высокое предназначение ордена, в то, что он хранит некие великие тайны знания и истины. Но всем основателям новых систем не доверял совершенно.
Большая часть лож Германии между тем приняла систему «строгого наблюдения» и подчинялась ей, подписав «акт повиновения». Основателем этой системы был барон Карл Гутфельд фон Гун, по орденскому имени Карл, рыцарь Меча. Беспрекословное повиновение неизвестным старшинам было основанием этой системы. О ней Елагин прямо говорил, что «система Гундова подлинно есть собачья», и не хотел ее принимать.
Отрицательно относился Елагин и к новым французским системам с пышными обрядами, многочисленными градусами и широким приемом всякого, кто уплатит за диплом. Но при всем при том Елагин был в сильной зависимости и от Берлина, и от Парижа. Кроме лож, основанных Елагиным по лондонским полномочиям, в Петербурге существовали ложи, созданные бароном Рейхелем по полномочиям шведского капитула в Стокгольме. Это вело к раздвоению власти. Наместный мастер видел, что многие ложи не признают его, тянут за Рейхелем, который стал как бы вторым провинциальным мастером. Желая и эти ложи подвести под свой молоток, Елагин вступил в переговоры. Но результат получился такой, что ложи Елагина и Рейхеля, принявши название «соединенных», реверсом, данным 3 сентября 1776 года, признали главенство берлинской главной ложи «Минервы»[51], основанной в 1768 году Циннендорфом, а тем самым подчинились герцогу Фердинанду Брауншвейгскому, по орденскому имени – рыцарю Победы, который являлся гроссмейстером именно системы «строгого наблюдения». Если в шведском учении преобладало учение Сведенборга, то в Берлине царили теософы, иллюминаты, префектибилисты и мистики, считавшие русских масонов темными варварами, лишь принявшими внешне масонство символических градусов, но чуждые высших знаний.
Общая сумятица и путаница увеличивалась еще и тем, что, когда герцог Шартрский основал в 1773 году «Великий Восток» Франции и создал в Париже многочисленный масонский конверт, одним из трех членов комиссии для ревизии и новой редакции постановлений о высших степенях был избран граф Александр Сергеевич Строганов. По его настоянию Елагин должен был в своих ложах кроме трех иоанновских степеней учредить еще четыре высших рыцарских, тамплиеровских. В четвертой степени носили на шее особый знак на зеленой ленте, а на груди – звезду с изображением креста Св. Андрея Первозванного, покровителя шотландского братства. Тем не менее и эти градусы не удовлетворили братьев. Вместе с модой на мистицизм, духовидение, алхимические работы к Елагину стали поступать требования о необходимости открыть еще высшие градусы оккультных знаний. Ему еще с 1777 года было прислано «верховно-братским избранием, силою и властию утвержденное вступление в первый класс достохвального ордена златого розового Креста, но последней главной реформационной конвенции составленное для благого употребления всех достойных братьев, имеющих право вводить и принимать других мастеров сияния света и потерянного слова». Но Елагин из сего «вступления» не сделал никакого употребления; называл его «катехизис рыцарей Розе-Круа», причем эти слова произносил русским говором, хотя и мог говорить по-французски в совершенстве.
Между тем в довершение сумятицы Москва, вечно ревнующая к своим правам, попранным молодой столицей, в лице тамошних мастеров и лож, решительно отказалась признавать главенство петербургского наместного мастера и по интригам Куракина, как считал Елагин, завела у себя тамплиерство и розенкрейцерство. Действовал там и пользовался необыкновенным уважением и авторитетом некий профессор Шварц, по орденскому имени брат Гарганус, при стараниях которого московские тамплиеры вступили в союз с митавской старой шотландской ложей. С Москвой от власти Елагина уходили те города, которых ложи открыты были московскими мастерами. Но от елагинских всероссийских притязаний уходили также Смоленск, Могилев, Шклов, вся Белоруссия и Литва.
Фрейлина «малого двора» Екатерина Ивановна Нелидова из смоленского имения своего привезла большой, окованный железом сундук, наполненный древними столбцами, хартиями и пергаментами XVI и XVII веков, по которым выяснилось, что еще до Петра Великого в Московии и Литовско-Русском государстве существовало древнейшее масонство, храмовничество, розенкрейцерство и иллюминатство, связанное со средневековыми рыцарскими, строительными и мистическими орденами, особливо же с ливонскими священнорыцарями и Мальтийским орденом. Сей драгоценный архив разбирал в Гатчине сам великий князь Павел Петрович с помощью Куракина, Кошелева и некоторых других близких ему особ. Хотя Елагин употребил все старания, чтобы получить доступ к сокровищам смоленского сундука, но, к величайшему его огорчению, великий князь наместного мастера к сему не допустил.
При такой общей неразберихе в ложах, столкновении систем и личных притязаний на власть можно сказать, что ложи в России не производили никаких работ и не имели других занятий, как только собираться в столовых и проводить весело время. Показать ревизору было решительно нечего. Но Елагин и не желал большего. Как секретарь императрицы и главный директор над зрелищами, Елагин доносил государыне обо всем происходящем в ордене. Сначала Екатерина относилась к масонам благодушно, почитая их безвредными чудаками и фантазерами, которые тешатся таинственными обрядами, сами себя возводят в степень, увешивают орденами и украшают лентами, разглагольствуют о добродетелях, пишут непонятные книги и преисправно пьют и едят и плотоугодием занимаются. Но с некоторых пор изменились взгляды Екатерины на орден, особенно когда в 1777 году шведский король Густав посетил Петербург и посвятил в орден Павла Петровича. Императрица сим обеспокоилась чрезвычайно и потребовала от Елагина точнейших донесений о всех действиях масонов, предположив, что Павел Петрович намерен учредить новый масонский орден и себя поставить его гроссмейстером. Но Елагин, утратив власть над большинством лож, запутавшийся в сумятице систем, не принятый в Гатчине, мог сообщать императрице только весьма смутные слухи и недостаточно твердые факты.
Вот в таких трудных обстоятельствах застало Елагина прибытие инспектора из Европы. Раздраженный, огорченный, обиженный выпадом Гагарина, в высшей степени обеспокоенный, к тому же ощущая в левой ноге подагрическую боль, наместный мастер угрюмо приступил к обряду приема и встречи визитора.
Визитор
Церемониймейстер с тростью вышел из ложи в соседнюю с ней залу. Страж врат затворил за ним дверь и стал около нее с мечом в руках.
Церемониймейстер увидел человека, одетого пышно и странно. Шляпа его была украшена перьями. Вишневая бархатная мантия расшита фиолетовыми гиероглифами. Под нею на груди покоилась великолепная цепь, по-видимому золотая, с таинственным зеркалом посредине и звеньями египетских жуков-скарабеев[52], сделанных из блестящих камней. На переднике визитора красовалось изображение сфинкса. Мистические перстни украшали пальцы поверх перчаток. Широкое пышное жабо теснило его жирную короткую шею. На бедре висел меч с крестообразной рукоятью. Визитор был не один. В креслах сидела дама, хотя и укутанная с головы до ног покрывалом, но из столь прозрачной ткани, что она позволяла видеть ее прелестное лицо, грудь, шею и весь ее стан. На голове красавицы был венок из роз.
Приняв от визитора знаки и проходное слово, церемониймейстер с недоумением и вместе с тем выражая как истинный рыцарь естественное восхищение, поднял вопросительный взгляд на даму.
– Я – граф Калиостро, посланник Великого Кофты[53], гроссмейстера египетского масонства Гиерополиса, пирамиды Хеопса, Мемнона и всего Востока! – с грубым южным французским произношением сказал визитор. – Особа, прибывшая со мной, есть жена моя, урожденная графиня Серафима ди Санта-Кроче. По статусам египетского масонства братья и сестры одинаково возводятся во все степени и допускаются к работам в ложах, ибо истинное масонство еще в раю открылось прародителям Адаму и Еве у древа познания, от коего и отведала Ева. Впрочем, в сих сертификатах найдете вы достаточное удостоверение.
– Граф Калиостро? – переспросил изумленный церемониймейстер. – Возможно ли? Вы и есть знаменитый граф Калиостро?
– Я тот, кто я есмь, – с улыбкой отвечал Калиостро. – Говор любопытной, но бессмысленной толпы создает знаменитость. Мудрый сим пренебрегает.
– Но вы в Петербурге уже третий месяц!
– Я проживал здесь инкогнито, под видом врача Гвальдо, занимаясь целением страдальцев. Но поспешите возвестить капитулу наше прибытие, брат церемониймейстер!
– Я в том не замедлю. Но должен вам представить, что по статусам капитула женщины в ложу не допускаются.
– Передайте вашему наместному мастеру эту записку. Будет достаточно!
Говоря это, Калиостро приложил к документам еще маленькое письмецо, сложенное треугольником.
Церемониймейстер поклонился и постучал трижды в двери ложи: два раза подряд и третий – повременив и слабее. Стоявший за дверями великий страж отвечал ему тоже тремя ударами.
Церемониймейстер снова постучал три раза. Тогда в ложе совершился такой обряд: страж подошел ко второму надзирателю и, трижды коснувшись его плеча, сообщил ему на ухо:
– Стучат в двери храма по-масонски.
Второй надзиратель ударил молотком один раз и повторил ту же фразу на ухо первому надзирателю.
Первый надзиратель тоже ударил молотком один раз и, подойдя мастерским шагом через ковер к балюстраде возвышения, доложил великому мастеру:
– Стучат в двери храма по-масонски.
Великий мастер ударил молотком один раз и сказал:
– Посмотрите, кто стучит. Если то брат церемониймейстер, то впустите его. Если визитор, спросите у него проходное слово. Если дерзновенный профан, пронзите его сердце мечом!
Это приказание первый надзиратель передал второму, второй – стражу врат храмины. Этот последний приотворил дверь, подняв против нее острие меча, и затем пропустил в ложу брата церемониймейстера, который подошел к балюстраде и застыл в почтительной позе, дожидаясь вопроса мастера.
– Брат церемониймейстер, – спросил тот, – кого нашли вы в покое утерянных шагов?
– Посланника Великого Кофты, гроссмейстера египетского масонства Гиерополиса, пирамиды Хеопса, Мемнона и всего Востока брата Калиостро и супругу оного – сестру Серафиму, урожденную графиню ди Санта-Кроче, того же священного ордена Великую Матерь, в удостоверение чего вручены мне патенты, сертификаты, грамоты и некое послание.
Произнеся это, церемониймейстер положил бумаги на алтарь перед креслом великого мастера.
– Калиостро! – пронесся невольный шепот изумленных братьев капитула.
Елагин поспешно взял документы и треугольную записку. Ознакомившись с ними весьма тщательно, он обратился к членам капитула:
– Почтенные братья, могу удостоверить вас в правильности представленных документов и прошу вашего согласия на допущение в ложу вышеозначенных лиц.
Между братьями начались переговоры и споры шепотом. Всех смущало то обстоятельство, что граф Калиостро пожаловал не один, а с супругой. Между тем в ложу капитула женщины до сих пор не допускались. Однако обошедшее всех треугольное письмецо, переданное братьям капитула наместным мастером, рассеяло все сомнения. К сему прибавилось и естественное любопытство, и желание увидеть необыкновенную красавицу, о чем церемониймейстер уже шепнул каждому из присутствующих. В особенности горел тем желанием, собственно неприличным для посвященных, которые должны быть чужды любопытству, свойственному профанам и черни, мастер ложи «Эрато» князь Мещерский, сей «сын роскоши, прохлад и нег», как сказал о нем поэт[54] Державин. Что касается графа Строганова, то он чрезвычайно интересовался самим Калиостро.
Придя к единодушному решению, члены капитула выразили свое согласие допустить визиторов тем, что единовременно подняли свои молотки и ударили один раз. Ржевский поспешно снял нагар со свечей, которые опять нагорели.
Великий мастер назначил двух ассистентов для сопровождения в ложу почетных гостей. Выбор его остановился на Мещерском и Голицыне. Вместе с братом церемониймейстером они вышли из ложи. Опять начались перестукивания, наконец в приотворенную дверь страж спросил: кто там?
– Это брат Калиостро и сестра Серафима, которые желают ознакомиться с нашими работами! – послышался ответ.
Двери затворили. Несколько помедлили в молчании. Потом великий мастер поднял молоток и ударил один раз – страж тотчас распахнул двери. Великий мастер ударил еще раз. Братья капитула поднялись, обнажили шпаги и скрестили их, образуя так называемый «стальной свод».
Появилась процессия. Впереди шел церемониймейстер, за ним ассистенты, несшие скрещенные шпаги так, что они образовывали косой крест. Войдя, церемониймейстер отошел в сторону и стал, опираясь на далеко отставленную трость, Ассистенты поместились по сторонам ковра, держа шпаги вертикально.
Великий мастер сошел с помоста и встал в восточной части ковра ложи.
Визиторы вступили под скрещенные шпаги на ковер, становясь последовательно на определенные фигуры его шагом посвященных. Калиостро свершил шествие, отчетливо отбивая шаг, почти прыгая, причем мантия его шелестела и будто летела за ним. Казалось, он находился в особом состоянии экстаза или сомнамбулизма. Отливавшее оливковой синевой лицо его было мертвенно-неподвижно, а глаза блуждали, сильно открывая при закатывании вверх блестящие белки. Но взоры всех невольно устремились на пленительную каменщицу, его безмолвную спутницу. Ее туника из очень тонкой ткани то отливала чудной белизной, то принимала шафранный оттенок, то рдела ярким пурпуром розы. Она приподняла края одежды обнаженными до плеч прелестными руками, охваченными золотыми запястьями в виде змей, и открыла до щиколотки ножки в парфянских хитроузорных прорезных сапожках, осыпанных цветными камешками. Выше щиколотки на обеих ногах ее тоже виднелись змееобразные браслеты, но черненого серебра. Она, видимо, открыла ноги с той целью, чтобы братья видели ее мастерский шаг.
Движения складок переливчатой туники то скрывали, то пленительно выдавали совершенные формы тела Серафимы. Розы рдели над склоненной ее головкой, а черные кудри рассыпались по плечам. Всю ее белоснежной дымкой еще окутывало широкое тончайшее покрывало. Другое покрывало, черное, сверкало темным таинственным блеском. Пропущенное под правой рукой и закинутое на левое плечо, оно обвивало ее бедра, очерчивая их соблазнительную форму и открывая левую, совершенно обнаженную грудь. За плечом покрывало спускалось широкими складками и веяло, как черное крыло. Золотые звезды и серебряный лик луны были вышиты по черному фону покрывала. Таинственную прелесть одеяния, всего тела жрицы сопровождало весеннее благоухание, исходившее как от роз из ее венка, так и от невидимых благовоний.
Когда Калиостро и жрица совершили символическое путешествие под стальным сводом и приблизились к великому наместному мастеру, члены капитула с шумом вложили свои шпаги в ножны и стали рукоплескать, одновременно и ритмично. Елагин принял знаки и слово от Калиостро и заключил его в братские объятья. Потом обратился к пленительной каменщице с улыбкой восхищения ее красотой. Не без зависти братья наблюдали за тем, как он пожимал ей ручку, как, приблизив уста свои к уху мастера, она шептала ему проходное и священное слово высшей мистической степени. Это длинное слово нужно было произносить по слогам, так что мастер шепнул первый слог, а жрица – второй, мастер – третий, та – четвертый и т. д. Лицо и ухо Елагина довольно долго находились в ароматном и теплом соседстве с устами прекрасной Серафимы. Затем жрица коснулась устами увядших губ старика и ускользнула из его объятий. Елагин с глубоким реверансом преподнес ей свой молоток. Поблагодарив его наклоном головы, она, по обычаю, отказалась. С гораздо меньшей любезностью мастер предложил свой молоток и мужу красавицы. Калиостро тоже не принял сего знака власти.
После этого они поднялись на помост. Секретарь наместного мастера молодой князь Кориат, не спускавший все время восхищенного взора с таинственно-прекрасной Великой Матери и жрицы египетского масонства, поспешил поставить по правую и левую руку Соломонова трона два кресла для визитора и визиторши.
Ржевский снова устремился снимать нагар со свечей, хотя теперь они горели настолько ярко, насколько это вообще возможно для девяти сальных свечей.
Удостоверение личности
Заняв Соломонов трон, Елагин обратился к Калиостро и сказал:
– Согласно статутам священного капитула Великого Востока восьмой провинции благоволите, достопочтенный брат, изъяснить вслух всем достолюбезнейшим и почтенным членам ложи причины вашего к нам прибытия и вшествия в сие время в оный город и в наше святилище!
– Охотно изъясню все сие, высокопочтимый мастер! – отвечал Калиостро. Он отбросил за кресло край своей длинной мантии, садясь, оправил на груди цепь с круглым зеркалом, причем мимоходом глянул в него, и простерши руку, горевшую перстнями, обозначил знак высшей магической власти, пред которым все склонили головы.
– Почтеннейшие братья! – начал говорить Калиостро. – Уже одно благоговение к сему святилищу, конечно, всякого принудило бы хранить в нем молчание или изрекать истину! Но представленные нами патенты, обнаруженные знаки и слова, сия цепь на груди моей, сия мантия и меч – все порукой вам в том, что если сказанное мною далее, мнится, будет трудно постижимым и невероятным, причиной тому слабость зрения, не выносящего яркого света, мирозапутанное состояние даже стоящих у врат мудрости, бессилие слова человеческого поведать неизъяснимое, почему принуждены мы прибегать к символам и гиероглифам. Однако я не среди непосвященных! Вы знаете, сколь величественно наше искусство, сколь далеко простирается. Вы знаете, что масон, обладающий таинством великого дела, имеет способ излечивать все болезни тела и жить несколько сот лет по примеру древних праотцев! Обладает он способом производить богатства, превосходящие сокровища всего мира, имеет средство беседовать с ангелами и силу остановить Солнце, с Иисусом Навином и с Илиею отверзать и затворять небо![55] Знаете вы также, что истинное масонство еще в раю открылось, но неумеренное праотца нашего вожделение, испустив страшное из твердых заклепов зло, дало ему волю неистовствовать в телесном веществе! Тогда первобытное таинство сокрылось. Однако в избранных душах оно сохранилось и, переходя от мудреца к мудрецу на год, и месяц, и день, и час, соблюдено! И ныне я истину пред вами свидетельствую, что уже близко и при дверях откровение святыни и преображение мира! Именно с тем я и прибыл на Север, чтобы здесь благоволить воссиять свет над главой Великой Жены в ясном блистании! Здесь именно откроется мать созвездий, родоначальница времен, Праматерь Мира! Итак, выходите, выходите за врата, посвященные, выходите со светильниками в руках, чтобы светом земного огня почтить высшую госпожу небесных созвездий!
Граф Калиостро на минуту умолк. И все хранили молчание, одуренные потоком темных слов визитора.
– Не будете ли столь добры, граф, – с приятной вежливой улыбкой сказал Елагин, – не будете ли столь добры от гиероглифического языка перейти к общедоступному и, согласно статусу капитула, изъяснить точно, откуда и с какой целью прибыли вы к нам и какую, собственно, роль в святилище нашем вы имеете на себя принять.
Насколько восхищала главного директора театров красота жены Калиостро, настолько неприятное впечатление производил на него сам посланник Великого Кофты. По манерам, словам и костюму Калиостро казался Елагину самым вульгарным шарлатаном. Последним словам великий мастер придал явно иронический оттенок и при этом окинул визитора с ног до головы пренебрежительным взглядом.
Но Калиостро даже не смотрел на наместного мастера. Взор его витал в вышине.
– Какая цель нашего прибытия? – повторил он вопрос Елагина. – Сие слово от стрельбы взято и по употреблению на игрищах, к работам каменщиков неприлично к применению Какую ролю мы имеем на себя принять? – Тут вдруг синеватые губы Калиостро осклабились, и глаза его, спустившись из верхов к окружающим предметам, глянули из-под круглых бровей, словно мыши, шмыгнули туда-сюда и опять скрылись. – Какую ролю? У нас нет ничего театрального, – с явной насмешкой выговорил Калиостро на грубом своем южнофранцузском наречии. Члены капитула пошевелились, скрывая улыбку. Елагин почему-то чрезвычайно рассердился и заговорил уже брезгливо и ворчливо, свысока, всем видом показывая, что хотя в ложе и почитались титулы за ничто, все равны и братья, однако он, Елагин, статс-секретарь государыни, сенатор и кавалер, а прибывший визитор не кто иной, как темный проходимец и промышленник, и, вступив в собрание столь избранных особ и первых, можно сказать, вельмож империи напрасно забывается.
– Государь мой, в статусах сея почтенные ложи определенно сказано, что визитор должен изъяснить причину своего прибытия и вшествия в собрание капитула, хотя бы представленные им патенты право на сие несумнительно утверждали. Ежели же он объяснений удовлетворительных не представит, то, первое, к рассмотрению работ в капитуле допущен не будет: второе, налагает на него наместный мастер весьма значительный денежный штраф, на цели благотворения направляемый.
– Мне кажется, что толикие патенты, а главное, рекомендательные письма высоких в ордене особ избавляют господина Калиостро от применения к нему статута, направленного против вкрадывающихся любопытных особ, в Европе принятых легкомысленно, как часто там бывает, – заметил Гагарин – Имя господина Калиостро знаменито…
– Вот именно так, князь, – с живостью перебил, переходя на русский, Елагин. – Именно так! Ныне в Европе даже к наивысшим степеням без разбора всякого звания люди и самые невежды допускаются. Да, вот далеко ходить за примером не надо: два повара-француза, в услужении у меня бывшие и, кроме ложных счетов, ничего писать не умеющие, показали мне достаточные грамоты из лож, один из них даже рыцарем Розе-Круа и Востока сделан. Они, кроме имен и ложных слов и лент, ничего не знают. Отойдя от меня, они, однако, продолжают в вольном каменщичестве упражняться. Здесь есть ныне и две ложи в домах у министров и с моего дозволения: одна французская ложа «Скромности», другая – итальянская – «Комуса», в которых упражняющиеся мастера – оба французы и повары. Один, точнее, великий патисер и конфизер сиер Бабю, на поварнях Бецкого упражняется в своем искусстве и строит весьма добропорядочно торты, желеи, муссы и всякие кремы. Многие из здесь сидящих особ их отведывали, чай, на обедах сего вельможи? Да! А меж тем сии кухари – каменщики, и даже не долее как в пятницу имеет быть у них собрание соединенное обеих лож для принятия несколько поваренков, кафешенков и кухмейстеров разных наций в компаньоны и мастера. Если б я не дозволил им по их обыкновению работать, они бы, невзирая на то, не преминули открыть ложи по дозволению в патентах их от Великого Востока Франции и гроссмейстера дюка де Шартра данному. Из сего примера заключите, сколь нам должно осторожными быть. Кто такой сей пришелец, и подлинно ли он есть граф и Калиостро знаменитый или какой-нибудь пройдоха…
– Осторожно, ваше превосходительство, он, может быть, по-русски понимает! – заметил граф Строганов.
– Ну где ему понимать! Посмотрите на его физиономию!
В самом деле, лицо Калиостро приняло совершенно лунатическое выражение, глаза блуждали под потолком храмины, и казалось, что он не только ничего не понимает, но едва ли помнит, что он на земле и в телесных границах находится.
– Он ничего не понимает, – подтвердил Гагарин. – Но все же письма, им представленные…
– Ах, князь! – с досадой перебил Елагин. – Ужель вам приведенного примера недостаточно? Но едва ли и сам сей граф и Калиостро не из поваров будет! У него сейчас именно такая мина, словно он на горячей плите в кастрюле мешает, а пар ему клубом в морду бьет, так он ее и задрал. Письма! Патенты! Все сие отмычки, может быть, воровские, чтобы проникнуть в наши чертежи. Нам весьма осторожными быть должно уже потому, что русские люди без пути доверчивы к иностранцам, и всякий, кто по-французски болтает, у нас за великую персону приемлется. А язык сего графа весьма груб, и прононс его именно всего более кухарю приличен, нежели подлинному графу. Иное дело – супруга его. Прелестная сия особа может быть для нашего театра добрым приобретением. Посему заявление господина Калиостро, что у него нет ничего театрального, – напрасно! Мне Габриэльша на репетиции о сей красавице рассказывала, что она через свою карлицу с ней познакомилась. Красавица отлично поет!
– Вполне разделяя мнение вашего превосходительства о необходимости соблюдения величайшей осторожности, – заметил Строганов, – все же нахожу я, что если сей визитор есть подлинный Калиостро, то может он сие обнаружить великими силами, коими тот знаменитый муж стяжал, можно сказать, изумление всех народов, так что во многих ложах за границей статуи ему воздвигнуты с подписью: «Божественному Калиостро». Итак, пусть и сей обнаружит перед нами те силы и великое искусство, о коих сейчас говорим, хотя бы в чем-либо. То лучшее будет удостоверение его личности.
– Прекрасно сказано, достопочтенный брат! – подхватил Мещерский. – Испытаем сего пришельца и на деле увидим, чего он стоит.
– Пусть он себя покажет! Пусть покажет! – подтвердил и Куракин.
Его поддержали и другие. Все члены капитула подтвердили решение дружным ударом молотков.
Любезно улыбаясь. Елагин на отличном французском языке объяснил Калиостро, что от него требуется. Тот выслушал спокойно и в знак того, что все понял, кивнул.
Ржевский поспешил заменить новыми шандалы со свечами – старые уже выгорели почти до бумаги.
Искусство Калиостро
Некоторое время все сидели в торжественном молчании. Любопытство членов капитула было напряжено до предела. Калиостро казался погруженным в глубокое размышление. Вдруг он поднялся с кресла. Казалось, что он молился, так как губы его беззвучно шевелились. Правой рукой он обнажил свой блестящий меч. В левой откуда-то появилась небольшая курильница с ручкой. Он подул в отверстие на конце ручки, представлявшей змея с раздувшейся шеей, и из отверстия курильницы вырвалось облачко сладковато-ароматического дыма.
С курильницей и мечом в руках Калиостро быстро обошел всю ложу так, чтобы клубы курения, струясь за ним и бурно развивающейся мантией, составили знак Меркурия – большой круг с рогами и крестом. Необычайно было мастерство, с которым некромант из дыма выписал сей таинственный знак.
Став затем лицом к востоку и ко всем членам капитула, Калиостро поставил на пол курильницу, из которой подымался густой струей дым, и громко стал читать непонятные заклинания. При этом он наступал, как бы фехтуя с невидимым противником, грозно топал ногой и махал мечом… Но вот он вложил меч в ножны и стал неподвижно, уже беззвучно шевеля губами и обводя странными, оловянными какими-то глазами с чрезвычайно расширившимися зрачками все собрание. Все, не отрываясь, смотрели на магика. Вдруг он указал на зеркало, висевшее на его груди, как бы приглашая соединить взоры на нем. Потом провел по зеркалу рукой, и оно стало черным и блестящим, как агат. Он провел по зеркалу во второй раз, и в центре появился огромный, изумительной чистоты и блеска алмаз.
Члены капитула в сокровищницах своих имели наследственные камни высокого достоинства и видели довольно бриллиантов, знали им цену. Но тут они не сдержали изумления. Камень показался им не имеющим цены. Пока они любовались игрой его граней, Калиостро покачивался, простирая вперед руки и монотонно завывая на неведомом языке странные восточные стихи. Вдруг он взмахнул руками, и все совершенно ясно увидели, что пламя свечей, горевших на полу, поднялось до половины высоты комнаты и стало извиваться девятью пламенными языками. Калиостро опустил руки – и языки пламени возвратились к светильням. Вновь поднял руки, и пламя снова поднялось ввысь… И так до трех раз.
Это простое, но чудесное явление наполнило ужасом членов капитула. Но они сидели недвижно, скованные странным оцепенением, не в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Только сердца их учащенно бились, порой пол начинал уплывать из-под их кресел и тихо позванивало в ушах.
Вдруг в руках Калиостро явилась изящная серебряная флейта. Он поднес ее к губам и извлек гармоничный, стенящий звук. Затем отвел флейту от губ, но она сама по себе продолжала издавать до боли сладостный, томящий звук. Калиостро повел флейтой, и таинственные голоса невиданных инструментов, как будто играя на стеклышках или серебряных колокольчиках, присоединились к основному, стенящему на одной ноте звуку. Мелодия все ускорялась и ускорялась… И вдруг сидевшая дотоле неподвижно на помосте Серафима поднялась, невесомо сошла вниз и пошла кругом ковра и между свечами в стройной пляске. Ее прозрачно-туманные одежды струились и клубились. Она склоняла головку, увенчанную розами, то к одному, то к другому плечу. Ресницы ее были опущены, алые уста трепетали неизъяснимой улыбкой, белое покрывало летало вокруг, кудри бились за плечами, тускло блестящее темное покрывало, сверкая вытканными звездами, как змея, обвивало ее бедра и тонкий стан. Концы покрывал, похожих на белое и черное крыло, широко веяли за ее спиной, руки протянуты были вперед, и тонкие алые пальцы ее трепетали, ноги, переступая в быстрых па, открывались порой от ступни до бедра. Неизъяснимо сладостна была ее пляска, соединявшая смелое сладострастие с целомудрием и совершенной красотой. Сердца зрителей ныли и трепетали от сладкой боли. Мелодия лилась, струились клубы курения, жрица танцевала между свечами и укрытым черным покровом гробом.
Серафима остановилась в ногах гроба и, подняв конец черного покрывала, перекинутого через левое плечо, обнажила красивую грудь, белую, как мрамор, с розовым возвышением соска, а черным покрывалом закутала себе голову. В то же время стоявший за ее спиной Калиостро извлек нож из ножен, нагнул голову красавицы и вдруг вонзил ей с левой стороны шеи меч по самую рукоять. Вопль ужаса вырвался из уст присутствующих. Но они не могли пошевелиться, не могли разорвать оковавшие их чары и только смотрели, как Калиостро поддержал склонившееся тело несчастной, как он вынул меч из шеи, и кровь густой струей хлынула из широко отверстой раны, как он ловко подставил под кровавую струю узкогорлую золотую урну, так что ни капли не пролилось на одежду жрицы и на пол.
Но вот кровь перестала литься. Калиостро поставил урну на пол, подхватил бездыханное тело убитой за талию, подволок к гробу, ногой сбросив с него покров и крышку и, высоко подняв тело супруги, безжалостно швырнул его в гроб. Потом, бормоча заклинания, взял урну, обошел свечи и залил кровью пламя каждой из них. Голубой свет распространился вместе с клубами курения в храмине, и она вся преобразилась. Пол стал мраморный, потолок образовал черный купол, усеянный золотыми звездами. Его поддерживали колонны из лапис-лазури[56] и малахита. Свечи и подсвечники превратились в высокие штамбы, на которых расцвели огромные огненно-красные лилии.
Преобразился и внешний вид самого Калиостро. Он стал высокого роста, рогатая тиара с крылатым змеем-аспидом венчала его голову, египетские повязки были под ней. Одежды его из золототканой парчи напоминали египетский саккос. Он стал в ногах гроба и начал громко читать заклинания, потрясая руками и преклоняя тиару. Та же музыка лилась в храмине. Но основная, стенающая нота ее достигла нестерпимого напряжения, а аккомпанировали ей, казалось, соборные колокола. Вдруг прозрачная тень поднялась над гробом, она реяла. Некромант продолжал заклинания, звон и мелодия продолжались. Тень реяла и мало-помалу приобретала все более и более определенные очертания: бледное, телесно-туманное очертание нагой, дивно-прекрасной женщины явилось и как бы поплыло в клубах курений над гробом. Головка ее в венке из роз склонилась на правое плечо, над левой грудью чуть алела рана, мертвая улыбка бесконечного блаженства и бесконечной скорби трепетала на ее губах.
Вдруг молодой князь Кориат нечеловеческим усилием воли одолел сковывавшие его чары и, сорвав с шеи большой крест, носимый им по званию рыцаря-храмовника, бросился на Калиостро, восклицая громовым голосом:
– Проклятый убийца!
Калиостро махнул рукой. Молния прорезала воздух. И тотчас страшный удар грома потряс храмину и обрушил ее потолок. Мгновенно все потухло, настала непроницаемая тьма…
Сколько времени прошло, пока очнулись члены капитула, они сами потом не могли сказать. Наконец в темноте послышались стоны. Потом дрожащие голоса братьев масонов стали окликать друг друга. Затем, убедившись, что все они живы и невредимы, поднялись слабые, изнеможенные, с болью во всех членах, качаясь от нестерпимого головокружения и ломоты в висках. В темноте, ощупью, спотыкаясь и опрашивая друг друга: «Князь, это вы?» и т. д., они добрались до двери, спеша выбраться из храмины, отравленной слащавым куревом. В соседней зале было светло. В окна струился розоватый свет весенней зари.
В то время как одни открывали окна в сад и жадно глотали свежий воздух, другие криками призывали слуг. Те, услышав отчаянные вопли своих господ, скоро явились с зажженными свечами. На вопросы, слышали ли они что-либо, слуги только хлопали заспанными глазами – они ничего не слышали. Так как это были посвященные в низшие степени ордена крепостные люди, то их послали осмотреть ложу.
Слуги робко вошли в запретную ранее для них залу ложи. Господа толпились за их спинами, нерешительно заглядывая в храмину. Но там решительно все находилось в обыкновенном своем виде, все было на местах и в порядке. Только сладковатый запах остался. Ни Калиостро, ни Серафимы там не было. Князь Кориат, секретарь Елагина, лежал на ступенях помоста без чувств, лужица крови темнела рядом с его головой – на виске виднелась ссадина. Видимо, падая, князь ударился о какой-нибудь выступ.
Все бросились оказывать ему помощь. Его подняли, вынесли из ложи и, уложив на диване, старались привести в чувство. Свежий воздух повлиял на молодого человека, он наконец вздохнул, застонал и открыл глаза…
Князь Голицын отрядил свою карету за доктором. Кто-то спросил слуг, выпускали ли они из помещения визитора и его супругу. Служители под клятвой заверили, что они не видели их с тех пор, как проводили в ложу. Никто – ни швейцар, ни сторожа в саду и в воротах – ничего не могли сказать определенного, куда делись иноземные гости. Они, по их словам, приехали в наемной карете и вышли на улице у ворот. Одеты были в темные домино, которые совершенно их окутывали, и в масках. Карета тотчас уехала. А таинственные гости, сказав в воротах сада и в подъезде ложи проходное слово, прошли в «залу потерянных шагов», не снимая домино. Служители даже не догадались, что одна из сих персон – женского пола.
Эти домино, весьма ветхие и полинялые, нашли брошенными в углу залы.
Как исчез из ложи магик и его супруга, осталось неизъяснимым.
Послание Великого Кофты
Князь Кориат пришел между тем в себя. Ранка на голове оказалась небольшой, и когда ее, в ожидании врача, промыли и перевязали полотенцем, князь поднялся, чувствуя лишь общую слабость, разбитость и головокружение. Но он никак не мог сразу припомнить, что же с ним произошло, как он оказался на полу. Остальные члены капитула чувствовали себя не лучше. Смущенные, они не знали, что и думать обо всем происшедшем на их глазах. Елагин казался совершенно растерянным и от крайнего недоверия к таинственному визитору перешел к слепому благоговению его.
Между тем врач светлейшего князя Потемкина, пользовавший и племянниц его с семействами, а между ними и Варвару Васильевну Голицыну, прибыл наконец в капитул. Он был тоже свободным каменщиком и, следовательно, таить от него подробности происшествия не имело смысла.
Осмотрев рану Кориата, он сделал ему примочку и состояние пострадавшего признал вполне благополучным. Жалкая растерянность членов капитула внушала ему большие опасения. На вопрос его: «Что же произошло?» – братья масоны сбивчиво рассказали ему о чудесах, показанных им графом Калиостро.
– Граф Калиостро? – изумился врач. – Как, сам Калиостро в Петербурге?
– Да, он проживает здесь уже третий месяц под именем Фридриха Гвальдо и занимается пользованием недужных.
– Фридрих Гвальдо! Презренный шарлатан, о зловредных обманах коего уже донесено медицинскому факультету. Возможно ли, что это сам знаменитый Калиостро?! – вскричал врач.
– Представленные им документы сие подтверждают.
– Впрочем, и сам господин Калиостро, вероятно, из тех промышленников, строящих на легковерии ближних свое благосостояние, темных проходимцев, какими теперь полна Европа! – скептически произнес врач.
– Тс-с-с, – с испугом остановил его Елагин, опасливо озираясь. – Прошу вас не выражаться так о муже, показавшем столь необыкновенные чудеса.
– Некромант сей нас не может слышать. Чего же вы, ваше превосходительство, опасаетесь?
– Не может слышать?! Но мы даже не знаем, где он в сию минуту находится.
– И я должен сказать, – добавил Голицын, – что сам светлейший слышал о необыкновенных исцелениях, совершенных уже Фридрихом Гвальдо. И посылал к нему своего камердинера, чтобы призвать к нашему болящему младенцу.
– И шарлатан сей с дерзостью отказался прибыть! Я слышал сию историю, князь, и должен высказать недоумение, что светлейший, при их уме и познаниях, пренебрегая правильной медициной и мужами науки, обращаются к уличному ведуну, не имеющему даже диплома доктора!
– Вы забываете, доктор, – вмешался тут граф Строганов, – что Гвальдо оказался совсем не Гвальдо, а Калиостро. Сей Калиостро есть масон высших степеней и обладает тайнами великого дела, что и доказал необычайными явлениями, коих были мы свидетелями, столь же непостижимыми, сколь действительными и могущественными. Наши мудреные мастера суть одни законные испытатели натуры. Они знают натуру в целом ее округе, понеже наука их вникает во внутреннейшее ее и подает им безопаснейшую руководства нить в тысячекратном лабиринте ее бесчисленно различных действий безопасно выискиваться, все развивать, искусно и твердо загражденные замки размыкать и в центре натуры все в пространственном ее царстве находящиеся явления изъяснять и доказывать. Напротив, профанские физики, так называемые натуры-испытатели и натуры-учителя, кругом скачут всегда на поверхности всех трех натуры царств, копят гипотезы на гипотезы и во мраке блуждают.
– Медицинский факультет, к коему имею я честь принадлежать, – начал было доктор, но его перебили и стали рассказывать, дополняя и поправляя друг друга, по порядку все явления, показанные капитулу Калиостро. В подробностях показания, однако, были противоречивы, что приводило к спорам. Доктор слушал всех внимательно.
– Ну, как же вы изъясните все сие наукой вашей? – не без ехидства спросил его Строганов.
– Божественный Картезий[57] завещал нам основное правило: расчленяйте трудные задачи, – отвечал доктор. – Рассечем и мы сии трудности.
– Да, да… Вы все живое и целостное на части рассекаете и, получив труп бездушный, токмо пустоту схватываете! – включился в перепалку Куракин.
– Конечно, некромант прибег к курениям, слащавый и ядовитый запах которых по сию минуту мы ощущаем. С той целью, чтобы вызвать опьянение и волнение крови, при вскипячении коей в органах человека отделяются живущие в них духи и производят в мозговых корках фантомы[58].
– Да мы не в мозговых корках, а перед носом своим все видели ясно! – возразил Куракин.
– И чем вы объясните поднятие свещ на воздух?
– Не свещ. Только пламя подымалось!
– Я видел, что шандалы за рукой магика ходили по воздуху!
Доктор начал пространно объяснять поднятие пламени извлечением флогистона[59] из воздуха, но объяснение то было темнее самого явления. Оно вызвало полное недоверие членов капитула.
– Флогистон, или точнее – огненно-жидкая влага вещей, будучи извлечена, – с важностью возражал Строганов, – всю бы храмину сожгла.
– Никак нет, ибо, хотя налитый на сей деревянный стол спирт удобен к воспламенению, он не угрожает деревянной материи стола!
– Но как вы объясните, что Калиостр на глазах наших супругу свою пронзил мечом в шею, всю кровь извлек из раны, собрав ее в сосуд…
– Я не видел того сосуда. Он собирал кровь большой губкой, – сказал кто-то.
– И рана была нанесена не в шею, а между лопаток! – утверждал другой.
– Нет, он рассек женщине мечом грудь! Я видел, как трепетало в отверстии сердце! – возражал третий.
– Это не важно! Мы все видели, что труп был брошен в гроб и закрыт крышкой!
– Да, да! Совершенно ясно видели!
– А между тем потом над крышкой встала тень убитой – зидерический ее астросом! Это, достопочтенные братья, все видели?
– Все! Все!
– Но ведь это доказывает, что женщина в самом деле была убита! Но тогда где же ее тело?
– И где сам Калиостро?
– Где оба?
– Но вы же осматривали ложу? – спросил врач.
– Осматривали тщательно и весь дом, и сад, и двор. Никого не найдено.
– Ну а в гробу вы не смотрели?
– В гробу? Смотрели ли в гробу? Кажется, не смотрели. Да, да, в гробу не смотрели!
– Ну вот видите, сколь поверхностно было ваше исследование, – сказал торжествующе врач.
– Мы сейчас посмотрим, – заявил Куракин.
Члены капитула направились к дверям ложи, однако вошли не сразу, а несколько замялись, пропустив вперед себя доктора, который сам вдруг стал бледен и нервен. Занавесы на окнах ложи были подняты. Утренний свет лишал обстановку таинственности. Тем не менее члены капитула топтались вокруг покрытого покровом гроба, говорили о том, что надо открыть его и посмотреть, но все не решались коснуться крышки. Решили уж было позвать для того служителей, когда в ложу смело вошел юный князь Кориат с повязкой на голове, бледный от кровоизлияния. Решительно приблизился он к гробу, сдернул покров и, взяв крышку поперек, приподнял ее и отставил в сторону.
Члены капитула с трепетом заглянули внутрь: гроб был пуст.
Князь Кориат несколько мгновений стоял над пустым гробом, держа крышку в руках. Казалось, он не верил своим глазам и все ожидал явления бездыханного тела красавицы в сем темном жилище смерти. Вдруг он отшвырнул гробовую крышку, схватился руками за голову и выбежал из ложи.
Доктор приблизился к гробу и тщательно осмотрел его, отыскивая следы крови. Но ничего похожего не нашел. Только на дне оказалась бумага с какими-то письменами. Он указал на нее подступившим ближе братьям. Все удивились. По ритуалу гроб стоял совершенно пустой. Елагин осмелился протянуть руку и извлек бумагу из гроба. На ней был французский текст.
«Великому наместному мастеру и всему капитулу», – прочитал дрожащим голосом Елагин. – Это какое-то послание нам. От кого бы это?
– Позвольте, ваше превосходительство, я прочту! – сказал князь Гагарин.
– Нет, князь, послание мне именно адресовано, так я и прочту! – отстраняя от того бумагу, заявил Елагин.
– Так читайте, ваше превосходительство!
– Читайте, читайте! Что это такое? – подхватили братья масоны.
«Честь, мудрость, единение! – прочитал Елагин первые строки. – Благотворительность, благоденствие! Мы, Великий Кофта, во всех восточных и западных частях земли, основатель и гроссмейстер великого египетского масонства, облекли властью и назначили, и поручили, и аккредитовали для блага человечества, для усовершенствования великого дела, для осияния светом стран Севера мужа, исполненного силы и мудрости, полномочного посланника нашего графа де Калиостро, который, являясь к вам, братья капитула VIII провинции, и к наместному великому мастеру реченной провинции, представил патенты и сертификаты, и письма, и знаки, и слова, возвещая вам о имеющем открыться для Скифии[60] и Сарматии и для Гипербореев мраза и тьмы, и вы, капитул и мастер, приняли сего избранного мужа не по-братски и не оказали должного уважения к великому сану, нами на него возложенному, имели о нем оскорбительные и скаредные суждения и легкомысленно хотели испытать его силы и дарования, и могущество, и власть; он показал вам все сие, свершив дела, изумившие вас, но кои лишь ничтожная пылинка его мудрости, и затем изшел от вас и укрылся в убежище, которое близко, из которого он вас видит, вы же его увидеть не можете; он вас слышит, вы же его не можете услышать; он вас касается, вы же не можете его коснуться; из сего убежища дал он знать нам, Великому Кофте, о скаредном вашем поведении, о несмысленных поступках; и мы, Великий Кофта, из Понтийского моря[61] мудрецов протянули руку и положили сие послание в вашей ложе в сей смертной урне! Читайте, капитул и мастер, читайте! Познайте, что вы потеряли: великое откровение явилось бы к вам, и некое бесчисленное сокровище злата, перлов, драгоценных камней, которое около вас, было бы вам передано, но вы не захотели сами.
И теперь слушайте, капитул и мастер! Вы не увидите предопределенного того мужа, пока не раскаетесь чистосердечно и не умолите нас, Великого Кофту, вас простить! Ей-ей! Истинно так. И еще слушай, наместный мастер VIII провинции, за дерзкие слова против нашего посла ты скоро будешь наказан! И слушай ты, отец болящего младенца, только силы нашего посла могут исцелить его! И слушай ты, называющий себя врачом, Великому Кофте известно, что совершено тобой в левом павильоне, в Голубой комнате в полночь при трех яблоках и ананасе! Трепещи обличения, невежда, именующий себя врачом!
Дано на Востоке всех Востоков, в Медине, в Мемфисе и Иерусалиме, при гробах Магомета, Хирама и Христа…»
Внизу стояла странная печать, разделенная на четыре части крестом с греческими буквами на концах… В каждой части имелись мистические изображения: змея, пронзенная стрелой, павлин с жезлом, ягненок с крестом, еврейская буква «альф».
В столовой ложе
Если послание Великого Кофты, по мнению писавшего, должно было окончательно убедить капитул в могуществе Калиостро, то это было совершенно ошибочное предположение. Прежде всего слушателей, превосходно владевших французским языком, поразили синтаксические ошибки послания, а Елагина, его читавшего, орфографические. Потом всех возмутил напыщенный и оскорбительный тон послания и особенно обращение во втором лице к Елагину и Голицыну в конце его. Впечатление, произведенное опытами некромантии, было испорчено.
– Шарлатанство! – решительно сказал Куракин.
– И кто сей Кофта, пишущий единовременно из Медины, Мемфиса и Иерусалима? – вопросил Строганов.
– Но как очутилось послание в гробу? – спросил Гагарин.
– Он сам написал его предварительно, а во время темноты и общего смущения сунул в гроб, – решительно заявил Елагин. – Я узнаю харчевенный его слог. И опять прихожу к заключению, что он из поваров, как и мои рыцари Розе-Круп! В высшей степени нагло играть с нами такие штучки и потом еще обращаться столь дерзким тоном ко мне, великому наместнику, мастеру, статс-секретарю, сенатору и кавалеру!
– Тон письма подлинно и шарлатанский и дерзкий. К тому же оно безграмотное, – решил и Строганов.
– Видимое дело, что мы стали жертвой ловкого искусника, фокусника и промышленника, и во всех его чудесах одна ловкость рук, натуральная магия, отвод глаз, и только! – говорил напористо Елагин.
– Что значит сказанное в письме, будто Калиостро ныне в таком странном месте обретается, что нас он видит, слышит и осязать может, а мы его – нет?
– Если так, пусть он слышит, что я его наглецом и шарлатаном именую, и видит, что ему язык показываю! – сказал Елагин и действительно показал язык.
– Но он грозил вашему превосходительству какими-то бедами, – заметил Гагарин.
– Шарлатанство и заговор с прислугой! Очевидный заговор с прислугой, – возмущенно говорил Елагин.
В основе своего характера он был большой вольтерьянец и склонен к скептицизму, хотя и увлекался мистикой, но как отдыхом; затем ему был свойствен некоторый цинизм и даже легкое, насмешливое кощунство. В столовых ложах после важного заседания, за кубком, Елагин весьма часто трунил над всем тем, что занимало его полчаса назад. Настроение Елагина передалось и прочим братьям капитула уже потому, что напряженные нервы требовали разрядки, а трезвая действительность весеннего утра, яркий солнечный свет, щебет птиц в саду, свежий ветерок, залетавший в открытые окна и обвевавший разгоряченные головы, – все способствовало отрезвлению. Теперь шарлатанство Калиостро всем казалось очевидным. Вспомнили, что он заливал свечи кровью, выцеженной из красавицы. Между тем они оказались без всяких следов этой операции. Но если не было крови, не было и убийства!
– Конечно, не было! В противном случае должно было бы известить полицию и задержать сего некроманта! – решительно заявил Куракин.
– Это, во всяком случае, было бы недурно. Полагаю, что нет такого тайного места, в которое бы Калиостр возмог от недреманного ока господина Шешковского[62] укрыться! Хе, хе! – засмеялся Елагин.
– Да, некромантика господина Шешковского превзойдет всех магиков Европы! Ха, ха, ха! – засмеялся и Строганов.
– Но обратите внимание, сколь смущен и молчалив наш доктор! – шутил Елагин.
Домашний врач светлейшего ранее, когда все ему противоречили, столь смело утверждал, что Калиостро не более чем шарлатан, теперь в самом деле сконфуженно помалкивал.
– Полагать должно, что господин Калиостро подлинно о нем что-то проведал, – предположил Елагин, развертывая послание Великого Кофты.
– Признайтесь, доктор, что такое совершено вами в левом павильоне, в Голубой комнате, в полночь при трех яблоках и ананасе? При чем тут ананас?
– Я не понимаю… Тут какая-то сплетня… Я не понимаю, – смущенно бормотал доктор.
– Вся сия передряга, достопочтенные братья, наилучше подтверждает мою правоту, – говорил Елагин. – Остерегаться нам должно пришельцев, хотя бы и великими титлами и степенями облеченных. Теперь же, чтобы окончательно отряхнуться, прошу вас пожаловать в столовую ложу. Ужин, нам приготовленный, не тронут стоит и явится ранним завтраком. Должно подкрепить силы добрым стаканом вина и устресами. которые всегда полезны и, хотя без ног, но вкусны. Приятная, легкая шутка и дружески пропетый гимн освежат наши мозговые корки, как выражается милейший доктор, фантомами некромантики закопченные. Идемте! Гей, люди! Приказать повару изжарить тот соус, знаете? Что я сам объяснял! Мне еще большой труд предстоит сегодня с театральными людьми объясняться, и особенно с несносным Паэзиелло[63], который противу контракта не хочет опер делать!
– Подлинно удивляюсь вашему терпению с театральными людьми и людишками, – сказал Строганов, – в особенности с актрисами и певицами, которые столь же взыскательны и капризны, сколь и прелестны. Я предпочитаю иметь дело с красотой писаной и изваянной. Если бы вы видели, Иван Перфильевич, какого Доминикино[64] привез маркиз Маруцци. – Строганов говорил об агенте государыни, покупавшем картины для Эрмитажа.
– Да, вы избрали благую часть, граф Александр Сергеевич! Мне государыня изволила сулить кончину от ссадины барабанной перепонки, которую вызовет в ушах моих театральная гармония! Поверите ли, граф, покоя нет ни минуты! Театральные люди ничем довольны быть не могут! Какие пьесы ни ставь, какие ни давай роли – претензий не оберешься. А за неудачный спектакль ответствует директор! Воля государыни для меня священна есть. Но театральные люди не только барабанную перепонку надсадить, грыжу приставить могут. И даже дивлюсь, какая польза может меня удержать у себя беспокойные и развратные в нравах и поведении команды!
– О, мы знаем, что удержать может ваше превосходительство, знаем! – лукаво подмигивая, говорил мастер стула ложи «Эрато» князь Александр Иванович Мещерский. – Прелести Габриэльши достойны вкуса утонченнейшего.
В таких и подобных разговорах братья масоны снимали свои фартуки, ленты, мантии, шпаги и прочие принадлежности, потом сошли во второй этаж, где помещалась столовая светлая, прекрасная зала в античном вкусе, с белыми стенами и колоннами, украшенная лишь эмблемами каменщичества и превосходно выписанными венками из роз – цветка, посвященного богу молчания Гарпократу[65]. Стол был отягчен вазами, серебром, фарфором; за каждым креслом стоял служитель в пудре. Окна столовой открыты были в обрызганный росой цветущий сад. Члены капитула сели на свои обычные места, Елагин поместился во главе стола.
Прежде всего официанты вкатили бочонок с устрицами, откупорили его на особом мраморном столе. И проголодавшиеся члены капитула стали глотать келейножительниц, как выразился Елагин, смачивая их легким, душистым итальянским вином. При том Елагин сказал шутливую речь, уподобляя устрицу истинному масону: устрица созидает дом свой из перламутра внутри, снаружи оставляя скромную, невзрачную скорлупу; образует она и перо многоценное во внутренности своей и, соблюдая молчание и тайну, на крепкий замок домик свой запирает. Не истинное ли сие есть подобие масона!
– Но мудрый мастер сей замок расторгает, подрезая устрицу серебряным ножом, – вставил Куракин, – и тем обнажает тайну! И острым соком разума осолив, воспринимает!
И Куракин принялся смачно жевать опрысканную лимоном затворницу.
Но скоро всем захотелось горячего, с пряными и пикантными приправами и более крепкого вина. Служители с серебряными закрытыми блюдами, где шипели и скворчали горячие закуски и соуса и из которых вырывался ароматический пар трюфелей, вошли процессией во главе с дворецким. Проголодавшиеся вольные каменщики кушали исправно и столь же исправно утоляли жажду из вместительных кубков. Елагин восхищался соусом, в который подпущено было грачиное мясо для запаха. А внесенная затем рыба вызвала всеобщий восторг.
Ранний завтрак принимал характер изрядного обеда.
Между тем запенилось шампанское, именуемое в ложах белым порохом. Братья каменщики приняли в руки свои заряженные «пушки» из дивного хрусталя, в котором играл веселой радугой солнечный свет, и раз за разом «выстреливали» из них за здоровье наместного мастера, а затем каждого из присутствующих мастеров в отдельности. Скоро от еды и возлияний лица всех зарделись. И когда подан был сыр, фрукты и ликеры, достопочтенные члены капитула запели хором:
- Равенство и любовь,
- И нежно имя брат!
- Всех титлов и чинов
- Любезней нам стократ!
- И званье – человек —
- Нам выше и честней
- Всего, что тленный век
- Мнит пышностью своей!
- В познаньи дивных сил
- Натуры, божества
- Наш разум искусил
- Все тайны естества!
- Се, Соломонов храм,
- Исполненный чудес!
- Все сокровенно там
- Во мгле святых завес!
- Таинственны пути!
- И ключ к ним свыше дан!
- В святилище войти
- Напрасно мнит профан!
- В надмении своем
- Он даже не поймет.
- Как мы, масоны, пьем,
- Как мастер в кубки льет!
По окончании песни появился дворецкий и на серебряных тарелочках поднес два куверта. Один – Елагину, а другой – князю Голицыну.
Елагин открыл куверт и нашел в нем записку от Габриэлли. Певица писала из его дома, куда явилась и ждет уже добрый час свидания.
В самом деле, за приятным застольем время прошло незаметно, и солнце поднялось высоко над старыми липами сада.
– Ага, достопочтеннейший мастер получил бильеду[66]! – заглянув в записку, сказал Мещерский.
Елагин, чувствуя себя удивительно молодым и бодрым, самодовольно улыбнулся, представляя удовольствие утреннего свидания с прекрасной певицей.
– Анакреон![67] Анакреон! – подтрунивал над ним Мещерский.
– Да, пока зловещания угрозы Великого Кофты не исполняются! Афродита[68] столь же к нам благосклонна, сколь и Дионис.
– Так поспешите же на свидание с прелестницей, столь нетерпеливо вас ожидающей!
В это время Голицын, прочитав свою записку, всплеснул руками:
– Боже мой! Светлейший пишет, что наше дитя умирает! Судороги! Княгиня в отчаянии! Доктор, скорее едем! Ах, какое несчастье! Проклятый Кофта! Проклятый Калиостро! Это они накликали, проклятые вещуны! – И князь со всех ног бросился вон из столовой ложи.
Все встали, опечаленные столь внезапным перерывом дружеской беседы и сочувствуя семейному горю Потемкина, Голицына и Улыбочки.
Указ против кожедирателей
Выходя из столовой, Иван Перфильевич хватился своего молодого секретаря – князя Кориата, который должен был доложить ему несколько бумаг из скопившихся уже в портфеле и касавшихся дел как театральных, так и сенаторских. Кроме того, Елагин смутно помнил, что государыня повелела ему сочинить черновик некоего указа и поднести ей для одобрения, но о чем тот указ, хоть убей, он припомнить не мог.
– Где же милейший мой Кориат? Куда это он сокрылся? – вопрошал Елагин, спускаясь в просторный вестибюль масонского дома, где стояли кумиры Меркурия[69] и Асклепия.
– Кажется, молодой человек сильно огорчился, не найдя прекрасной супруги Калиостровой в саркофаге, – с улыбкой заметил князь Мещерский.
– Да, да! Мой милый секретарь крушился сим обстоятельством и не мог перенесть, что прекрасная без остатка расточилась. Хе, хе, хе! – шутил и Елагин.
– Думать должно, не без остатка. И подлинно, было бы жаль, если бы мы лишились такой прелестницы. Формы ее Афродитиным подобны, плечи Цереры[70], бедра Амфитриты, а лядвии[71] Помоны! – Говоря это, Мещерский делал руками округлые жесты, как бы осязая формы таинственной супруги Калиостро.
– Обратися, обратися, Суламитино, обратися, обратися, и узрим тебя! – со сладострастным выражением старого сатира на лице цитировал между тем «Песнь песней» Соломона[72] главный директор театров. – Чрево твое яко стог пшеницы, огражден в кринех[73]! Два сосца твоя яко два млада близнеца серны!.. Надеяться надо, что господин Калиостро супругу свою не вовсе обескровил, что мы еще увидим сию прелестную!
– Можно сказать, что она полносочна, как спелый златой яблок Гесперидских садов[74], – причмокивая, не унимался Мещерский.
– Секретарь мой от прелестной Калиострихи сильно растрепан! Но думаю, что ежели он и не нашел ее во гробе, то с помощью полновесных червончиков легко на ложе неги обретет. Все иностранки сим промышляют!
Говоря это, собеседники вышли к подъезду. Через минуту лакеи рассадили их по каретам, и братья каменщики разъехались.
Елагин чувствовал себя прекрасно. Калиостро он окончательно считал только ловким фокусником, шарлатаном и промышленником. Находясь в состоянии легкого, приятного опьянения, несмотря на проведенную без сна и полную волнения ночь, Иван Перфильевич на редкость был бодр, беспечен, и только приятное расслабление покоило его в быстро катящейся карете. Глухие приступы подагрических болей, дававшие о себе знать в начале заседания капитула, теперь исчезли. Приятная дремота овладевала им порой. Потом, просыпаясь, старик начинал мечтать о предстоящем свидании с певицей.
Когда карета остановилась и лакей открыл дверцу, Иван Перфильевич выпорхнул из нее легкой птичкой. Габриэлли подлинно ожидала его, весьма гневаясь, как сообщил с таинственно многозначительным видом старый камердинер, отсутствием директора театров. Елагин улыбнулся и осведомился, где его секретарь. Оказалось, что он давно ожидает в кабинете с приготовленными бумагами.
– Еще доложить имею вашему превосходительству, что от государыни пакет прибыл, – сообщил камердинер.
– Ах, Боже мой! Верно, насчет указа! Или опять этот несносный Паэзиелло наябедничал!
Иван Перфильевич поспешил в кабинет. Секретарь почтительно встретил его – никаких следов ночных волнений в облике молодого человека не обнаруживалось. Он подал пакет от государыни.
«Иван Перфильевич, – писала Екатерина. – Тебе подобного ленивца на свете нет. Никто столько ему порученных дел не волочит, как ты! Где указ против кожедирателей, сиречь ростовщиков, коего вам наискорее заготовить велела? Впрочем, благосклонная вам Екатерина».
– Указ против кожедирателей! Боже мой! Совсем из головы выскочило! – вскричал в крайнем смущении Елагин.
Екатерину беспокоило чрезвычайное развитие в столице ростовщического промысла. Евреи, итальянцы, молдаване, греки, даже индийцы – ростовщики разных национальностей – пили кровь из золотой гвардейской молодежи, опутывая щеголей и мотов паутиной долговых обязательств. Недавно в отчаянии, видя себя в неоплатных долгах, один кавалергард, отличенный государыней за статность и благородство характера, поверг на усмотрение монаршее горестное свое положение. Екатерина решила издать указ против ростовщиков для обуздания их жадности и поручила составление его Елагину. Но за множеством театральных, масонских, амурных и столовых дел Иван Перфильевич о приказании государыни запамятовал совершенно.
– Указ совершенно и давно готов! – доложил князь Кориат. – Но ваше превосходительство не удосуживались бумаги вообще просмотреть, потому и на благоусмотрение ваше никак не мог я представить указа.
– Хорошо, любезный князь, я знаю ваше мастерское перо! Положите указ в мою малахитовую портфель, и я сейчас свезу его государыне! Кто в приемной? Много ли просителей?
– Весьма много. Как насчет дел в Сенате, так и по театральной дирекции. Поставщики по счетам. За постройку париков.
– Хорошо, хорошо! Скажи им, что сегодня приема не будет, не будет!
– Осмелюсь доложить, многие уже на четвертый прием являются с крайними нуждами.
– Не могу, милый князь! Я должен сейчас же во дворец ехать. Государыня гневается, и письмо ее холодностью исполнено. А просителям скажи что-нибудь… Успокой их. Ты умеешь… А я сейчас…
Камердинер появился и с таинственным видом доложил, что госпожа Габриэлли весьма волнуется.
– Ах, Боже мой! Где она? В кабинете? – всполошился Иван Перфильевич.
– Так точно, в кабинете, ваше превосходительство.
Елагин повернулся несколько раз перед простеночным зеркалом, которое отразило приземистую, коротенькую фигурку старика с длинными руками, с отвислым брюхом, в поношенном, вышедшем из моды кафтане со звездой на груди. Оправив жабо и парик, Иван Перфильевич горошком покатился в секретный кабинет, где ожидала его итальянская певица. Приятная мысль о свидании с прелестницей, однако, соединялась с некоторым страхом. Елагину хорошо был известен неукротимый и взрывчатый южный характер Габриэльши.
Несчастный танец
Кабинет представлял собой довольно просторный покой, устланный ковром, с мягкой мебелью, покойными софами, камином, фарфоровыми статуэтками, изящными ширмами, безделушками и скорее походил на интимную гостиную модницы, чем на комнату, предназначенную служить сенатору и статс-секретарю. Потолок был расписан довольно откровенной античной манерой – в нем изображалась нагая улыбающаяся Афродита, смотрящаяся в зеркало, которое держали перед ней крылатые Эроты[75]. У ног богини сидел мускулистый, курчавый и низколобый влюбленный Геракл[76]; львиную шкуру и дубину его тащили прочь, пыхтя от натуги, другие крылатые божки. Геракл дерзновенной рукой касался прозрачного шарфа, наброшенного на пышные бедра богини…
Но это мифологическое изображение всюду сопровождали какие-то мистические знаки. Так, Афродита сидела в солнечном диске, а ноги ее опирались на луну. Над головой ее блистали семь звезд. Между грудей висел золотой пламенеющий треугольник. Оправу зеркала, в которое она смотрелась, составлял змей, кусающий себя за хвост.
Иван Перфильевич застал Габриэльшу сидящей на софе и нетерпеливо бьющей ногой о ковер. Очи и щеки итальянки горели. Пальцы рвали кружевной платок. Она казалась львицей, готовой тотчас прянуть на жертву ярости своей. Одета была актриса чрезвычайно ярко и роскошно, в тюрбане с перьями, осыпанном бриллиантами. Бурно дышащая под кисеей ее мощная грудь, казалось, рвалась из тесного платья.
Едва ли не к самой императрице входил Иван Перфильевич с таким страхом и почтительностью, с каким приблизился к певице. Он весь расплылся в сладчайшей улыбке, склонил голову набок и как-то вилял полами кафтана, точно провинившийся пес хвостом.
– Прелестна, как весеннее утро, росой опрысканное! Очаровательна, как духовитый куст роз, распустивших распуколки[77] навстречу солнечным лучам!
Говоря эти комплименты на французском языке, Иван Перфильевич взял руку красавицы и хотел ее поцеловать. Но она вырвала ее, поднявшись с софы во весь рост, уперла в крутое бедро, а другой стала быстро махать перед самым лицом главного директора над спектаклями и зрелищами, так что тот испуганно подался назад. В то же время Габриэлли весьма громко и звонко, можно сказать во все горло стала кричать, мешая французские слова с итальянскими проклятиями:
– Так вот как вы со мной поступаете! Я жду здесь два часа, посылаю к вам известить, что я здесь, а вас все нет! Чудовище, варвар! Где вы были? Отвечайте мне сейчас же, где вы были?
– Очаровательная, простите, что заставил вас столько времени ждать, – говорил Елагин умоляюще. – Видит небо, я был занят важными, крайне важными делами!
– Этот запах, – вскричала певица, раздувая ноздри своего орлиного носа и втягивая в него воздух, – этот запах, идущий из вашего рта, отлично объясняет мне, какими вы делами занимались! Вы пили вино! Вы забавлялись! Вы всю ночь забавлялись! Но с кем? Я вас спрашиваю: с кем вы пили и забавлялись?
– Но ничего подобного! Вы совершенно ошибаетесь. Я только что вернулся из важного заседания друзей человечества и благотворения, тянувшегося всю ночь. Мы собираемся…
– Я знаю, что вы собираетесь и кто и где, – оборвала его экспансивная актриса. – Но почему же от вас так вином пахнет? Вы пили? Вы кутили? С кем же?
Вопрос был поставлен ребром и столь грозно, что Иван Перфильевич невольно вытянул руки перед лицом, будто защищаясь от удара.
– С моими друзьями, прелестная, с достопочтенными каменщиками, упражняющимися в отыскании грубых, диких камней для основания будущего храма всеобщего человеческого благополучия, – проговорил он, заикаясь и в то же время незаметно подтаскивая кресло так, чтобы оно оказалось между ним и певицей.
– Вы пили с каменщиками? Вы отесывали что-то вместе с ними?! О, неотесанный северный варвар! О, низкий лжец! Я все знаю. Посмеете ли вы утверждать, что эта новая, эта Серафима, называющая себя графиней Санта-Кроче, не была с вами в эту ночь? Вы с ней пили? Она просила вас принять ее в придворную труппу? И вы, конечно, не могли ей отказать! Вы передали ей мои роли! Вы влюблены в нее, сладострастный старик!
– Ревность! Теперь понимаю, – не без самодовольства, несмотря на опасное свое положение, подобное положению скифа на римской арене нос к носу с разъяренной львицей из жгучих ливийских пустынь, сказал Елагин. – Но вы напрасно, прелестная, назвали меня стариком: мудрый хранит в себе дух юности. К тому же мы, посвященные, обладаем тайной восстановления вещества и обновления составов тела. В сию минуту, например, я так легко себя ощущаю, как никогда.
– Вы не отвечаете, но я знаю все. Моя карлица познакомилась с этой Серафимкой. И ее муж был у меня. Но я не думала, что это такие ловкие пройдохи. Я отлично знаю, что вы их пригласили на ночное заседание капитула. Я знаю, что Серафимка вернулась только на заре.
– А, так она вернулась! – не удержал радостного восклицания Елагин, успокоенный, что женоубийство и обескровливание, показанные в ложе, были только фокусом и супруга Калиостро цела и невредима.
Но это восклицание окончательно вывело из себя Габриэлли. Лицо ее стало подобно маске античной Горгоны[78]. Черные кудри разметались, как змеи. Казалось, она сейчас же вцепится и когтями и зубами в растерянного директора зрелищ. Голос ее при этом достиг таких пронзительных нот, что Елагин опасался, как бы его секретарь и даже просители в отдаленной приемной не услышали эти вопли.
– Вы, верно, хотели бы с ней никогда не расставаться. Вы уже влюблены в нее, как обезьяна! Вы с ней угощались! Вы условились уже с ней! Я знаю, знаю. Она хочет петь и играть в операх. Пусть она поет дурно! Пусть голос ее ничтожный! Карлица мне говорила. Она слышала ее свинячий визг. Но что из того? Вы способны на все. Я вас знаю. Всякая развратная баба, лишь бы она была для вас новая, веревки из вас может вить! Ах, я не могу этого выносить! Я умираю! Я задыхаюсь! Не могу! Не могу! Ах!
Габриэлли схватилась за сердце и упала на софу почти в судорогах.
– Успокойтесь, божественная! Успокойтесь, прелестная! – умолял Елагин. – Ничего подобного. Клянусь вам, ничего подобного! Она на сцену не просилась. Мы и голоса ее не слыхали. Она только участие принимала в фокусах, показанных мужем ее, который оказался известный шарлатан, во всей Европе прославленный под именем Калиостро.
Имя это возымело волшебное действие на Габриэлли. Она мгновенно утихла и поднялась на софе.
– Калиостро, говорите вы? Так это сам Калиостро! – с некоторым благоговейным страхом произнесла певица.
– Да! Да! Калиостро! Явный шарлатан и промышленник, – говорил Елагин, радуясь успокоению итальянки, припадки неистовой ярости которой были хорошо знакомы не только ему, но и всей труппе и нередко вели к самым плачевным последствиям для личности поклонников знаменитой дивы. – Итак, успокойтесь, все опасения ваши совершенно неосновательны. После фокусов сей Калиостро с супругой таинственно исчезли. Полагаю, чрез подговор слуг. О сем мой камердинер учинит следствие, и, конечно, истина не замедлит явиться. За ужином, точнее в ранний фриштик[79] обернувшимся, женского пола отнюдь не присутствовало. Успокойтесь, прелестная!
Иван Перфильевич преклонил колено пред сидевшей на софе красавицей.
– Ах, я не могу вам верить! Вы меня обманываете! Все вы – лжецы, низкие лжецы с женщинами! – утомленным голосом говорила Габриэлли.
– Божественная, уверьтесь в правде моих слов. Я сейчас еду во дворец и, между прочим, возобновляемый с вами контракт везу к окончательному утверждению государыней.
– Нет, мне мало ваших уверений. Тем более что она – жена Калиостро, который все может!
– Все может? Ну, он едва ли все может. А в российских пределах, думаю, ничего ровно не может, кроме вранья и фокусов.
– О, это сильный человек! Я знаю, – сказала певица. – Но я вам на слово не поверю. Поклянитесь!
Она достала медальон, висевший на ее груди, поцеловала и протянула директору.
– Здесь святая гостия! Коснитесь и клянитесь, что не возьмете на сцену Калиостершу.
Делать было нечего, Иван Перфильевич коснулся и поклялся Габриэльше на католической святыне, что не возьмет на сцену Эрмитажа Калиостершу.
– Моя карлица видела ее днем, дома, – говорила певица, понемногу успокаиваясь. – Она уже не первой молодости и сильно отцвела, помята и потрепана. Ведь муж возил ее повсюду с собой. И она совсем не графиня, а была служанкой в остерии, в Риме. Ее настоящее имя – Лоренца, да, Лоренца Феличиани. Моя карлица все узнала.
– А настоящее имя графа Калиостро?
– Этого я не знаю, совершенно не знаю.
– Итак, вы поверили, успокоились! Боже мой, кто может в вашем присутствии думать хотя бы о самой Венере! Ну, дайте вашу ручку, восхитительное существо!
Габриэлли протянула руку, благоухающую мускусом, но грубая ладонь которой свидетельствовала о домашних трудах певицы. Восхищенный директор покрыл ее поцелуями и присел на софу подле итальянки.
– Божественная! Один поцелуй! – шептал влюбленный старик. – Я чувствую себя, словно выпил эликсира молодости. Где твои угрозы, господин Великий Кофта! Хе! Хе! Хе!
Иван Перфильевич попытался обнять мощный стан знаменитой певицы. Бурные проявления тигровой страстности южного ее темперамента вообще обладали свойством как бы электризовать ее поклонников, хотя нередко в их головы летели башмаки и различные хрупкие бьющиеся предметы, а нередко и щеки принимали отпечатки мужественной десницы итальянки и даже крепких ее ногтей.
Медленно, как вулкан, утихая, певица отстранилась от директора спектаклей.
– Вы сказали, что везете мой новый контракт императрице? – строго спросила она.
– Видите ли, прелестная, он, собственно, не совсем новый. Вы получите дополнительно всю сумму, вами желаемую, в виде сверхконтрактных пособий. Итак, хотя контракт старый…
– Как старый? – мгновенно воспламеняясь снова, воскликнула певица. – Что значит – старый контракт?
– Я говорю и ручаюсь, что вы все получите, что желаете. Театральные суммы все в моих руках. Кроме того, воспособление единовременной безвозвратной суммы в тысячу червонцев мною через князя Григория Александровича совершенно исхлопотано.
– Тысячу червонцев! Но Безбородко обещал Давии пятьдесят тысяч червонцев! Контракт! Я требую, чтобы со мной был заключен новый контракт! – кричала певица, почти столкнув директора с софы.
– Новый контракт мною был государыне представлен, но не удостоился милостивого благоусмотрения. Государыне императрице утвердить его было не угодно, но повелеть изволили контракт возобновить, как было. Что же мог я поделать? Воля монархини священна, – разводя руками, говорил Иван Перфильевич.
– Но, кажется, ваша императрица достаточно богата! – раздувая ноздри орлиного носа, говорила Габриэлли с нервным хохотом и клокотанием в соловьином своем горле.
– Государыня изволила выразиться, что такие жалованья у нее фельдмаршалы получают!
– Фельдмаршалы?! Ну и пусть эти ее фельдмаршалы и поют для нее! – Габриэлли решительно встала. – Сейчас принесите мне контракт, и я разорву его в клочья. Я не останусь и трех дней в России. Можете, если хотите, взять примадонной Лоренцу Калиостро. Я не желаю больше служить в вашем балагане, не желаю дышать воздухом вашей грязной, варварской страны! Давайте контракт! Давайте сейчас контракт! И кланяйтесь вашей императрице!
– Бо-бо-божественная, ради всех святых! – взмолился Елагин. – Успокойтесь! Я же говорю вам, что вы больше того получите.
– Я не хочу ничего. Отдайте мой контракт! Со мною здесь поступают, как с ничтожной фигуранткой. Все монархи Европы добиваются наперебой той чести, чтобы я пела на их придворных сценах. Я видела у ног своих принцев, я – дочь повара и жидовки!
– Умоляю вас, очаровательная, несравненная, не принимайте столь необдуманного решения в разгоряченном состоянии. Вы – гордость и украшение Эрмитажа! Вы – императрица нашей сцены! Что значат контракты в России? У нас даже и законы ничего не значат. Написано и утверждено одно, а на самом-то деле бывает совсем другое! На коленях вас умоляю, не настаивайте, подпишите старый контракт и оставайтесь в России!
– Хорошо, я останусь. Вы просите – я останусь и подпишу контракт. Но с одним условием!
– О, все, что только в моей возможности, я всегда…
– Это в полной вашей возможности, тем более что вы сами хвалились необыкновенной легкостью в теле и ногах после ночного заседания с Лоренцей и завтрака. Так протанцуйте сейчас передо мной, и тогда я на все согласна.
– Но, прелестная, что это вам вздумалось? – изумился Елагин. – Как же это я вдруг буду танцевать? И зачем это вам надо? Вы шутите.
– Нисколько, – хладнокровно сказала певица. – Или вы протанцуете, или я отказываюсь возобновлять контракт и уезжаю из России.
– Но… я давно не танцевал и все позабыл. И меня могут увидеть…
– Вас никто не может увидеть, кроме меня. Протанцуйте, не упрямьтесь.
– Требование ваше, прелестная, довольно удивительное! Прилично ли в моем возрасте, в звании статс-секретаря и сенатора танцевать подобно юному пажу!
– Если так… прощайте! – Итальянка решительно направилась к двери.
– Постойте! Постойте! – кинулся вслед за ней Елагин. – Ну, хорошо! Если вы требуете, я протанцую. Возил же на себе Лаису[80] древний мудрец. Но как же без музыки?
– О, я буду бить такт в ладоши! – Итальянка вдруг улыбнулась, обнажив блестящие, широкие и довольно неровные зубы. Затем, сверкнув задорно очами, принялась пощелкивать пальцами.
– Эх-ма, была не была! – по-русски крикнул старик. – Да что вы думаете, – продолжал он уже по-французски, – я не сумею протанцевать? Да я всякого молодчика обгоню.
И Елагин встал в позицию. Выпитое за завтраком вино вместе с опьяняющей близостью огненной итальянки ударило старику в голову. Дух мальчишества, циничной насмешливости, вольтерьянства и горацианства, обычно скрываемый Елагиным под придворным кафтаном со звездой или под мантией и знаками наместного мастера, овладел им. Ему в самом деле захотелось щегольнуть молодечеством перед красавицей.
Электрическая сила какая-то, дивный эликсир молодости разлился по его членам и суставам. Казалось ему, что сам Меркурий подвязал к его ногам крылышки. Он забыл о делах, о необходимости спешить во дворец. Кругом все сияло: улыбалось веселое утро, Афродита с потолка как бы одобряла его, воздух наполнялся золотистыми искрами, окружающие предметы окружила дивная радуга. Габриэлли, прищелкивая, напевала мотив модного танца. Казалось, в горле ее переливаются серебряные колокольчики. Сами собой ноги Ивана Перфильевича стали на цыпочки, заняли позицию, руки округлились, улыбка появилась на поблекших губах его, и он пустился тщательно выделывать сложные па танца. Коротенький толстенький старичок со съехавшим набок париком, он представлял собой в эту минуту забавнейшую фигурку. Носик его пламенел и глазки утонули в румяных, дряблых щечках, сладко загораясь негой поздних желаний. Но сам себе он казался и стройным, и молодым, и грациозным.
– Вот как танцуют! Раз-два-три! Раз-два-три! Вот как это танцуют! Ну, господин Великий Кофта, где ваши угрозы? Раз-два-три!
Но вдруг, когда Иван Перфильевич хотел повернуться на одной ноге в особо сложном пируэте, стопа его поскользнулась, и он грузно шлепнулся на пол.
– Ах, мой милый, бедный старичок! – устремляясь к Елагину, вскричала Габриэлли. – Не ушиблись ли вы? Постойте, я помогу вам встать и полечу вашу бедную ножку.
– Ничего, ничего! – бодрился старичок. – Совсем не больно! Я сам!
Но едва он сделал усилие, чтобы подняться с пола, нестерпимая боль в ноге извлекла жалобный стон из его груди.
– Боже мой! Какое несчастье! Что я наделала?! Вы вывихнули себе ногу!
– Бога ради, потише… И не говорите никому, как я повредил ногу… О-о-о, какая адская боль! – стонал старик. – Дайте мне вашу ручку, а другой обнимите меня и приподымите… О-о-о, Великий Кофта, помилуй меня!
Мощная итальянка легко приподняла старика с пола и, почти неся его в своих объятиях, положила на софу.
– О-о-о, благодарю вас, очаровательная! Великий Кофта, никогда не буду… Воззри на меня милостиво… Не делайте шуму, прелестная! Позовите тихонько моего камердинера и князя Кориата. Скажите, что у меня обыкновенный припадок подагрических болей… О-о-о, Великий Кофта, помилуй меня…
Князь Кориат
Личный секретарь главного директора спектаклей и зрелищ Ивана Перфильевича Елагина, отправлявший эту должность и в капитуле VIII провинции ордена, имея первую из учрежденных великим наместным мастером рыцарских степеней, отличенную красной с зелеными кантами лентой, молодой князь Юрий Михайлович Кориат происходил из знатного и когда-то несметно богатого рода. Гедиминова отрасль[81], князья Кориаты имели общее происхождение с Потоцкими, Трубецкими, Чарторыйскими, Вишневецкими, Хованскими, Вельскими, Патрикеевыми, Друцкими, Голицыными, Куракиными. Предки князя Юрия владели едва ли не целой Подолией. Однако уже дед его совершенно омелкопоместился, а отец, кроме службы, можно сказать, ничего не имел и передал сыну только непорочное имя отчаянного храбреца. Отец князя Юрия умер, когда тот был еще ребенком, а матери он совсем не знал, ибо она скончалась, произведя его на свет.
Воспитывался князь Юрий у старого холостяка-дяди, имевшего дубовую рощу, мельницу и старинную усадьбу на пустыре, обросшем могучими лопушниками, над быстрой речкой в Литве. Дядя его служил в российских войсках еще при императрице Елизавете Петровне, участвовал в Прусской кампании 1758 и 1760 годов и, отличившись при взятии Берлина, находился потом чиновником для особых поручений при русском губернаторе города Кенигсберга[82]. Здесь имел он случай оказать услугу ученой коллегии университета, когда храбрые российские воины задумали между прочим для устройства костров для варки каши употребить фолианты университетской библиотеки, как это они учинили в Берлине с частью королевского книгохранилища. Дядя князя Юрия предупредил это варварство. И депутация профессоров, имевшая во главе декана философского факультета славного скептического мыслителя Иммануила Канта, явилась его благодарить.
Следствием той истории стало знакомство дяди с кенигсбергским философом. Он стал посещать лекции Канта[83] и открыл в себе философические способности, узнал его грандиозную систему, но не был ею удовлетворен. Выйдя затем в отставку, скитался по Европе, слушал лекции у разных знаменитостей, собрал обширную библиотеку и коллекции научных инструментов, на что истратил большую часть состояния, и наконец поселился в вышеупомянутой заброшенной усадьбе, предаваясь научным изысканиям, окруженный книгами, ретортами колбами, глобусами, кошками и голубями, предоставив ведение хозяйства старой своей кормилице и еврею Хаиму, снимавшему мельницу.
Князь Юрий разделял одиночество дяди. Не сообразуясь с его детским возрастом, тот развивал при нем философические свои идеи, преподавал ему греческий и древнееврейский языки, и погрузил фантазию ребенка в мир символов, эссенций, духов, астральных течений, звездных правителей мира, ундин, саламандр, эльфов и гномов. Мальчик рос мечтательным, странным существом. По тринадцатому году, считая, что мальчика нельзя долее держать в деревенском одиночестве, дядя отправил его в Петербург к Иоганну Августу Штарку, с которым состоял в переписке еще со времен студенчества в германских университетах. Теолог, мистик, магик и алхимик, Штарк был изобретателем так называемого тамплиерского клириката, наподобие масонского общества, и преподавал восточные языки. Он отвел князю Юрию каморку в одно окно с жесткой кроватью, табуретом и столом, питал его овсянкой, молочным супом с изюмом и печеночными клецками, определил в школу, где и сам преподавал, и, докончив его образование, посвятил в «тамплиерский клирикат» собственного изобретения. После малоуспешной службы в Сенате, помещавшемся тогда за Невой в старинном петровском здании двенадцати коллегий – истой клоаке правосудия по царившему в нем беспорядку, волоките, мздоимству и купно с сими духовно-смрадными эманациями, наполненном запахами щей и тютюна сторожей, вахтеров и канцеляристов, – князь Юрий Михайлович поступил наконец секретарем Елагина на приличное жалованье, получив и квартиру в доме директора театров на антресолях из трех весьма приличных комнат с большими окнами-полукругами. Молодой человек скоро приобрел полное доверие Елагина и любовь всех в доме благодаря скромности, сосредоточенному, но мягкому характеру, мечтательной юности и чистоте нрава. Притом князь Юрий был очень хорош собой.
Пользуясь огромной библиотекой Елагина, князь предавался изучению оккультных наук и нередко занимался с ним в лаборатории в загородном доме на острове, по владельцу и прозванному Елагиным, алхимическими опытами превращения металлов. Впрочем, сии опыты никаких положительных результатов не дали, хотя пользовались они «Химической псалтырью, или Философическими правилами о камне мудрых» Парацельса[84]. А на этом руководстве прямо обозначено: «Здесь или нигде искомое нами». Правда, тут же, в предисловии, Парацельс и предупреждает: «Все философическия писания, трактующия о высокой герметической медицине, суть не что иное, как лабиринт, в котором ученики искусства впадают в тысящи заблуждений…»
Князь Кориат продолжал, однако, чтение «герметических писаний» даже и после того, как у него в руках вдребезги разорвалась колба в тот самый миг, когда в ней, по-видимому, уже алела «красная тинктура», причем и он, и Елагин чудом только спасли свои глаза и лица от осколков стекла и едкой кислоты препарата. Иван Перфильевич после этого случая надолго охладел к алхимическим упражнениям и даже стал бранить герметистов как величайших шарлатанов. Но князь Юрий обладал слишком упорным в преследовании возвышенных мечтаний характером. Видел он ясно слабости почтеннейшего Ивана Перфильевича, странные переходы от веры к насмешливому цинизму, но тем не менее любил его добродушие: старик, сплошь и рядом волоча дела, забывая просьбы, иногда в полчаса успевал столько добра сделать, столь многим помочь, сколько другой вельможа и за полгода не успеет.
Елагин казался искренне преданным ордену и верящим в некие тайны, в нем сокрытые, в великое дело какого-то всесветного обновления и возрождения, долженствующее через орден свершиться. Но в то же время вечно тонкая улыбка бродила возле чувственных губ его, и насмешка сверкала в глубине глаз. Когда же ему докучали подагрические боли, то весь свет для него был не мил, и тут отрицал он, кажется, все и выражал крайнее удивление, как это пожилые, умные и просвещенные люди занимаются всякими вздорами. И лишь только боли проходили, опять погружался в эти вздоры.
К князю Кориату почтенный директор зрелищ так привязался, что совершенно уже не мог без него обходиться. Хотя Юрий, как и все мистики тогдашнего русского общества, ожидал пришествия с Запада адепта, который бы наконец открыл VIII провинции высшие тайны «великого дела», но и на него Калиостро произвел сперва весьма невыгодное впечатление. Но затем чудесные явления, произведенные магиком, а может быть, и красота его супруги совершенно потрясли молодого человека. Образ Серафимы, то улыбающийся, то страждущий, преследовал князя. Стонущей тенью проносилась она мимо… И мысли князя поминутно возвращались к ней…
Когда он предавался в бесчисленный раз этим грезам, в кабинет вбежал старый камердинер.
– С их превосходительством нехорошо! Ножку подвернули! Ахти, не вывих ли? Поспешите, ваше сиятельство, Бога ради! – бестолково воскликнул испуганный камердинер.
Мщение Великого Кофты
Князь Кориат нашел Ивана Перфильевича лежащим на софе в секретном кабинете и слабо стенающим. Что касается госпожи Габриэлли, то, известив камердинера о несчастии, случившемся с барином, она сочла благоразумным вслед за тем удалиться, весьма встревоженная, так как все же была виновницей происшествия.
– Любезный князь, я поскользнулся… О-о-о! Нога у меня подвернулась… Страшная боль… О-о-о! Вы довольно сведущи в хирургии… Осмотрите… не сломал ли я себе кость… Верно, вывих… О-о-о, какое несчастье! Позовите людей и перенесите меня в спальню… О-о-о! – так стенал Иван Перфильевич огорченному секретарю.
Камердинер, два подоспевших лакея и князь подняли софу со стонущим стариком, перенесли его в спальню и здесь стали раздевать. При этом князь Кориат, в самом деле обладавший остаточными познаниями в медицине, осмотрел ногу Елагина и с радостью удостоверился, что ни вывиха, ни перелома не было. Старик просто ушиб одну из подагрических своих ног. Требовалась лишь примочка и покой. Затем он дал наместному мастеру лавровишневых капель, уверяя, что боль пройдет весьма скоро и, пролежав два дня в постели, он совершенно выздоровеет. Боль, впрочем, и появлялась только тогда, когда Елагин делал неосторожные движения ногой. Однако он с сомнением качал головой, слушая своего секретаря, и продолжал жалобно охать.
Несмотря на это, Иван Перфильевич не забыл о деле. Он распорядился отправить во дворец проект указа и свой рапорт о внезапно приключившейся болезни. Потом, оставшись наедине с князем Юрием, испуганно оглянулся и зашептал:
– Милый мой, я боюсь здесь самих стен – в них глаза и уши неведомого существа мне мерещатся. Я глубоко раскаиваюсь в своем недоверии к графу Калиостро. Великий Кофта покарал меня! И кто знает, встану ли я с сего одра! Чувствую воспаление и опасаюсь антонова огня…
– Что вы говорите, ваше превосходительство! – возразил князь Кориат. – Успокойтесь. Ничего подобного быть не может. Во всяком случае, я распоряжусь послать за врачом.
– Не надо, погоди. Врач не поможет. Все в руках Великого Кофта и его посланника, графа Калиостро. О-о-о! Великий Кофта, помилуй меня, я никогда больше не буду сомневаться в тебе и твоем могуществе.
– Но кто же сей Кофта? – изумился секретарь.
– А я разве знаю? Вероятно, какой-нибудь сильный магик или планетный дух. Хотел бы я призвать Калиостро, но боюсь. И если он может исчезать сквозь стены и наказывать непочтительных, то ведь может в сию минуту видеть и слышать нас! Ну, я прошу извинения! Ну, я виноват! Что же еще вам нужно, граф? – обратился Елагин с мольбой к пустому пространству.
Тут князь заметил, что старик стал заговариваться и бредить. Пощупав пульс, он удостоверился в лихорадке. Дело принимало дурной оборот. Иван Перфильевич продолжал бормотать что-то о Кофте, графе Калиостро, просить прощения у невидимых духов, причем рассказал и про свой танец, ставший причиной несчастья, путал Габриэлли с графиней Санта-Кроче, с Сиреной[85] и Афродитой. Лоб его пылал, старик совсем расхворался.
Чувствуя, что ни лавровишневых капель, ни собственных познаний в медицине тут явно недостаточно, князь позвал камердинера и приказал ему немедленно послать карету за домашним доктором князя Потемкина. И тут больной затих, успокоился и заснул. Время тянулось бесконечно долго, наконец приехал доктор.
– Ах, князь, еще минута, и меня не застали бы в Петербурге. Я и теперь ужасно спешу, – говорил доктор, войдя в кабинет Елагина, где находился Кориат, – Я отправляюсь в Островки, на дачу светлейшего, куда и княгиня Варвара Васильевна с мужем своим и болящим младенцем выезжает, ибо младенцу должно дать перемену воздуха. Но что у вас? Посланный не мог мне ничего толком объяснить. Вы кажетесь чрезвычайно встревоженным. Что приключилось с его превосходительством?
– Иван Перфильевич поскользнулся и упал, я осмотрел ногу, но перелома не обнаружил. Он немного успокоился. Но потом пульс участился, явился в голове жар и как бы бред. Только перед вашим приездом он снова уснул.
– Какое несчастье! Корпуленция его превосходительства и подагрические его наросты мне несколько известны. Преклонный возраст, волнения от бессонной ночи, ранний фриштык с устресами, которые в сей весенний месяц начинают уже быть вредны, выпитое вино – все ударение на органические составы могло сделать, а переполнение жидкостями произвести фантомы воображения. Принять и то надо во внимание, что господин Калиостр какими-то ядовитыми порошками курил. Я сейчас осмотрю больного. Кстати, о чем он бредит?
– О Великом Кофте. Убежден он, что болезнь его послана сим таинственным Кофтом в наказание.
– Но возможно ли предаваться сему суеверию?! Этот явный шарлатан и промышленник Калиостр своим Кофтой приводит в сумасшествие почтеннейших и знатнейших особ обоего пола. Поверите ли, что и князь Сергей Федорович Голицын к тому же склонился, когда здоровье младенца племянницы светлейшего резко ухудшилось. Он твердит, что то мщенье Великого Кофты за непочтение к его посланнику. Готов был броситься к Калиостру с извинениями, но я решительно восстал. Младенцу лишь нужна перемена воздуха и пользование теплой водой снаружи и при помощи клистиров внутрь. Промывать и промывать! Постоянно промывать!
– Так и Голицын уверовал в Кофту? – задумчиво спросил секретарь.
– Весь свет идет за Кофтой! Таково расположение умов. Явился Месмер, – все бросились за ним: завели чаны, составляют живые цепи, конвульсируют. Вот хотя бы супруга правителя дел светлейшего – госпожа Ковалинская – ярая месмеристка. И господина Калиостра видела в состоянии месмерического опьянения через двойное зрение, якобы к ней подошел и возложил на голову ей руки. И спит и видит этого сего Калиостра, о котором из Курляндии получила известия. Вот и вы, любезный князь, от Калиостра, супруги его и Кофты стали впадать в нервозную задумчивость! Вообще вид ваш показывает томность и несвежесть. Так всеобщее приращение роскошей, нежный, женский род жизни, неукротимое чтение романов, Вертеровы чувствования[86] поделали из наших цветущих юношей увядающих стариков, и сии ныне бродят между нами, яко тени или пустая лузга наших атлетических предков! Хе-хе-хе! Не сердитесь, князь, но бледний отлив в лице и как бы лунатическое в нем остолбенение меня в изрядном расстройстве нервов ваших удостоверяют. Позвольте пульс ваш! Ого! Вы сами лихорадите. Промывательное вам необходимо, и шпанская муха на затылок. Полезно при сем электризование. Когда пускают из иглы электрическую струю возле головы и вдоль хребетной кости, происходят удивительные действия в излечении слабости жизненных духов! Но войдем к нашему почтенному болящему. Полагаю, что должно ему кроме обязательного промывательного пустить немедля кровь. Затем, ежели объявится внутреннее воспаление от зашиба в органах, подвергнуть должно большого ртутному лечению с электризованием.
– Как? И ртуть, и электричество одновременно? – удивился князь Кориат.
– Всенепременно, – отвечал доктор. – Всенепременнейше! Яко металл, яко жидкий металл, который круговращение крови разделяет в бесконечно дробненькие шарики по сосудцам, должна ртуть действовать подобно громовому отводу, электричество тела к себе привлекать, сквозь мозги или ноги купно с течением крови. И по всем закоулочкам проницать тем сильнее, что ртуть после золота тяжелейший, плотнейший и холоднейший металл, который температуру теплоты очень много в себя может принимать прежде, нежели по насыщении опять от оной опорожняется. Говорю вам сие, князь, как ученому человеку. Войдем же теперь к почтеннейшему больному!