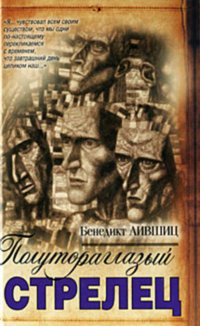
Читать онлайн Полутораглазый стрелец бесплатно
- Все книги автора: Бенедикт Лившиц
Глава первая
Гилея
I
Та полоса моей жизни, о которой я хочу рассказать, началась в декабре одиннадцатого года, в маленькой студенческой комнате с окном, глядевшим на незастроенный Печерск. Мои университетские дела были сильно запущены: через пять месяцев мне предстояло держать государственные экзамены, а между тем о некоторых предметах я имел еще весьма смутное представление, так как ничем, кроме римского права и отчасти гражданского, не занимался. В ту пору у меня были все основания считать себя сложившимся поэтом: около года как вышла из печати «Флейта Марсия», за которую Брюсов не побоялся выдать мне патент в «мастерстве»; около года как, покончив с этапом, нашедшим себе выражение во «Флейте», я терзался поисками новой формы, резко отличной от всего, что я делал. И все же, полностью захваченный работой над стихом, живя по-настоящему только литературными интересами, я не допускал мысли, что это может стать моей профессией, и продолжал, правда, чрезвычайно медленно, двигаться по рельсам, на которые попал еще в девятьсот пятом году, поступив на юридический факультет.
Однажды вечером, когда я уже собирался лечь в постель, ко мне в дверь неожиданно постучалась Александра Экстер. Она была не одна. Вслед за нею в комнату ввалился высокого роста плотный мужчина в широком, по тогдашней моде, драповом, с длинным ворсом, пальто. На вид вошедшему было лет тридцать, но чрезмерная мешковатость фигуры и какая-то, казалось, нарочитая неуклюжесть движений сбивали всякое представление о возрасте. Протянув мне непропорционально малую руку со слишком короткими пальцами, он назвал себя:
– Давид Бурлюк.
Приведя его ко мне, Экстер выполняла не только мое давнишнее желание, но и свое: сблизить меня с группой ее соратников, занимавших вместе с нею крайний левый фланг в уже трехлетней борьбе против академического канона.
В 1908 году, когда Бурлюки впервые появились со своей выставкой в Киеве, я еще не был знаком с Экстер и мало интересовался современной живописью. Только в следующем году, начав бывать у Александры Александровны, я у нее в квартире увидал десятка два картин, оставшихся от «Звена» и поразивших мой, в то время еще неискушенный, глаз.
Теперь, двадцать лет спустя, глядя на одну из них, висящую над моим письменным столом, я с трудом могу дать себе отчет, что в этой невинной пуэнтели, робко повторявшей опыты Синьяка, казалось мне дерзновением, доведенным до предела. Необходимо, впрочем, оговориться; в те лихорадочные годы французская живопись, по которой равнялась наша русская, с умопомрачительной быстротой меняла одно направление на другое, и вещи Ван-Донгена, Дерена, Глеза, Ле-Фоконье, привезенные в десятом году Издебским, оставляли далеко позади простодушные новаторские искания участников «Звена».
Выставка Издебского сыграла решающую роль в переломе моих художественных вкусов и воззрений; она не только научила меня видеть живопись – всякую, в том числе и классическую, которую до того я, подобно подавляющему большинству, воспринимал поверхностно, «по-куковски», – но и подвела меня к живописи, так сказать, «изнутри», со стороны задач, предлежащих современному художнику.
Это было не только новое видение мира во всем его чувственном великолепии и потрясающем разнообразии, мимо которого я еще вчера проходил равнодушно, просто не замечая его: это была, вместе с тем, новая философия искусства, героическая эстетика, ниспровергавшая все установленные каноны и раскрывавшая передо мной дали, от которых захватывало дух.
Именно этой стороной, возможностью переключения своей революционной энергии и первых, уже конкретных, достижений в сферу слова, загнанного символистами в тупик, французская живопись первого десятилетия больше всего говорила моему воображению, ближе всего была моему сердцу. Как перенести этот новый опыт, эти еще не конституированные методы работы в область русского стиха, я, разумеется, не знал и знать не мог, но твердо верил, что только оттуда свет, с берегов Сены, из счастливой страны раскрепощенной живописи.
Давид Бурлюк был мне знаком не по одним его картинам. В 1910 году в Петербурге вышла небольшая книжка стихов и прозы, первый «Садок Судей».
В этом сборнике рядом с хлебниковскими «Зверинцем», «Маркизой Дезэс» и «Журавлем», с первыми стихотворениями Каменского были помещены девятнадцать «опусов» Давида Бурлюка.
Их тяжеловесный архаизм, самая незавершенность их формы нравились мне своей противоположностью всему, что я делал, всему моему облику поэта, ученика Корбьера и Рембо. Я помнил эти стихи наизусть и с живейшим любопытством всматривался в их автора.
Он сидел, не снимая пальто, похожий на груду толстого ворсистого драпа, наваленного приказчиком на прилавок. Держа у переносицы старинный, с круглыми стеклами, лорнет – маршала Даву, как он с легкой усмешкой пояснил мне, – Бурлюк обвел взором стены и остановился на картине Экстер. Это была незаконченная темпера, interieur, писанный в ранней импрессионистской манере, от которой художница давно уже отошла. По легкому румянцу смущения и беглой тени недовольства, промелькнувшим на ее лице, я мог убедиться, в какой мере Экстер, ежегодно живавшая в Париже месяцами, насквозь «француженка» в своем искусстве, считается с мнением этого провинциального вахлака.
Она нервно закурила папиросу и, не видя поблизости пепельницы, продолжала держать обгорелую спичку в руке. Бурлюк, уже успевший разглядеть в моей комнате все до мелочей, заметил под кроватью приготовленный на ночь сосуд и носком, как ни в чем не бывало, деловито пододвинул его к Александре Александровне. Это сразу внесло непринужденность в наши с ним отношения, установив известную давность и короткость знакомства.
Я жадно расспрашивал «садкосудейца» о Хлебникове. Пусть бесконечно далеко было творчество Хлебникова от всего, что предносилось тогда моему сознанию как неизбежные пути развития русской поэзии; пусть его «Зверинец» и «Журавль» представлялись мне чистым эпигонством, последними всплесками символической школы, – для меня он уже был автором «Смехачей», появившихся незадолго перед этим в кульбинской «Студии Импрессионистов», и, значит, самым верным союзником в намечавшейся – пока еще только в моем воображении – борьбе.
– У него глаза – как тёрнеровский пейзаж, – сказал мне Бурлюк, и это все, чем он нашел возможным характеризовать наружность Велимира Хлебникова. – Он гостил у меня в Чернянке, и я забрал у него все его рукописи: они бережно хранятся там, в Таврической губернии… Все, что удалось напечатать в «Садке» и «Студии», – ничтожнейшая часть бесценного поэтического клада… И отнюдь не самая лучшая.
Я продолжал расспросы, и Бурлюк, напрягая прилежно свою память, процитировал мне начало еще никому не известного стихотворения: «Весележ, грехож, святеж». Он произносил «веселош, святош, хлабиматствует» вместо «хлябемятствует», и русское «г» как «х». Во всяком другом я счел бы это неопровержимым признаком украинского происхождения. Но в Бурлюке, несмотря на его фамилию и говор, мне было странно предположить «хохла», как вообще с трудом я отнес бы его к какой бы то ни было народности. «Садкосудейцы», сокрушители поэтической и живописной традиции, основоположники новой эстетики, рисовались мне безродными марсианами, ничем не связанными не только с определенной национальностью, но и со всей нашей планетой существами, лишенными спинного мозга, алгебраическими формулами в образе людей, наделенными, однако, волей демиургов, двухмерными тенями, сплошной абстракцией…
А он – это была его постоянная манера, нечто вроде тика, – не раскрывая рта, облизывал зубы с наружной стороны, как будто освобождая их от застрявших остатков пищи, и это придавало его бугристому, лоснящемуся лицу самодовольно животное и плотоядное выражение.
Тем более странно и неожиданно прозвучали его слова:
– Деточка, едем со мной в Чернянку!
Мне шел двадцать пятый год, и так уже лет пятнадцать не называли меня даже родители. В устах же звероподобного мужчины это уменьшительное «деточка» мне показалось слуховой галлюцинацией. Но нет: он повторяет свою просьбу в чудовищно несообразной с моим возрастом, с нашими отношениями форме. Он переламывает эти отношения рокотом нежной мольбы, он с профессиональной уверенностью заклинателя змей вырывает у наших отношений жало ядовитой вежливости и, защищенный все той же нежностью, непререкаемо-ласково навязывает мне свое метафизическое отцовство – неизвестно откуда взявшееся старшинство.
– Едем, деточка, в Чернянку. Там все… все хлебниковские рукописи… Вы должны поехать вместе со мной… завтра же… Если вы откажетесь, это будет мне нож в сердце… Я с этим и пришел к вам…
Экстер, на глазах которой происходит это необычайное зарождение необычайной дружбы, присоединяется к его настояниям:
– Это необходимо и для вас, Бен.
Почему необходимо для меня? Почему мой отказ будет ударом ножа в бурлюковское сердце? Почему я должен ехать немедленно? Над всем этим мне не дают подумать. Мои государственные экзамены, мой очередной роман, все это отодвигается на задний план, отметается в сторону натиском человека, которого я впервые увидел час тому назад.
II
Ранним утром я, как было накануне условлено, приехал с вещами на квартиру Экстер, у которой остановился Бурлюк. Александра Александровна еще спала. В светло-оранжевой гостиной, увешанной нюренбергскими барельефами, – единственном месте во всем доме, где глаз отдыхал от вакханалии красок, – меня встретил Давид. Он только что вышел из отведенной ему соседней комнаты. Впрочем, он походил на человека, переночевавшего в стоге сена, а не в комфортабельном кабинете Николая Евгеньевича Экстера, адвоката с хорошей практикой. Растрепанный, в помятом пиджаке, Бурлюк, должно быть, совсем не раздевался. Одна штанина у него была разорвана на колене, и висящий трехугольный лоскут раскрывал при каждом движении полосатый тик кальсон.
Щеголь Иосиф, лакей Александры Александровны, в черно-желтом жилете, опередившем на два года пресловутую кофту Маяковского, подавая нам завтрак, с явным презрением посматривал на Бурлюка. Но Давид был невозмутим. Широко улыбаясь, он объяснил мне, что у Экстер, кроме него, гостит З. Ш., сестра известной драматической актрисы. Я все еще не понимал, какое отношение имеет порванная штанина к этой немолодой даме. Увы, это не был трофей. Ночью Давид, для которого, по его собственному признанию, все женщины до девяноста лет были хороши, потерпел поражение. Он говорил об этом без всякого стеснения, без досады, с гомеровской объективностью, имевшей своим основанием закон больших чисел. В его ночной истории личный интерес как будто отсутствовал.
На вокзале мы взяли билеты до Николаева, с тем чтобы там пересесть на поезд, идущий до Херсона. В купе третьего класса, кроме нас, не было никого; мы могли беседовать свободно, не привлекая ничьего внимания. Заговорили о стихах. Бурлюк совершенно не был знаком с французской поэзией: он только смутно слышал о Бодлере, Верлене, быть может, о Малларме.
Достав из чемодана томик Рембо, с которым никогда не расставался, я стал читать Давиду любимые вещи…
Бурлюк был поражен. Он и не подозревал, какое богатство заключено в этой небольшой книжке. Правда, в ту пору мало кто читал Рембо в оригинале. Из русских поэтов его переводили только Анненский, Брюсов да я. Мы тут же условились с Давидом, что за время моего пребывания в Чернянке я постараюсь приобщить его, насколько это будет возможно, к сокровищнице французской поэзии. К счастью, я захватил с собой, кроме Рембо, еще Малларме и Лафорга.
Время от времени Бурлюк вскакивал, устремлялся к противоположному окну и, вынув из кармана блокнот, торопливо что-то записывал. Потом прятал и возвращался.
Меня это заинтересовало. Он долго не хотел объяснить, но в конце концов удовлетворил мое любопытство и протянул мне один из листков. Это были стихи. Крупным, полупечатным, нечетким от вагонной тряски почерком были набросаны три четверостишия.
Трудно было признать эти рифмованные вирши стихами. Бесформенное месиво, жидкая каша, в которой нерастворенными частицами плавали до неузнаваемости искаженные обломки образов Рембо.
Так вот зачем всякий раз отбегал к окну Бурлюк, копошливо занося что-то в свои листки! Это была, очевидно, его всегдашняя манера закреплять впечатление, усваивать материал, быть может, даже выражать свой восторг.
«Как некий набожный жонглер перед готической мадонной», Давид жонглировал перед Рембо осколками его собственных стихов. И это не было кощунство. Наоборот, скорее тотемизм. Бурлюк на моих глазах пожирал своего бога, свой минутный кумир. Вот она, настоящая плотоядь! Облизывание зубов, зияющий треугольник над коленом: «Весь мир принадлежит мне!» Разве устоят против подобного чудища Маковские и Гумилевы? Таким тараном разнесешь вдребезги не только «Аполлон»: от Пяти Углов следа не останется.
И как соблазнительно это хищничество! Мир лежит, куда ни глянь, в предельной обнаженности, громоздится вокруг освежеванными горами, кровавыми глыбами дымящегося мяса: хватай, рви, вгрызайся, комкай, создавай его заново, – он весь, он весь твой!
Это заражало. Это было уже вдохновением.
Ночью мы приехали в Николаев. Поезд на Херсон отходил через несколько часов. Надо было ждать на вокзале.
Спать не хотелось. Мир был разворошен и все еще принадлежал мне. Моей на заиндевевшем стекле была подвижная паукообразная тень четверорукого фонаря за окном, отброшенная с перрона освещенным вагоном; моими были блеклые бумажные розы на молочно-белой, залитой пивом клеенке буфетной стойки; моим был спящий винодел в распахнувшейся хорьковой шубе с хвостами, вздрагивающими при каждом вдохе и выдохе; моим был швейцар в тупоносых суворовских сапогах, переминавшийся в дверях и с вожделением посматривавший на бутерброды под сетчатым колпаком. Все это в тускло-янтарном свете засиженных мухами угольных лампочек, в ржавом громыхании железнодорожной ночи подступало ко мне, и я это брал голыми руками.
Нет, даже не подступало, и я ничего не брал. Это было мной, и надо было просто записать все.
Так, сам собой, возник «Ночной вокзал».
Садимся наконец в вагон. Вслед за нами в купе входит краснощекий верзила в романовском полушубке и высоких охотничьих сапогах. За плечами у него мешок, туго чем-то набитый, в руке потертый брезентовый чемодан.
Радостные восклицанья. Объятия.
Это Владимир Бурлюк.
Брат знакомит нас. Огромная лапища каменотеса с черным от запекшейся крови ногтем больно жмет мою руку. Это не гимназическое хвастовство, а избыток силы, непроизвольно изливающей себя.
Да и какая тут гимназия: ему лет двадцать пять – двадцать шесть.
Рыжая щетина на подбородке и над верхней, слишком толстой губой, длинный, мясистый с горбинкою нос и картавость придают Владимиру сходство с херсонским евреем-колонистом из породы широкоплечих мужланов, уже в те времена крепко сидевших на земле.
Рядом с этим Нимвродом Давид как-то обмякает, рыхлеет. В нем явственнее проступает грузное бабье, гермафродитическое начало, которое всегда придавало немного загадочный характер его отношениям с женщинами, да, пожалуй, и мужским.
Братья называют друг друга уменьшительными именами, и на меня это производит такое же впечатление, как если бы допотопные экспонаты геологического музея были обозначены ласкательными суффиксами.
Владимир едет на рождественские каникулы. Он учится в художественной школе не то в Симбирске, не то в Воронеже. Там, в медвежьем углу, он накупил за бесценок старинных книг и везет их в Чернянку. Давиду не терпится, и Владимир выгружает из мешка том за томом: петровский воинский артикул, разрозненного Монтескье, Хемницера…
– Молодец, Володичка, – одобряет Давид. – Старина-то, старина какая, – улыбается он в мою сторону. – Люблю пыль веков…
Владимир польщен. Он слабо разбирается в своих приобретениях и, видимо, мало интересуется книгами: был бы доволен брат.
– Ну, как в школе, Володичка? Не очень наседают на тебя?
Я догадываюсь, о чем речь. И до провинции докатилась молва о левых выставках, в которых деятельное участие принимают Бурлюки. Владимир одною рукою пишет свои «клуазоны» и «витражи», а другой – школьные этюды.
Из брезентового чемодана извлекается свернутый в трубку холст.
В серо-жемчужных и буро-зеленых тонах натюрморт. Овощи, утка со свисающей за край стола головою и еще что-то. Фламандской школы пестрый сор. Впрочем, даже не пестрый. Но выписано все до мелочей, каждое перышко, тончайшая ворсинка.
Давид восхищается:
– Каково, черт возьми! Да ведь это Снайдерс. Замечательно, а? – поворачивается он ко мне.
Но мне не нравится. Во-первых, тускло, во-вторых – двурушничество. Если рвать с прошлым, так уж совсем.
Наступает неловкая пауза. Владимир мрачно смотрит на меня. Вот-вот набросится и изобьет до полусмерти. Я никогда не был тщедушен, в ту пору даже занимался легкой атлетикой, но где же мне было справиться с таким противником?
– Взгляни-ка, детка, – отвлекает его внимание брат, – что мне дала Александра Александровна…
Снимок с последней вещи Пикассо. Его лишь недавно привезла из Парижа Экстер.
Последнее слово французской живописи. Произнесенное там, в авангарде, оно как лозунг будет передано – уже передается – по всему левому фронту, вызовет тысячу откликов и подражаний, положит основание новому течению.
Как заговорщики над захваченным планом неприятельской крепости, склоняются братья над драгоценным снимком – первым опытом разложения тела на плоскости.
Ребром подносят руку к глазам; исследуя композицию, мысленно дробят картину на части.
Раскроенный череп женщины с просвечивающим затылком раскрывает ослепительные перспективы…
– Здорово, – бубнит Владимир. – Крышка Ларионову и Гончаровой!
Я падаю с облаков на землю. Через месяц «Бубновый Валет». На очередном смотру Бурлюки не должны ударить лицом в грязь.
Пикассо постигнет участь Рембо.
III
Чернянка была административно-хозяйственным центром Чернодолинского заповедника, принадлежавшего графу Мордвинову. Огромное имение в несколько десятков тысяч десятин простиралось во все стороны от барской усадьбы. Геометрический центр не совпадал с административным: Чернянка лежала довольно близко от моря, между тем как на север, на восток и на запад можно было идти целые сутки и не добраться до границы мордвиновских владений. Горожанин, я плохо ориентируюсь в сельском пейзаже. К счастью для меня, для моей уже склеротической памяти, когда я приехал в Чернянку, все вокруг на сотни верст было покрыто глубокой пеленой снега.
Вместо реального ландшафта, детализированного всякой всячиной, обозначаемой долевекими словечками, передо мной возникает необозримая равнина, режущая глаз фосфорической белизной. Там, за чертой горизонта – чернорунный вшивый пояс Афродиты Тавридской – существовала ли только такая? – копошенье бесчисленных овечьих отар. Впрочем, нет, это Нессов плащ, оброненный Гераклом, вопреки сказанию, в гилейской степи. Возвращенная к своим истокам, история творится заново. Ветер с Эвксинского понта налетает бураном, опрокидывает любкеровскую мифологию, обнажает курганы, занесенные летаргическим снегом, взметает рой Гезиодовых призраков, перетасовывает их еще в воздухе, прежде чем там, за еле зримой овидью, залечь окрыляющей волю мифологемой.
Гилея, древняя Гилея, попираемая нашими ногами, приобретала значение символа, должна была стать знаменем.
Вскрывались и более поздние пласты. За Гезиодом – Гомер. Однажды, проходя через людскую, я заметил в ней странное оживление. Веселым кольцом, обступив фигуру в овчинном тулупе, толпились обитатели усадьбы. Это был чабан, проводивший круглый год в степи, за много верст от человеческого жилья. Сотни таких пастухов бродили по окраинам мордвиновских владений, перегоняя с места на место отары, прямое потомство Одиссеевых баранов и овец. Одичавшие люди почти разучились говорить и, годами не видя женщин, удовлетворяли половую потребность скотоложством.
В рыбачьих поселках, тянувшихся к морю и к заросшим камышами днепровским гирлам, поражала наружная окраска домов. На нежно-персиковом, на бледно-бирюзовом фоне веерообразный пальмовый орнамент или коленопреклоненное шествие меандра, перекочевавшие с херсонских ваз. Они покоились здесь, на берегу Эвксина, под снежными холмами – широкие расписные кратеры, узкогорлые лировидные амфоры и трогательные пеленашки лекифов, рядом с застывшей навеки радугой ольвийского и пантикапейского стекла.
В других, менее древних курганах Владимир, в летние месяцы вдохновенно предававшийся раскопкам, находил скифские луки и тулы и вооружал ими своих одноглазых стрелков на смертный бой с разложенными на основные плоскости парижанками.
Время, утратив грани, расслаивалось в Чернянке во всех направлениях.
В одном из них оно было еще пространством, только начинавшим оживать. Оно имело всего три измерения и залегало непосредственно за горизонтом. Взоры Бурлюков с благодарной нежностью обращались к этой черте.
Оттуда, из безоглядной степи, где сплошным руном курчавились миллионы овечьих голов, где сотни тысяч племенных свиней самых диковинных пород разрывали почву древней Тавриды, шло богатство.
Оно надвигалось густой лавой, по неисчислимым руслам пролагало себе путь в экономии, из них – в главную контору имения, и то, что оседало, как тончайшая испарина, как естественная утечка, на стенках каналов, призванных регулировать этот бешеный напор, было – уже умопомрачительным изобилием.
Все принимало в Чернянке гомерические размеры. Количество комнат, предназначенных неизвестно для кого и для чего; количество прислуги, в особенности женской, производившее впечатление настоящего гарема; количество пищи, поглощаемой за столом и походя, в междуед, всяким, кому было не лень набить себе в брюхо еще кус.
Чудовищные груды съестных припасов, наполнявшие доверху отдельные ветчинные, колбасные, молочные и еще какие-то кладовые, давали возможность осмыслить самое существо явления. Это была не пища, не людская снедь. Это была первозданная материя, соки Геи, извлеченные там, в степях, миллионами копошащихся четвероногих. Здесь сумасшедший поток белков и углеводов принимал форму окороков, сыров, напруживал мясом и жиром человеческие тела, разливался румянцем во всю щеку, распирал, точно толстую кишку, полуаршинные тубы с красками, и, не в силах сдержать этот рубенсовский преизбыток, Чернянка, обращенная во все стороны непрерывной кермессой, переплескивалась через край.
Семья Бурлюков состояла из восьми человек: родителей, трех сыновей и трех дочерей. Отец, Давид Федорович, управляющий Чернодолинским имением, был выходец из крестьян. Самоучка с большим практическим опытом сельского хозяина, он даже выпустил серию брошюр по агрономии. Его жена, Людмила Иосифовна, обладала некоторыми художественными способностями: дети унаследовали, несомненно, от матери ее живописное дарование.
Кроме Давида и Владимира, художницей была старшая сестра, Людмила. Ко времени моего приезда в Чернянку она вышла замуж и забросила живопись. А между тем десятки холстов в манере Писсарро, которые мне привелось там видеть, свидетельствовали о значительном таланте. Братья гордились ею, хотя еще больше ее наружностью – особенно тем, что на каком-то конкурсе телосложения в Петербурге она получила первый приз. Младшие дочери были еще подростки, но библейски монументальны: в отца.
Третий сын, Николай, рослый великовозрастный юноша, был поэт. Застенчивый, красневший при каждом обращении к нему, еще больше, когда ему самому приходилось высказываться, он отличался крайней незлобивостью, сносил молча обиды, и за это братья насмешливо называли его Христом. Он только недавно начал писать, но был подлинный поэт, то есть имел свой собственный, неповторимый мир, не укладывавшийся в его рахитичные стихи, но несомненно существовавший. При всей своей мягкости и ласковости, от головы до ног обволакивавших собеседника, Николай был человек убежденный, верный своему внутреннему опыту, и в этом смысле более стойкий, чем Давид и Владимир. Недаром именно он, несмотря на свою молодость, нес обязанности доморощенного Петра, хранителя ключей еще неясно вырисовывавшегося бурлюковского града.
У него была привычка задумываться во время еды (еда в Чернянке вообще не мешала никакой «сублимации»): выкатив глаза, хищнически устремив вперед ястребиный нос, он в сомнамбулическом трансе пищеварения настигал какую-то ускользавшую мысль; крепкими зубами перегрызая кость, он, казалось, сводил счеты с только что пойманною там, далеко от нас, добычей.
Узы необычайной любви соединяли всех членов семьи. Родовое начало обнажалось до физиологических границ. Загнанные планетарными ветрами в этот уголок земли, в одноэтажный, заносимый степными снегами дом, Бурлюки судорожно жались друг к другу, словно стараясь сберечь последнее в мире человеческое тепло.
Ноевым ковчегом неслась в бушующем враждебном пространстве чернодолинская усадьба, и в ней сросшееся телами, многоголовым клубком, крысьим королем роилось бурлючье месиво.
Между Бурлюками и всем остальным человечеством стояла неодолимая преграда: зоологическое ощущение семьи. Под последовательно наросшими оболочками гостеприимства, добродушия, товарищеской солидарности таилось непрогрызаемое ядро – родовое табу.
Бурлючий кулак, вскормленный соками древней Гилеи, представлялся мне наиболее подходящим оружием для сокрушения несокрушимых твердынь.
IV
На следующее по приезде утро в Чернянке закипела работа. Шестиоконный зимний сад, давно превращенный в мастерскую, снова ожил после полугодичного затишья. Холсты, оставшиеся от прежних выставок и мирно дремавшие лицом к стене, были вынесены в чулан. Они сделали свое дело, и Бурлюки, не склонные сентиментально заигрывать с собственным прошлым, безжалостно сбрасывали с Тайгетской скалы свои скоропостижно состарившиеся детища. На смену им за две недели рождественских каникул из драконовых зубов инкассовой парижанки, глубоко запавших в чернодолинский чернозем, должно было подняться новое племя.
Огромные мольберты с натянутыми на подрамники и загрунтованными холстами, словно по щучьему велению, выросли за одну ночь в разных углах мастерской. Перед ними пифийскими треножниками высились табуреты, вроде тех, какими впоследствии Пронин обставил «Бродячую Собаку». На полу, среди блестящих досекинских туб, похожих на крупнокалиберные снаряды, босховой кухней расположились ведерца с разведенными клеевыми красками, банки с белилами, охрой и сажей, жестянки с лаками и тинктурами, скифские кувшины, ерошившиеся кистями, скоблилками и шпахтелями, медные туркестанские сосуды неизвестного назначения. Весь этот дикий табор ждал только сигнала, чтобы с гиком и воем наброситься разбойной ордою на строго белевшие холсты.
Но братья еще совещаются, обдумывают последние детали атаки. Захватанный по полям снимок переходит из рук в руки. Можно начинать…
– Ну, распикась его как следует! – напутствует брата Давид.
Владимир пишет мой поясной портрет. Об этом мы условились накануне. Меня сейчас разложат на основные плоскости, искромсают на мелкие части и, устранив таким образом смертельную опасность внешнего сходства, обнаружат досконально «характер» моего лица.
Но я не боюсь. Точно такой же вивисекции я подвергся месяц тому назад, когда меня писала Экстер, – и ничего: сошло благополучно. Жаль только, что портрет остался незаконченным.
Позировать Владимиру одно удовольствие. Можно двигаться, как угодно, принимать любое положение. Это даже облегчает работу художника; во множественности ракурсов ему скорее удастся определить константу моего лица.
У Давида черный человек в высоком цилиндре уже зашагал вослед кобыле, удивленно оглядывающей свой круп. Это слишком натуралистично, но проходит еще четверть часа, и пространство, спиралеобразно взвихрясь, изламывается под прямым углом; над головой человека в цилиндре блещет зеркальная гладь воды; маленький пароходик, скользя по ней, вонзается мачтами в поверхность земли и жирной змеею дыма старается дотянуться до пешехода. Еще один излом пространства, и парусная лодка, вроде тех, что дети сооружают из бумаги, распорет шатер нашего праотца Иакова.
Владимир между тем уже выколол мне левый глаз и для большей выразительности вставил его в ухо. Я бесстрастно выжидаю дальнейшего течения событий: гадать об уготованной мне участи было бы бесцельным занятием.
– Канон сдвинутой конструкции! – весело провозглашает Давид.
Это говорится из чистого удовольствия произнести вслух свежую формулу: всем троим совершенно ясно, ради чего пишется пейзаж с нескольких точек зрения и зачем на портрете мой глаз отъехал в сторону на целый вершок. То, что у Греко и Сезанна было следствием органического порока, становится теперь методом. Необходимо затруднить восприятие, оторвать его от привычного рефлекса, отказаться от традиционной, Возрождением навязанной перспективы, от условных ракурсов, бельмом застилающих наш взор.
Мы отлично понимаем друг друга и не считаем нужным с гиератической важностью вещать о том, что в эту минуту нам ближе всего. Комическое заключено для нас не в сдвиге конструкции, а в том, как вещи, построенные по этому принципу, воспринимаются со стороны. Первое испытание ждет Бурлюков еще в недрах семьи.
Дней через пять по нашем приезде меня отзывает в дальний угол Людмила Иосифовна. Она почему-то питает ко мне великое доверие и, со слезами в голосе, допытывается у меня:
– Скажите, серьезно ли все это? Не перегнули ли в этот раз палку Додичка и Володичка? Ведь то, что они затеяли теперь, переходит всякие границы.
Я успокаиваю ее. Это совершенно серьезно. Это абсолютно необходимо. Другого пути в настоящее время нет и быть не может.
Хуже обстоит дело с отцом. Он разъярен: мальчики издеваются над ним. Стоило ли воспитывать их, на медные гроши учить живописи, если они запинаются такой мазней, да еще выдают ее за последнее откровение!
– Я левой ногой напишу лучше! – бросает он в лицо сыновьям и сердито хлопает дверью.
Часа через три Давид приносит отцу пахнущий свежей краской холст. Ни дать ни взять Левитан.
– Вот тебе, папочка, в кабинет пейзажик.
Старику угрожает паралич. У него уже был один удар, и его надо оберегать от всяких волнений. Давид за себя и за брата выполняет сыновний долг. Отец умилен:
– Ну, иди, иди… работай, как знаешь…
Однако мимо мастерской все проходят потупясь, точно там, за стеклянными дверьми, совершилось нечто непотребное и на собирательное лицо семьи оттуда, с кубистических картин, вот-вот расползется пятно позора.
V
Дни шли за днями. Одержимые экстазом чадородия, в яростном исступлении создавали Бурлюки вещь за вещью. Стены быстро покрывались будущими экспонатами «Бубнового Валета».
Давид продолжал заниматься сложными композициями, в «пейзажах с нескольких точек зрения» осуществляя на практике свое учение о множественной перспективе.
Глазной хрусталик европейца, на протяжении шестисот лет приученный сокращаться в определенном направлении, перевоспитывался заново. Условный характер итальянской перспективы подчеркивался введением столь же условной двойной перспективы японцев. Против Леонардо – Хокусаи. И то лишь как временный союзник. А завтра – никаких «исходных точек», никаких «точек схода»!
Относительность всякой проекции пространства на плоскости, до сих пор бессознательно побуждавшая стольких живописцев отказываться от передачи объемов, у кубистов вызывала противоположный эффект: стремление найти в четвертом измерении ключ к овладению первыми тремя.
В творчестве Владимира плоскостное восприятие внешнего мира играло доминирующую роль. Его предельно упрощенные пейзажи не казались даже нагромождением стереометрических фигур; провинившееся пространство, изгнанное в чистилище кубизма, уже не занимало его.
В неандертальской ночи сетчатка питекантропа смутно отражала лишь близлежащие поверхности. Тяжелые базальтовые стволы еле выделялись на черном фоне неба: когда еще научится ретина реагировать на голубой цвет? Ведь от Эллады, которая тоже не видела его, этот архаический ландшафт отделен сотнями тысячелетий… Иногда огромные треугольные лоскутья, прообраз будущей листвы, обращаются острием книзу, к земле. Это – геотропизм. Иногда вытягиваются кверху, к угадываемому источнику тепла. Это – гелиотропизм. Вот и все, что глазу удается различить в довременном мраке, вырвавшись из которого, мы опять сумеем нерастленным взором созерцать возвращенную нам природу.
Все – на потребу этому обновленному восприятию мира: и сдвинутая конструкция, и множественность перспективы, и моря черного цвета, упраздненного импрессионистами, и свистопляска плоскостей, и неслыханная трактовка фактуры.
С лорнетом в перепачканном краской кулаке подходит Давид к только что законченному Владимиром пейзажу.
– А поверхность у тебя, Володичка, слишком спокойная…
И, медовым голосом обращаясь ко мне, чтобы не задеть самолюбия брата, он излагает свою теорию фактуры.
Но Владимир уже не слушает его и пинком распахивает стеклянную дверь, ведущую в парк. В мастерскую врывается поток свежего воздуха. На дворе декабрь, но мы в Таврической губернии, и Крым не так уже далеко. Какие бы ни стояли морозы, на солнцепеке в полдень хоть на час, а все же тает снег.
Схватив свой последний холст, Владимир выволакивает его на проталину и швыряет в жидкую грязь.
Я недоумеваю: странное отношение к труду, пусть даже неудачному. Но Давид лучше меня понимает брата и спокоен за участь картины. Владимир не первый раз «обрабатывает» таким образом свои полотна. Он сейчас перекроет густым слоем краски приставшие к поверхности комья глины и песку, и – similia similibus (подобное – подобным) – его ландшафт станет плотью от плоти гилейской земли.
VI
Нежная любовь к материалу, отношение к технике воспроизведения предмета на плоскости как к чему-то имманентному самой сути изображаемого побуждали Бурлюков испытывать свои силы во всех видах живописи – масле, акварели, темпере, от красок переходить к карандашу, заниматься офортом, гравюрой, меццо-тинто…
Это было непрерывное творческое кипенье, обрывавшееся только во сне.
Прирожденные колористы, Давид и Владимир, обладая высокоразвитым чувством цвета, были вместе с тем и отличными рисовальщиками.
Под несколько вялой, немного расплывчатой линией Владимировых рисунков опытный глаз легко находил звериную мощь первобытных изображений на мамонтовой кости. И тематически они как-то перекликались: воинственные микроцефалы, которых сотнями плодил младший Бурлюк, были ретроспективными портретами его прагиперборейских предков.
Явлением совсем иного порядка представлялись мне рисунки Давида. Каждый из них хотел быть остовом картины, обрасти мясом, налиться кровью. Но живописец до мозга костей, Бурлюк никогда и не подумал бы перенести их на холст: там объемами, и вообще формой, распоряжался цвет, и только цвет. Рисунок жил в почтительном отдалении от поверхности картины, реял в воздухе, располагаясь параллельно к ней, – и все же его месмерическое влияние было непреложным фактом.
Необычайная плодовитость обоих братьев невольно порождала мысль о легкости искусства живописи вообще. Не в этом ли следует искать причину того странного явления, что все более или менее близко соприкасавшиеся с Бурлюками испытывали неодолимое искушение взять в свои руки кисть? О членах их семьи я уже не говорю: за исключением отца и младшей сестры, Марианны, все отдали дань заразе.
Хлебников, гостивший в Чернянке за полгода до меня, также не избежал общей участи. Впрочем, о нем следовало бы выразиться иначе, так как он проявил себя настоящим живописцем. Давид показывал мне женский портрет маслом его работы: это было вне школы, вне направлений, но дилетантизмом и не пахло. К сожалению, в моей памяти этот портрет сливается с другим «ренуаровским», который Хлебников в тринадцатом году писал в Петербурге в моем присутствии.
Давид и меня подбил попытать силы на этом поприще и с явным любопытством ожидал результатов, но очень скоро и навсегда разочаровался в моих живописных талантах: я оказался чудовищно бездарен.
Интерес Давида к моим опытам имел, впрочем, иные корни: Бурлюк носился с мыслью об устройстве выставки картин писателей и в Москве уже заручился довольно значительным количеством экспонатов. Насколько мне известно, из этой затеи ничего не вышло, но для Давида она достаточно характерна, хотя и лежит в другой плоскости, чем его любовь к примитивам, вывескам или искусству первобытных народов.
Кстати, о примитивах. Среди многочисленных обитателей Чернянки, приходивших глазеть «на малюнки панычей», нашелся человек, не на шутку соблазнившийся бурлюковской живописью и увидевший в ней свое призвание.
Это был уже немолодой бородач, не то кузнец, не то плотник, служивший в одной из экономий. Его фамилия – Коваленко. Бурлюки снабжали его холстом, кистями, красками и взращивали в нем второго Руссо, выставляя его картины вместе со своими. Еще зимой тринадцатого года я видел его вещи на петербургской выставке «Союза Молодежи», устроенной Жевержеевым: они пользовались успехом.
Пристрастие к примитиву, в частности к бытовой иконописи прачечных, парикмахерских и иных провинциальных заведений и промыслов, оказавшей такое влияние на творчество Ларионова, Гончаровой, Шагала, побуждало Бурлюка на последние деньги скупать вывески кустарной работы еще в те годы, когда Бенуа и Грабари относились к ним с презрительным равнодушием. Богатая коллекция, собранная Давидом, вероятно, погибла в Пушкине, куда в четырнадцатом году переселились Бурлюки.
Любовь к народному творчеству, тяготение к примитиву во всех его формах, к искусству Полинезии или древней Мексики не были у Бурлюков прихотью пресыщенного вкуса, гурманством людей типа Сергея Маковского.
Нет, это увлечение имело под собой более глубокую почву.
В одном из нескончаемых наших разговоров я как-то обмолвился фразой о grand art’e[1].
Оба Бурлюка, остервенев, накинулись на меня: даже Владимир неожиданно обрел дар слова.
– Это в тебе все еще говорит твоя «аполлоновская» закваска. Какой к черту grand art! Его никогда не существовало. История искусства – не последовательно развертывающаяся лента, а многогранная призма, вращающаяся вокруг своей оси, поворачивающаяся к человечеству то той, то другой своей стороной. Никакого прогресса в искусстве не было, нет и не будет! Этрусские истуканы ни в чем не уступают Фидию. Каждая эпоха вправе сознавать себя Возрождением.
Я не возражал. Этот пафос был слишком соблазнителен. Только с такой верой в себя, в свое время можно было осуществлять эстетическую революцию.
VII
Как ни был велик мой интерес к живописи, он не мог заслонить от меня того, что, собственно, вызвало мой приезд в Чернянку.
В первый же день моего пребывания у Бурлюков Николай принес мне в комнату папку бумаг с хлебниковскими рукописями. Это был беспорядочный ворох бумаг, схваченных как будто наспех.
На четвертушках, на полулистах, вырванных из бухгалтерской книги, порою просто на обрывках мельчайшим бисером разбегались во всех направлениях, перекрывая одна другую, записи самого разнообразного содержания. Столбцы каких-то слов вперемежку с датами исторических событий и математическими формулами, черновики писем, собственные имена, колонны цифр. В сплошном истечении начертаний с трудом улавливались элементы организованной речи.
Привести этот хаос в какое-либо подобие системы представлялось делом совершенно безнадежным. Приходилось вслепую погружаться в него и извлекать наудачу то одно, то другое. Николай, по-видимому, не первый раз рывшийся в папке, вызвался помогать мне.
Мы решили прежде всего выделить из общей массы то, что носило хотя бы в слабой степени форму законченных вещей.
Конечно, оба мы были плохими почерковедами, да и самый текст, изобиловавший словоновшествами, чрезвычайно затруднял нашу задачу, но по чистой совести могу признаться, что мы приложили все усилия, чтобы не исказить ни одного хлебниковского слова, так как вполне сознавали всю тяжесть взятой на себя ответственности.
Покончив с этим, мы намеревались воспроизвести записи, носившие характер филологических опытов; к математическим же формулам и сопоставлениям исторических событий мы решили не прикасаться, так как смысл этих изысканий оставался нам непонятен. К сожалению, наша работа оборвалась еще в первой стадии: и у меня, и у Николая было слишком мало времени, чтобы посвятить себя целиком разбору драгоценных черновиков.

