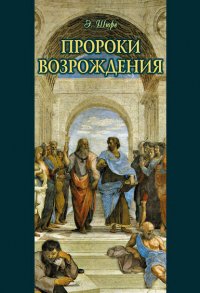
Читать онлайн Пророки Возрождения бесплатно
- Все книги автора: Эдуард Шюре
Предисловие
Потрясения великой войны 1914–1918 годов закончились блистательной победой Свободы и Справедливости. Электрический разряд, сопровождавший эту великую битву, потряс все умы и явил в новом свете все интеллектуальные и моральные ценности человечества. Нельзя не заметить в этом огромную волну духовной жизни, которая перевернула земной шар и стала явлением мирового значения. Поэтому она предвещает столь же радикальное и всеобщее изменение человечества, как то, что принесло христианство.
Пришествие Христа, величайшего Сына Божьего, принесло с собой высшее пророчество. Целью его откровения было привить людям идею братства с более глубоким и в то же время более непосредственным ощущением Божественного. Сегодня новый духовный поток захватил национальное чувство людей, дабы призвать их к более тесному пониманию их внутренних связей и создать из них новые сообщества. Эту европейскую войну наций можно также назвать и войной двух миров не только потому, что Америка приняла в ней столь блестящее участие, но еще и потому, что это была война двух вечно враждующих миров, двух вечно противоборствующих сил – как на земле, так и на небесах: война Свободы и Угнетения, Любви и Ненависти, Добра и Зла. Мировая война, в многозначном, абсолютном и трансцендентном смысле этого слова, была воистину призывом к сознанию всех народов. Ибо все они, большие и малые, были поставлены перед необходимостью переосмыслить свои истоки, ощутить свою самобытность, измерить свои материальные и моральные силы, утвердить свое право на существование. Но, чтобы утвердить это право, они должны были в то же время уяснить свои обязанности по отношению к другим, то есть осознать общие цели человечества, понять в них свои собственные роли и степень своего в них участия.
Французская революция, а до нее – английская революция уже провозгласили свободу личности. Война наций провозгласила одновременно свободу народов и человеческую солидарность.
Во время этого героического крестового похода, в котором Франция сыграла столь величественную роль, какой француз не обратился мыслью к призванию своей родины, к загадке ее души в стремлении к новому идеалу? Так было и со мной, как и со всеми умами, вовлеченными в эту борьбу. И не раз под влиянием мучительных раздумий во время битвы гигантов, когда звезда Франции, казалось, то восходила к зениту, то низвергалась в бездну, я пытался набросать историю кельтской души на протяжении веков, чтобы припасть к нашим истокам, словно к реке вечной молодости. Но я лишь ненадолго предался этой смелой мечте, и не только потому, что отступил перед бесчисленными трудностями и перед грандиозностью замысла, но еще и из-за первого же сделанного вывода. Можно ли, спросил я себя, понять сущность французской души, если не понять, не углубиться и не определить вначале латинскую душу, одну из ее основных составляющих?
Чем больше я размышлял над этим, тем больше предо мной представало первенство Италии в образовании Европы. В самом деле, разве не она трижды становилась наставницей цивилизации в продолжение христианской эры? Первый раз это было в эпоху древнего Рима, который передал народам севера сущность греко-латинской цивилизации. Второй раз Италия наставляла Европу, когда Рим обладал верховным влиянием как центр западного христианства. И третий раз, с удвоенной энергией, – в эпоху Возрождения, которое возродило культ красоты, утерянной и опозоренной средневековьем, и тем самым представило миру новое искусство – эллинско-христианское.
Я хотел бы углубить эту проблему, снова обратившись к великим мастерам итальянского Возрождения, предшественником которых я считаю Данте, величайшего и наиболее универсального итальянского гения. Вызвав также к жизни внутри себя шедевры архитектуры, скульптуры и живописи этих замечательных гениев, в тени которых я уже написал ранее важнейшие страницы моего труда «Великие Посвященные», я понял лучше, чем когда-либо, первостепенную важность итальянского Возрождения для современного мира.
В самом деле, его синтез – это не просто пластический синтез искусства и красоты. Это, кроме того, необходимая прелюдия к философскому, социальному и религиозному обновлению, которое происходило в наше время и в предыдущем человеческом цикле. Если посмотреть в корень вещей, будет видно следующее. Эллинско-христианский синтез, давший права независимой науке, свободной мысли, личному вдохновению, дополнил, сам того не зная и не желая, дело Прометея и Люцифера. Возрождение завершает это смелое дело в самом центре христианского мира, в сердце Ватикана. Оно делает это бесхитростно, спокойно, не потрясая основ христианства, но открывая в нем множество новых оттенков.
Встав на эту точку зрения, можно увидеть, что за Возрождением скрываются некоторые великие Идеи ((Idées-Méres), освещающие и оживляющие его, подобно тому как свет позади рисунков волшебного фонаря или кинематографа оживляет и приводит в движение меняющиеся фигуры, которые объектив проецирует на холст или экран. Эти основные идеи в очень разных формах озаряют и нашу эпоху и вызывают в ней многие непредвиденные явления. В их совокупности можно видеть зарю мира, в котором Прометеева и христианская идеи, согласованные и объединенные, будут существовать совместно. Они вызовут к жизни эпоху, когда Христос, полностью проникнув в человечество, и Люцифер, восставший от своего падения, будут по-братски править людьми[1]. Немеркнущий отблеск этого сияющего света я и искал за грандиозными мифологическими повествованиями, как и за сверкающим апофеозом христианства эпохи Возрождения.
Я хочу только перечислить здесь основные идеи, которые будут шире представлены и раскрыты на последних страницах этой книги:
1. Составное единство Вселенной и человека (макрокосма и микрокосма) через их внутреннюю структуру и глубинные связи. Этот закон показывает нам чудесную сущность человека: крошечное, но живое зеркало Космоса, отражающее и воспроизводящее его в большом и малом, физически, морально и духовно. Магнетическая связь соединяет каждую часть человека с соответствующей частью нашего планетарного мира и Космоса, и при этом все три связаны между собой, эволюционируя каждая по отдельности. Благодаря этой идее, изречение в храме Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя» и слова из Книги Бытия: «Создал Бог человека по образу и подобию своему» взаимно освещают друг друга и открывают в обоих смыслах огромные перспективы.
2. Закон метаморфоз, возрождений и перерождений, который, в его многочисленных разновидностях, относится и к звездам, и к людям, и к душам. Это великий закон эволюции, рассмотренный с духовной стороны. Этот новый аспект до бесконечности расширяет чисто физическую и материальную концепцию эволюции – такую, какой ее понимает современная наука.
3. Тайна Вечно-женственного, которая раскрывается и освещается в проявлениях и последовательных кристаллизациях Мировой Души, в Астральном свете, в Деве, родившей Божественный Логос, в Мадонне и Женщине-вдохновительнице (имя которой Беатриче или Джоконда). Тогда женское начало из чисто пассивного и воспринимающего, каким оно всегда было, становится активным и творящим благодаря интуиции и деятельной любви.
Мы увидим, как эти идеи меняются и переливаются различными оттенками у пяти великих корифеев Возрождения и их пяти Муз. Ибо у каждого из них была своя любимая и своя вдохновительница. У Данте была Беатриче, у Леонардо – Мона Лиза, у Рафаэля – Незнакомка, у Микеланджело – Виттория Колонна, у Корреджо – Джеромина. Каждая из этих пар имеет свой ритм и свои особенности, порой диссонирующие с другой. И все же из их совокупности рождается изумительная красота и музыка. Из этого создается потусторонняя гармония, подобная кантате Палестрины или ослепительному видению, полному красоты и величия, над которым парит елисейский мир.
Что касается пяти гениев, о которых я говорил, я далек от того, чтобы показать все их облики. Их слишком много. Эти колоссы Возрождения сильно опережают свою собственную нацию и свой век. Они выходят за рамки пространства и времени. Я пытался здесь поместить их вне преходящей моды, вне местного и национального патриотизма, и рассмотреть их лишь под углом зрения Вечности, sub specie aeterni.
* * *
Таким образом, на этих страницах я совершенно невольно осуществил первоначальную и вскоре отвергнутую идею, продолжение которой я вынужден был дать в «Великих Посвященных» и в «Божественной эволюции», когда писал книгу об эзотерической эволюции человечества в христианскую эру. Ибо великие духовные течения играют в истории ту же роль, что «надрациональные идеи» (idées de derrière la tête) в жизни человека. Эти последние властвуют над человеком и ведут его вопреки его воле, так же как первые определяют великие исторические события. Можно видеть, как эти течения и эти идеи отражают друг друга в удивительной гармонии сквозь призму Возрождения.
Сегодня готовится новое Возрождение, которое будет, думаю я, истинным Воскрешением. Ибо напрасно тюремщики человеческих душ, атеисты всех сортов, которые искусно скрываются и маскируются, которые гордятся своей слепотой и невежеством, составляют до сего дня заговор молчания вокруг основных идей возрождающегося синтетического спиритуализма. И пусть они усилят крепостные затворы и укрепят стены, не пропускающие свет. Бесконечный поток воль и желаний сокрушит все их преграды. Он освободит Ту, кого они заперли, чтобы использовать по своему произволу, и вернет свободу воли и глубину небес их пленнице – божественной Психее.
Эдуард Шюре
Париж, май 1919 г.
Глава I
Рим с высоты птичьего полета. Кристаллизация Италии в Вечном городе
O Rome! My country! City of the soul!
Byron
Несмотря на всякого рода перипетии и явно противоречивые события, никакая история не представляет собой более грандиозного единства, чем история Италии, с ее чередованиями полного упадка и ослепительного взлета. Если изучать эту историю фрагментарно, она кажется разнородной и сумбурной. Увиденная целиком, она являет могучий синтез.
Это единство в разнообразии выражается и как бы застывает в архитектуре ее столицы, в том городе Риме, где три тысячи лет истории, окаменевшие, но говорящие, предстают нам в красноречивых руинах и памятниках.
Начнем с беглого обозрения Вечного города, прежде чем создать образ итальянской души и ее развития.
* * *
Весь языческий Рим располагается вокруг Палатина, этого высочайшего из семи холмов, каждый из которых есть как бы один из обликов римской души и часть ее истории.
Воздвигнутое между Форумом и Колизеем, лицом к лицу с обширной сельской округой, это скопление громоздящихся друг над другом построек образует самую огромную и внушительную из цитаделей. В то же время оно не кажется дисгармонирующим со своим окружением. Это лишь законный центр самой грандиозной из исторических панорам.
Вид Колизея с высоты птичьего полета
Говорят, что в основании этого холма, отягощенного славой и преступлениями, находится сloaca massima, построенная Тарквинием. Холм скрывает у подножия предполагаемую могилу Ромула и легендарную пещеру вскормившей его волчицы. На вершине его находятся роскошные дворцы, служившие жилищами более чем шестидесяти цезарям, с колоннами из яшмы и порфира, с узорными капителями. Мощные подъемные решетки охраняют вход в императорскую крепость. У этих входов вырыты зловещие тюрьмы, где покоится столько мертвых. Во дворце Августа таится до сих пор нетронутая спальня, в которой императрица Ливия принимала Овидия. На стенах этих покоев прекрасно сохранившаяся фреска показывает, как Ио принимает Меркурия, извещающего ей о приходе Юпитера, а Аргус, посланный Юноной, следит за ними подозрительным и похотливым взглядом. На склоне Палатинского холма предстает все представление римской истории: Капитолий, куда поднимались сотни триумфаторов, увенчанных лаврами, считавшимися почти божественными, а сбоку – Тарпейская скала, откуда сбрасывали столько знаменитых жертв. Императорская крепость возвышается над Форумом, где бурные комиции назначали трибунов и консулов. Там можно видеть ростры, где говорили Гракхи и Цицерон, Юлий Цезарь и Брут. Между обломками колонн храма Весты мраморная весталка с обрубленными руками и суровыми чертами лица словно еще размышляет о судьбах Рима. Чуть дальше помещаются великолепные руины Колизея, гигантского цирка, прообраза всех арен мира, где гладиаторы всех племен сражались между собой и с дикими зверями перед тремястами тысячами зрителей. Неподалеку от этого памятника страшной силе и величию Рима находятся триумфальные арки Тита и Константина – они кажутся маленькими и почти приниженными.
Таковы древние, но красноречивые остатки четырнадцати веков человеческих бурь. Какой рассказ, какая книга когда-либо стоили этого исторического повествования в камне, которое и само по себе есть синтез историй стольких народов?
Перейдем теперь на террасу Домициана, которая венчает Палатинский холм. Предадимся созерцанию величественного пейзажа, который окружает город, а затем попытаемся окинуть взглядом горизонт. И вот перед нашими глазами весь Лациум, откуда выходили завоеватели мира. По ту сторону сельской округи, пустынной и изборожденной лишь акведуками, взгляд охватывает величественный полукруг гор, тончайшие оттенки сиреневого или лазурного, от Сабинских гор, где скрываются храм Сивиллы, каскады Анио и дом Горация, и до диких Вольских гор, куда ушел умирать перебежчик Кориолан, зарезанный римской Немезидой в самом доме врагов его отечества. В центре этой круглой арки, сформированной широкой панорамой гор, поднимаются Альбанские горы. Едва можно различить дома Фраскати и Альбано, древнюю Альбу Лонгу, предка и соперника Рима. Сбоку от этой величественной вершины возле прелестного маленького амфитеатра, спрятавшегося в горе, приткнулся сельский домик Сциллы и Цицерона. Там же царит великолепная вилла Альдобрандини, откуда отдаленный Рим кажется лишь скоплением курганов, увенчанных несколькими куполами. Из самого Рима не видны все классические памятники, но их образы витают над отдаленной твердыней Лациума и как бы опоясывают его священными воспоминаниями. Под широким куполом римского неба, более сверкающей и более глубокой лазури, чем другие небеса, все говорит о силе и власти в высшей гармонии. И становятся понятными слова Данте: «Рим – место, выбранное Богом, чтобы править миром».
Арка Константина. IV в. н. э.
Здесь мы спустимся с высочайшей вершины города, выйдем из его стен по Аппиевой дороге и, чтобы увидеть иной Рим, спустимся в катакомбы св. Каллисты, бесконечные коридоры и сумрачные пещеры, и пройдем их при свете свечей. Мертвое молчание царит в этой тьме. Там найдены кости, могилы мучеников. Обескровленные лики Христа, нарисованные на стенах, смотрят на вас, повергая в смятение. Это убежище и храм первых христиан. Однако христианство, которому было суждено завоевать весь мир, вышло из этих погребальных пещер. Крепостям, дворцам и языческим храмам пришлось склониться перед апостолами, скрывавшимися до того в проклятых подземельях. Сила души и триумф Духа! Какой еще город преподал бы нам такой урок?.. Но не хотите ли вы увидеть это христианство восторжествовавшим? Поднимитесь на возвышение собора св. Петра. Если интерьер этой базилики подавляет огромностью своих пропорций, обилием золота и папского блеска, то крыша здания прежде всего поражает своим величием, грубоватым и совершенно апостолическим.
Катакомбы св. Каллисты, подземная галерея. II в. н. э.
Паломники, которые прогуливаются по этой террасе, кажутся муравьями рядом с гигантскими двенадцатью апостолами, расположенными на склоне крыши. В центре их исполинский Христос, несущий крест, он в полтора раза выше апостолов. Изъеденные ветрами и дождями, черные, бородатые, почти в лохмотьях, стертых веками, Учитель и его ученики из Галилеи смотрят на город Рим, который простирается у их ног и чьи бесчисленные здания, громоздящиеся на семи холмах, кажутся отсюда грибами.
Замок св. Ангела с высоты птичьего полета
Бывший ранее мавзолеем императора Адриана (II в. н. э.), свое новое название он получил в конце VI в.
Вот они, новые триумфаторы. Но эти колоссы не торжествуют. Смиренные, грустные и могущественные, они призывают к покаянию и искуплению те поколения, которые сменяют друг друга в Вечном городе.
А теперь давайте посетим замок св. Ангела, дающий потрясающее ощущение гения папства и его истории.
С моста св. Ангела, обрамленного аллеей мраморных ангелов, открывается огромный круглый бастион, который повелел построить император Адриан, чтобы тот служил ему гробницей. Из этого гигантского мавзолея папы сделали крепость, которая возвышается над городом Римом верхней частью стен с навесными бойницами. Первый символ: духовная власть, проникнувшая в прочную броню римского могущества и установившая господство над ней. И как подробно виден этот символ в мрачных входах грозного донжона! Дальше, в погребальном помещении, огромная голова Адриана (единственное, что сохранилось от его гигантской статуи, разрушенной варварами), полая голова, в которой можно разместить почти гарнизон. Дальше подземные тюрьмы, в которые бросали пленников; затем круглая дорога, по которой могли подниматься лошади; затем дорога, поднимающаяся все время вправо, позади ворот, окруженных пушками. Это было построено Александром VI Борджиа. Поверх сумрачных темниц путь ведет в роскошные покои папы, украшенные богатыми фресками работы Джулио Романо по рисункам Рафаэля; на них изображена история Психеи. Украдкой греческое Возрождение проникло в древний мавзолей римского императора, превращенный в феодальный донжон и ставший резиденцией великих христианских понтификов. На верхнем этаже находится лоджия папы Юлия II, которая отвесно нависает над Тибром. Именно отсюда воинственный папа, властный и могущественный покровитель Браманте, Рафаэля и Микеланджело, мог обозревать свой город и свои владения, свои творения и произведения. Но именно отсюда один из его последователей, папа Климент VII, мог видеть разграбление Рима, преданного огню и мечу ордами ландскнехтов, которых направил против него Карл V, и трепетал от страха, видя кардиналов, выброшенных на улицу тевтонской солдатней. То был страшный всплеск сил, выпущенных на волю духовной властью, использующей мирские средства. Ответный удар отдаленного прошлого, изнанка Каноссы. Если, заглянув в бездну с балкона лоджии Юлия II, воскрешаешь в памяти сцены террора и грабежа, то извилистый Тибр, между зеленоватыми берегами несущий свои желтые воды среди дворцов и лачуг, кажется проклятой рекой из адского города Данте, окружающей тюрьму грешников.
Но поднимемся по узкой лестнице на круглую крышу мрачного донжона, и вид совершенно изменится. Словно в волшебном фонаре, прекрасная картина развернется перед нашими глазами. Здесь перед нами внезапно предстает Рим эпохи Возрождения во всем его величии и безмятежности. В центре круглой террасы на пьедестале, который сам похож на маленький донжон, помещается белый колосс – архангел Михаил, вкладывающий меч в ножны. Справа и слева пирамиды ядер из белого мрамора, некогда служившие для защиты замка, спят каменным сном, вспоминая свое героическое прошлое.
Площадь св. Петра
В центре расположен собор св. Петра (XV–XVI вв.).
Но посмотрим на панораму вокруг. Гармонично изгибаются очертания семи холмов, застроенных и перенаселенных. Ансамбль города состоит из беспорядочного нагромождения домов, оживленных здесь и там садами с террасами из пальм и приморских сосен. Сверху выступают темные массы дворцов – неподвижных кораблей, которые несет каменный океан. Еще выше размещены церкви с их элегантными куполами; каждый из них имитирует купол собора св. Петра, который превосходит их все и озирает издалека, словно пастух, оглядывающий свои стада.
Во всех этих постройках и даже в движении почвы есть как бы некое тайное желание, словно стремление подняться на высоту доминирующего купола. Палатин, Пинчио и Яникульский холм обрамляют большую метрополию завитками зелени и кипарисов. Солнце Рима пирует над городом в тысяче отблесков, проникает во все уголки и насыщает небо, сверкающее в его свете.
Вот синтетическое, хотя и поверхностное, ощущение Возрождения. Нам следовало бы посетить музеи Ватикана и Капитолия, увидеть сокровища вилл с их тенистой листвой, населенной статуями, приветствовать Диоскуров на Квиринале, сверхчеловеческих укротителей гигантских коней, взвившихся на дыбы на их холме, остановиться возле бурлящих фонтанов, которые вечно юные мраморные боги создали на общественных площадях, – мы не смогли бы измерить неиссякаемые богатства этого Рима Возрождения. Можно сказать, что знаменитые тени этой самой достопамятной из эпох, когда был заключен первый союз между христианством и античностью, назначили встречу друг другу на Монте-Пинчо, между виллой Боргезе и виллой Медичи. Ибо там теснятся сотни их бюстов вперемежку с бюстами всех великих людей Италии. Можно прогуляться с ними в тени этих зеленых дубов, лавров и миртов, насладиться самым великолепным видом города и погрузиться в улыбку Рима.
Но увы! Мы не можем там задерживаться. Время летит с головокружительной быстротой, века ускоряют свое движение и несут нас. Вот перед нами на другом конце Великого города Яникульский холм закрывает горизонт. На самом высоком из семи холмов, покрытом сегодня многочисленными виллами, поднимается со времен античного Рима храм Януса, двуликого бога. Одно из его лиц сморит на восток, а другое – на запад, на прошлое и будущее мира. Двери этого храма оставались закрытыми во время мира и открывались только в дни войны, когда распахивались ворота времени, чтобы новое дыхание Вечности вторглось в настоящее. С востока на запад пересечем город одним взмахом крыльев и поднимемся на вершину Яникульского холма. Туда призывает нас исторический памятник, в котором достигает апогея Италия XIX века. Конная статуя Гарибальди являет нам говорящий образ Рисорджименто. Это новая Италия, Северная Италия, лигурийская, кельтская и пьемонтская, принимающая владения Древнего Рима – на этот раз чтобы его хранить. Отважный и спокойный генерал смотрит исподлобья, слегка склонив голову. Без высокомерия его лицо гордого солдата, лоб мыслителя, облик льва в человеческом образе, полный силы и красоты, непоколебимой доброты, смотрит на Рим без удивления и гордыни. Он приветствует его как столицу родины, целостность которой он защитил с тем неослабевающим чувством долга, которое побудило его сказать: «Roma o morte! Рим или смерть!» На цоколе памятника изображен отряд гарибальдийцев, устремляющийся в бой со штыками наперевес, словно мысль генерала-освободителя заставила их внезапно появиться на пьедестале. У их ног простирается во всем своем величии Вечный город, который они увидели впервые. Позади них воображение рисует всех героев Рисорджименто, мыслителей и поэтов, мучеников тюрем и полей сражений, от Сильвио Пеллико до Каироли, от Маццини, мудрого организатора, до Гарибальди – освободительной шпаги, от неутомимого оратора, пробудившего итальянскую душу из ее оцепенения, до убежденного победителя, который вернул ей ее родину и ее столицу.
Античный Рим завоевал Италию. Современная Италия отвоевала Рим, и им наложила печать на свое единство.
Римский Форум. Современный вид
На заднем плане видна арка Септимия Севера, на переднем – три сохранившиеся колонны храма Диоскуров.
Так для того, кто охватил взглядом самые жесткие контрасты Рима, они сочетаются и образуют грандиозную гармонию, которая звучит как бы призывом к интеллектуальному синтезу.
Вид и образ Рима показали нам кристаллизацию Италии в монументальном ракурсе. Это результат трех тысяч лет мыслей и сражений, выкристаллизовавшийся в пластическом рельефе. Мы должны теперь рассмотреть эту эволюцию итальянской души в ее истории, охваченной в самых общих чертах, останавливаясь только на вершинах, знаменующих величайшие взлеты и падения.
Но, глядя на этот Рим, противоречивый и в то же время синтетический, постараемся вначале выделить главную идею этой эволюции. Ибо общее впечатление от Рима дает нам ключ к ней.
Итальянская душа уходит корнями в почву и душу Древнего Рима, но это растение от другого зерна, столь отличное по сути и по листве. Ибо итальянский народ столь же мало похож на римский народ, как лавр на дуб или вьющаяся виноградная лоза на вяз, вокруг которого она вьется. И однако латинская почва и римская родина завещали средневековой Италии, затем Италии Возрождения и, наконец, современной Италии эту идею, которая, пройдя серию расширений, оплодотворений и метаморфоз, оживляет всю историю и вручает ей духовное единство. Эта идея – идея универсальности. Рим следовал ей в течение двенадцати веков в своем усилии завоевать мир, вначале оружием, затем правом. Завершив и одушевив эту идею, Италия должна была успешно воплотить ее в религии, поэзии и искусстве.
Третья из этих эпох – эпоха Возрождения, она знаменует апогей подъема Италии с интеллектуальной точки зрения. Именно она составит объект этих исследований. Мы бросим лишь беглый взгляд на две предшествующие, которые подготовили ее.
В четвертой фазе Италии, которая начинается в XIX веке с Рисорджименто, идея интеллектуальной универсальности, которая составляет несравненное величие Возрождения, отходит на второй план. Отныне итальянская душа восстанавливает свое национальное единство и ее цель становится преимущественно политической. Эта страница ее истории не является ни менее великой, ни менее поучительной, чем предшествующие. Италия являет в ней новую и более мощную энергию, чем во все другие. Ибо отныне на сцене появляется и действует весь ее народ, со всеми его силами и общественными классами.
Если исследования в этой книге посвящены только Возрождению, то не только по причине отсутствия материалов или недостатка места, но главным образом по причине универсалистского по преимуществу характера этой эпохи, когда человеческий гений провозгласил устами великих художников этой эпохи трансцендентные истины, которые еще не поняты по сей день и которым предстоит оказать глобальное влияние на будущее.
Для начала необходимо рассмотреть средние века. Нельзя понять все содержание Возрождения, не измерив вначале всю глубину труда Данте, этого великого предшественника современной души, который был в то же время апостолом свободной личности и интеллектуальной универсальности.
* * *
Так все заканчивается и все вновь начинается в Вечном городе. Воистину Рим – «город души», как его столь поэтично называет Байрон. Он таков не только потому что страдания личности стихают здесь перед большими печалями человечества и «сироты сердца» находят вторую родину в Ниобе наций. Он таков главным образом потому, что, поднимаясь над трагедиями и катастрофами, о которых напоминают эти славные руины, он обещает все возрождения и воскрешения.
Глава II
Средние века. Папа, император и свободные города
Между имперским мечом и папской тиарой растет горделивый лавр
.
Дряхлая Римская империя уже умирала, когда Аларих захватил Вечный город в 404 году и позволил своим остготам разграбить накопленные там сокровища из Европы, Азии и Африки и вырезать треть его жителей. Но когда орда ушла, а ее предводитель умер в Калабрии, Рим, казалось, возродился, и жизнь в нем затеплилась: столь велик был его престиж, ослепивший и самих варваров. Когда правитель герулов Одоакр подчинил Италию, а последний из римских императоров Августул провозгласил себя правителем Рима, имперский город еще не ощущал себя покоренным. Он еще морально сопротивлялся. Он уронил свой тысячелетний скипетр и реально потерял свою власть лишь тогда, когда сам признал свое поражение, покорившись победителю-варвару. Это было в тот день, когда сенатор Кассиодор написал в своей латинской хронике: «В этот год король готов Теодорих, призванный всеми, вторгся в Рим. Он обращался с Сенатом ласково и делал народу щедрые подарки». Этот самый Кассиодор, обучавший Теодориха искусству управления римлянами, разделив треть итальянских земель между его солдатами, посвятил свою старость созданию монашеской академии, где клирики учились переписывать латинские и греческие рукописи.
Эта двойственность показывает нам Рим, превратившийся в наставника варваров и передававший греко-латинскую традицию церкви.
Если Римская империя умерла, то где же родилась итальянская душа? В городах и благодаря городской жизни, которая никогда полностью не гасла в Италии. Но с V по VIII век эта жизнь кажется угасшей. Опустошенный полуостров после урагана вторжений погрузился в гробовое молчание. Словно облака, гонимые ветром, античные боги покинули гордые вершины Апеннин и лучезарные заливы Партенопея и Сицилии. Храмы разрушены; расколоты на части статуи богинь; брошены на дно колодцев царственные головы Марса и Юпитера; погребен в шести футах под землей великолепный торс демонической Венеры. Те самые варвары, которые некогда умирали в гладиаторских боях на глазах римской черни, теперь расположились в цирках как победители. Clarissimi былых времен, сенаторы и всадники, были вынуждены оказывать почести тевтонским королям. Вожди остготов, герулов или лангобардов грубо осаживали декурионов. Плебеи и рабы, освобожденные христианством, стекались в города и монастыри. Покинутая сельская округа делала страну похожей на большое кладбище, где города в руинах – это могилы, а призраки прошлого облачены в саваны. Так, наблюдая это зрелище с высоты своей церкви, папа Григорий I должен был воскликнуть, полный ужаса: «Вся земля в запустении! In solitudine vacat terra!»
В этом гнетущем запустении, в этом человеческом унижении стремительно росла одна-единственная сила. На обломках Римской империи, над потоками завоеваний, подобно Ноеву ковчегу в волнах потопа, поднялась церковь. «Она принесла варварам утешения вечной родины и нравственной чистоты. Церковь в это время представляет собой единение и духовную родину человечества. Именно поэтому священнослужители столь часто принимали на себя гражданские обязанности, а варвары становились командующими войском. Поскольку Рим был метрополией Европы, римский епископ стал папой. Престиж Рима создал папскую власть. Выборы папы, таким образом, расценивались как жизненный интерес сообщества. Потребовался длительный труд средневековья, чтобы противопоставить в массах идею христианской морали слепым инстинктам и в то же время суевериям»[2]. Так на какое-то время, быть может, воплотилась мечта Блаженного Августина. Над земным градом Маммоны, где еще кипели античные сатурналии над варварскими жестокостями, вставал на глазах Град Божий, то есть церковь. Она поднималась от века к веку, медленная, величественная, непобедимая, с ее базиликами, монастырями, черным и белым духовенством, могущественной иерархией, способной использовать все человеческие силы и вобрать в себя все классы общества. На вершине этого здания воцарился папа, духовный вождь человечества. Как могли глаза Италии не обратиться к этому новому владыке, который, казалось, был призван заменить в управлении миром Цезаря, низвергнутого варварами? Римский епископ, ставший великим понтификом христианства, преемником святого Петра, наместником Иисуса Христа, наследником Ветхого и Нового завета, связанный с чудесной легендой из Галилеи, получил таким образом власть, которая не снилась ни одному азиатскому или европейскому монарху.
И однако римский Цезарь не умер окончательно. Его призрак, закованный в бронзу и вновь одетый в пурпурную мантию, предшествуемый ликторами, казалось, правил еще на пустынном Форуме и на Капитолии, посвященном Пресвятой Деве. Он еще поражал воображение раба и патриция, как и всех иноплеменников, ставших римскими гражданами, да и самих варваров. Когда некая идея отливается в форму в мощном человеческом типе, она надолго переживает то установление, которое ее создало, и принимает неожиданные воплощения в течение долгого срока. Когда Юлий Цезарь, достигший абсолютной власти, пал посередине Сената, сраженный кинжалом заговорщиков, и, умирая, завернулся в свой плащ и воскликнул: «И ты, Брут!», – он не догадывался, что на шесть веков передает свой пурпур императорам Рима и что после падения Римской империи, на протяжении тысячелетия и дальше, всякий великий правитель не будет иметь более высоких амбиций, чем походить на него! Призрак Цезаря не переставал являться поколениям людей, как явился он Бруту в битве при Филиппах. Варварские государи, ставшие хозяевами Центральной Европы, пользовались именем Цезаря как некоей магической формулой, чтобы подчинить своему владычеству древние земли Сатурна. Что же до Италии, она забыла императоров-чудовищ, таких как Нерон, Гелиогабал и Каракалла, и помнила лишь цезарей – благодетелей человечества, таких как Траян и Антонины. Германский император, с тех пор как он перешел Альпы, чтобы короноваться в Риме, обрел в глазах итальянцев все то почтение, какое они питали к римскому императору.
С 804 по 1106 г. история Италии, раздробленной на несколько королевств и бесчисленное множество маленьких республик, определяется борьбой Империи и папства. Отечество итальянцев еще не существует, но судьбы Европы разыгрываются на театре полуострова в борьбе этих двух великих сил, которые соперничают и правят на протяжении всего Средневековья.
Эта поразительная драма духовной и мирской власти, которые оспаривают друг у друга мировую империю в течение трех веков, имеет три кульминационных пункта, представляющих три ее основных акта. 1. Он начинается союзническим договором двух сил при Карле Великом. 2. Он продолжается смертельной борьбой между папой Григорием VII и императором Генрихом IV. 3. Он заканчивается при императоре Барбароссе и его преемнике Фридрихе Гогенштауфене решающим триумфом тиары над короной.
В течение всего этого времени, с IX по XII век, итальянская душа пребывает лишь в эмбриональном и хаотическом состоянии. Грандиозная борьба, которая разворачивалась перед ее глазами, вырабатывала и вдохновляла ее в самых ее глубинах. Она одновременно и зрительница, и воюющая сторона. Ибо она разделилась на равные части между двумя лагерями: гвельфами и гибеллинами. Но ее сознание начинает трепетать в свободных городах, которые мощно развиваются среди этой ожесточенной борьбы и ее свирепых битв.
Подведем итоги трех актов этой исторической и мировой драмы, ставшей одновременно противницей и наставницей итальянской души.
* * *
Когда в 800 г. Карл Великий был коронован папой Адрианом как римский император в церкви св. Петра, был заключен тесный союз между духовной и светской властью. Победив Дезидерия, короля лангобардов, император стал освободителем Италии. Итак, Карл Великий предстал перед всеми народами как всемогущий покровитель папской власти. В свою очередь, папа пожаловал ему императорский титул, который в глазах всех делал из него преемника цезарей. Сцена была торжественной. Было Рождество. Король франков присутствовал на мессе в соборе св. Петра, где факелы горели над алтарем, в дыму ладана. Верховный понтифик христианства приблизился к королю и водрузил ему на голову императорскую корону, в то время как люди кричали: «Долгой жизни Цезарю-Августу, коронованному рукой Божьей! Долгой жизни великому императору римлян!» И римский народ поверил, что он вновь стал хозяином земли. Сила прошлого действовала как создатель иллюзии, но в то же время и как побуждение к новым и неожиданным действиям.
Карл Великий подносит Богоматери модель собора.
Изображение на гробнице Карла Великого в Ахенском соборе
В течение тысячи лет Италия должна была обрести себя в абсолютной власти этих двух правителей, разделивших ее на два враждующих лагеря. Обманчивый мираж, мучительная химера. Все было напрасно. Но не сделаем ошибки. Если духовный и мирской владыка столь страшно влияли на Италию и столетиями препятствовали ее национальному единению, то зрелище их грандиозной борьбы стало для Италии и особенным уроком, источником интеллектуального величия, могущественным фактором для ощущения ее универсальности. Ибо всеобщая история, которая разыгрывалась в древнем Риме как борьба за власть между Республикой и цезарианством, продолжала разыгрываться в средние века как борьба Империи и папства. Глаза всего мира были прикованы к этой драме, театром которой была Италия, потрясенная ею до основания.
Освобождение Рима Карлом Великим – победителем лангобардов – и коронование императора папой установили новый порядок вещей: солидарность короны и тиары. С этого момента начинаются из-за слияния двух сил, с одной стороны, претензии владык Священной Римской империи на всемирное господство, с другой стороны, претензии пап на духовное владычество над миром. Претензии германских императоров будут основаны на воспоминаниях о цезарях, а претензии пап – на словах Христа, обращенных к св. Петру: «Quidquid ligaveris super terram, erit legatum et in coelis; quidquid solveris super terram, erit solutum et in coelis»[3]. Никогда не существовала на земле более значительная власть, чем власть папы. В теории эти две силы должны были быть независимы друг от друга, а их сферы влияния разграничены. На практике было не так. Поскольку глава церкви становился мирским владыкой, а глава империи желал назначать епископов, две силы вскоре дошли до открытой вражды. Духовная власть должна была надеяться на господство над светской, а светская – на подавление духовной. Император хотел создавать пап, а папа – императоров. Отсюда берет начало знаменитая борьба за инвеституру, продлившаяся несколько веков.
Почти через триста лет после Карла Великого борьба достигла апогея. Какая смена декораций, мизансцены и отношений двух соперников! Мы уже не в соборе св. Петра, среди воскурений ладана, перед коленопреклоненными людьми, а в замке Каносса, в самом сердце Апеннин, в жестокую зиму. Горы покрыты снегом; от мороза трескаются камни. Во дворе замка германский император Генрих IV, босой, в рубище, дрожа от холода и голода, три дня и три ночи тщетно ожидает, когда папа даст ему вожделенную аудиенцию. Другие паломники, бедные и нищие, окружают его и оскорбляют, а он не осмеливается ответить. Ибо он отлучен и явился сюда, чтобы молить Его Святейшество об отмене интердикта, который сделал его изгоем во всем христианском мире. После ожесточенного бунта монарх, свирепый и слабый, заносчивый и деспотичный, покинутый собственным народом, испытал последнюю степень унижения, бессилия и смирения. Глава Священной Римской империи теперь – всего лишь император в лохмотьях, отверженный нищий. И именно римский понтифик своей энергией и несгибаемой волей сделал его таким.
В монахе Гильдебрандте, сыне тосканского угольщика, ставшем настоятелем монастыря Клюни, а затем и папой, под именем Григория VII, мы видим не только сильнейшее воплощение гения папства, но еще одно из самых могущественных проявлений синтетического и организационного гения Италии. Он, поднявший авторитет церкви на недосягаемую высоту, установивший целибат священников и железную дисциплину, косвенно и невольно был первым, кто пробудил итальянскую душу. Ибо для того, чтобы совершить церковные реформы, он должен был покровительствовать свободе городов. Он поставил общество, разрушенное варварами и угнетаемое феодальным строем, на муниципальную основу. Он умел оживить законы, традиции, обычаи и чувства, которые никогда и не скрывались полностью в потемках варварства. Преобладание муниципального и демократического элемента в Италии было равно удалено от феодализма и от современного патриотизма. Полуостров был еще разделен разными властителями, на разные народности и в противоположных интересах и не мог иметь общих чувств. Гений Гильдебрандта состоял в том, что он выражал одновременно интересы церкви, цивилизации и Италии и боролся с военным деспотизмом, который представляли германские императоры.
С 1004 по 1039 г. было не меньше двенадцати походов германских диктаторов на Италию. Они собрались на сейм в Ронкалье возле Пьяченцы, требуя выкупа у городов, находящихся под их игом, грабя и сжигая те, которые отказывались платить. В продолжение борьбы за инвеституру Григорий VII заставил предстать Генриха IV перед своим трибуналом. Император ответил собором в Вормсе, где Григорий VII был обвинен во всех бесчестиях, и немецкое духовенство объявило его низложенным. В 1056 г. папа, сидя на троне в окружении кардиналов, был оскорблен императорским герольдом, который назвал его «ненасытным волком» и потребовал спуститься со святого Престола. В ответ Григорий VII наложил интердикт на бунтовщика. Император, имевший в своей стране множество врагов, безуспешно пытался собрать своих вассалов против папы. В свою очередь он был смещен на соборе в Трибуре. Лишившийся всякой власти, покинутый своими, стыдящийся людей, он вынужден был решиться на покаянное паломничество через Альпы, чтобы спасти корону.
Генрих IV преклоняет колени перед папой Григорием VII в Каносском замке. Средневековая миниатюра
Единственный в своем роде исторический спектакль в 1078 г. в замке Каносса. Можно было видеть германского императора простершимся перед страшным взглядом Григория VII, перед которым, по словам хронистов, все отступали, словно перед ярким сетом. Поверженный, кающийся государь обвинял себя во всех преступлениях и просил милости со слезами и стонами. Он получал эту милость только назвав себя смиренным вассалом понтифика и поклявшись ему в вечной верности. Италия и мир могли оценить это событие как великолепную победу папского властолюбия и духовной власти гениального аскета над грубостью глупого тирана в бессильном бешенстве, униженного более сильной волей.
Можно предположить, что папа злоупотребил своим положением, чтобы наиболее жестоким образом унизить побежденного, – и впоследствии он сам покаялся в этом. Эта сцена показывает в полной мере преимущество одной из двух сил над другой. Ибо это победа Духа над Материей.
Немецкие историки легко утешаются в унижении своего императора, восхваляя расплату судьбы, ибо шестью годами позже из-за политических перипетий в Германии Генрих IV, нарушив клятву, смог вернуться в Италию во главе армии, предать Рим огню и мечу, короноваться в Латеране антипапой, среди убийств и разбоев, более страшных, чем при Аларихе, и вынудить Григория VII умереть в изгнании среди норманнов, в Салерно. Дикие репрессии, истинная месть варвара за пережитое унижение. Все же, когда прошли столетия, эти страшные сцены должны были побледнеть в людской памяти перед сценой в Каноссе. Она останется в памяти гвельфской Италии как национальная слава, а в памяти Германии – как рубец от каленого железа. Говорящий образ, горящая печать непревзойденной победы моральной силы над варварской жестокостью.
Перескочим еще через столетия, и средневековая Италия предстанет перед нами в кипении жизни, в новой фазе, перед новым императором.
С XI по XII век в итальянских городах столь мощно развивались торговля, промышленность и искусство, среди феодальных сеньоров, которые правили Италией, что эта интенсивная городская жизнь уже соперничает с феодальной жизнью и начинает преобладать над ней. Торговые союзы между городами назывались corti. Больше того, различные города заключали со знатью союзы (patti), включая туда право пребывать несколько месяцев в их стенах. И здесь уже проявляется большая разница между Италией и северными народами в средние века. Во Франции, в Германии, в Англии сеньор, живущий в своем замке, оставался высшим по отношению к горожанину, сколь бы богатым тот ни был, а последний оставался под покровительством знатного. В Италии происходит обратное явление. Там сеньор гордился титулом горожанина и находился в некотором роде под покровительством городов. Из-за этих тесных связей, из-за этого взаимовлияния знать и горожане цивилизовались, а города процветали. Большая часть знати должна была подчиниться правительству того или иного города. У германского императора был дворец во всех больших городах, и там он останавливался проездом, но многие из гибеллинских городов добились, чтобы этот дворец находился вне города. Другая разница между итальянскими городами и городами северных народов. Там города, освобожденные от феодальной связи с местным сеньором, были обязаны находиться под покровительством сюзерена, императора или короля. В Италии они могли выбирать между императором и папой и становиться таким образом гибеллинами или гвельфами. Отсюда большая свобода и более сильное чувство независимости. Напротив, у рыцарства было мало воинственного духа и посредственный вкус. По ту сторону Альп оно оставалось чисто церемониальным. Итальянский идеализм остается реалистическим в своих целях и всегда приверженным к повседневной жизни, тогда как идеализм северных народов был трансцендентным и мало практическим, во всяком случае в средние века. Именно поэтому рыцарство не играет никакой роли в средневековой итальянской истории и станет в конце концов лишь игрой ума у Тассо и Ариосто в эпоху Возрождения. Быть вписанным в золотую книгу большого города было ценнее для итальянского аристократа, чем идти освобождать Гроб Господень. Для защиты своих интересов каждый город содержал наемные войска (manasdieri), вместе с которыми сражалась городская знать. Эти последние были, таким образом, слугами города, как во Франции или в Германии были вассалы короны и вассалы сеньора.
Самый пламенный патриотизм царил в этих маленьких республиках, патриотизм чисто местный, концентрирующийся на городских традициях, на его святом или святой, его предках и крупных патрицианских фамилиях. Он процветал в ремесленных корпорациях, в их нравах и искусствах. Он зримо символизировался его собором и колокольней, видными далеко в сельской округе, словно часовые. Душа родины вела муниципальное войско на войну. Эта душа воплощалась в caroccio, большой повозке на массивных колесах, запряженной быками, несущей герб города со знаменами союзных городов. Священник благословлял эту повозку и служил над нею мессу во время битвы. Молодая элита города, цвет знати защищал во время боя это множество блестящих знамен объединенных городов. При необходимости эти юноши проливали кровь и умирали героически. И горе тому городу, который терял свое caroccio! Противник разрубал его на части, зажигал из него костер и нес с триумфом знамя врага в свой город как вечную память о победе. Сиенна только в 1886 году, в юбилей Данте, согласилась вернуть герб, захваченный у Флоренции за шесть столетий до этого, а Равенна никогда не вернет Флоренции останки того же Данте, умершего в изгнании во враждебном городе, восклицая: «Неблагодарная родина, ты не получишь мой прах!»
Можно представить анархию, которая должна была явиться в результате столь свирепых страстей в столь разделенной стране. Итальянские республики образовывали четыре основные группы вокруг четырех главных центров. Богатый и роскошный Милан объединял вокруг себя Тортону, Бергамо, Брешью и Пьяченцу. Высокомерная Верона объединяла Падую, Виченцу, Тревизо и Мантую. Пышная Болонья, гордившаяся своим университетом, самым ученым в средние века, объединяла Реджо, Модену, Равенну и Фаенцу. Прекрасная и гордая Флоренция встала во главе свободных городов Тосканы, Пистойи, Ареццо, Вольтерры, Кортоны, Перуджи и Сиенны. Эти союзы были непрочными, они часто разрывались и изменялись. Ибо большинство этих городов становились по очереди то гвельфами, то гибеллинами. Их самым дорогим правом была возможность вести войну, какую угодно и с кем угодно, особенно с соседями. Эти ревнивые республики вели немало войн и были непримиримо мстительны. Победоносный Милан стер с лица земли Павию и Лоди, своих двух соперников. Рим не оставался в стороне от этого движения. Он принялся переводить античных авторов, оживляя с грехом пополам свое великое прошлое. Префект Рима назначался, в зависимости от обстоятельств, папой или императором. Управление осуществлялось патрицием во главе пятидесяти сенаторов. Рим создал себе республиканское правление с привилегиями, которыми до сих пор пользовались только папы. Дворцы и башни продажных прелатов были разрушены.
Столь разделенная Италия была желанной добычей для германских императоров.
Фридрих I Гогенштауфен, прозванный Барбароссой, – это третий германский император, оставивший в Италии память тем более неизгладимую, что его упорные вторжения привели к триумфу муниципальной свободы. Величественная и грозная фигура. Не менее тиранический, чем Генрих IV, но более умный и более ловкий, с настойчивой последовательностью в идеях и делах, легендарный Барбаросса осуществил целых семь вторжений в Италию, первое в 1154, последнее в 1176 году. Анекдот, донесенный до нас хронистом, доказывает, что первый из Гогенштауфенов добивался всемирного господства с той же яростью, с какой прусский император Вильгельм II делал это восемь веков спустя. На прогулке верхом с двумя юристами из Болоньи Барбаросса обратился к ним с таким нелегким вопросом: «Законный ли я господин этой земли?» Первый ответил уклончиво: «Реально и действенно – еще нет». Второй, более угодливый, сказал: «Да, вы законный господин, даже в том, что касается владения реального и действенного». В награду за этот комплимент ученый законовед получил в подарок от императора коня, с которого он спустился во время прогулки. Другой вернулся пешком.
Фридрих Барбаросса в одеянии крестоносца.
Средневековая миниатюра
Не менее характерен диалог Барбароссы с посланцем сената, когда император стал лагерем со своей армией перед Вечным городом с намерением короноваться императором римлян. Сенат отправил к нему герольда с таким посланием: «Ты иноземец, а я делаю из тебя гражданина. Я искал тебя в дальних землях, по ту сторону Альп, чтобы провозгласить твою императорскую власть. Твой первый долг при въезде в Рим – обеспечить соблюдение законов и укрепить наши привилегии и связать себя клятвой защищать наши свободы против всякого варварского нашествия, пусть и с риском для жизни. Более того, ты должен заплатить пятьдесят тысяч ливров серебром тем, кто провозгласит твой императорский титул на Капитолии».
При этих словах, проникнутых античной римской гордостью, император Барбаросса, охваченный сильным гневом, перебил посланца сената и сказал ему: «Я слышал, как превозносят мудрость и величие римского сената, но твои слова выражают скорее полное безумие, нежели ясное понимание настоящего положения Рима. Подверженный превратностям судьбы, твой город теперь подчиняется там, где некогда первенствовал. Отныне в Германии надо искать обновление славы твоей столицы. Мудрость сената зависит от ценности наших воинов. Карл Великий, Оттон Великий изгнали из Италии лангобардов, греков и других тиранов. Я, их последователь, – законный правитель и верховный владыка Рима. Или вы думаете, что рука германцев потеряла свою былую силу? Кто осмелится вырвать палицу из руки Геркулеса? Если кто-нибудь замыслит подобное, мои храбрые воины заставят его раскаяться. Ты пытаешься вынудить меня уважать законы, обычаи и привилегии, чтобы осуществить справедливость, да еще заставить меня платить дань, словно я пленник на милость сената. Запомни, что Государь диктует законы, а не подчиняется им»[4].
Когда сенат и народ отказались открыть ворота Фридриху Барбароссе, римский префект по соглашению с папой тайно впустил его с тысячей воинов в непокорный город. Фридрих I Гогенштауфен был коронован папой в соборе св. Петра 18 июня 1155 года. За этим последовала жестокая битва у моста св. Ангела, которая отделила Римскую республику от города папы. Все препятствия были сокрушены. Империалисты, отброшенные в львиный город, были выпущены. Папа был вынужден бежать. Фридрих сам сражался у ворот Рима во главе своих войск. Более тысячи римских солдат погибли. Но император не осмелился войти в Рим и вернулся в Германию с уничтоженной армией, не имея возможности подавить восстание в Милане.
Ломбардская лига, основанная в 1167 году вследствие разграбления Милана, была первым проявлением национального духа в Италии. Она объединила свободные города Ломбардии клятвой «сражаться с Фридрихом и его последователями вплоть до их уничтожения». Победа лиги была обеспечена в битве при Леньяно восемьюстами молодыми миланцами, которые сражались вокруг caroccio. Когда Барбаросса, под которым убили лошадь, вернулся в Павию с остатками своей бежавшей армии, он застал там свою жену в отчаянии. Императрица считала его погибшим. Перед этим зрелищем и под ударом от проигранной битвы германский император почувствовал, что все кончено. Его мечта о гегемонии и сокрушении итальянских городов, наследников греко-латинской традиции и предшественников современного гения, рухнула.
Если итальянскому народу потребовалось еще восемь веков, чтобы найти свое единство, то итальянская нация обрела сознание своей свободы в битве при Леньяно, в полях Ломбардии.
Италия была еще лишь протоплазмой, неорганическим телом, но она нашла душу. А когда существует душа, она создает рано или поздно организованное тело и голову, которая им управляет.
Глава III
Данте и гений Веры
Dante
- O voi che avete gl’intelletti sani
- Mirate la dottrina, che s’asconde
- Sotto il velame degli versi strani.[5]
I. Флоренция и ее гений
Venezia la bella, Genova la superba, Firenze la vezzoza[6], гласит итальянская пословица, выделяя этот удивительный город среди всех других жемчужин Италии. Особое положение Флоренции сделало ее королевой тосканских городов.
Ее городской пейзаж совершенно отличается от того, который был центром эллинистической цивилизации. Флоренция напоминает Афины лишь своей аристократической утонченностью. Афины располагаются вокруг Акрополя в долине Аттики, между горами Гиметт и Парнас, в отдаленном величии Пентеликона. Кругом простор, и сколь бы ни была мала крепость, несущая Парфенон, она соперничает со всеми вершинами. Флоренция, напротив, свертывается в зеленой раковине Апеннин, меж элегантным мысом Монте-Оливето и сверкающими вершинами Фьезоле.
Вид Флоренции с высоты птичьего полета.
Копия картины делла Катена. Ок. 1480 г.
Вдалеке волнистая вершина Монте-Морелло защищает ее от северных ветров. На холмах, которые обнимают город цветов, вырисовываются строгие кипарисы; листва оливковых деревьев бросает скромную тень подле них; в траве растет дикий ирис; розы вьются по стенам и обвивают сады. Огороженный и обласканный в своей колыбели, словно зябнущая принцесса, этот город, кажется, хочет защититься от любого иноземного влияния, чтобы оставаться исключительным в своем роде, горделивым и необычайным. Однако этот город, утонченный и высокомерный, не отделен от остального мира. С его вилл, башен и террас широко простирается вид на плодородную зеленую равнину, где лениво извивается Арно, быстро и весело пройдя под легкими мостами города. Отсюда глазу видно Тирренское море за легкими облаками, которые дыхание libeccio несет по бескрайней лазури.
Рим, расположенный на семи холмах, в центре Лациума, окидывает взглядом весь мир. Флоренция, из глубины цветущей долины, улыбается Западу и призывает его. Кроме того, этот город, расположенный в стороне от главных путей завоевателей, был тем самым избранным местом, где в средние века могли процветать вдали от скучной повседневности искусство и наука. Там церкви, колокольни и музеи, мрамор, бронза и картины могли соперничать в красоте и очаровании с роскошными картинами Природы и превзойти их благодаря богатому расцвету человеческой души. То было сильное соперничество и тонкая гармония, собранные в том уголке земли, где могли бы родиться итальянские Афины. Я уже говорил в другом месте, но повторю снова, поскольку этот обворожительный город был первой формой высочайшего итальянского гения: «В Неаполе живут; в Венеции грезят; в Риме мыслят; во Флоренции творят».
Царство искусства, каким стала Флоренция на протяжении ее истории, имело первоосновой ее ловкость в торговле и ее успехи в банковском деле. Совершенство ее искусств опиралось в первую очередь на безупречность ее ремесел. Ее каменотесы становились зодчими, ее ювелиры – скульпторами, гитаристы – композиторами, исполнители канцон – поэтами. У флорентийцев, в отличие от пизанцев, генуэзцев и венецианцев, не было кораблей, чтобы бороздить Средиземное море и торговать там жемчугом и пурпуром с Востока. Но, не менее предприимчивые и не менее дерзкие, чем Марко Поло, они путешествовали по всему миру и имели торговые конторы повсюду вплоть до глубин Азии. Однако торговля была полна опасностей. Она была приключением и завоеванием. Красноречивые спорщики и тонкие резонеры, флорентийские патриции предоставляли государям Европы лучших послов. В юбилей 1300 года, который привлек в Рим три миллиона паломников, папа Бонифаций VIII был очень удивлен, когда обнаружил, что послы почти всех северных князей и даже монгольского хана были флорентийцами.
Богатства и золото Востока и Запада стекались в лавки Понте-Веккьо и в патрицианские дворцы этого города. Можно представить, какую зависть и ненависть к Флоренции эта роскошь должна была вызывать у соперничающих городов, таких как Пиза и Сиена; она порождала также и внутреннюю борьбу в самом городе. Борьба политических партий, гвельфов и гибеллинов, борьба враждебных семейств с их клиентами, например борьба «Черных» и «Белых», следуют друг за другом и смешиваются, перекрещиваются, противодействуют друг другу и запутываются в непроходимом беспорядке. Эти ожесточенные и беспощадные войны заливают кровью три века истории. Но они не препятствуют новой поэзии проникать в город цветов и осенить ореолом чело флорентийцев, уже увенчанных розами.
Это дыхание неизвестной и утонченной поэзии пришло из Прованса. То были нежные слова и мелодии, такие, как у Сорделло, который был другом Данте и на руках которого он хотел прыгнуть в Чистилище, опечаленный, что может обнять лишь тень. Под влиянием крестовых походов и рыцарства трубадуры стали иначе чувствовать любовь. Стремление к идеалу, выраженному в женской красоте и прелести, заменило им половой инстинкт, этот нерв любви в греческой и римской поэзии. Чувственная страсть была не угнетена, но отодвинута в тень и подчинена чувству, полному утонченности и грез. Подобными контрастами изобилует история. Женщина, существо слабое, становилась божеством в те времена грубых и варварских нравов. В высшем обществе мужчина, который не был влюблен, расценивался как человек ничтожный. Тот, кто любит, – это рыцарь, подчиняющийся законам любви, страдающий, когда это угодно его даме, становящийся для нее защитником справедливости и покровителем слабых. Любовь становится принципом обучения и посвящения. Так родился во Франции новый код любви утонченных и куртуазных рыцарей. Подражатели трубадуров, тосканские поэты Гвидо Гвиничелли, Гвиттоне д’Ареццо, Чино де Пистойа создали на своем изящном языке новый тосканский стиль, il dolce stil nuovo. Самые изысканные, самые образованные из них, Брунетто Латини и Гвидо Кавальканти, были учителями Данте. Но усваивая провансальскую эстетику, тосканцы прибавляли к ней метафизические и схоластические тонкости, пришедшие к ним из университета в Болонье, где усиленно изучали Аристотеля, Платона и Фому Аквинского, постигая искусство аллегории. То, что у Данте стало глубокой страстью и в то же время духовным просветлением, у них было лишь игрой духа и абстрактной мысли. Философы и мыслители искали и угадывали божественный смысл Любви. Их ученик, который, охваченный страстью, станет великим поэтом и тонким прорицателем Италии, ищет вместе с ними и идет по их следу, когда шепчет в порыве чувства:
- Io mi son un che, quando
- Amore spira, noto ed a quel modo
- Ch’ei detta dentro, va significando.
- Когда Любовь вздыхает во мне,
- Она говорит мне нечто,
- И я записываю это и ищу его смысл.
Можно представить, что с подобным богатством Флоренция стала в конце XIII – начале XIV века очагом элегантной и пылкой жизни. В то время как народ смотрел, пораженный, на гротескные представления Рая, Чистилища и Ада, которые наполняли площади шумом, аристократические и частные праздники облекались строгой и тонкой прелестью. Весной молодые девушки из патрицианских домов украшали себя розами и водили хороводы под кипарисами и оливами, под звуки мандолины, среди полей ирисов и гладиолусов. На закате они пели Salve regina у церковных ворот. Но когда колокол Палаццо Веккьо возвещал о начале войны, они, встревоженные, бросались к окнам, чтобы видеть отправление caroccio, с которым шел, сверкая оружием и красивыми костюмами, весь цвет мужской молодежи. На знамени сверкала рядом с изображением Мадонны алая лилия, символ Флоренции. Ее три пылающих венчика говорили всем: «Я сила народа, алая кровь свободы. Надо сражаться, чтобы быть свободным!» Но голубая Мадонна, улыбающаяся на складках развевающегося знамени, казалось, добавляла: «Надо любить и страдать, чтобы достичь Царства Небесного!»
Так труд и война, религия и поэзия хорошо уживались в этом бодром и неутомимом городе, раздираемом бесконечными войнами и в то же время едином в своем идеале. Инстинкт прекрасного правил им, а искусство накладывало на него печать аристократизма.
Флоренция из всех городов полуострова вскормила больше всего величайших гениев Италии в науке, в литературе, в искусствах. Данте, который появился в конце XIII и освещает начало XIV века, весь исполнен флорентийского духа и отлит в его форме. Все же если он стал великим национальным поэтом итальянского народа, он обязан этим не только этой удивительной форме, но еще своему универсальному духу и своему собственному гению.
II. Данте, Беатриче и La Vita Nuova. Посвящение любовью
Как в форме для отливки колокола, где металлы в процессе плавки преобразуются в раскаленный поток, самые разные элементы смешались в великом флорентийском поэте. Наука и теология, философия и религия, язычество и христианство, прошлое и настоящее соединяются в нем в неожиданном, величественном и точном синтезе. Здесь Гомер и Евангелие, Сивилла и Давид, Платон и Фома Аквинский, Аверроэс и Авиценна. Но эти персонажи – лишь второстепенные лица, министры его королевства. Словно архангел Михаил на страшном суде, Данте разделяет и классифицирует в своем Аду и своем Раю с великолепной бесцеремонностью античных мудрецов и отцов церкви. Он сочетает самые резкие контрасты в одном образе с жесткими до суровости чертами, в лице, в котором мягкость и тонкость равны его силе. Гражданин, патриот, поэт и философ, человек действия и мысли, изысканный ученый, красноречивый посланец своего родного города и в то же время душа, замкнутая в презрительном молчании, тонкий резонер, но чувствительный до мистического экстаза – таким нам предстает Алигьери в жизни. А если мы хотим охарактеризовать одной фразой всю обширность его познаний, мы скажем, что он соединял необыкновенное чувство реальности с анализом и синтезом трансцендентных идей и с изобразительной силой, которая придает им форму и цвет.
Но все это не объясняет гения Данте, который из столь различных материалов и из хаоса противоречий сумел создать новый мир чудесной гармонии. Ибо гений поднимается превыше своих материалов, как орел парит над запутанной системой гор или как перелетная птица над бурным океаном. Его шедевр «Божественная комедия» не дает нам, однако, ключа к тайне. Этот ключ находится в «Новой жизни», которую он написал в возрасте двадцати пяти лет. Это интимное и бесхитростное признание поэта открывает нам тайну его жизни и побуждающую страсть его труда. Этим побудителем, «перводвигателем», который подвигнул «неподвижное небо», была Любовь, но любовь нового вида, которой еще не знали ни античность, ни христианство.
Один астроном показал мне однажды в телескоп Парижской обсерватории желтое солнце и голубое солнце, вращающиеся друг относительно друга, недалеко от звезды Вега в созвездии Лиры. Гений Данте похож на эти две далекие звезды в небесной сфере. Это двойное солнце. Вот почему этот гений не называется именами его предков Алигьери, ни даже именем, данным ему при крещении. Он называется Данте и Беатриче. Ибо эти два соединенных имени стали неразделимы, как эти таинственные звезды, которые непрерывное вращение связывает друг с другом в глубинах пространства. По-разному прекрасные, они стали единым целым в своей взаимной и абсолютной зависимости. Без семьи Качьягида мы не знали бы Беатриче, но без Беатриче Данте не создал бы «Божественную комедию». В них Вечно-женственное впервые проявилось во всей своей силе через любовь женщины и поэта.
Вспомним мимолетные встречи, которые знаменуют этапы этого посвящения. Мощная внутренняя жизнь поэта проявляется здесь в своей простосердечной страсти, в своей лилейной невинности. Мотивы чрезвычайно просты, их результаты удивительны.
Впервые он встретил дочь Фолько Портинари на детском празднике. Ему было всего девять лет; Беатриче была его сверстницей. «Девять раз уже, после моего рождения, обернулось небо света почти до исходного места, как бы в собственном своем вращении, когда моим очам явилась впервые преславная госпожа моей души.…Тут истинно говорю, что Дух Жизни, который пребывает в сокровеннейшей светлице моего сердца, стал трепетать так сильно, что неистово обнаружил себя с в малейших жилах, и, трепеща, произнес такие слова: „Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi”[7]. Отныне и впредь, говорю, Любовь воцарилась над моей душой, которая тотчас же была обручена ей, и обрела надо мной такую власть и такое могущество ради достоинств, которыми наделило ее мое воображение, что я принужден был исполнять ее желания вполне»[8].
В последующие годы он видел ее несколько раз, но всегда издали, и, по-видимому, никогда они не обменялись ни одним значимым словом. Все же он утверждает в своей исповеди, что он сохранил «в книге памяти» лишь воспоминания, которые означали существенные изменения в его жизни. Об этой первой встрече он говорит: «Это заглавие гласит: Incipit vita nuova[9]».
Вторая важная встреча произошла через девять лет. Ей было, следовательно, восемнадцать. Он увидел ее на одной из флорентийских улиц, одетую в платье сверкающей белизны, между двух пожилых женщин. На ходу «она обратила очи в ту сторону, где я стоял, весьма оробев; и, по неизреченной учтивости своей, которая ныне вознаграждена в вечной жизни, она поклонилась мне столь благостно, что мне показалось тогда, будто вижу я предел блаженства». – «Такая красота изливалась из ее глаз в мое сердце, – говорил он позже в своем знаменитом сонете, – что никто не может этого понять, не испытав». Эта безмолвная встреча, освещенная обменом взглядами и поклонами, произвела на робкого юношу такое пламенное впечатление, что он вернулся в свою комнату, чтобы размышлять о том, что с ним только что произошло.
Во время этого размышления он заснул и у него было видение, еще более потрясающее, чем удивительная встреча с любимой. «Казалось мне, будто вижу я в своей комнате облако огненного цвета, за которым я различил облик некоего мужа, видом своим страшного тому, кто смотрел на него; сам же он словно бы пребывал в таком веселии, что казалось это удивительным; и в речах своих он говорил многое, из чего лишь немногое я понял, а среди прочего понял такие слова: „Ego dominus tuus”[10]. На руках его словно бы спало нагое существо, лишь легко прикрытое, казалось, алой тканью; и, вглядевшись весьма пристально, я узнал Донну поклона, которая за день до того удостоила меня этого приветствия. А в одной из ладоней словно бы держал он некую вещь, которая вся пылала; и мне показалось, будто он сказал следующие слова: „Vide cor tuum”[11]. И после того как он постоял немного, словно бы разбудил он ту, что спала, и проявил такую силу доводов, что понудил ее съесть тот предмет, который пылал в его руке, и она вкушала боязливо. Спустя немного времени веселье его обратилось в горький плач; и, плача так, вновь поднял он Донну на руки и вместе с ней стал словно бы возноситься к небу; я же испытал столь большой страх, что слабый сон мой не мог его выдержать и прервался – и я проснулся».
Габриэль Росетти. Сон Данте. 1871 г.
Попечительский совет Национальных музеев и галерей Мерсисайда (Walker Art Gallery)
Один-единственный человек, возможно, понял трансцендентный характер и поистине божественную красоту этого видения. Это английский художник и поэт Габриэль Росетти. Его знаменитое полотно, изображающее эту сцену, полно восхитительной мягкости, но он вносит туда и сильные эмоции, сторону одновременно трагическую и небесную. Попробуем объяснить словами высший смысл этого видения, который только изображение передает во всей его силе. Внезапная любовь Данте к Беатриче, эта любовь, обретенная в физическом мире, переходит в астральный мир посредством удивительного отражения. Земное предназначение и божественная миссия поэта сочетаются здесь в живом красноречивом зрелище. Это сама Любовь, это Эрос, бог Желания, привел к Данте его возлюбленную. Она спит, пока еще бесчувственная к своей высшей миссии. Гений Любви вынуждает ее принять в себя пылающее сердце этого робкого и страстного влюбленного, который трепещет перед нею. Она погибнет от этой неутолимой страсти, но тем самым обретет силу, чтобы стать искупительницей своего Возлюбленного и привести его на его небо. Высшая сила, правящая этими двумя душами, заключена не в них самих, а в Любви, которая распоряжается их судьбами согласно высшему закону. Однако, заставив умереть вначале Беатриче и подчинив всю жизнь Данте этой смерти, Любовь становится средством их двойного перевоплощения. Она пробуждает самые глубокие силы этих двух душ, она исполняет их самое сокровенное желание, она вручает им божественную свободу избранных.
Продолжение «Новой жизни», где схоластические хитросплетения смешиваются с патетикой и с высшим чувством, доказывает самой своей ребячливостью совершенную внезапность и чистосердечие поэта. Между тем он сосредотачивается, мечтает, размышляет. В серии сонетов, полных музыкальной грации, он возвращается к первой встрече с возлюбленной и к видениям, последовавшим за этой встречей. Образ Беатриче пробудил в нем источник вдохновения, высшего, чем у его учителя Гвидо Кавальканти. Он уже полностью осознал все величие этого события, хотя он еще далек от того, чтобы оценить всю его важность. Но он чувствует, что с него начинается новая эра любви; ибо он объявляет о том, что с ним случилось, «каждому сердцу и каждой душе, обретшим любовь», чтобы передать свою радость братству истинно любящих. Между тем Беатриче вышла замуж за мессера Симоне Барди. По-видимому, Данте был нимало не огорчен этим событием. Его мечта продолжается. Напротив, он безмерно скорбит о смерти Фолько Портинари, отца Беатриче, представляя себе горе его дочери. По этому поводу у него был новый вещий сон. Ему приснилась мертвая Беатриче, лежащая на смертном одре и окруженная своими плачущими родственниками. Беатриче действительно умерла вскоре после этого, в возрасте двадцати четырех лет. Поэт узнал об этом как раз тогда, когда он закончил стихотворение в честь своей возлюбленной. Эта новость сломила его и погрузила в бездну грусти. От слез его глаза покраснели и пересохли.
Эта печаль стала большим шагом в его посвящении. Если «благостный поклон» преславной дамы его грез стал его первым пробуждением, то ее смерть должна была привести его в новый мир. От вспышки радости родился поэт; от вспышки скорби вышел посвященный. Прежде всего это было некое уничтожение, который он выражает словами Иеремии: «Остался названный город словно бы вдовым». Но из отрицания этой временной смерти должно было родиться истинное возрождение. Именно тогда он принял решение посвятить себя теологии и философии и не иметь другой наставницы, чем лучезарная душа Беатриче.
Но неофит не мог избежать фазы испытаний и мучений. Молодой патриций был окружен избранным кругом умных друзей и очаровательных женщин. Его близкие друзья страстно интересовались творениями его Музы, как и малейшими деталями его частной жизни. Среди них находилась дама по имени Джованна. Ее прозвали Primavera («Весна») за ее весеннюю прелесть. Она была необыкновенно красива и – высший соблазн – походила на Беатриче!.. Джованна вызвала столь глубокую страсть в несчастном поэте, что он перестал убаюкивать себя утешительными словами. Он впивал ее чарующие взгляды. Вскоре неугасимое желание смешалось с сонмом вздохов и слез, предназначенных двоим. В то же время скорбящий влюбленный обнаружил, что образ его дамы таял в той мере, в какой прекрасная Джованна воцарялась в его душе. Новая Беатриче во плоти, Беатриче, трепещущая от желания и полная жизни, – заменит ли она божественное и небесное явление его отрочества? «Поднялось во мне однажды, – говорит он, – могущественное видение: мне казалось, будто увидел я преславную Беатриче в тех алых одеждах, в которых впервые явилась она моим глазам; показалась она мне юной, почти того же возраста, в котором впервые я увидел ее. Сердце мое стало горестно раскаиваться. Вследствие этого возобновления вздохов возобновились и утихнувшие слезы». Об этом он написал сонет, начинающийся такими строками:
- Oltre la sfera, che piщ larga gira,
- Passa il sospiro ch’esce del mio core:
- Intelligenza nuova, che l’Amore
- Piangendo mette in lui, pur su lo tira…
- Над сферою, что шире всех кружится,
- Посланник сердца, вздох проходит мой:
- То новая Разумность, что с тоской
- Дала ему Любовь, в нем ввысь стремится…
«Вскоре после этого сонета было мне дивное видение, в котором лицезрел я вещи, понудившие меня принять решение не говорить о Благословенной до тех пор, пока я не смогу повествовать о ней более достойно. Я надеюсь сказать о ней то, что никогда еще не говорилось ни об одной».
Таково заключение «Новой жизни», которое предвосхищает «Божественную комедию». Последнее видение, о котором здесь говорит поэт, – то, которое он опишет в конце «Чистилища», дополнив его таинственным пейзажем и более глубоким смыслом, когда, препровожденный своим проводником Вергилием к порогу Рая, паломник трех миров наконец обретет Беатриче на ее престоле, окруженную божественной свитой и сияющую столь невыразимой красотой, столь ослепительным светом, что его глаза вначале не могли этого вынести.
Эта психическая квинтэссенция Дантова посвящения показывает здесь исключительную оригинальность, непостижимую глубину и огромную значимость. Здесь пробуждается новый вид любви, который не был известен ранее. Видно, с какой внезапной силой Беатриче стала пробуждением и посвящением души поэта, центром его жизни и ключом к его творению. Это пробуждение начинается во внешнем земном мире, но главное происходит во внутреннем мире и в трансцендентной сфере, которая мало-помалу обнаруживает свои лучи сквозь густую дымку реальности, чтобы наконец раскрыться во всем своем великолепии. Душа здесь – все, тело – лишь принадлежность. Оно служит поочередно и одновременно контрапунктом и призмой, пластической субстанцией и символом, говорящим о духовных истинах. В этом по-детски простом романе нет ни признания, ни клятвы, ни обещания, ни какого бы то ни было физического соприкосновения. Поклон, взгляд – и это все; но затем – глубокое изменение души, стремительный флюид той силы любви, которая не знает ни меры, ни преграды. Данте настолько уверен в высшей связи, соединяющей его с этой девушкой, что не придает никакого значения ее браку с мессером Симоне Барди и даже не упоминает о нем. У врат Рая Беатриче больше не тревожится о женитьбе Данте на Джемме Донато, последовавшей через несколько лет после смерти Беатриче. Но она горько его упрекает в том, что он позволил другим женщинам сразу занять то место, которое принадлежит в сердце посвященного божественной любви. Ибо она знает, что она для него – Альфа и Омега, родник и престол Истины. Чтобы спасти его душу, она перевернула небо и землю, а сам он прошел Ад и Чистилище, дабы соединиться с ней.
Мы видели посвящение поэта великой любовью. Взглянем же на его последующую жизнь перед тем, как проследить его путешествие по преисподней и небесам.
III. Политическая жизнь Данте. Его изгнание и смерть
За божественными грезами юности у Данте последовали ожесточенные битвы, горькие разочарования зрелого возраста. «Новая жизнь» показывает лишь его женственную душу, полную трепетной чувствительности и бесконечной нежности. Его общественная жизнь с двадцати четырех до тридцати пяти лет выявила внезапным порывом его мужскую сущность. Его натура, страстная и неукротимо воинственная, была столь сложна, что объединяла крайности и всегда возвращалась в равновесие посередине самых сильных бурь. Как человек действия и политический теоретик, он разделял противоречия и ограниченность своего времени. Если взять на себя труд прочитать его трактат «О монархии», можно констатировать, что его политический идеал отличался простотой, столь же смелой, сколь и наивной. Папа, наместник Иисуса Христа, правит духовным миром; император, который распоряжается в материальном мире, подчиняется папе; а Рим, столица мира, правит всеми народами. Ратуя за этот социальный механизм, Данте предполагает, что папа – непогрешимый святой, император – справедливый монарх, а Рим – идеальный город, столь же совершенный, сколь Небесный Иерусалим и списанный с него Град Божий Блаженного Августина. Катастрофы политической жизни должны были жестоко развеять его иллюзии, но не заставили отказаться от своих идей, которые связывались с некими духовными истинами, искаженными римским цезаризмом. Так или иначе, этот опыт показал ему пропасть, отделяющую идеал от реальности, и, заставив его познать реальную жизнь, создал солидную основу, необходимую для поэтического творчества.
Борьба гвельфов и гибеллинов свирепствовала тогда во Флоренции, гвельфы опирались на папу, а гибеллины – на императора. Семья Данте, как и он сам, принадлежали к партии гвельфов, которая почти всегда была верхушкой в тосканском городе и энергичнее всех защищала независимость городов. Страсти были тем более ожесточенными, что триумф одного лагеря в народном правительстве Флоренции неумолимо вел за собой изгнание всех семей противоположного лагеря и конфискацию их имущества. Эта борьба двух больших партий, разделявшая тогда всю Италию, еще усложнялась непримиримыми ссорами между некоторыми соперничавшими семьями. Эти внутренние распри, более кровавые и опасные, чем любые другие, эта братоубийственная ненависть часто начинались с кровавых оскорблений. Так началась и борьба «белых» и «черных», которая стала причиной всех несчастий семьи Алигьери. Данте, бывший тогда «приором», то есть членом правительства, был послан к папе Бонифацию VIII, чтобы добиться его вмешательства и примирить ссорящихся. Но вскоре выяснилось, что папа, вместо того чтобы покровительствовать своей собственной партии, «белым» (которые были гвельфами), в своих собственных интересах договорился с Карлом Анжуйским, чтобы тот вошел во Флоренцию со своими войсками, что позволяло «черным» (все они гибеллины) вновь захватить власть и изгнать своих соперников. Данте, ложно обвиненный «черными» победителями в причастности к интриге, которая позволила Карлу Анжуйскому войти в город, разделил судьбу побежденных. Его дом был конфискован и разграблен, а сам он изгнан из города под страхом смерти.
Джотто. Фреска с портретом Данте. Флоренция, Палаццо Веккьо
Рассказывают даже, что первые три песни его «Ада», оставшиеся в доме, были спасены лишь благодаря мужеству его великодушного собрата, поэта Фрескобальди, который отнял рукопись у тех, кто хотел ее сжечь, и послал ее своему блестящему сопернику.
Если после этой катастрофы и после нескольких лет бесплодных усилий вернуть к власти свою партию, изгнанную в Ареццо, Данте стал гибеллином, надо приписывать это превращение не личному интересу (ибо он не извлек из этого никакой выгоды), а его негодованию и отвращению к человеческим делам, которые привели к краху всех его надежд. Выпровоженный папой, проклятый своими врагами, покинутый собственной партией, презираемый императором Генрихом Люксембургским, изгнанный из города Беатриче, потомок Качьягильда был один в мире и лишен всего. У него оставался лишь его гений. Тогда ему показалось, что земля разверзлась у него под ногами. Он смутно угадывал черноту ада, куда ему было предложено спуститься, и круг за кругом его глаз проникал до дна бездны. В начале его долгого мученичества, в свои безнадежные первые годы он источал грусть в письме, полном патетических упреков и адресованном своим согражданам. Это письмо начинается словами: «Мой возлюбленный народ, что сделал я тебе? Popule mee, quid feci tibi?» Но позже, когда флорентийские магистраты, ослепленные его славой и мучимые угрызениями совести, пригласили его вернуться в родной город при условии, что он покается и принесет извинения за свои заблуждения, изгнанник с гневом отвечал: «Не так Данте вернется на родину. Ваше прощение не стоит этого унижения. Мой кров и моя защита – моя честь. Разве я не могу повсюду созерцать небо и звезды?»
Политик умер, но великий поэт осознал свою силу и свою миссию. Он потерял свое земное отечество, но он вступил во владение своей вечной родиной. На горьких путях изгнания, из Ареццо в Пизу, из Пизы в Павию, из Павии в Верону; затем, пересекая каштановые рощи и ельники Апеннин, – до высокого одиночества в монастыре Губбио; и оттуда, наконец, – к своему последнему прибежищу, в суровую Равенну, старый византийский город, возвышающийся между Адриатикой и ее темными соснами, скитающийся поэт, иногда принятый знаменитыми покровителями, но всегда непонятый в своей сути и всегда замкнутый в своих утонченных видениях, одинокий путник, мог измышлять сколько угодно свою сверхчеловеческую поэму. Это путеводитель по небесному отечеству, но благодаря ее четкой структуре и чудесному единству, также и пророчество итальянской родины, которой еще не существовало. Тогда никто не догадался об ее смысле, но ее автор предчувствовал, что она станет для будущего мира тем, чем «Илиада» и «Одиссея» стали для мира античного.
IV. «Божественная комедия» и ее посвящающий смысл
Грандиозный замысел «Божественной комедии» предстает нам одновременно как личное приключение и как представление Космоса. Отправляясь в потустороннее путешествие, паломник пересекает три мира. Но от одного к другому он меняется, перерождается и преображается под воздействием чудесных видений. В «Аду» он еще лишь страдающий и устрашенный созерцатель; в «Чистилище» он становится терпеливым и очищенным мыслителем; в «Раю» он последовательно поднимается до состояния ясновидящего и избранного. Потрясающее крещендо, через которое посвященный понемногу проникает в тайны трех миров. Постепенно он понимает и расшифровывает язык трех сфер, которые соответствуют трем основным частям его внутреннего «я», сфер, все более глубоких, которые окружают его. Лучи его собственной души, которые погружались в них, чтобы их исследовать, возвращались к нему в образах, вначале пугающих, затем привычных и утешительных, наконец светящихся и великолепных. Перечисление этих разных состояний души в форме чистых идей было бы бесплодным и скучным, но здесь все живописно и патетично, поскольку все это живое и животворное. Поэт не рассуждает, он рассказывает свои видения. Позже он сделает из них философию. Бездна его внутренней жизни – это его великая любовь. Вот плодотворный центр его труда, солнце, которым он зажигает светоч своих тайн. Это Беатриче послала ему Вергилия в сумрачный лес, на гибельную дорогу, где он сбился с пути и где рысь, лев и волчица, которые символизируют сладострастие, честолюбие и скупость, преграждают ему дорогу. И вот страшное путешествие начинается с сумрачного входа, над которым написаны ужасные слова: «Оставь надежду всяк, сюда входящий». Зрелищем проклятых, которые за собственные заблуждения утратили свет разума и веру в любовь, начинается посвящение поэта.
Ад, каким его воображает Данте, – это опрокинутый конус. Головокружительная фантазия, но отличающаяся геометрической точностью. По верхнему краю окружность бездны равна расстоянию от Рима до Иерусалима. Острие конуса достигает центра Земли. Громадная пропасть делится на девять кругов, которые идут, сужаясь книзу. Каждый из этих кругов – обширное пространство, в котором есть свои горы, долины и реки. У каждого – своя особая атмосфера, и, когда спускаешься постепенно в это царство теней, мутный свет все темнеет и темнеет. Тут летают в воздухе, кишат в болотах или корчатся под огненным градом страдальцы из потустороннего мира. Здесь каждый наказан тем, чем он согрешил, а природа мучений объясняется их отдаленными последствиями. Строгая психология, беспощадная логика в их иерархии. Стражи этих мест – это боги и чудовища античности вперемешку с библейскими демонами. Исторические личности всех времен смешиваются в толпе теней. Папы-симониты прогуливаются вместе с азиатскими тиранами, Эдзелино[12] общается с Аттилой[13], но все размещены согласно их месту в иерархии преступлений. Чувства паломника соответствуют тем ужасающим вещам, которые он видит. Он близко общается с мертвыми, которых он знал, и разделяет их страдания. Он удручен, он плачет, он лишается чувств. Иногда, охваченный страхом под угрозой демонов или оскорблениями злых, он цепляется за одежду доброго Вергилия, который его поддерживает, ободряет и успокаивает. В начале опасного спуска его глаза широко распахиваются от удивления, но, когда они видят дно бездны, они зажмуриваются от ужаса.
Боттичелли. Иллюстрации к «Божественной комедии».
«Ад», песнь 8-я. 1492–1500 гг.
На печальной реке Ахерон грубый перевозчик Харон[14] созывает души усопших в свою лодку и бьет веслом свое загробное стадо. И уже на другом берегу посетитель впервые ощущает дыхание Ада:
- Дохнула ветром глубина земная,
- Пустыня скорби вспыхнула кругом,
- Багровым блеском чувства ослепляя;
- И я упал, как тот, кто схвачен сном.[15]
Это движение, однако, – всего лишь слабое предчувствие мучений, которые вскоре начнут его терзать. После переправы путник пробуждается на другом берегу, в первом кругу Ада, где пребывают души ничтожных, не способных ни к добру, ни к злу, которых равно отвергают и небо, и ад и которые осуждены блуждать бесцельно в пустынных пространствах. Затем на высокой горе поэт видит, как возникает высокий замок с семью оградами. Этот мощный замок дает приют героям, мудрецам и поэтам античности, которые не знали Евангелия и которым средневековая теология отказывала в вечном блаженстве. Данте, который почитает их как учителей, помещает их отдельно от всех других обитателей Ада, в промежуточное пространство, где они продолжают грезить о героизме, мудрости и красоте.
Трехстишие, которое описывает эту царственную группу, предшествуемую великим Гомером, передает эмоции поэта своим музыкальным ритмом:
- Genti v’eran con occi tardi e gravi
- Di grande autoritа ne’lor sembianti,
- Parlavan rado con voci soavi.
- Там были люди с важностью чела,
- С неторопливым и спокойным взглядом;
- Их речь звучна и медленна была.[16]
Лишь созерцая их, «я ликую сердцем». Почетно быть «приобщенному к их собору».
Но внезапно, выйдя из пещеры Миноса, неумолимого судьи мертвых, Данте оказывается повергнутым в круг сладострастников, где свирепствует адская буря, la buffera infernal’ che mai non resta[17], образ и продолжение их бреда. Здесь царство несчастных, которые осуждены безвозвратно за чувственную страсть. Неутихающий ураган правит здесь безраздельно. С выступающего мыса поэт и его провожатый видят бездну. Ничего не видно в ее тьме, и лишь слабые отблески пробегают, словно легкие облака. Свирепый ветер гонит их и крутит. Так их преследуют неутолимые желания. Лучше, чем кто бы то ни было, Данте знает такую страсть, которая двумя своими полюсами равно притягивает ад и небеса. Он знает эту «любовь, любить велящую любимым» («Ад» V.103).
- Amor ch’a nullo amato amar perdona.[18]
Эпизод с Франческой и Паоло, самый патетический и самый известный в его поэме, также произошел, чтобы взволновать поэта до глубины души. Появление этой несчастной пары прелюбодеев, «которых и вечность не смогла разлучить», бессмертный рассказ Франчески и слезы Паоло были для поэта таким ударом, что он «упал, как падает мертвец» («Ад» V.142).
Но последуем за путешественником далее по иному миру. Четвертый, пятый, шестой и седьмой круги отведены страстям более бешеным и грозным. Это те, которые затрагивают чувства, являющиеся не только органами и оболочкой души, но ее субстанцией и сутью. Там находятся одновременно расточители и скупцы, гордецы и гневные, содомиты и самоубийцы. Там протекает Стикс, черная река Смерти, где ничто живое не может существовать, ибо все, что туда попадает, немедленно разрушается. Там царят Плутос и адский огонь. Но этот огонь проявляется в самых разных видах, ибо он повсюду, видимый или скрытый. Он бьет из земли, он кипит в кровавых озерах, где дерутся гневные, он сочится из воздуха в огненном граде. Удивителен город Дит. Стикс огибает его. Над ним возвышаются пламенеющие башни с красными бойницами. Вокруг этих башен летают демоны, которые зажигают огни по числу новоприбывших душ – нечто вроде беспроволочного телеграфа в Дантовом аду. Внутри этой крепости появляется странное кладбище. Вдоль огромных стен без окон простираются ряды гробниц, из которых исходят тревожные блики света. Это раскаленные могилы гордецов. Один из камней поднимается, и из могилы наполовину высовывается величественная фигура неукротимого Фаринаты, который, «казалось, Ад с презреньем озирал» («Ад» Х.36). Данте поместил его туда не только из-за его гордыни, но также и потому, что он был еретиком и упорно отрицал Бога и бессмертие души. Но он не может не отдать ему должное, и благородно он обессмертил Фаринату, поскольку этот гибеллин спас Флоренцию от разрушения вопреки воле своей партии, когда гвельфы пришли к власти. Наперекор Аду, который визжит вокруг них, вопреки потоку страстей, которые их разделяют, смелость и достоинство этих двух персонажей создают между ними мимолетную симпатию. Но как обрисовано состояние души гордеца в огненной гробнице Фаринаты! В одном этом образе заключена вся психология гордыни. Он стоит ста трактатов о морали и драмы Шекспира!
В седьмом круге, круге насильников, демоны и грешники так озлобляются на живого пришельца, который не боится их, что Вергилий поднимается со своим товарищем на круп кентавра Несса, чтобы их миновать. Там кентавры ударами стрел пронзают злобных, которые дерутся в кровавой реке, вскипающей от их безумного гнева. Ужас поэта растет при виде самоубийц, превращенных в деревья; они издают крики, когда гарпии пожирают их листву.
Но все же мы еще не на дне бездны. Последняя и самая страшная форма дьявольской злобы – та, что поражает не только чувства и душу, но искажает способность мыслить и тем самым разрушает божественный корень человеческой сущности. Но именно туда надо спуститься, чтобы познать последнюю тайну Зла.
Внезапно путники останавливаются перед бездной, которая разверзлась у их ног. Отвесные края скалы теряются во тьме колодца. Нет ни лестницы, ни склона, чтобы туда спуститься. Но на краю пропасти уцепилось странное чудовище – одно из самых потрясающих существ, придуманных поэтом. Это Герион, гений Обмана. Эта невиданная ящерица имеет человеческую голову с благородным лицом, тело змеи и огромный скорпионий хвост. Длинные крылья дракона дают ему возможность летать. Своим привлекательным лицом и ласковыми глазами он обольщает и соблазняет своих жертв. А ядовитым жалом на хвосте, который вертится во все стороны, он убивает тех, кого удалось обмануть. Говорящий образ коварной Лжи, матери величайших преступлений. Волшебник Вергилий знает Гериона. Одним мановением руки он укрощает зверя, затем садится на две его чешуйки, а Данте хватается за своего учителя. Чудище расправляет крылья. И так, медленно и в молчании, путники спускаются в плавном полете большими кругами в глубь бездны.
Аньоло Бронзино. Аллегорический портрет Данте. 1530-е гг. Вашингтон, Национальная художественная галерея
Так путешественники достигают ужасного места Злые Щели, где лжецы, сводники, обольстители женщин и льстецы погружены в грязь, где лжесвидетели помещены в кипящую смолу, под стражей жестоких и смешных демонов, где ходят лицемеры под свинцовыми мантиями, где воры и поддельщики всех мастей корчатся, обвитые змеями, которые их кусают. Дно бездны, место для предателей, – это уже не огненный ад, а ледяной. Архангел божественного света, ставший князем тьмы, Люцифер, которого Данте, как и все Средневековье, путает с Сатаной, находит там пристанище, погруженный до плеч в ледяное озеро. Поэт хочет нам показать здесь, что последняя степень Зла – это смерть души из-за избытка гордыни, пленение и оцепенение духа во льду эгоизма, откуда проистекает всеобщая анархия из-за разделения сил и разрушения ненавистью.
Чистилище. В мыслях поэта, который ищет символы и геометрические измерения духовных трансцендентных истин, центр Земли – это центр Зла и черной магии. Посвященный, который должен знать все, чтобы стать господином самому себе и вещам, должен был туда проникнуть. Однажды униженное и разоблаченное в своей тайне, Зло побеждено. Из глубины Ада посвященный поднимается на покорение Неба.
Смелая и единственная в своем роде фантазия поэта изображает Чистилище как остроконечную гору, вздымающуюся из глуби морей в астральную полусферу. Данте и Вергилий через узкую трещину, проходящую от центра Земли к ее поверхности, достигают островка, откуда можно обозревать величественный выступающий конус Океана. Туда их препровождает лодка, управляемая ангелом. С каким облегчением неофит, омытый огненными парами ада и увенчанный его господином венцом из тростника, приветствует сапфировые оттенки астрального неба!
- Dolce color d’oriental zaffiro.
- Отрадный цвет восточного сапфира
У ворот первого круга, где три ступени ведут в Чистилище, Ангел раскаяния семь раз пишет букву «Р» на челе Данте. Это обозначение семи смертных грехов. В каждом круге одна из букв исчезает со лба кающегося. Ангел говорит путникам:
- Войдите, но запомните сначала,
- Что изгнан тот, кто обращает взгляд.
Столь велик соблазн греха, который может вернуть путника к его прошлым ошибкам, столь велика энергия, которой требует тяжелое восхождение. В узком поднимающемся коридоре, по которому двигается путник, он видит прежде всего удивительные статуи, в виде барельефов, вырубленных в скале. Они покрывают обе стены и даже землю, по которой он ступает. На одной стороне изображена история восстания титанов и их битвы с богами; на другой – падение Люцифера и его ангелов. Легенды идентичного смысла, параллельные символы одной и той же идеи и одного и того же космического события.
- Я видел – тот, кто создан благородней,
- Чем все творенья, молнии быстрей
- Свергался с неба в бездны преисподней.
- Я видел, как Перуном Бриарей
- Пронзен с небес, и хладная громада
- Прижала землю тяжестью своей.
Он видит разбросанные части тел гигантов. Он видит всех гордецов: Саула, убившего себя собственным мечом, Ровоама, влекомого своей устрашающей колесницей, и Ниобею, окруженную семью трупами своих детей. Он видит Тамирису, бросающую голову Кира в мех, наполненный кровью, и кричащую ему:
- Ты жаждал крови, пей ненасытимо!
Он видит бегство ассирийцев после гибели Олоферна; он видит пожар Трои и ее развалины. И словно пророчество о Микеланджело заключено в следующих стихах:
- Чья кисть повторит или чей свинец,
- Чаруя разум самый прихотливый,
- Тех черт и теней дивный образец?
- Казался мертвый мертв, живые живы;
- Увидеть явь отчетливей нельзя,
- Чем то, что попирал я, молчаливый.
Таков урок, данный Посвященным своему ученику. В Чистилище он должен попрать ногами безумные соблазны, гордыню и бунт, чьи страшные пытки он видел в Аду. Теперь он должен победить их в своем сознании, чтобы подняться в безмятежность Духа, в сияние божественной Любви. И примечательно, что Данте добавляет:
- Кичись же, шествуй, веждами грозя,
- Потомство Евы, не давая взору,
- Склонясь, увидеть, как дурна стезя!
Победив грех гордыни, Данте заключает не словом смирения, не коленопреклоненной молитвой, как во многих других местах, а словом гордости. Возрожденное «я» уже уверено в завоевании Божественного путем победы над собой. И Вергилий говорит ему:
- Вскинь голову, – ко мне взывая,
- Так отрешась, уже нельзя идти.
- Взгляни: подходит ангел, нас встречая,
- Укрась почтеньем действия и взгляд,
- Чтоб с нами речь была ему приятна.
- Такого дня тебе не возвратят.
- Прекрасный дух, представший нам тогда,
- Шел в белых ризах, и глаза светили,
- Как трепетная на заре звезда.
- С широким взмахом рук и взмахом крылий
- «Идите, – он сказал, – ступени тут,
- И вы теперь взойдете без усилий».
И поэт отвечает:
- На этот зов немногие идут:
- О род людской, чтобы взлетать рожденный,
- Тебя к земле и ветерки гнетут!
- Он обмахнул у кручи иссеченной
- Мое чело тем и другим крылом
- И обещал мне путь незатрудненный.
И, достигнув этого края, куда поднимаются по ступеням меж двух стен, Данте восклицает:
- О, как несходен доступ в новый круг
- Здесь и в Аду! Под звуки песнопений
- Вступают тут, а там – под вопли мук!
Он чувствует себя легче и говорит Вергилию:
- Скажи, учитель, что за гнет
- С меня ниспал? И силы вновь берутся,
- И тело от ходьбы не устает.
И тот:
- Когда все Р, что остаются
- На лбу твоем, хотя тусклей и те,
- Совсем, как это первое, сотрутся,
- Твои стопы, в стремленье к высоте
- Не только поспешат неутомимо,
- Но будут радоваться быстроте.
Тогда Данте подносит руку ко лбу и находит рубцы только от шести «Р», которые ключарь вырезал там. Грехи, искупаемые в Чистилище, – это те же, которые караются в Аду вечными муками (гнев, скупость, чревоугодие, пьянство и гордыня), но они не доведены до последней крайности. Они были совершены по неразумию или по ошибке, а не умышленно или по злобе. Поэт встречает там старых знакомых, трубадуров, музыкантов, подеста и пап. Они наказаны танталовыми муками, сжигаемые или замороженные прежними желаниями, неспособные их удовлетворить. Так они каются и очищаются. По мере того как поднимаются поэт и его проводник, «божественные птицы», ангелы, появляются все чаще, и процессия душ, которые поднимаются к ним, запевают более мелодичные песнопения.
И вот они поднялись на вершину крутой конусовидной горы. Паломники оказываются в большом тенистом саду; это земной рай. На цветущем лугу удивительные женщины, Лия и Рахиль, собирают фиалки и розы и плетут из них венки. Вергилий говорит своему ученику:
- И временный огонь, и вечный
- Ты видел, сын, и ты достиг земли,
- Где смутен взгляд мой, прежде безупречный.
- Тебя мой ум и знания вели;
- Теперь своим руководись советом;
- Все кручи, все теснины мы прошли.
- Вот солнце лоб твой озаряет светом;
- Вот лес, цветы и травяной ковер,
- Самовозросшие в пространстве этом.
- Пока не снизошел счастливый взор
- Той, что в слезах тогда пришла за мною,
- Сиди, броди – тебе во всем простор.
- Отныне уст я больше не открою;
- Свободен, прям и здрав твой дух; во всем
- Судья ты сам; я над самим собою
- Тебя венчаю митрой и венцом.
Внезапно лес освещается. В тени земного рая, где легкий ветерок колышет листочки и скользит, словно небесная мелодия, предстает чудесная процессия вокруг еще более чудесной колесницы. Она запряжена грифоном, апокалиптическим зверем, который здесь символизирует Христа, его одновременно божественную и человеческую природу. Старцы и женщины, которые ее окружают и несут светильники, представляют святых и небесное воинство торжествующей церкви. В самой колеснице наконец является Беатриче, земная непорочная любовница, преображенная в небесную Невесту. Сначала он видит ее сквозь покрывало из цветов, которые накинули на нее ангелы. Как и в первую встречу с поэтом, она одета в алое платье, color di fiamma viva, под зеленым плащом с белым покрывалом. Покрывало, которое приглушает ее сияние, позволяет ее другу задержать на ней взгляд. Внутренним движением он
- …пред тайной силой, шедшей от нее
- Былой любви изведал обаянье.
Но вскоре его радость сменяется глубоким смущением и сильной грустью, когда она резко упрекает его в неверности. Только переправившись через реку, отделявшую его от этого божественного создания, и испив из волны Леты, которая стирает память о его ошибках, он обретает силу взглянуть на нее без покрывала и выдержать сияние ее новой красоты. Тогда он обнаруживает, что в сияющих глазах его возлюбленной отражается образ грифона (символ Христа), а в ее широких зрачках видна по очереди то ее человеческая, то божественная природа. Совершенное слияние божественного и человеческого, тайна и цель творения и эволюции являются, таким образом, посвященному в глазах Женщины, сквозь призму Любви. Это зрелище отпечатывается в душе созерцающего, «как печать на мягком воске» и завершают его посвящение[19].
Боттичелли. Иллюстрации к «Божественной комедии».
«Чистилище», песнь 31-я. 1492–1500 гг.
Эта градация идей и образов, сплавленная на огне сильных чувств, показывает трансцендентную силу эзотерической мысли поэта.
Поскольку нигде, даже в земном раю, не бывает неомраченной радости, Вергилий исчез, пока радовался Данте. С огорченным сердцем ученик оплакивает потерю учителя, любимого и верного, который не может больше его сопровождать. Они останутся едины духом на расстоянии, но больше не увидятся. Ибо непреодолимая преграда вырастает между двумя мирами, которые они населяют. Разлука, печальнейшая из всех, для нежного и страстного ученика. Но это последние слезы, ибо славная Беатриче отныне будет его проводником по небесным сферам.
Рай. Встреча с Беатриче, преображенной в ее божественной сущности, была для поэта наградой в его долгом и тяжелом испытании. Достигнув порога неба, чьи первые лучи касаются его лица, путник оборачивается на мгновение и бросает взгляд назад, в глубокую бездну, из которой он вышел, а другой взгляд – вперед, в небесные сферы, в которые он входит. Избавленный от земного груза, обретя новый взгляд, он только теперь понимает смысл и значение трех миров, которые он проходит. Они раскрывают ему тайное строение, суть Вселенной, но они также раскрывают и сущность его собственного бытия, которое воспроизводит и отражает эти три мира, словно в чистом хрустале, – Ад, с его потемками, битвами и ужасами, соответствует миру материи. Чистилище, с его мягким светом дня, покаяниями и ошибками, отвечает астральному миру души, уже избавленной от цепей материального. Рай, с его блеском, радостями и экстазом, отвечает божественному миру чистого Духа. Это царство несотворенного Света и царящей Любви. Ибо здесь Любовь освещается Светом, а Свет наполнен Любовью. Слитые воедино, эти две важнейшие силы проявляются как сама Истина и как творящее Слово, «Слово, которое, по первому стиху Евангелия от Иоанна, было вначале, было у Бога и было Бог», Слово, которое было Звуком, прежде чем стать Светом.
- Luce intelletual piena d’amore,
- Amor di vero ben pieno di letizia,
- Letizia che trascende ogni dolzore.
- Умопостижный свет, где все – любовь,
- Любовь к добру, дарящая отраду,
- Отраду слаще всех, пьянящих кровь.
Поскольку Небо и Бог, который его наполняет и одушевляет, – это источник и начало трех миров, посредством эманации, творения и инволюции, то человеческая душа, спустившаяся в материальный мир, должна вновь подняться по всем ступеням, чтобы освободиться и познать себя в первоначальном огне.
Кроме того, в этих трех мирах все различно: элементы, субстанция и сущность вещей. Все изменяется: Природа, душа и Бог. Отсюда иная символика, иная психология, иной метод познания.
В непроницаемом мире Ада, который еще большей частью – ад на земле, человек познает вещи только через их вражду, схватки и битвы. В мутных пределах астрального мира и Чистилища он предчувствует божественное сквозь изменяющиеся формы существ и их фантомные проявления. Напротив, в Небе, в мире чистого Духа, существует непосредственное и совершенное согласие между душой и ее окружением. Это место гармонии, взаимопроникновения и слияния душ. Святые зрят Бога и Истину непосредственно в духовном Свете. Любовь, красота, созерцание принимают формы света. Духи согреваются в лучах любви. Красота и радость светятся в их глазах, скользят в их улыбке. Истина отражается, словно в зеркале, в их вечном образе[20].
Три мира образуют полное и нераздельное единство. Они удерживают друг друга в совершенном равновесии. Ибо в Раю, как и в других мирах, тот, кто их пересекает, замечает важную градацию. Души и формы одухотворяются в соответствии с порядком духов и степенями добродетелей. Как и они, эфир становится все более и более прозрачным, а свет – все более ярким. Блеск и мощь возрастают в улыбке Беатриче, как и в сиянии небесных фаланг и во все более громких и нежных мелодиях, которые охватывают и поддерживают двух любящих. Души великих святых проявляются уже не в человеческой форме, а скрываются в огне и свете. Иногда они объединяются тысячами в грандиозные сообщества, чей знак выражает их общее чувство. Перед удивленным наблюдателем их объединенная масса предстает то в форме орла, то льва, то круга или созвездия. Тогда энтузиазм, горящий во всех и в каждом, удовлетворяется и успокаивается в сообществе душ. И кантики заполняют пространства. Бог и его Слово, Христос, скрытые во всем, невидимы и говорят лишь голосами отдаленных хоров. Когда поэт слышит «Глорию», которую поют души Отцу, Сыну и Святому Духу, ему кажется, что он слышит «смех вселенной». Тогда он последний раз оборачивается к бездне и видит Землю издалека. Он видит ее целиком «столь жалкой, что не мог не усмехнуться» («Рай» XXII.133). О, какой она кажется маленькой и черной! Он называет ее: «Клочок, родящий в нас такой раздор» («Рай» XXII.152) и быстро обращается к прекрасным глазам Беатриче, которая глядит выше, все выше.
Отметим здесь, что если Рай Данте соответствует строжайшей ортодоксальной католической доктрине, в частности учению Фомы Аквинского, то он ее оживляет и расширяет, вводя в нее главные идеи Гермеса Трисмегиста, орфиков и Пифагора, которые идентифицируют космические силы со сферами семи планет. На Меркурии, Венере, Солнце, Марсе и Юпитере расположены активные добродетели. Созерцающие получают награду совершенства на Сатурне. На Меркурии, планете, ближайшей к Солнцу, улыбка Беатриче освещает всю планету, и Данте видит, как к ней идет множество душ, «словно стая мчащихся огней» («Рай» VII.8). И тогда он обращает к своей ангельской возлюбленной такую молитву:
- «О госпожа, надежд моих ограда,
- Ты, чтобы помощь свыше мне подать,
- Оставившая след свой в глубях Ада,
- Во всем, что я был призван созерцать,
- Твоих щедрот и воли благородной
- Я признаю и мощь и благодать.
- Меня из рабства на простор свободный
- Они по всем дорогам провели,
- Где власть твоя могла быть путеводной.
- Хранить меня и впредь благоволи,
- Дабы мой дух, отныне без порока,
- Тебе угодным сбросил тлен земли!»
- Так я воззвал; с улыбкой, издалека,
- Она ко мне свой обратила взгляд;
- И вновь – к сиянью Вечного Истока.
В эту минуту Данте видит райскую розу, состоящую из душ избранных, розу, расцветшую из раскаленного блеска, окруженную, словно пчелиным роем, ангелами, которые беспрестанно погружаются в ее золотую сердцевину и вылетают оттуда, чтобы снова вернуться. Благодаря заступничеству Беатриче и молитве святого Бернара поэту разрешено бросить взгляд на тайну Троицы, и она предстает перед ним в форме трех концентрических окружностей, в центре которых он различает человеческий образ.
- Здесь изнемог высокий духа взлет;
- Но страсть и волю мне уже стремила,
- Как если колесу дан ровный ход,
- Любовь, что движет солнце и светила.
Так посвящение паломника в трех мирах завершается сознательным и волевым слиянием его души с божественной мыслью и волей.
V. Общее содержание «Божественной комедии». Генеалогия Вечно-женственного
Этот беглый взгляд на космическое путешествие Данте требует исторического заключения.
Боттичелли. Иллюстрации к «Божественной комедии».
«Рай», песнь 23-я. 1492–1500 гг.
«Божественная комедия» не только занимает центральное место в развитии итальянской души, она также играет важнейшую роль в истории человеческого духа. Вспышка в ночи Средневековья, эта фара бросает свет во всех направлениях. Чтобы осознать значение ее лучей, надо прежде всего сравнить христианскую концепцию Космоса Данте с языческой концепцией, выработанной греческой и римской античностью. Здесь нет, как это предполагает одна из школ, легковесных заключений и простых теоретических фантазий. Ибо если идеи, которые человеческое воображение создает об ином мире, имеют лишь относительную ценность, то с объективной и строго научной точки зрения они оказывают господствующее влияние на развитие людей и народов. Они создают высшие формы мысли и первоочередные факторы образования.
Античность также создала свою картину трех миров, но эта картина была более ограниченной. Весь интерес, все внимание греко-латинской цивилизации были направлены на землю. Если взгляд иерофантов и мудрецов поднимался ввысь, он вскоре возвращался к общине и привычным горизонтам. Языческие боги также представляли и космические силы различных рангов. Но они были объединены и ограничены человечеством и как бы склонены над ним. Захваченные в своем движении, они были окрашены своими страстями. А тайна космической Троицы, хорошо известная религиям и философским учениям Азии, предчувствуемая Пифагором и Платоном, оставалась скрытой в глубинах небес и пряталась под сложной символикой тайн. Благодаря откровению Христа и трудам его последователей, иной мир неизмеримо вырос и занял первое место в человеческом воображении. Это новое представление о загробной жизни и невидимом мире должно было включать, по крайней мере так же, как и христианская мораль, изменение человеческой жизни и лица реального мира. Над землей и ее адом выросла пирамида святых и расширились до бесконечности круги духовного мира. Чтобы постичь их, человеческая душа старается в течение более чем тысячи лет открывать свои собственные тайны. Она возвышается и очищается, одухотворяясь. Необычайная метаморфоза и удивительное вознесение. Но тем самым увеличивается и расширяется пропасть между землей и небом.
Как Блаженный Августин, величайший основатель и истинный организатор церкви, сумел преодолеть эту пропасть? Он говорит нам об этом в «Исповеди» и «Граде Божьем». Это произошло в результате презрения к земной жизни и жертвования ее красотой. Чтобы стать христианином, ему пришлось покинуть свою жену и ребенка. Чтобы укрепиться в своей вере, он жертвует разумом и довольствуется чувством. Credo quia absurdum[21]. Его вера горяча, но печальна и слепа. Красноречие, поэзия, философия, величие искусства в его глазах – не что иное, как разочаровывающие обманы, мучительные миражи и тлетворные соблазны Сатаны. Лишь милость Божья может спасти человека. Достижения античности отвергаются как опасные. Невозможно перемирие между «Градом Божьим» и «Градом Маммоны». Этот последний обречен на гибель. Правда, человек призван подняться на небеса, но калеча свой разум и будучи вынужденным жить, склоняясь перед законом предопределения и перед угрозой божественного проклятия.
Совершенно иной подъем у Данте. Если цель его та же, то средства совсем иные. Точка отсчета, трамплин к большому вознесению – желание поэта, его способность к усилию, его крылья веры с отвагой. Какая жажда все знать, все видеть, на все осмелиться, побудить самого себя, следуя божественной мысли! Со всей полнотой своего существа и своего разума он предпринимает свое опасное путешествие и доводит его до конца. Оно нужно ему, чтобы объяснить свою веру. А эта вера, не менее пламенная, чем у епископа Гиппонского, но более свободная и сияющая, освещает его разум. Блаженный Августин преодолевает пропасть между землей и небом путем подавления одной из своих основных способностей; Данте достигает этого путем расширения своего внутреннего «я». Для него рай, конечно, – милость Божья, но также и последовательное посвящение его души, достижение его ума и воли.
Но что за сила дает ему первый толчок, его поддерживает во время этого чудесного восхождения и возносит его в эмпиреи? Любовь! Его любовь к Беатриче и любовь Беатриче к нему, возвращающаяся к нему, словно волна океана при отливе. Любовь чистая, это правда, любовь идеальная, но более страстная, более абсолютная и в особенности более творящая, чем простая чувственная любовь. Новое понимание Любви, как и новое понимание Женщины. Понимание, неизвестное в античности, только предчувствуемое божественным Платоном и уже прославленное в рыцарских романах. Женщина, обладающая трансцендентными способностями, Женщина, пробуждающая божественную любовь, – вот великое открытие Данте, сверкающий факел его труда, самая суть его гения, давшего ему возможность превзойти свое время, предвосхитить будущее и осветить грядущие века.
Можно было бы написать главу, да что я говорю? – книгу, и какую книгу! – о Генеалогии Вечно-женственного. Эта тайна своей сущностью вновь обращает нас в самое сердце Божественного. Спускаясь от сферы к сфере, она затемняется, чтобы понемногу воссиять вновь в человеческой душе и засверкать в ней новой красотой. Индия, Египет, Греция грезили об этой силе из сил, об этом несотворенном свете, эманации и зерцале самого Бога для создания миров, форме и субстанции прототипов для всех существ. Она называлась Майя у индусов, Исида у египтян, Деметра у греков. Мудрецы всех времен понимали Вечно-женственное только как космическую силу, неприкосновенную и непознаваемую. Христианство воплотило Вечно-женственное в Мадонне, земной матери божественного Слова, проявившегося в своей человеческой форме. В Богоматери Средневековье поклоняется божественной Любви, представленной в Женщине. Ибо со смирением и бесконечной нежностью Мария, мать Иисуса, созерцает в своем ребенке во плоти Сына Божьего, чудо Жизни. Здесь Вечно-женственное становится познанным в Женщине, но оно остается чисто пассивным.
В век крестовых походов трубадуры и труверы обнаружили отблеск Мадонны в отдельной даме. Они начинают любить ее и воспевать несчастную любовь, желание, смешанное с неопределенным восхищением красотой и высшим и недостижимым совершенством. Идол рыцарской поэзии, дама, владеющая мыслями, – предчувствие женского идеала и его божественной сущности, но пока это всего лишь зародыш, игра духа и чувства. Для Данте эта мечта становится трагической и высшей реальностью. Он ею живет, он страдает, он ее воплощает через Беатриче и с ее помощью. Вначале его душа полностью отождествляется с Возлюбленной через симпатию. Когда Беатриче умирает, он едва не умирает вместе с ней. Но в ином мире она возвращает ему сторицей то, чего не могла дать ему в жизни как женщина. Преображенная своим поэтом, она, в свою очередь, преображает его. Она спасает его, заставив его пересечь Ад, Чистилище и Рай. Пассивная возлюбленная трубадуров становится активной Возлюбленной, пробуждающей божественный мир, искупительницей для Возлюбленного. Здесь Вечно-женственное дополняется в духовном плане взаимной и плодотворной любовью Мужчины и Женщины.
Нужно было проследить Вечно-женственное в этих трех фазах могущества божественного, могущества космического и могущества физического, или человеческого, чтобы измерить всю высоту и глубину этой тайны. Эти три фазы являются нам, как бы последовательно концентрируясь. В последней, представленной историей Данте и Беатриче, генезисе «Божественной комедии», кажется, что Мужчина, после долгого спуска в глубину и в сумерки материи, обретает свой потерянный рай в сердце Женщины, которая расцветает перед ним, словно чудесный райский цветок, словно белая роза с тысячью лепестков, из которых исходят волны благоухания и полеты ангелов, подобных рою пчел. Нужно ли добавлять, что существенная часть поэзии XIX века и даже современной поэзии проистекает из этого чувства и этой новой силы, приведенной в движение Данте? Солнечные лучи могут преломляться в бесчисленных оттенках, от темно-коричневого и ярко-оранжевого до лилового и цвета морской волны; но в призме атмосферы, в этом вечно меняющемся калейдоскопе, где они играют, всегда можно узнать душу многоцветия – Свет!
VI. Национальное значение «Божественной комедии». Родина итальянцев
Затронув эту тайну, мы отметили высочайшее универсальное и метафизическое значение творения Данте. Нам остается сказать слово о его значении для Италии.
Данте разделяет с большинством великих наставников человечества трагическую судьбу: его плодотворное влияние осуществилось лишь после его смерти. Знаменитый в свое время, но полностью не понятый в своих основных идеях, как и в своей глубинной сути, он должен был получить после смерти последовательно признание всех частей его труда. Каждый из последующих веков находил в нем все новую красоту, раскрывая все новые стороны, где он мог отразиться сам. В XIV и XV веках церковь одобрила и освятила «Божественную комедию» как апофеоз католицизма, невзирая на ее отдельные смелые идеи и общеизвестные ереси. В XVI веке он стал одним из вдохновителей Возрождения. Ибо его корифеи, такие как Рафаэль и Микеланджело, преданные читатели чудесной поэмы, нашли в ней то, что они сами искали столь настойчиво: первый синтез греко-латинской античности и христианства. Италия XVII века, попавшая под иго Германской империи, эта Италия, раздробленная как никогда, чье национальное чувство почти угасло, была на пути к тому, чтобы забыть своего великого поэта в своем летаргическом сне. XVIII век, антимистический, либеральный и вольномыслящий, неспособный понять «Чистилище» и «Рай», не мог, однако, удержаться от восхищения картинами «Ада», исполненными столь мощного реализма. Что же до синтетических и трансцендентных идей любви к Беатриче и обретении нового неба, они казались навсегда похороненными в могиле итальянской души, подобно останкам несчастного изгнанника в равеннской могиле. Лишь на заре XIX века национальная душа пробудилась в движении Рисорджименто, фигура Данте, восстав из могилы, проявилась во всем своем величии и свете, освещая прошлое, как и будущее, и указывая перстом Италии ее цель, создание новой родины для воскрешения душ и воль. Тогда книга этого великого мистика стала светским апокалипсисом, бревиарием высланных, которые, будучи вынужденными покинуть родину, оказались на дорогах изгнания и за тюремными решетками. Все они взяли за образец эту неуязвимую душу, защищенную своим сознанием, словно непробиваемой кольчугой, и «подобную, как говорит Маццини, алмазу, который можно разрезать только его собственной пылью».
Вот почему Данте можно расценивать как центр, стержень и синтез итальянской души. Ибо он привил ей под печатью универсализма чувство родины идеальной и родины земной.
Глава IV
Гений итальянского Возрождения
Умершая тысячу лет назад восстала
из гроба, свежая, как юная девушка.
I. Два борющихся мира. Эллинизм и христианство
В городе Риме в конце XV века распространилась любопытная легенда. Люди рассказывали, что на Аппиевой дороге, недалеко от гробницы Цецилии Метеллы, ломбардские каменщики в руинах монастыря раскопали саркофаг. На саркофаге была следующая надпись: «Юлия, дочь Клавдия». Каменщики сбежали с драгоценными камнями и украшениями, найденными в могиле. Но в белоснежном гробу лежало набальзамированное тело пятнадцатилетней девушки необыкновенной красоты, чудом избежавшее повреждений. Лицо сохранило краски жизни. Полузакрытые глаза, приоткрытые губы – покойница, умершая тысячу лет назад, казалось, еще дышала. Ее бережно отвезли в хранилище Капитолия, где она стала объектом паломничества. Художники приходили рисовать ее. «Ибо, – говорили хронисты, – она была так прекрасна, что невозможно описать это, а если это описывать, то те, кто ее не видел, никогда не поверили бы». Вокруг прекрасного лица клали цветы и ставили свечи. Ей уже молились, как новой Мадонне. Чтобы положить конец этому скандалу, папа Иннокентий VIII вынужден был приказать ночью и тайно похоронить опасную языческую мумию возле Порта Пинчиана. Но никто из видевших ее никогда ее не забыл.
Джотто. Св. Франциск испрашивает блага грешным.
Фреска. Кон. XIII в. Ассизи, храм св. Франциска
Истории неизвестно, лежали ли в основе этой легенды реальные события. Может быть, народное воображение воспламенила погребальная маска, которой древние иногда закрывали лица умерших, и эта маска давала иллюзию живого. Как бы то ни было, эта легенда чудесно символизирует возрождение античной Красоты в итальянской душе, возрождение, которое стало основным и центральным фактом ее истории, придающим доминанту и особый акцент ее цивилизации. Важнейший факт для истории человеческого духа, столь неотвратимым и быстрым было его распространение. Величественный праздник красоты и изящества, само имя которого – Возрождение – отзывается в каждом из нас, доказывал сам по себе универсальность этого всемирного события, отныне неизгладимого.
Тициан. Венера Урбинская.
1538 г. Флоренция, Галерея Уффици
Это возрождение языческой Красоты, которое должно было вызвать истинную метаморфозу человеческой психе, исходит из самого сердца Италии. Попытаемся же обнаружить феномен, происходивший в коллективной душе Италии в эпоху Возрождения, феномен, слабым отражением которого является легенда о Юлии, дочери Клавдия. Ибо часто великим революциям в подсознании людей предшествует некий центральный образ, предвещающий будущее, который затем проявляется в реальной жизни в бесчисленных эпизодах.
За несколько десятилетий античная красота реально вышла из лимба, а котором она спала, окутанная саваном, в глубокой летаргии. Но как только лимб разверзся, как только саван раскрылся, не тело молодой девушки предстало перед нашими глазами, но живая женщина, которая действует и говорит. Она подобна античной жрице, которая играла роль Персефоны в Элевсинских мистериях, увенчанная нарциссами, подносящая богам нектар в прекрасной чаше. Двойная магия; ибо нектар энтузиазма, который она предлагает своим адептам, опьяняет души и делает их светоносными, а звездный цветок воскрешения, сияющий у нее на лбу, проникает сквозь все вещи своими тонкими лучами. Это преображает Природу, людей и богов. Невидимая для профанов, но видимая для Посвященных, новая Персефона появляется в старой христианской базилике. Сразу все меняет вид. Огромные пилястры взлетают, арки сплетаются в гигантские своды. Бог-Отец, Христос и Богоматерь не исчезают с купола, но освещаются интенсивным светом, обретают плотскую красоту и прелесть. Кажется, что они вышли из-под раскаленного свода и склонились над полутьмой нефа, где растет толпа верующих.
Вне церкви – другое чудо. Радостные могильщики, виноградари и крестьяне откапывают греческие мраморные статуи, торсы Геракла, Аполлона и Венеры, которые поражают скульпторов. Так по примеру Юлии с Аппиевой дороги толпа римских героев выходит из земли и начинает украшать в виде статуй ниши, лестницы, фасады и фризы дворцов. На берегах морей тритоны и нереиды вновь появляются на гребнях волн. Сады вилл вновь населяются нимфами и фавнами. В приходах капелл, как и в будуарах князей, больше нельзя отличить ангелов от амуров. На столе пап серебряные сирены служат ручками хрустальным кувшинам, а вакханки, увенчанные виноградом, окружают золотые блюда кардиналов. Можно сказать, что в удивительном порыве античный мир со всей своей мифологией поднялся на штурм христианского мира и побратался с завоеванным.
Эта картина резюмирует то, чем должно быть Возрождение для человеческого развития. Два противоборствующих мира схлестываются и смешиваются, сражаются друг с другом и сочетаются на сто ладов, чтобы породить новый мир. Между христианским гением и языческой душой произошел не мезальянс, а бурный союз, за которым последовал резкий разрыв. Ибо две силы, воевавшие пятнадцать столетий и на мгновение объединившиеся, должны были грубо разойтись после страстных объятий, чтобы вновь сражаться на других полях и искать новые союзы в иных формах в следующие века. Даже сейчас борьба далека от завершения, и, быть может, она продлится до конца времен, ибо она лежит в основе всякой человеческой эволюции. Но от временного союза эллинизма и христианства в XV и XVI веках родились две бессмертных дочери: итальянская скульптура и живопись.
Чтобы измерить взглядом пропасть, разделявшую христианский дух Средневековья и языческий дух Возрождения, вспомним на мгновение мрачные фрески Кампо-Санто в Пизе, «Триумф Смерти», «Страшный суд» и «Ад» Орканьи, эти процессии мертвецов, эти ужасающие горы трупов, эти пещеры пыток, а затем подумаем о ватиканском Музее древностей, где все семейство Олимпийских богов выделяется на живом алом цвете стен и улыбается в своей мраморной белизне победной улыбкой бессмертных. Или спустимся в крипту Ассизи, где Джотто показывает нам святого Франциска, получающего из рук Христа Бедность в супруги, в то время как демоны осаждают Целомудрие в его крепости, а Повиновение, приложившее палец к губам, окружено коленопреклоненными ангелами, – и посмотрим сразу после этого на «Похищение Европы» Паоло Веронезе и «Венеру» Тициана, эти соблазнительные нагие фигуры, пылающие любовной негой на своем ложе и освещающие весь пейзаж пламенем своего желания.

