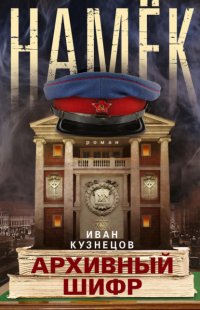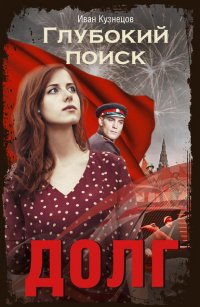
Читать онлайн Глубокий поиск. Книга 3. Долг бесплатно
- Все книги автора: Иван Кузнецов
© И. Кузнецов, 2020
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2020
© «Центрполиграф», 2020
Часть седьмая
Домой!
– Теперь о Таисии. Вы хлопотали о её переводе в ваше ведомство. Это так?
– Готовил рапорт, так. Но…
– А вы что скажете?
– Отдел нейроэнергетики на данный момент не располагает кадрами и не имеет условий для самостоятельного обеспечения нелегального положения Таисии и её нелегальной деятельности.
– Хм! Складно излагаете. Готовились?
– Так точно!
– Ваши предложения.
– Прошу прощения, разрешите кое-что прояснить, прежде чем Кирилл Сергеевич начнёт отвечать? Думаю, часть проблемы сразу снимем.
– Хорошо, слушаем вас.
– Вопрос о полном переподчинении Таисии был поставлен поспешно и несвоевременно. Тут полностью моя вина, признаю ошибку… которая, к сожалению, стоила…
– К делу!
– На данный момент её нелегальная работа более эффективна в тесной сцепке со специалистами по нейроэнергетике. Когда задачи, стоящие перед ней на данном этапе, будут исчерпаны, можно будет вернуть её, провести полноценную подготовку и проработать новое внедрение. А сейчас мы готовы оставить всё как есть.
– Вы, насколько я знаю, неоднократно жаловались на грубые нарушения режима секретности, связанные с таким положением. Что же, вас это перестало беспокоить? Или у меня неверные сведения?
– Верные. Беспокоит по-прежнему, но мы готовы идти на компромисс. Лаборатория всегда шла нам навстречу в решении этого вопроса.
– Компромисс – плохая штука: каждый проигрывает. Кирилл Сергеевич, ваше мнение!
– Возможно, прозвучит неожиданно. Но я провёл совещание… Идея не моя: это коллективное мнение специалистов, которые знают Таисию, её возможности… Вначале – аргументы. Точнее, два основных тезиса.
– Покороче!
– Так точно! Первое. Таисия в целом выполнила задачи, которые ставила Лаборатория. Второе. Она очень нужна здесь. Очень! Мы предлагаем отозвать её как можно скорее.
– Что?!
– Ну хорошо, поясните теперь.
– Таисия набрала колоссальный материал по ведению немцами нейроэнергетической войны. Но большую часть этого материала она не имеет возможности до нас донести, так как… простите, это совсем не в упрёк товарищам!.. Невозможно передать через неспециалиста. Неспециалист…
– Не нужно пояснений: это очевидно. Что ещё у вас?
– Нам очень бы пригодилась её информация. Для этого надо услышать её лично.
– Можем организовать ей встречу на нейтральной территории с одним из ваших специалистов. Это непросто, но возможно.
– Да? А!.. Спасибо. Учтём… Но есть другая причина. Таисия единственная умеет входить в сознание противника. Она подстраивается, входит незаметно. Это называется идентификация. Больше так никто пока не умеет. Кроме того, она изучила способы оккультной защиты немецкого комсостава, так сказать, с близкого расстояния. Только она способна проводить внеконтактное воздействие в сочетании с идентификацией. Эксперименты с ней, проведённые в сорок первом, дали серьёзные, положительные результаты.
– Всё же хотите перевести её на диверсионную работу? Жаль! У неё такой богатый потенциал в добывании стратегической информации, в манипуляции. Поверьте, такая женщина… девушка – большая редкость!
– Но во внеконтактном внесознательном воздействии она вообще уникальна.
– Быстро вы, Кирилл Сергеевич, освоились с терминологией. Когда это вы успели? Там же голову можно сломать!
– Разрешите?
– Говорите.
– От Таисии мы получили подробные характеристики целого ряда сотрудников нескольких отделений «Аненербе». Благодаря этому кое с кем удалось установить контакт; например, получаем бесперебойную информацию о поисковых экспедициях. В этом смысле её задача выполнена. С другой стороны, ею самой добыт ряд ценных сведений, проведена успешная подготовительная работа с некоторыми агентами. В последнее время активно помогаем ей внедряться во влиятельные…
– Мы с Кириллом Сергеевичем в курсе того, что вы докладываете. Вот какое предложение, товарищи. Сейчас отзываем Таисию, выводим из игры и бросаем на внушение. Пусть вкладывает в умы немецких генералов мысли, которые нам надо, чтобы там оказались. А когда войну кончим, отдаём её в полное распоряжение нелегальной разведки: обучите её основательно, без спешки, как следует – и внедряйте. Задачи мы ей тогда и поставим. В интересах отдела нейроэнергетики в том числе. Что думаете, Кирилл Сергеевич?
– Согласен.
– Ну а вы?
– В Берлине она перестала быть для нас обузой, наоборот, мы сработались с ней… Но… Согласен. Разрешите приступить к подготовке эвакуации?
– Приступайте. Не тяните с этим, но действуйте предельно аккуратно: мы не должны её потерять! А вы готовьте ей здесь конкретные задачи. В этом вопросе будете тесно сотрудничать с Генштабом. Только смотрите, чтобы Генштаб не слопал вас со всеми потрохами.
– Слушаюсь!
– Слушаюсь!
Среди дня, улучив момент, я подошла к фрейлейн Линденброк. К разговору с ней я тщательно готовилась и, пожалуй, ещё не испытывала достаточной уверенности, но откладывать на потом уже не приходилось.
– Фрейлейн Линденброк, я хочу поговорить с вами как с горячей патриоткой. Уверена, что из всех здешних оккультистов только вы сможете понять меня правильно, даже если то, что я скажу, прозвучит крамолой.
Глазки у ясновидящей загорелись: вдруг я сейчас и правда наговорю какой-нибудь ужасающей крамолы, и на меня можно будет с полным основанием накатать донос! Всё-таки она отчаянно завидовала, что за мной увиваются молодые люди, завидовала скороспелой славе. Ничего, сейчас остынет.
Я напомнила, что последние месяцы «нас», то есть Берлин, не говоря о других немецких городах, почём зря колошматят с воздуха.
– Наша армия доблестно сражается, наши ПВО всегда действовали на высшем уровне. Тем не менее вражеская авиация по ночам прорывается в самое сердце Отечества и терзает его. Я говорю не только о Берлине, но и о наших промышленных центрах.
Линденброк оставила бесплодные надежды услышать от меня настоящую крамолу и переключилась на деловой лад. Эта женщина так любила свою работу, что научилась оставлять эмоции и личные отношения в стороне, если они могли помешать делу.
С тех пор как ослабло действие эгрегора, я предпринимала попытки выявить резервные системы защиты рейха и его отдельных особо ценных представителей. Защиты, которые не могли не быть активированы нынче. Как ни старалась, мне ничегошеньки не удалось разглядеть. Ольга Семёновна теперь имела возможность «смотреть» и «через меня», и самостоятельно. Однако и та со своим отрядом ничего нового не сумела нащупать. Работать против фашистов им стало легче, и все уже склонялись к мысли, что никакой резервной защиты нет вовсе. Но при этом боевые маги заметно активизировались. Интересно, что скажет Линденброк?
Жёсткие разграничения сфер влияния групп и отделений «Аненербе» стали размываться. Линденброк уже не ограничивалась тайной дружбой с колдунами, а открыто сотрудничала с шестым этажом, и непосредственное наше с ней начальство этому только способствовало. Тем, кто искал спасения в объединении усилий и в слаженных действиях, стало не до личных счётов.
С ясновидящей я, если можно так выразиться, сблизилась, когда нам довелось вместе поработать по визионерской программе, и как коллегу она уважала меня.
– Неужели мы, оккультисты, сдадимся без боя и не окажем помощь военным?!
Кто-кто, а она, фрейлейн Линденброк, такая умудрённая опытом, так ясно видящая, имеющая таких влиятельных друзей среди боевых магов, должна знать, что происходит и есть ли выход!
– Итак, дорогая фрейлейн Пляйс, вы ничего не заметили? Даже вы, с вашей тонкой чувствительностью, с вашей изумительной наблюдательностью! Прекрасно!
Я колебалась: стоит ли поддеть её, сказав, что я зато великолепно замечаю грохот рвущихся бомб и без усилия наблюдаю зарева берлинских пожаров. К сожалению или к счастью, мысли она читала плохо, как всякий человек, которого заботит, как его самого воспринимают окружающие. Так что ей нельзя было просто деликатно подкинуть мысль, не произнося неприятного вслух.
– Что ж, я думаю, вы могли бы принести большую пользу нашему делу. Я поговорю с руководителем проекта о включении вас в сеть.
– Я буду счастлива, если это поможет изничтожить врагов Отечества!
Моя фанатичная любовь к обретённому недавно Отечеству была общеизвестна.
– Ваш энтузиазм похвален, но надо смотреть правде в глаза. Для начала поймать врагов, обезвредить их и лишь затем – уничтожить.
Как бы вытянуть из неё побольше прямо сейчас? Мысленно я прощупывала Линденброк без зазрения совести. Та, в общем, не закрывалась, и кое-какие образы начали брезжить. Как вдруг ясновидящая насторожилась, подобралась, ушла в себя; тут появился запыхавшийся порученец и передал ей срочный вызов на шестой этаж. Линденброк покинула меня почти бегом, даже не пробормотав извинений.
Все смутные образы сразу же развеялись: вступили в действие мощные экраны, которых без настройки через Линденброк мне было не преодолеть. Зато шестой этаж открылся – прямо-таки нараспашку.
Такой концентрации энергии в вотчине боевых магов я ещё не наблюдала. То ли не проводилось прежде столь крупной операции, то ли экран мешал. Строчка одной из любимых революционных песен: «Вихри враждебные веют над нами» – приобрела самый буквальный смысл. Тёмная энергия прибывала, клубилась и закручивалась в знакомый мне по участию в неприятно памятных колдовских сеансах прямой воронкообразный вихрь, который, когда окончательно сконцентрируется, будет направлен магами на определённую, известную только им цель.
Нелишним будет предупредить наших! Быстрее и проще всего – чтоб сами увидели. Я сосредоточилась, чтобы одновременно вызвать Ольгу Семёновну – и удержать внимание на действиях магов. Не так просто, поскольку работали сразу несколько видов защиты, в том числе защита рассеиванием.
Но тут я заметила то, из-за чего срочно вызвали даже Линденброк, не имевшую выраженных способностей к боевой магии…
Между прочим, нельзя сказать, что Линденброк могла только «видеть» и не умела воздействовать. Постепенно я узнала, что она очень серьёзно изучает ведьмовство и практикует. Но с большими массами энергии, с сильными потоками она по-прежнему не могла работать, от чего страдала. На коллективные сеансы её редко приглашали. Только если аврал и свистать всех наверх – как нынче…
К зданию «Аненербе» подходили души. Спокойно, не торопясь, не скрываясь, без страха, без сопротивления. Опускались сверху, приближались с разных сторон, всё плотнее окружали место сосредоточения тёмной энергии. Они светились, но выглядели совсем не так, как знакомые мне солдаты небесного воинства. Эти были утончённые, чистые до прозрачности, будто хрустальные, и свечение от них исходило тонкое, белоголубое. Несмотря на тонкость энергетики, они были полны силы. Кто они – я не знала и не догадывалась.
Что они сделали, точно не скажу. Они всё подходили, и постепенно стало заметно, что их больше, чем тьмы. Тёмные вихри были плотно окружены собиравшимся бело-голубым свечением. Некоторые души вошли в этот тёмный поток – по-прежнему неторопливо, без напряжения, словно и не замечая. Происходившее стало затягивать белёсой светящейся завесой, как если бы раскалённое вошло в соприкосновение с холодным, и заклубился пар.
Я оставалась в коридоре с видом на лестничную клетку и с интересом наблюдала, как ожило и засуетилось «Аненербе». Кто-то торопливо прошагал по коридору. Кто-то заглянул в рабочую комнату, вызвал кого-то оттуда, и они заговорили оживлённым шёпотом. Кто-то, стуча каблуками, пробежал по лестнице… Когда пометёшь по углам веником, так тараканы начинают бегать – стараясь сохранить деловитое достоинство, но суетливо и несколько растерянно.
Потом всё замерло в напряжённом ожидании. Завеса постепенно развеялась, энергетика в здании и вокруг была спокойной, как будто ничего вовсе не произошло. Линденброк вернулась только для того, чтобы забрать сумочку, и молча ушла. Никто и головы не поднял, но я-то посмотрела на неё внимательно. Страшное дело! Лицом, движениями, энергетикой она производила впечатление глубокой старухи. И не сказать, чтобы у неё что-то отняли, забрали. Такое впечатление, что, наоборот, вернули… Больше она так и не появилась до конца недели.
Вечерами город насторожённо затихал в ожидании ночного кошмара. В этом году немцам и весна была не весна: не радовали ни первоцветы, ни зелёные почки, ни тепло. Но я наслаждалась городской весной. Вечерами возвращаться со службы в не успевший ещё прогреться, серый и по-прежнему необжитой гостиничный номер было не так уж весело. Правда, там, в номере, меня ждала интересная работа: систематизировать всё, что произошло за день; разложить по карманам памяти всю полезную информацию, разобраться, что из намеченного удалось сделать, а что – нет и по каким причинам. Чтобы разогнать сумрак, можно сделать практики. Если воздушная тревога, можно пойти на улицу, постоять, посмотреть. Но я, увлекшись делом, частенько игнорировала предупреждения, а служащие гостиницы насильно в бомбоубежище уже не гнали.
Из дома мне в конце года передали официальное распоряжение, что я перехожу в полное подчинение Герману, должна согласовывать с ним свои действия и планы и именно с ним советоваться по любому возникшему вопросу. Связь с девчонками оставалась раз в неделю – для подстраховки, ну и экстренные вызовы, если что. Тем не менее на деле на связь со мной выходили чаще: иной раз, как и прежде, старшим товарищам требовалось что-то посмотреть «через меня». Иной раз Ольга Семёновна или девочки проверяли, где я, как я, и обязательно «чистили», подкачивали энергией. Так что я могла бы и не делать регулярных вечерних практик. Но они прекрасно поднимали настроение, приводили чувства и мысли в состояние рабочей уравновешенности.
Однако я и по дороге не тратила время впустую.
Из-за разрушений, вызванных бомбардировками с воздуха, транспорт в городе стал работать с перебоями. Возвращаясь с деловых свиданий или из Далема, я была вынуждена волей-неволей проходить пешком большие отрезки пути: лучше, чем ждать автобуса и разбираться в очередных временных переменах маршрута. Энергетические каналы, как обычно, открыты, восприятие обострено: надо своевременно уловить опасность или интересную информацию. Волей-неволей «слышишь» мысли прохожих или тихие разговоры за стенами домов, за плотными шторами затемнения.
С начала массированных и последовательных английских налётов Берлин опустел едва ли не на четверть: детей и неработающих женщин постарались вывезти в сельскую местность. Зато в оставшихся жителях были так заметны перемены!
За окнами жилых домов, скрывшись от посторонних глаз и ушей в своих квартирах, люди желали – мысленно и шёпотом – сдохнуть Гитлеру и его своре. Люди ужасались тому немногому, что привелось случайно узнать о злодействах фашизма. Ну и себя, конечно, в первую очередь жалели, что давно уж позабыли о нормальной жизни. Стали думать, что родные убиты или покалечены войной понапрасну, зазря. Идёшь по тёмным улицам в одиночестве; без усилия, мимоходом слушаешь мысли обычных людей – и вдруг понимаешь, что стало много тех, на кого уже не действует наваждение нацизма. Не большинство, но много; и с каждым днём больше тех, кто способен ему противостоять.
Вместе с тем страшные дела, которыми питался и цементировался эгрегор, творились всё энергичнее и становились всё страшнее, из-за чего зловещая энергетика в городе не рассеивалась, а только сгущалась…
Незнакомый военный ожидал меня в холле гостиницы. На непроницаемом лице этого человека были живые, выразительные глаза.
В последнее время мне встречалось всё больше немцев с живыми глазами – будто с них спала пелена. Ещё одно свидетельство того, что эгрегор слабел. Конечно, надо учесть, что я жила среди немцев уже достаточно долго, чтобы привыкнуть и научиться более тонко чувствовать представителей этого народа. И всё же: повышалась проницаемость энергетики каждого, каждый немец опять оказывался сам по себе и был вынужден начать самостоятельно думать и чувствовать. То есть действительно оживал, выходя из тяжёлого коллективного забытья.
Особенно интересно было наблюдать за военными. Всех их, а особенно командование, успешно прикрывала защита, которую я называла «защитой принадлежностью». Простая и надёжная, она состоит в том, что эгрегор поглощает любое воздействие, направленное на данного конкретного человека. Прекрасно работает при строгой дисциплинированности и включённости в жёсткую иерархическую структуру военной организации. Условие одно – искреннее доверие и добровольная преданность эгрегору. Так вот, число военных всех рангов, как следует прикрытых защитой принадлежностью, в последнее время стремительно сокращалось. Первой ласточкой этой затяжной и трудной весны стал для меня ещё в сорок третьем мой знакомец – генерал, пожелавший выгодно продать иностранной разведке себя и секреты, которыми владел. Теперь такие самостоятельные встречались всё чаще.
Военный передал мне письмо, надписанное знакомым почерком. При этом он внимательно изучал выражение моего лица, стремясь предугадать мою реакцию на то, что собирался сообщить. И на содержимом конверта, и на мыслях незнакомца уже лежала печать произошедшего, и она уже была вскрыта мною. Однако не было нужды демонстрировать этому случайному человеку свои сверхспособности, да и желания не было. Пусть сам расскажет. Пусть сообщит те подробности, которых я, возможно, не считала.
– Это письмо передано для вас Ульрихом Эдмайером.
– Я узнала его почерк.
Военный коротко кивнул. Его мысли сосредоточились на другом.
– Письмо написано позавчера. Ульрих надеялся на ответ и оставил для вас адрес госпиталя. Но вчера – перед самым моим отъездом – Ульрих умер от раны.
Собеседник так волновался, выполняя неприятную миссию, что забыл рассказать основной сюжет всей истории – или думал, что я и так в курсе дела?
– Как это произошло? – спросила я, не считая нужным изображать скорбь.
Веселья я тоже не испытывала: что ж хорошего в гибели человека? Однако меня охватило нешуточное волнение: вспомнилось пророчество, произнесённое моими же собственными устами ровно год назад.
– Мерзавцы поляки заминировали дорогу и подорвали два автомобиля с членами комиссии по эвакуации ценностей. Они орудуют в Эстонии, как у себя дома, подумайте! Двое погибли на месте, другие ранены. Повезло ехавшим в третьей машине. Я из их числа.
Всё, как я предсказывала! Было от чего волосам на голове зашевелиться!
– Гауптштурмфюрер был тяжело ранен, в живот. Целую неделю врачи старались спасти его. Он очень страдал. Он несколько раз говорил о своём желании написать письмо родителям, однако не мог ни сидеть, ни лёжа удержать карандаш в руке. Он вёл себя мужественно и был готов к смерти.
По крайней мере, Ульрих знал наверняка, что смерти нет.
– Но позавчера неожиданно почувствовал себя лучше. Ему достало сил написать только одно письмо – вам. Родителям он собирался написать позже, однако вскоре впал в забытьё. Его последние часы были ужасны…
В глазах собеседника действительно заметался ужас: не хотел бы он в свой час принять такие же мучения. Едва он касался мысленно этой темы, как начинал успокоительно повторять себе, что застрелится, если сам будет тяжело ранен.
– Возможно, в этом письме найдётся что-то, что вы могли бы передать родителям Ульриха в качестве последнего привета?
Ох уж эти немецкие сантименты!
– Если только что-то найдётся, я передам, – заверила я.
Он едва не просиял: так не хотелось беседовать с родителями погибшего! А я знала уже, что мне не придётся выполнять обещание.
Что же такого хотел сказать именно мне Ульрих на смертном одре? Оставшись одна, я с нетерпением вскрыла конверт.
«Ты не должна больше делать это. Ты не предсказываешь, а создаёшь события. Если я всё же выкарабкаюсь, выйдешь за меня, так как мы – идеальная пара. Дождись меня, не отдавайся слюнтяю Эриху».
Конечно, Ульрих, и находясь на грани между жизнью и смертью, предпочёл вначале написать деловое письмо, а родителей оставить на потом…
Внезапно припомнилась недавняя беседа с Ульрихом о литературе, оказавшаяся последней. Он, по старой памяти, подсовывал мне читать то статьи, то книги и с нетерпением ожидал моей реакции, но мне всё чаще приходилось его разочаровывать. Так вышло и на сей раз: пришлось с равнодушным вздохом вернуть бывшему наставнику «Фауста».
– Не обижайтесь, Ульрих, но после контактов с подлинным инфернальным миром все эти выдумки блёклы и неубедительны.
– Фрейлейн Пляйс, не разочаровывайте меня! Неужели вас не тронула глубокая философия, заключённая в этом великом произведении?
– Дорогой господин Эдмайер, да вы прекрасно знаете на собственном опыте, что реальное погружение в мир духов отодвигает на задний план массу бесполезных философствований!
Ульриху оставалось только согласиться: он не меньше меня любил работу на тонком плане бытия и так же сильно ощущал её пленительную достоверность.
– Поэтому-то меня в своё время так поразил «Лесной царь»! – добавила я, чтобы доверие между нами не пострадало. – Обратите внимание, там нет никакой философии – одна голая и страшная правда тонкого мира!
По правде говоря, не стоило читать «Лесного царя» на ночь, а лучше было не читать вовсе: после тяжёлого опыта общения с тёмными силами он заглянул в самую душу. Я тогда быстро вышла из тяжёлого состояния лишь благодаря тому, что пропела про себя несколько любимых песен, самых бодрых и весёлых.
– Хайке! Вы необыкновенно умны! Но компания, которую вы себе выбрали, портит вас, тянет вниз.
Члены «команды» по разным поводам заезжали за мной в гостиницу. Вышло само собой, что Ульрих со всеми перезнакомился. Чтобы бывший наставник не чувствовал себя отодвинутым в сторону, я несколько раз приглашала его на сборища «команды», и однажды он из любопытства даже почтил легкомысленное молодёжное мероприятие своим присутствием. Ульрих был не намного старше остальных, но счёл ниже своего достоинства впредь оказываться в компании младших по званию, возрасту и служебному опыту. Ещё ему было неприятно, что большинство моих приятелей – отпрыски богатых и влиятельных семей. Он происходил из самой обычной и всего добивался сам – не считая скромной, по сути, помощи дядюшки.
Мне ничего не оставалось, как принимать ироничный тон и дистанцироваться от «команды» при обсуждении с Ульрихом.
– Конечно, вам необходимо завоевать определённое положение в обществе. Вашим талантам требуется достойная оправа – я вполне способен понять.
Ульрих говорил искренно: он был готов понять всякого, кто стремится сделать карьеру любыми средствами.
– Но прошу вас, пропускайте вы мимо ушей недалёкие рассуждения этих барчуков. Мы с вами – из другого теста. Не гонитесь за мишурным блеском, не предавайте собственной природы!
Бедный Ульрих! Он, возможно, успел бы сделать карьеру до падения рейха, если бы не был слишком старательным, слишком занудно-правильным.
Лишь его последнее письмо открыло, что он давал мне советы относительно «барчуков» не вполне бескорыстно: бродили у него, оказывается, мысли, что нам неплохо бы объединиться и делать карьеру семейным дуэтом. Но мысли эти были столь расплывчаты, что не считывались и только в последний день жизни достаточно оформились.
Ульрих, в самом деле, старательно, с первого дня занимался развитием не столько моих оккультных способностей, которые и так были не ниже его собственных, сколько интеллекта.
Вспомнилось не без содрогания, как он настаивал, чтобы я читала строго запрещённых Фрейда и Левина. В текстах, набитых под завязочку тяжеловесными, но глубокими рассуждениями, я понимала от силы треть. В принципе, было интересно, но страшно жаль тратить время. Я тогда вела активные мысленные трансляции для своих, посвящая этому и вечера, и часть ночи. Однажды, чуть не плача, заглянула в комнату Ульриха.
– Я – полная бездарь, не понимаю! Тут на одном развороте десять определений одного и того же, и все разные.
Хитрость удалась: наставник быстро и просто изложил суть книги, над которой я билась бы ещё долго.
– И не вздумайте впредь называть себя бездарью! Эти хитрые евреи специально запутали всё до предела – чтобы спрятать основной смысл собственных открытий.
– Зачем же тогда публиковать книги?!
– Хайке! Вы пока ещё так трогательно наивны! Извращённое мышление представителей их нации без труда пробирается сквозь подобные смысловые дебри. Знание для своих – вот что это такое. Но они, разумеется, недооценили немцев…
До того, как пришлось стать немкой в нацистской Германии, я не умела различать национальную принадлежность людей и не понимала, зачем нужно это делать. Ульрих настойчиво учил меня разбираться в этом вопросе…
«Благодаря» его урокам я впервые поняла, что еврейкой была наша Сима. Горячая, решительная, она была готова прийти на помощь в любое время дня и ночи. Её братья ушли на фронт с первых дней войны. А то, что Серафима частенько хитрила со мной и аккуратно за мной наблюдала, – так это было частью моей подготовки. Спасибо ей за эту трудную и неблагодарную работу! Если б тогда я не натренировалась быть постоянно начеку: не доверяться, не подумав, проверять любую информацию и вникать в смысл любых предложений – каково мне теперь работалось бы и жилось?! Я не сомневалась: случись что – Симка первая бросится спасать и защищать…
Не только идеалисту Эриху, но и своему наставнику я задавала вопрос:
– Как же распознать подлинного немца? Что нас отличает от всех остальных наций в мире?
– Взять вас, Хайке. У вас, помимо врождённых способностей, есть вкус, есть здоровое, не извращённое чувство прекрасного. Ваша любовь к немецкой поэзии – тому доказательство. Как вы слушаете стихи!
– Мне в самом деле очень нравятся стихи, и вы так вдохновенно читаете!
Он действительно выбирал, как правило, сильные стихи, чтобы прочитать вслух, но во вдохновенном исполнении Ульриха было куда больше пафоса, нежели чувства и души…
Этого человека, который многому научил меня, с которым много увлекательной работы проделано совместно, хотелось проводить в последнюю дорогу если не добрым чувством, то хотя бы хорошей мыслью, добрым воспоминанием. Но по-настоящему душевного воспоминания всё не подворачивалось, зато припомнилось, как совсем недавно они на пару с Рупертом увлечённо обсуждали «неполноценные» нации, с территории проживания которых немцы активно вывозили ценности, в том числе оккультные, и как восклицали попеременно: «Им невдомёк, какое сокровище они держали в руках!»
– Нужно было не обирать и подавлять, а, напротив, одаривать и помогать, как пристало высшей расе! – громко ораторствовал Эрих заплетающимся языком.
Я с силой пнула его ногой под столом. Как знать, если что-то пойдёт не по плану и я останусь, мне ни к чему лишние неприятности из-за крамольных речей приятеля, на которые кто-нибудь из соперников-собутыльников может запросто донести.
В который раз подумалось: неужели Эрих – парень с умом и с сердцем – не испытал бы уважения к моим соотечественникам, не полюбил бы моих подруг, товарищей, если бы познакомился с ними поближе?! Неужели не отбросил бы прочь мёртвую, пустую идею расового превосходства?
Такие мысли много раз дразнили меня при общении с теми фашистами, которым хотелось симпатизировать. Но не в моей тогдашней власти было сдёрнуть с них шоры, мешавшие понять, и почувствовать, и полюбить хоть кого-нибудь, кроме несравненных и избранных немцев.
Эрих замер на полуслове, а затем медленно сфокусировал на мне взгляд, полный немого обожания. В его хмельном сознании рождались фантазии: что дальше подарит ему недоступная Хайке после столь тесного и чувствительного прикосновения её милой ножки? Я невольно усмехнулась и, глядя молодому человеку в глаза, чётко протранслировала: «Ну разве что подзатыльник!»
«Команда» моя надиралась с необычной стремительностью. Пиво исчезало кружка за кружкой, как всегда, но громкие, весёлые голоса моих спутников слишком быстро начали произносить бессодержательные речи. Какой-то бессвязный спор вспыхнул. Эрих, боевито глянув на меня и развязно подмигнув, привстал и полез было в драку с Йозефом, но упал обратно на стул, совершенно без сил. Остальные двигались вяло, как в замедленной съёмке, и бормотали всё тише. Что с ними?..
Когда мы планировали поездку сюда, в Зальцбург, каждый понимал, что такое дальнее увеселительное путешествие может оказаться последним…
Об истинном положении на фронтах я знала благодаря Герману, который подробно рассказывал при встречах о наших успехах и трудностях, о продвижении союзников, о крупных поражениях немцев. Шагреневая кожа «Великой» Германии неотвратимо сжималась…
Фашистская пропаганда ещё всячески старалась скрыть масштабы как территориальных, так и военных потерь, но в офицерской среде правдивая информация распространялась почти беспрепятственно. Мне поклонники своей паршивой военной тайны не выдавали – думаю, от стыда. А сами ожидали с замиранием сердца, когда подойдёт их очередь идти на фронт: резервы армии стремительно истощались.
Закидывая удочку насчёт поездки, я как раз рассчитывала на эффект «последнего шанса». И они дружно «клюнули». Скоро станет уже вовсе не до веселья. Я гордилась и радовалась, что, следуя инструкциям Карла, сумела незаметно подвести «команду» к решению, которое теперь каждый считал чуть ли не собственной гениальной идеей. Для верности я ещё добавила от себя внеконтактное внушение персонально каждому из поклонников.
Если бы они всё же не «клюнули», я, разобиженная, назло им поехала бы в Зальцбург одна, поездом…
Долго удивляться не пришлось. Зная, в общих чертах, что должно произойти, я быстро сообразила: спутники мои пьют пиво, в которое добавлен какой-то препарат, подавляющий умственную и физическую активность. Я с сомнением посмотрела на собственную кружку, из которой успела за прошедший час сделать несколько глотков, тем самым почти исчерпав свой дневной лимит. Прислушалась к ощущениям и на всякий случай запустила сознательный процесс очищения крови от вредных химических примесей.
Мужчины начали сползать со стульев. Теперь – моя партия. Я должна разыграть нехитрый спектакль.
Растерянно оглядев кавалеров, я нерешительно поднялась со стула, снова села. Посидела в задумчивой рассеянности, грея руками ещё прохладную кружку. Стала бессистемно озираться по сторонам в поисках совета и помощи. Брови – домиком, я готова вот-вот расплакаться. Народу в кафе хватало, но первым заметил мою молчаливую мольбу о помощи, как ему и положено, пожилой бармен, он же – хозяин маленького заведения. Подошёл, деликатно помедлил с вопросом.
– Мы приехали издалека, – пролепетала я, – а господа офицеры… Я – порядочная девушка. Я не ожидала от них…
Бармен вежливо слушал, не перебивал.
– Как мне теперь быть?! – воскликнула я. – Скажите, это… состояние у них долго продлится? По вашему опыту…
Хозяин заведения сочувственно вздохнул:
– Господам офицерам придётся хорошенько выспаться, прежде чем они смогут продолжить путь. Я распоряжусь, чтобы их устроили поудобнее. Не принести ли вам пока что-то поесть?
Я задержалась с ответом. Стоит ли форсировать ситуацию, подчёркивая растерянность и нетерпение, или надо взять паузу?
– Я хотела бы скорее уехать отсюда… Но… Пожалуй, принесите, – попросила я. – Ума не приложу, как же мне добираться теперь до дому…
В кафе вошли новые посетители, и хозяин поспешил им навстречу, отложив на потом расспросы и советы.
Между тем он не забыл своего намерения убрать «господ офицеров» подальше с глаз. Усадив новых посетителей и приняв заказ, он вместе с худосочным официантом принялся перетаскивать – по возможности почтительно – моих приятелей на диван, в глубину заведения. Те бормотали что-то, но не очнулись, и вскоре все четверо спали полусидя на диване, с вытянутыми по полу ногами. От пьяных их было не отличить!
Мне принесли еду, и я вяло ковырялась вилкой в простеньком, из консервов приготовленном, блюде. На самом деле от волнения у меня проснулся страшный голод, но я считала полезным изображать томную встревоженность и не набрасываться на еду.
Оставшись одна за столом, который официант прибрал и протёр, я пересела так, что могла наблюдать и вход, и окно, и большую часть зала. Сбоку в поле зрения попадал и тот самый диван. Странно было сознавать, что я вот-вот расстанусь с этими людьми навсегда.
Взгляд невольно задержался на Эрихе. Его лицо в тяжёлом, искусственном сне стало мягким и несчастным. Я как будто снова видела Эриха лежащим на полу самолёта и страдающим от укачивания… Скоро немецкое командование с убывающими резервами мобилизует и бесполезных теперь учёных. Переживёт ли Эрих войну? Если да, что с ним станет после окончательного поражения Германии? Ударится в бега? Останется? Сможет ли хоть что-то понять и переоценить?
Мне внезапно захотелось подойти и поцеловать моего ласкового, страстного, наивного поклонника прямо в губы. Так, как мы в России целуем при встрече и расставании: в губы – после двух щёк. И вложить в этот короткий, крепкий поцелуй всё, что могла бы рассказать и объяснить.
Пустое! Эрих сам выбрал нацистскую веру и знамя фашизма и не выскочит за рамки своих убеждений.
Если только потрясения, которые ждут впереди, перекроят его сознание. Я уже не узнаю. Всё же я, не верующая и не знающая ни единой молитвы, приподняла ладонь и совсем неприметно перекрестила человека, искренно любившего меня, – ровно так, как сделала бабушка, провожая меня в Ленинград.
И вздрогнула от того, что рядом со мной выросла крупная, высокая фигура. Я давно заметила Германа, сидевшего за столиком в дальнем, самом тёмном углу, но не знала, что тот предпримет и в какой момент. При всём моём ученическом трепете перед ним, я не боялась, что он заметил мой прощальный жест в сторону Эриха: движение руки было микроскопическим, скорее, мысленным, и требовалось умение считывать мысли, чтобы что-то уловить. А он не обладал таким умением. Кроме того… Кроме того, он вряд ли стал бы отчитывать меня напоследок. Ведь с ним я тоже расстаюсь. Как знать? Возможно, надолго, но нынче кажется – всё равно что навсегда.
– Фрейлейн, вы ищете способ вернуться в Берлин?
– Да, мне же завтра с утра на работу!
Я старалась говорить с неуверенными интонациями, но достаточно громко, чтобы быть услышанной посторонними. Получался такой взвинченный голос, с нотками истерики. Дальше я будто спохватилась:
– Но как вы узнали?!
– Речь. Ваша речь выдаёт вас с головой, разве вы не знали?
– Я как-то не задумывалась…
– Идёмте, я провожу вас до вокзала, и мы посмотрим, на какой ближайший рейс получится купить билет. Следует поторопиться!
Не теряя ни секунды, Герман подал мне согнутую в локте руку, на которую я оперлась, едва успев подхватить пальто и сумочку и на ходу уже лепеча, что мне неловко его затруднять, но я так благодарна…
Через несколько дней Германа, вполне вероятно, будут искать по всей стране. По описанию очевидцев и по собирательному портрету. Для изменения внешности он только усы отпустил или наклеил да сделал что-то со щеками: они слегка надулись и обвисли. Всё равно заметный. Как он намерен выкручиваться?! Я сделала то, что могла: закрыла нас «зеркалом». Но может и не сработать: есть люди, слишком приземлённые и трезвомыслящие, которые видят сквозь «зеркало» как ни в чём не бывало. Я и потом подержу над Германом «зеркало» – пока не почувствую, что его энергетика из-за этого слабеет…
– Ты подвыпила! – прошептал Герман, как обычно, мне в макушку.
Я споткнулась, повисла на его руке, рассмеялась. Все должны видеть, что одна, без провожатого, я бы не справилась… Безусловно, нас и под «зеркалом» видят и слышат, когда мы так заметно себя ведём. Другой вопрос, что не должны фиксироваться на лицах, голосах, особых приметах… Он ухитрился и открыть дверь, и придержать, и очень вежливо вытащить в эту дверь меня вместе с моим зацепившимся за дверную ручку пальто. Я не надела пальто, чтобы не тратить времени: Герман спешил уйти, пока никто другой не подскочил со своим вариантом помощи юной фрейлейн.
Солнце! Весеннее солнце заливает улицу, озорно заглядывает в глаза. Невольно опустив их, я вижу свои изящные ботинки с крупными полусферическими пуговицами по боку… Я выбрала их в берлинском магазине ещё в начале сорок третьего, они страшно нравились мне – элегантные, модные, удобные… Ногам тепло, а тело сразу прохватил холод. Одеваться по-прежнему некогда. Холод нисколько не беспокоит меня. Пронизанный солнцем холодный воздух кажется мне воздухом свободы. Я щурюсь от солнечных лучей и заливаюсь неподдельным смехом. Пусть Герман думает, будто я по-прежнему разыгрываю неумело подвыпившую барышню, но я по-настоящему счастлива! Я уже чувствую, что всё будет хорошо…
Некоторое время назад девчонки передали, что Герман вызывает меня на внеочередную встречу. Такое бывало и прежде и, само по себе, не являлось поводом для волнения. Но на встрече я услышала то, чего меньше всего ожидала и что взволновало меня до глубины души: меня отзывали в Москву! Впервые за время знакомства Герман общался со мной без излишней строгости, даже тепло. Он объяснил, что к моей работе претензий нет, но на родине меня ждёт важное и срочное дело. Меня постараются увести так, чтобы осталась возможность впоследствии внедрить в ту же среду: пропажу без вести и неожиданное воскрешение война спишет вчистую! Германию бомбят вовсю, уж одного этого достаточно, чтобы написать сценарий моих псевдозлоключений.
План операции Герман рассказал мне лишь в общих чертах, но не раскрыл деталей – для того, чтобы я была в случае чего готова к импровизации.
Зачем в план моего исчезновения включили компанию немецких офицеров? Я была вполне самостоятельной, могла уйти и уехать, куда нужно, одна – никто бы не удивился. И не пришлось бы опаивать моих спутников. Ведь, когда те очнутся, удивятся, как все четверо так слаженно перепились в хлам… Что ж, недобродившее пиво, бравада, молодой разгул. Зато к фрейлейн Пляйс меньше вопросов. Зачем поехала в такую даль? За компанию.
Герман коротко предупредил:
– Если попадёмся, вы – жертва похищения. Я обманул вас, а затем напугал и заставил идти со мной. Вы решили, что я – озабоченный и намереваюсь насильно склонить вас к интимной близости где-нибудь в укромном месте. Всё ясно? Справитесь?
Ещё бы! У меня и опыт имелся такого лженасилия. Я представила весьма явственно крошечную брезентовую палатку среди камней: тьма – хоть глаз коли, холод, неуклюжее сопение и беспорядочные жаркие прикосновения малознакомого мужчины… Передёрнуло, хоть я именно в эту минуту окончательно поверила догадке, мелькавшей прежде: Гуляка полез ко мне, чтобы подкрепить легенду и создать надёжное эмоциональное прикрытие. Монахи считали мой страх, моё отвращение к этому человеку. Лучшее подтверждение: мы – не заодно, не в сговоре. И всё же от воспоминания о том, как он полез ко мне в палатке, снова передёрнуло.
– Справлюсь, – заверила я.
– Вы должны твёрдо стоять на этой версии. Никаких уступок! Это ясно?
Вполне. Это я умею. Я сразу стала мысленно прикидывать, какую информацию о нынешнем дне и о подготовке к нему следует отсечь и убрать в потайной карман памяти… Если предстоит оперировать полуправдой, то всегда полезно наметить заранее не только то, что ты сообщишь, но и то, о чём обязательно следует умолчать. Первое допускает импровизацию и вольные пересказы. Второе требует детальной проработки и полного, строгого сокрытия…
Подумать только! Как много мне удаётся припомнить методик, которыми пользовалась. Гораздо больше и легче они вспоминаются, чем факты. За фактами приходится гоняться по самым темным и захламленным закоулкам памяти. Сама же подшивала эти потайные карманы!..
Изрядно попетляв по улицам, мы в конце концов набрели на машину, оставленную для Германа, и тронулись в путь. Умом сознавая опасность операции, в душе я совсем не тревожилась и верила, что всё кончится хорошо. Были волнение, возбуждение, какие всегда сопутствуют началу нового, малознакомого, но желанного дела.
Весь вечер мы ехали узкими и извилистыми шоссейными дорогами, избегая магистралей и популярных трасс. Среди аккуратных деревенек и городков с каменными и фахверковыми домами, с живописными даже ранней весной палисадниками мы не встретили ни одного патруля или кордона. Постепенно мы забирались всё выше в горы. Третий раз за два года горы служили мне местом перехода из одного мира в другой. Может, когда-нибудь мне и умереть приведётся в горах?
Узкую дорогу плотно обступил густой еловый лес. Узкие, неправдоподобно высокие деревья напоминали колонны готического храма. Дорога через каждые три минуты делала крутой поворот и полого ползла вверх. Настала чёрная, глухая ночь – ни луны, ни звёзд, только слабый отсвет снега. Герман не снял щелей с фар, и они высвечивали впереди только небольшой участок дороги. Асфальт давно сменился щебнем, а кое-где проступали голые каменные плиты. Лес начал редеть, мельчать: мы выезжали на перевал. Здесь стало светлее. Герман совсем выключил фары, и автомобиль теперь еле полз в темноте. Клонило в сон, он постепенно побеждал волнение, но я решила бодрствовать из солидарности с Германом.
Потом – то ли я всё же задремала, то ли в ночной тьме не заметила перемены, а только вдруг обнаружилось, что мы снова быстро катим по лесу – на сей раз вниз. Под шинами шуршали камешки. Я так привыкла к покачиванию и тряске, к звуку работающего мотора и шороху камней под шинами, к ощущению движения, что внезапная остановка стала неприятным сюрпризом.
– Добрались, – с нескрываемым облегчением произнёс Герман.
После нагретого радиатором салона промозглый горный воздух показался невыносимо холодным. Я сильно задрожала – и не понять: от холода или от волнения. Огляделась.
Небо слегка посветлело, и верхушки елей обозначились чёткими контурами, но далёкие скальные пики ещё сливались с сумраком. Суровый горный лес обступил небольшую площадку, усыпанную щебнем. Здесь проезжая дорога заканчивалась, и начиналась тропа среди деревьев, которая тонула в темноте.
Как раз когда я вглядывалась в тропу, на ней произошло какое-то движение. Я вздрогнула от неожиданности, и Герман успокоительно сжал мою руку, что было совсем для него не характерно. Из-за стволов вышел человек. Незнакомец быстро обменялся с Германом короткими фразами. Пароль и отзыв. Значит, и Герман видит этого парня впервые в жизни. Австриец теперь оказался на расстоянии вытянутой руки, и я разглядела, что он одет мешковато, по-деревенски – для удобства, а не для фасона, что лицо его густо покрыто неухоженной, во все стороны топорщившейся растительностью. Про молодой возраст я, скорее, догадалась – по голосу, по ощущению. Парень молча протянул Герману объёмистый свёрток. Герман так же молча кивнул и тихо обратился ко мне:
– Ступайте в машину, там переоденетесь.
Говорят, жизнь переменчива. Да нет же! Жизнь терпеливо предлагает тебе раз за разом пройти один и тот же урок – с небольшими вариациями. Я ведь знала, что придётся переодеваться, но опять у меня выскочило это из головы, как в далёкий памятный день на китайской границе!
С лёгким содроганием от отвращения облачилась я в чужое разношенное тряпьё. Невероятно жаль было расставаться с любимыми ботинками, купленными в Берлине, – фасонистыми, тёплыми и удобными! Но куда ж в них по горам?! Пришлось влезть в бесформенное, растоптанное нечто, сшитое едва ли не вручную, зато идеально подходившее для скользких каменистых склонов, тропинок, пересечённых узловатыми древесными корнями, и заснеженных перевалов… Н-да, в далёком отсюда сорок втором тибетские вещи были тщательно продуманы и подготовлены специально для меня, облачаться в них было даже приятно… Всё же я решила рискнуть: сунула ботинки в освободившийся вещмешок и, вылезши из машины, протянула его Герману:
– Можно?
Подумав, тот согласился.
Расставаясь на неопределённо длительное время, а быть может, навсегда, мы с Германом со странной будничностью пожали друг другу руки. Мне кажется, он всё же рад был избавиться от связанных со мной, совсем лишних для него хлопот, хотя лично ничего против меня не имел. Я освежила поставленное ему «зеркало». Подержится несколько дней, потом само рассосётся.
Рассвело. Насупленный проводник, не сказав ни слова, повернулся спиной и зашагал по хорошо натоптанной тропке сквозь лес – не такой уж густой, не такой уж и мрачный. Парень не закрывался, и информация о нём читалась легко. Он был далёк от идейной борьбы с фашизмом – и от деятельности всех разведок мира – просто зарабатывал деньги, проводя желающих тайными тропами. До войны он имел дело, главным образом, с контрабандистами. Теперь же освоил иной круг задач. При всём том было понятно, что он не сдаст, если попадётся, станет отпираться и молчать до последнего, так как больше всего на свете дорожит репутацией надёжного проводника – источником своего благосостояния. А благосостояние для него дороже жизни.
Проводник шёл не оглядываясь: ему достаточно было слышать позади шаги и дыхание. С невольным вздохом я вновь вспомнила Гуляку.
Несколько раз мы миновали развилки. Тропа, которой мы теперь придерживались, забирала выше. В принципе, ощущалась нехватка кислорода, но не столь существенная, чтобы причинять заметные неудобства. Лес поредел, измельчал и скоро кончился. Мы вышли на гребень горного кряжа. В жизни не было у меня такой необычной прогулки. По обе стороны открывались виды, захватывавшие дух: ущелья, долины, гряды гор, отдалённые снежные вершины. Солнце уже поднялось. Ни единого селения не просматривалось внизу. Должно быть, камнепады и оползни здесь не редкость.
Тут уже не было снега: ветер целую зиму делал своё дело, а весеннее солнце завершило его труды. Не было и тропы: по голым камням шагай куда хочешь. Именно здесь наш след должен надёжно затеряться. Проводник повёл меня одному ему известным маршрутом. Много времени мы потратили, чтобы спуститься в небольшую расщелину с очень крутыми, обрывистыми склонами, преодолеть глубокий девственный снег на дне её и, поднявшись с противоположной стороны, снова оказаться на гребне. Жажду утолить удалось, только зачерпнув снега, о еде не было речи, усталости мой провожатый не знал. Опять мы шагали, будто парили в вышине, и Альпы справа и слева словно лежали на двух больших ладонях.
Внезапно проводник встал как вкопанный – я налетела бы на него, если бы чуть раньше не замедлила шаг, глазея по сторонам. Он обернулся и произнёс, будто через силу:
– Дальше сами. Прямо. Где поведёт вниз – вы пришли.
– Что значит «поведёт»?
– Впереди глыба, слева – обрыв. Вправо, вниз – путь один.
– Сколько времени идти? – уточнила я.
– Мне двадцать минут, – сказал он и добавил, как для дурочки: – Но я не иду.
– Понятно. Спасибо.
Солнце клонилось к горизонту. Тень от каждого камня лежала длинной, извилистой лентой, а моя собственная, казалось, была готова коснуться дальних вершин.
– Стой!
Бесшумно выступив из кустов, человек преградил мне дорогу вниз, на которую я едва успела свернуть. Единственное слово он произнёс очень тихо, хотя и твёрдым голосом, причём по-немецки. Однако это ничего не значило.
Одет он был в короткую куртку на меху и тёмные штаны, голова не покрыта, на ногах ботинки, подбитые мехом. Одежда более чем неопределённая: вроде военной, но без знаков различия, не похожа ни на немецкую форму, ни на нашу. Но я же чувствовала, что это военный, и чувствовала, что – наш.
Я без колебаний произнесла пароль: отступать было некуда. Формула самоликвидации была, на всякий случай, под рукой.
Мужчина просиял, ответил и вдруг схватил меня в охапку. Обнял так крепко, что, как говорится, косточки затрещали, и троекратно расцеловал. При прикосновении ошибок не бывает. Ну, в моём опыте не было. Наш! Русский, советский!!!
Небольшой самолёт был ловко спрятан – не заметишь на расстоянии вытянутой руки. Встречавший меня на тропе оказался лётчиком, командиром экипажа. У самолёта я познакомилась со штурманом. Тот воззрился на меня с таким непосредственным изумлением, поражённый моим юным видом, что мы все трое рассмеялись. Штурман постеснялся со мной обниматься; долго и с жаром жал мою руку, обхватив обеими своими ладонями – огромными и горячими. Больше никого: небольшой разведывательный самолёт рассчитан на троих, я полечу на месте стрелка-радиста. Оставалось дождаться темноты.
Мы устроились в лесу недалеко от самолёта. Узнав, что я больше суток не ела, мне дали шоколада и ещё чем-то угостили из лётного пайка. Один из лётчиков ушёл в дозор, другой остался со мной, и мы тихо разговаривали.
О задании, с которым я оказалась в глубоком тылу врага, лётчики имели совершенно превратное представление: они были уверены, что я была заброшена с диверсионно-разведывательной группой и убываю, успешно выполнив свою часть работы. О подробностях они, естественно, не расспрашивали и сами рассказывали только то, что я имела право узнать.
Так я узнала, что и одежда, и самолёт специально подобраны таким образом, чтобы в случае провала невозможно было догадаться, из какой страны прибыл «десант». Самолёт имел уникальные конструктивные особенности: маленький, маневренный, способный взлетать и садиться на очень короткой и не очень ровной полосе, он вместе с тем был способен быстро набрать высоту и идти вне досягаемости зенитных орудий и зоны действия истребителей…
Дежавю! Происходившее теперь уже было со мной прежде. Потаённая долина в горах, странный для этих диких мест звук моторов, короткий разбег самолёта – на сей раз по плотному снежному насту, резкий набор высоты…
Лётчики были полностью сосредоточены на выполнении боевой задачи, думали о погоде, об обледенении, о скорости и расстояниях, о картах и об ориентации по звёздам, о радиомолчании и о своевременных радиосигналах. А я… Дом пока казался мне таким же далёким и недоступным, как день, неделю, год назад. За стеклом кабины – только звёзды да чёрные силуэты гор, постепенно уходящие назад и вниз. Я была без остатка захвачена этим напряжённым полётом – движением между мирами.
Перед рассветом земля под крылом странно ожила: кое-где замерцали огни. Вдруг внизу прямо под нами и довольно близко от самолёта стали вспыхивать и гаснуть яркие звёзды. Они будто падали снизу вверх. Пилоты, смеясь, сказали, что по нам стреляют из зенитных орудий, но не могут достать, поскольку мы слишком высоко. Мы пересекаем линию фронта.
Я молча прильнула к стеклу. Как часто я представляла мысленно линию фронта! Всегда – полыхающей извилистой лентой. Как часто водила кончиками пальцев по воображаемой карте, стараясь нащупать эту огненную ленту, чтобы узнать, где она пролегла нынче… Теперь – наяву, вживую – в сумраке, среди складок местности ничегошеньки было не разобрать.
Вскоре мы снизились; лётчики вступили в радиопереговоры с наземными службами. Я заново привыкала к звучанию русской речи.
На рассвете приземлились на военном аэродроме в предгорьях Карпат. Мне сказали, что самолёт, на котором полетим прямо в Москву, ещё готовят и, главное, ждём прибытия других пассажиров.
Прощаясь, лётчики жали мне руку с тем же радостным восторгом, что и при встрече. Затем кто-то из БАО отвёл меня в столовую. Лётчиков кормили хорошо. Мне дали щи, кашу с тушёнкой и компот. Вид, запах, вкус этой давно не виденной родной еды… Можно было умереть от счастья прямо с ложкой в руках!
Приглядываясь к военным, я старалась освоиться с погонами на их форме. Ужасно странно и даже нелепо для меня они выглядели. Особенно после всей фашистской пропаганды о реформе знаков различия в РККА, которой я наслушалась и начиталась.
В пустой по дневному времени жилой комнате связисток мне выделили койку, выдали чистое бельё. Сказали: отдыхайте, разбудим вас, когда придёт пора. Ложась, я думала, что от волнения не засну. Собиралась сделать очистительные практики и связаться с девчонками – впервые сделать это, не таясь и не оглядываясь, с советской земли! Однако стоило мне вытянуться на спине и развести в стороны руки, раскрыв ладони, как сознание отключилось.
Очнулась я от того, что меня окликали и мягко трясли за плечо. За окном серели сумерки. Целый день я проспала без единого сновидения, ни разу не повернувшись с боку на бок, даже не шелохнувшись.
На сей раз предстояла посадка в большой военнотранспортный самолёт с окошками и лавками вдоль бортов.
Оказалось, что ждали группу венгерских антифашистов, также переправленных через линию фронта и летевших в Москву. Только что началась оккупация Венгрии немецкими войсками: Гитлер стремился предотвратить её выход из войны на стороне Германии. Часть антифашистов ушла в ещё более глубокое подполье, а других пришлось спасать, спешно вывозя из страны. Заодно в Москве товарищам предстояло пройти какую-то дополнительную подготовку и инструктаж. В группе, кроме венгров, были один немец-коммунист и чех.
Мы быстро нашли общий язык. Им стал русский, на котором некоторые из делегации говорили довольно сносно. Я не стала афишировать, насколько глубоко знаю немецкий, хотя он, наверное, здорово облегчил бы дело. Но приобретённый за два года акцент мешал и русской меня признать. Венгры деликатно не спрашивали, кто я и откуда. Я лишь самую малость помогла их деликатности своими методами. Всё равно было общее приподнятое настроение, ощущение братства и товарищества в большом общем деле. Мы обсуждали ситуацию на фронтах, настроения на оккупированных немцами территориях и необыкновенно много говорили о послевоенном мире: каким он будет, как лучше его устроить и чем каждый мечтает заняться в мирное время. Только о своей нынешней работе каждый старался молчать.
Говорили и о фашизме, обсуждали его причины и трудный вопрос о том, как же после освобождения включить в новую жизнь людей, которые верили в фашизм, поддерживали его и, возможно, будут до конца дней хранить верность его идеологии. Перешли на отношение нацистов к тем, кто не вписывался в их представления об идеальном устройстве мира.
Герман рассказывал мне о той стороне жизни и деятельности рейха, которая тщательно скрывалась, о которой даже и не всякий гестаповец имел ясное представление. Но от попутчиков я узнала куда больше. Двое из них – немец и один венгр – успели побывать в концлагерях и бежали. Слушая их, хотелось проснуться, как от дурного сна.
Недаром атмосфера Германии была пропитана такой гнетущей энергетикой, и мне с самого начала чудился в благополучном, ухоженном Берлине трупный запах! И ещё я поняла, что за просветлённые души приходили на этой неделе и сломили чёрное колдовство шестого этажа: замученные – те, кто одолел страх!
На самом деле мои попутчики испытывали сильнейшее хроническое утомление, поскольку жили годами в постоянном напряжении подпольной борьбы. Внезапно – как произошло и со мной! – им удалось вырваться на волю из-под гнёта опасной двойной жизни. Но, так или иначе, они покидали милую, знакомую до последнего камушка отчизну и летели навстречу полной неизвестности, я же вернулась домой. Вначале все испытывали перевозбуждение, не могли нарадоваться и наговориться всласть. Долго ли, коротко ли, оживлённая беседа сменилась повальным сном. Я, напротив, выспавшись на границе, чувствовала себя по-прежнему бодрой. С каждым километром я приближалась к сердцу моей родины, и сил только прибавлялось.
Время от времени я расплющивала нос об иллюминатор, но без толку: что увидишь безлунной ночью, сквозь облачность на огромной территории, где всё ещё соблюдается режим светомаскировки?!
По пути мы разок сели для дозаправки и взяли курс на Москву.
Между тем мыслями я всё ещё оставалась в Берлине: в незавершённых делах, в недоразгаданных загадках. Благодаря характеру работы и влиянию Германа я, наверное, стала ужасной реалисткой, потому что мне вовсе не было интересно фантазировать о возвращении в Москву, о предстоящих встречах: ведь спустя всего несколько часов это и так произойдёт. Вот тогда-то точно не останется времени подумать о том, что сделано и не сделано в Берлине, спокойно проанализировать события последних недель.
В последнее время, особенно после Нового года, что визионеры, что спириты невероятно активизировались. Чуть ли не вдвое чаще я участвовала в сеансах. Но если визионеры по-прежнему позволяли себе творческую свободу, то спириты теперь работали согласно жёстким инструкциям. При этом в работе оккультного отделения в целом произошла перемена. «Чистая» наука была отодвинута далеко в сторону. Сотрудники, как спятившие кроты, безостановочно перерывали материалы архивного фонда и обширной библиотеки «Аненербе». Теперь это делалось даже не для подтверждения информации, добытой медиумами.
Упрямо и поспешно составлялись списки всего, что может представлять ценность, на территориях, которым недолго оставалось входить в состав «Великой Германии». Выписывали, что необходимо и что желательно изъять из музеев, библиотек, частных коллекций. Каждое отделение составляло свои списки, в том числе моё оккультное. Сама я почти не участвовала в этой работе: и так считалось, что фрейлейн Пляйс загружена больше положенного как визионер и медиум. Но в «Аненербе» списки активно обсуждались, поскольку производилось их согласование внутри отделений, а также между родственными подразделениями.
По направлению поисков – как архивных, так и спиритических – я могла ясно представить, на каких территориях немцы чувствуют себя наименее уверенно и готовятся к отступлению, какие города и веси они уже совсем собрались сдать.
Герман проявил максимальное внимание к моим докладам о списках, а заодно стал интересоваться и «кладоискательскими» сеансами.
Я фиксировала, какие задачи были поставлены на сеанс и какие уточняющие вопросы задавали ведущий и наблюдатель. Из этого становилось понятно, что немцам уже доподлинно известно и насколько они близки к цели.
Во время приёма особенно важной информации из тонкого мира мне иной раз удавалось создать помехи. Не разрывая круга, я многократно усиливала поток. Оккультисты «Аненербе» не привыкли к чистой энергии: больше питались чужой, переработанной; в интенсивном потоке они терялись, «слепли» и «глохли». После этого я, выступая в роли медиума или в обсуждении, гнала правдоподобную «туфту», которой никто из присутствовавших не мог ни подтвердить, ни опровергнуть.
Герман обещал, что, если будет хоть малейшая возможность, наши обязательно постараются раздобыть сокровища, опередив немцев. Но каким образом – на оккупированной территории?! Подключат нелегалов или партизан, можно отправить десант – смотря по обстановке. Возможностей больше, чем мне положено знать. Очередной щелчок по носу даже не огорчил: главное – сделать всё, чтобы риск, на который пойдут наши, оправдался!
Как ни радовалась возвращению домой, я беспокоилась: кто ж теперь добудет сведения о поисковой активности «Аненербе», кто и как сумеет запутать, сбить со следа опытных оккультистов и поисковиков?
Вероятно, после курсов усовершенствования меня скоренько отправят назад с правдоподобной легендой о моём исчезновении. Это будет правильно.
Опять же, только подобралась к изучению неизвестной системы защиты, в которую Линденброк обещала меня включить. Досадно, что начала выяснять так поздно, досадно, что не сумела самостоятельно выявить её существования.
Я ведь заметила какую-то незнакомую и непонятную мне энергетическую активность ещё в ноябре, при авианалётах англичан. Не рискнула как следует прощупывать союзников, чтобы ничего не нарушить в их работе: некоторые нейроэнергетические действия крайне чувствительны к любому несогласованному вмешательству, даже дружественному. Вообще говоря, одно не исключает другого: возможно, что английские специалисты помогали своим пилотам, а немецкие старались им помешать. Если бы о потерях ночных бомбардировщиков можно было судить по сводкам, которые передавало немецкое радио! А так – гадание на кофейной гуще. Дома выясню.
Между прочим, я целенаправленно интересовалась всем, что можно было узнать в «Аненербе» об энергетическом противостоянии с союзниками.
Против англичан работали активно. Мне приводилось слышать и о сражениях боевых магов, и о крупномасштабных диверсионных операциях по дистанционному воздействию на сознание противника. Пытались подавить боевой настрой англичан, сыграть на недовольстве народа тяготами долгой войны. Но с той стороны тоже работали ребята – совсем не промах.
Про американцев я и слушала, и в открытую спрашивала – информации не было. Кого ни спросишь – не поступало задания работать против американцев. Нельзя исключать, что было создано самостоятельное, сверхсекретное подразделение. Но у меня почему-то не идёт из головы одна совсем незначительная деталь. На столе у господина Хюттеля стоял небольшой сувенирный глобус – глупая игрушка. По поверхности Мирового океана плыли, вместо материков, всего четыре страны: Италия, Германия, Япония и почему-то – Соединённые Штаты Америки. Когда господин Хюттель ушёл на повышение, то забрал сувенир с собой. Впоследствии я, улучив момент, спросила Ульриха о дядюшкином глобусе: что же делает на нём Америка в ряду союзных «нам» государств?
– Но она ведь изображена с обратной стороны, в другом полушарии, как символический противник, – неуверенно молвил мой просветитель.
– Отчего же тогда нет Москвы? Разве не большевики – наш главный враг?
Ульрих, вопреки обыкновению, ответил кратко, невразумительно и перевёл разговор на другую тему. Герман, которому я пересказала этот краткий диалог, философски заметил, что всё течёт и меняется, и особенно недолговечны военно-политические союзы. Удивительно, но в этом случае моя наблюдательность удостоилась редкой похвалы Германа.
Да, ещё про англичан – чуть не забыла!
Поначалу я столь внимательно вслушивалась в энергетику английских эскадрилий, что получила довольно ясное представление об особенностях английской энергетики вообще. Тут помог опыт спиритического общения с рыцарями ордена тамплиеров. Всё-таки кое-какие британские черты пережили века!..
Так вот. Один раз, случайно, на краткое мгновение прямо в стенах оккультного отделения «Аненербе» я поймала дуновение мысли или чувства с характерной британской «интонацией». Сотрудники обсуждали новость о гибели «Петреллы» – крупного немецкого транспорта, торпедированного и потопленного британской подлодкой. Сокрушались о гибели тысячи немецких солдат, а также спорили, стоит ли жалеть ещё три тысячи погибших итальянских военнопленных, и склонялись к тому, что «предатели получили своё».
Вдруг я поймала волну спокойной, слегка надменной гордости. Как мгновенно она плеснула, так же резко и исчезла. Интуитивно я нашла верное решение: стремительно просканировала присутствовавших: кто закрылся? Наткнулась на глухую стену вокруг Руперта. Даже Линденброк была в тот момент расслабленнее и мягче. Руперт всегда был таким открытым, таким расположенным к взаимодействию на любом уровне!
Я рассказала об инциденте Герману без особой надежды, что тот примет всерьёз. Но Герман успел немного освоиться и с моей терминологией, и с реалиями тонкого мира, в который я настойчиво приглашала его. Герман сказал, что моя информация крайне важна, и запретил предпринимать какие-либо дальнейшие шаги по прощупыванию Руперта – пока только наблюдать. Я считала: он был намерен использовать другие каналы для проверки моего сослуживца. Новостей, конечно, ещё не поступило. А мне так хотелось узнать точно! Если подтвердится, что Руперт внедрён английской разведкой, можно бы затеять такую интересную игру!..
Ещё в последнее время ходило много слухов о заклятиях. Якобы была сформирована специальная команда магов, которая налагала мощные заклятия на военные объекты – для их защиты, на клады, состоящие из награбленных ценностей, которые не успевали вывезти при отступлении. Кроме того, заряжали артефакты – фактически, создавали новые реликвии взамен старых, выработавших свой ресурс.
Германа, как и следовало ожидать, не интересовали заряженные артефакты, однако он просил меня как можно больше узнать о фашистских тайниках. Я подобралась к «группе заклятий» через фон Берна, но не успела ничего выяснить до своего неожиданного отзыва…
Судя по всему, заклятия не дали результата: разгрома немцев не отвратили ни артефакты, ни заговорённые укрепления. Однако прятать награбленное они навострились хорошо: Янтарную комнату ищут по сей день. Впрочем, как знать: то ли прятали ловко, то ли вывозили резво…
Рассуждая о сделанном и не сделанном в Берлине, я постепенно свыкалась с новым ощущением: Германия осталась позади.
Теперь уже по-другому – легче, светлее – вспоминались Эрих и остальные бестолковые мои приятели, замороченные идеологией фашизма, а по сути, неплохие, но незрелые в глубине души ребята. Память легко перепархивала от рыцарей ордена тамплиеров, с которыми я познакомилась в стенах «Аненербе», к прогулкам по незнакомому миру «Атантиды», реальным, словно наяву. Память невзначай засматривалась на игривых белок Тиргартена, носившихся взапуски с солнечными зайчиками, и заглядывала в те развороченные бомбёжкой и навеки затихшие дома, где среди кирпичной пыли, ловя свет из пробоин, я разбирала написанные незнакомыми почерками послания из дома… Всё так, как и было, но всё – по-другому. Так вспоминается солнечным утром тягучее ночное наваждение…
– Товарищи, приготовьтесь: сейчас пойдём на посадку. Москва!
На подмосковном аэродроме приземлились уже утром. Тут мы с венграми незаметно разделились, так что даже не успели попрощаться: нас встречали две разные делегации. Ко мне подошли четверо военных в узнаваемой по синим брюкам форме родного НКВД, но с непривычными для меня и пока плохо читаемыми погонами на плечах. Знакомых лиц среди них не было.
Старший из группы горячо пожал мне руку и искренно поздравил с возвращением. Остальные сделали то же. Затем глаза старшего снова стали строгими, и, пока шли до машины, он коротко ознакомил меня с планами на ближайшее будущее. Мне предстоят проверки. Так положено. Придётся потерпеть ещё пару недель: лишь по окончании проверок я получу право встретиться с сослуживцами, друзьями и близкими. Все уверены, что проверки я пройду без сучка и задоринки, но порядок есть порядок. Я легко считывала отсутствие какой бы то ни было фальши в речах этого человека: он был искренен.
Чувство блаженного покоя, овладевшее мной ещё в Прикарпатье, только разрасталось. В окошко автомобиля я во все глаза смотрела на Москву: здоровалась. Мотор приятно рокотал, машину плавно покачивало, и мне казалось, что полусонный и полупустой город, весь окружающий мир и моя собственная душа наполнены всепобеждающей, всепоглощающей тишиной.
Разместили меня в военном санатории: выделили палату на пустовавшем почему-то этаже. Тут, в санатории, хоть и расположенном в черте города, тишина стала буквально звенящей. И не было ничего на свете лучше этой звенящей тишины, этого белого перекрахмаленного постельного белья из грубой ткани, этой спокойной, тенистой пустоты коридора с неторопливыми войлочными шагами нянечки, её доброго голоса: «Отдыхай, девонька! Намаялась. Отдыхай, набирайся сил!»
Уже с утра следующего дня началась плотная работа со специалистами. Я с удовольствием ходила на беседы, рассказывала, как жила и что делала, что узнала и чему научилась, с кем повстречалась в реальности и в тонком мире. Старалась не упустить деталей, не забыть ничего важного и передать как можно больше информации, торопилась, чтобы уложить полтора года в две недели. Меня слушали внимательно, переспрашивали только по делу – когда действительно требовались уточнения. К сожалению, то, что мне представлялось наиболее интересным и важным – содержание и техники спиритических, а также визионерских сеансов, мои собеседники слушали вполуха, как давеча Герман. Ну ничего, вот окажусь среди своих, в Лаборатории, – там уж обсудим всласть всё самое интересное.
С изрядной долей неподдельного сожаления мне сообщили, что будут испытывать меня и с помощью химических препаратов. Я спокойно подставила запястье для укола. Конечно, возник вопрос: «А что это у вас за шрам?» Рассказывала в красках и с удовольствием наблюдала, как у товарищей округлялись глаза. После этой короткой отсрочки всё же познакомилась с отечественной сывороткой и получила возможность сравнить её действие с немецким препаратом, опробованным два года назад. Наша оказалась куда жёстче: я почувствовала себя как пьяная. Захотелось неудержимо молоть языком. Еле справилась, но потом решила: лучше поддаться, потому что товарищи не отступят, а дополнительная доза мне ни к чему. Я продолжала следить за тем, что говорю, и, в принципе, могла бы в нужный момент умолчать о том, о чём сочла бы нужным. Но мне было решительно не о чем умалчивать.
Состояние блаженной расслабленности и радости после сыворотки только усилилось. Я даже не стала чиститься с помощью энергетических практик, полагая, что заслужила отдых.
Препарат мне кололи ещё раза четыре, морщась от стыда и неловкости, что им приходится проделывать это именно со мной. День перерыв и обычная беседа – день сыворотка. Похоже, что эта процедура была разработана специально для меня. Знали же, что я владею техниками внесознательного воздействия. А проверку проводили обычные люди, без нейроэнергетических навыков. Если бы хотела, я могла обвести их вокруг пальца. Чтобы этого не произошло, придумали подавить мои способности с помощью препарата. Стало быть, наши не выдали, что меня и это может не взять. Наши-то знают достаточно, чтобы быть во мне уверенными безо всяких проверок!
Радио на этаже не было, а почитать или поделать практики времени не оставалось. С раннего вечера и до утра я сладко спала – такая накопилась глубинная усталость.
* * *
Находясь в санатории, я узнала о печальной судьбе Аглаи Марковны: её душа приходила и рассказала о голодной смерти первой блокадной весной. Непростая душа, и тяжело она уходила. Расставшись с телом в начале сорок второго, аж до осени сорок третьего бродила по окрестностям, не могла оторваться от земли. Что смогла добраться до меня – уже стало достижением. Я помогла ей, чем умела, но дар, который она пыталась отдать мне, не взяла. Чужой дар – чужая карма. У меня свой есть, зачем рисковать…
Товарищи не обманули: ровно через две недели беседы прекратились. Может, ещё сутки – но точно не больше – я оставалась в одиночестве и неведении. Затем меня отвели в кабинет, похожий на тот, где проводились беседы. Тот же человек, что встречал меня на аэродроме, объявил, что я благополучно прошла проверки и могу приступать к работе. Он извинился за вынужденное недоверие и доставленные неудобства, с чувством пожал мне руку и сказал, что теперь я смогу вернуться к работе в том же подразделении, где служила и прежде. Поскольку у меня нет жилья, то, пока мне его выделят, я могу оставаться в той же палате санатория: мне всё равно положено время на медицинскую реабилитацию, предписан покой, сон и усиленное питание. А теперь я могу пройти на первый этаж. Там, в холле санаторного корпуса, меня уже заждались.
Думаю, ни до, ни после строгие стены военного санатория не слышали такого дружного, восторженного девичьего визга.
Но объятия и слёзы радости были недолгими: смысла не было тянуть с печальным известием, и девчонки практически сразу мне сказали. Что-то оборвалось внутри, но я, привычно сохраняя самоконтроль, задала нейтральный, совсем уже теперь не важный вопрос:
– Удар?
Женя метнула в меня быстрый удивлённый взгляд, но промолчала.
– Да, – подтвердила Катя.
– Как случилось? – спросила я сдавленным голосом.
– Срочно улетел в Москву, пошёл на доклад. – Женя многозначительно подняла глаза к потолку. – В приёмной он потерял сознание. Отвезли в госпиталь… Если бы мы знали… Но он не успел позвать. Нам уже потом сказали. Ты ведь тоже ничего не почувствовала?
Я отрицательно помотала головой.
Тот день, который сейчас назвали девчонки, я запомнила. Число осталось в памяти, потому что денёк выдался необычный для моей берлинской жизни: ясный, чистый, лёгкий. Целый день сохранялось приподнятое настроение после того, как утром Николай Иванович заходил ко мне в гости.
Такой визит – больше чем телепатическая связь: тонкое тело, как иногда говорят, «фантом», присутствует рядом с тобой почти осязаемо. Чтобы таким способом путешествовать, надо очень хорошо сконцентрироваться, нужно иметь серьёзную цель.
Путешествия вне тела в период моей берлинской жизни считались нежелательными, и мы их сознательно не практиковали: ни я – в гости, ни кто-либо из наших специалистов – ко мне, так как подобную активность тонкого плана легко засечь со стороны.
Я была уверена, что руководитель, как обычно, слишком беспокоится из-за гриппа, которым я переболела на днях, и невольно сумел преодолеть расстояние, желая лично проверить, всё ли в порядке. Лишь теперь мне стало ясно: он был ещё жив в тот момент, ещё думал и действовал и не собирался умирать, но его душа приходила попрощаться.
Как же случилось, что в течение нескольких месяцев я не узнала о смерти руководителя?! Пусть у девчонок был приказ молчать, но я должна же была почувствовать неладное! По недоговоркам, по непереданному привету, по внезапно образовавшейся пустоте за своей спиной… То, что дух покойного не приходил ко мне со дня смерти, как раз не удивило: не хотел тревожить, не имел потребности, не имел возможности – всяко бывает. Но как я сама не почувствовала, как не считала настроение и мысли подруг?!
Девчонки легко догадались, о чём это я задумалась.
– Тася, прости нас, пожалуйста! – решительно начала Лида, а продолжила тихо и смущённо: – Мы очень боялись за тебя… Мы посоветовались с Михаилом Марковичем…
Дальше ей говорить было не обязательно, и она сама это понимала. И Женя понимала, что добавить нечего и незачем.
Девчонки сделали мне незаметное лёгкое внеконтактное внушение, воспользовавшись моим полным доверием и полной открытостью им навстречу. Это ясно. Но с чего они взяли, что я стану сильно переживать? Я вовсе не относилась к Николаю Ивановичу с такой трепетной нежностью, как они. Разве что в последние недели перед моим уходом отношение начало меняться…
– Между вами была очень сильная связь, – сказала Женя, отвечая на мои невысказанные сомнения.
Я промолчала: пустым, ненужным казалось обсуждать теперь какие-то нюансы своих отношений с человеком, которого уже нет в живых. Девчонки напряжённо ждали моего ответа на главный для них вопрос.
– Девочки, я…
Что сказать? Понимаю вас? Поступила бы так же? Прощаю?
– Спасибо вам за заботу.
Обе подруги выдохнули с облегчением. Легче стало и мне. Врага всегда надо подозревать в самых худших намерениях, а друга – в самых лучших. Так жить проще. Яснее… Не помню, кто сказал.
Только сейчас, когда дружеское внушение было окончательно снято, я поняла, что в глубине души ждала встречи с товарищем Бродовым на аэродроме. Точнее, в глубине души была абсолютно уверена, что, едва вылезши из самолёта, я попаду в объятия руководителя и теперь уж не постесняюсь крепко прижаться к нему в ответ, и что всю дорогу до дома – до Лаборатории – мы будем разговаривать. Когда этого не случилось, я впала в какое-то ступорозное замешательство и всё происходившее воспринимала, уже не задумываясь, как единственно возможное.
По щекам полились неожиданные горячие слёзы. Накатило горькое чувство потери и пустоты. Лида с Женей оказались правы! Я заплакала навзрыд. Лида прижала меня к себе. Все девчонки окружили меня. Мы неудобно, но крепко обнялись.
– Пореви-пореви, – легонько похлопывая меня по спине, авторитетно одобрила Сима. – Мы уже наплакались.
Через некоторое время, слыша, как я захлёбываюсь, Лида спросила:
– Тебе помочь?
Я замерла. Судорожное дыхание остановилось. Неужели же сама не справлюсь, что надо лечить меня внушением? У девчонок хоть глаза и были на мокром месте, но всё же моё горе они были вынуждены наблюдать уже слегка со стороны, а такое непросто даётся. Я энергично помотала головой.
– Нет, спасибо.
Слёзы стали подсыхать. Все испытали облегчение. Кроме меня самой, наверное. Но я уж потом с этим разберусь – когда останусь одна.
– Мы так ждали тебя… – начала Женя и умолкла в надежде, что не понадобится продолжать.
Хорошая, очень утешительная идея! Разговаривать с умершими умела из всех наших «школьников» я одна. Я кивнула, снова всхлипнула и предложила:
– Давайте соберёмся вечером.
Вечером в мою палату пришли Лида, Женя и Катя. Сима успела стать врачом и была занята на ночном дежурстве в госпитале. Сели за стол, взялись за руки. Но Катя вдруг запаниковала. Я показалась ей теперь взрослой, чужой и опасной. В её смятённых мыслях творилось бог знает что. Может, я стала такой могущественной, что способна ненароком притянуть страшных монстров из преисподней. А вдруг, участвуя в вызывании духа, она совершит смертный грех, которым всё пугает её родная тётя – очень верующая женщина… Короче говоря, Катя сбивчиво выпалила объяснения, поделившись частью своих тревог, и убежала, а напоследок попросила:
– Вы потом мне расскажете, что он скажет, ладно? Нам с Симой расскажете?
– Конечно, – уверили мы хором.
Если бы повод, что собрал нас, не был пронизан такой свежей печалью, нас бы рассмешила Катина ретирада. Но мы уже чувствовали близкое присутствие, хотелось поскорее начать общение.
– Николай Иванович, как вы там?
Свой вопрос каждая из нас задавала вслух, чтобы мы не запутались, задавая одновременно три разных вопроса. А ответы я не стала «переводить». Если бы Катя и Сима участвовали, пришлось бы озвучивать ответы духа. А так каждая из нас внимательно слушала сама. Потом поделимся впечатлениями. Таким способом удобно получить более объёмную информацию…
Гостям из тонкого мира трудно отвечать на вопросы, сформулированные нечётко. Мы разобрали только, что нашему бывшему руководителю приходится очень нелегко, однако положение его далеко от безнадёжного.
– Николай Иванович, когда кончится война?
И этот вопрос задаёт Женя, которая сама отлично предсказывает будущее! Да сам Мессинг давно произнёс пророчество, как мне успела рассказать одна из дежурных санитарок, – она лично присутствовала на знаменательном выступлении!
«Войны идут всегда», – в таком духе был ответ. Женя могла бы догадаться уточнить: «война с фашистами»!
– Когда кончится эта война?
Просто мы все очень волновались и задавали не те вопросы, а тех, что хотели, задать не решались…
Мне показалось, он ответил: «Год». Лида услышала «полтора».
Я чувствовала, что сеанс не получится долгим, и боялась следующего вопроса типа: «Какие судьбы ждут каждую из присутствующих?» Пустое и вредное занятие – определять изменчивое, но главное: смысл нынешней встречи я видела совершенно в другом.
Внезапно все отчётливо уловили: «Мы только начали, жаль». Это прозвучало как продолжение ответа на самый первый вопрос. Он не скажет больше, пока мы не сформулируем правильного вопроса.
– Николай Иванович, вы там узнали что-то, что хотели бы нам передать? Вы хотели бы нас научить? – поинтересовалась Женя.
Я позавидовала её спокойствию. Как ей удаётся? Она ведь больше всех была к нему по-человечески привязана! Мне порой казалось, что даже – по-девчоночьи влюблена. Она молодец, что сумела так железно взять себя в руки!
Мы ждали ответа, затаив дыхание. Женина рука в моей нетерпеливо подрагивала. В абсолютной ночной тишине гулко стучал будильник.
«Всегда знал. И вы знаете больше, чем вам кажется. Надо вспоминать, – был ответ. – Вспоминать не сложно. Вам пока рано учиться новому».
Он говорил с нами будто через силу или с неохотой. И я через силу его держала.
– Николай Иванович, вам нужна помощь? – сняла Лида вопрос у меня с языка. – Чем мы могли бы вам помочь?
Почему же он молчит? Присутствие по-прежнему оставалось явственным, но ответа не было долго. Стук будильника в тишине, влажное тепло сомкнутых рук, дрожание зажмуренных век.
«Позаботьтесь о Таисии».
Я вздрогнула от прямого упоминания собственной персоны. С досадой отметила, что у Николая Ивановича ещё сохранилось такое устаревшее представление обо мне. Пару лет назад я была хрупкой и довольно беззащитной девочкой, но теперь опыта и сил у меня побольше, чем у всех, кто не побывал на той стороне.
– Тасе грозит опасность? – почему-то едва слышно прошептала Лида.
«Отпустите меня! Мне очень тяжело здесь!»
Не единожды слышала я подобную просьбу. Иные ушедшие идут на контакт легко и с охотой. Другие же всё норовят улизнуть поскорее, не выдав никакой полезной информации. Я привыкла считать такое поведение признаком зловредности духа и удерживать его своей властью ровно столько, сколько требовалось для решения поставленных задач. Правда, Аглая Марковна в своё время требовала от всех участников её спиритических сеансов уважения к вызываемым духам. Но потом у меня были более жёсткие учителя и старшие коллеги. Я не привыкла задумываться, скольких потерь стоит душе насилие медиума. А среди приглашённых гостей оттуда ни разу прежде не встретилось того, чья память была бы мне дорога…
И вот, впервые в жизни, благодаря личной симпатии к Николаю Ивановичу я сумела прочувствовать, как мучительно и вредно душе умершего общение с живыми, с которыми у неё не осталось уже ни связующих чувств, ни общих задач. Душа в таком навязанном общении растрачивает силы, которые нужны ей совсем для другого.
Женя предупреждающе сжала мою ладонь, но я уже успела разомкнуть пальцы и открыть глаза.
– Зачем ты отпустила?! – запальчиво воскликнула Женя. – Почему ты решила одна, без нас?
Женька – неисправимая коллективистка.
– Надо было ещё расспросить! Он даже не намекнул, что тебе грозит! – сокрушалась подружка.
– Жень, разве ты пошла бы против его воли? – У меня, как утром, сжало горло, но я проглотила комок. – Мы спросили: нужно ему наше общество?!
Совсем некстати вдруг заметила, как резко и жёстко звучит мой голос среди мягких и певучих голосов девчонок. Надо же! Уж больше двух недель говорю по-русски, а всё не перестроюсь.
Подружка сникла и неуверенно возразила:
– Но мы не выяснили, чем ему помочь…
– Он не попросил нашей помощи, – сухо бросила Лида. – Спасибо, Тась!
Женя примирительно обняла меня и сказала:
– Тасечка, у тебя такой смешной акцент!
В её шутливом тоне было столько грусти!
Нам очень хотелось пообщаться всласть, спрашивать и рассказывать наперебой. Но – не теперь! Завтра. Завтра вечером соберёмся снова, придут ещё и Катя, и Сима, и мы будем взахлёб разговаривать до утра, и смеяться, и плакать – то от радости, то от грусти. Не сейчас.
Девчонки молча разошлись в подавленном настроении: вот теперь-то мы по-настоящему осиротели, а все иллюзии – у кого какие были – развеялись прахом.
Ещё до того, как мне предстояло покинуть стены санатория и отправиться на представление новому начальству, девчонки подробно рассказали, как переменились вся структура бывшей группы товарища Бродова и система подчинения. Лаборатория пока осталась и сохранила почти прежний состав, но теперь располагается в другом месте: занимает пол-этажа в большом современном здании, там просторно и светло.
Уютного особняка на Гоголевском было жаль, но я привыкла к переменам места. В конце концов, событие частное, внутриведомственное. А ведь произошли перемены в масштабах всей страны!
Полной неожиданностью для меня стало, что теперь у Советского Союза новый гимн. Очень хороший, сильный, каждое слово в нём – по делу! Хотя, конечно же, я родилась с Интернационалом. С ним были связаны и мирная жизнь, когда он звал развиваться, строить, спешить в будущее, и тяжёлые дни войны, когда и решительный бой, и смертный стали внезапно из легендарного революционного прошлого суровым настоящим.
Не могла представить, что стану так болезненно переживать самую пустячную из перемен – в знаках различия.
В кабинет Кирилла Сергеевича, нового начальника, я так и вошла в сопровождении девчонок. У него находились Михаил Маркович, с которым мы тепло обнялись, и начальник технической службы – новый для меня человек. Кириллу Сергеевичу не было и тридцати. Он стремительно поднялся мне навстречу. Круглолицый, симпатичный, серьёзный…
Ох и зацепили мой взгляд погоны с полосками и звёздочками! На Кирилле Сергеевиче и на начальнике техслужбы сверкали чистенькие, новенькие звёздочки в разном количестве, разных размеров, пока не вполне понятного мне достоинства. Сердце болезненно сжалось.
В памяти высветился яркий образ. Ромбы в петлицах расстёгнутого ворота… В них всегда первым упирался мой взгляд при встрече с руководителем: я ж росточком не вышла – теперь вот только побольше вытянулась… Рукава суконной рубахи закатаны. У Николая Ивановича лицо и волосы влажные после умывания. Вокруг глаз – тени, но сами глаза полны живого интереса: «Девчонки, что сегодня ночью происходило… в атмосфере?»
Ещё образ из памяти. На ребятах, принарядившихся к Новому году, блестят сапоги, блестят пуговицы на наглаженной форме, и даже кубики в петлицах сверкают в свете керосиновых ламп. Маслом, что ли, их смазали?!
Мелочь в самом деле – знаки различий на форме! Но мне показалось, что, приехав из чужих краёв туда, откуда начала путь всего два года назад, я так и не вернулась домой…
Резало слух внедрявшееся в обиход слово «офицеры» вместо наших родных «командиров». Навидалась я офицеров, да их не так звали!
Однако новый начальник не виноват ни в безвременной смерти прежнего, ни тем более в реформе. Нужно поддержать его и начать совместную работу.
Кирилл Сергеевич старательно делал уверенный вид, но и я, и девчонки легко считывали его подлинное состояние. Как ни забавно, но факт: он сильно оробел передо мной – пятнадцатилетней девчонкой! Он отнёсся ко мне с таким трепетным уважением, будто я вернулась с Луны. Если я хотела сработаться с этим молодым начальником, следовало срочно и незаметно для него и окружающих вывести его из глубокого смущения, вернуть в начальственное кресло. Чем и занялись – я и девчонки – не сговариваясь. Главной традицией Лаборатории были добрые отношения между всеми сотрудниками, включая руководство. Эту традицию надо обязательно сохранить и научить новое начальство её поддерживать!
Кирилл Сергеевич вынул из сейфа мои награды с полагающимися к ним «корочками». Дал подержать в руках, налюбоваться. Было очевидно, что посторонним их нельзя пока видеть, так как не придумано еще внятного объяснения происхождению моих наград. Поэтому решили: пусть от греха подальше полежат в сейфе, пока у меня не появилось постоянного жилья. Вскоре жильё появилось, возобновилась моя служба, да так бурно, что про награды все забыли… Впоследствии стало совсем нельзя отдавать мне их. Так и лежат, наверное, по сию пору в каком-нибудь секретном сейфе…
До конца недели мне дали отпуск.
Мы с Лидой съездили на Ваганьково.
Позвали ещё Катю, но та отказалась идти с нами на кладбище:
– Могилка без креста. У меня прямо сердце разрывается, как вижу! Простому человеку можно крест поставить или хоть маленький нарисовать на табличке. А ему не положено. А ведь крещёный же человек!
Катя в последнее время всё больше становилась верующей. Свободное время она проводила в церковной общине и без остатка посвящала благотворительности: помогала семьям, потерявшим кормильцев, собирала какие-то вещи, продукты для нуждающихся, занималась с детьми. Из-за этого она до сих пор не окончила мединститут: всё времени не хватало подготовиться к экзаменам, чтобы перевестись наконец на последний курс.
У могилы я держалась молодцом: протёрла новенькую плиту от песка, который набило на неё весенними дождями, положила цветы. Странно было сознавать, что процесс тления ещё, наверное, почти не тронул тела, покоившегося с поздней осени в промёрзшей земле.
Прочитав надпись, я спросила Лиду:
– Когда его повысили в звании?
Лида рассказала. Сообщать такую новость мне туда, разумеется, не полагалось, хотя девчонкам тогда очень хотелось похвалиться.
– Посчитай!
Лида легко провела пальцами по датам, выбитым на плите: 1890–1943. Я никогда не задумывалась над этим, хотя приблизительно представляла. Мы, девчонки-школьницы, считали его пожилым человеком, почти стариком. А ему было чуточку за пятьдесят!
Я не плакала потому, что не хотела при Лиде, и потому, что нельзя делать этого на кладбище у свежей ещё могилы…
От девчонок я знала, что на похоронах не обошлось без загадочного, хотя и небольшого события.
Присутствовал мужчина в штатском, которого никто из наших не знал. Девчонки легко считали в нём человека служивого, в высоком звании, допущенного к особой важности секретам – и всё. Экран. Непрофессиональный, но вполне убедительный. Человек этот держался особняком, хотя высокое начальство относилось к нему явно с большим уважением. Он не произносил речей и не слушал других, а оставался погружённым в себя, стоял с прямой по-военному спиной и, что называется, «перевёрнутым» лицом. В этом было не только горе, а растерянность от осознания внезапной беды.
Зазвучали винтовочные залпы, пришла пора бросать землю на гроб. Этот незнакомый человек подошёл в числе первых, преклонил колено у могилы, чтобы взять горсть, и на несколько мгновений застыл.
Женька, которая оказалась ближе всех, была уверена, что услышала очень тихо произнесённые слова. Другие ничего не слышали, но Лида считала слово в слово то же, что Женьке показалось произнесённым вслух:
– Николай Иванович, прости, дорогой! Сам себе никогда не прощу. Хоть ты меня прости!
Выпрямившись и кинув горсть земли, он ушёл, не оглядываясь.
Кто это был и за что просил прощения, так и осталось загадкой…
– Знаешь, Тась, что Полина Ивановна рассказала?
Лида вдруг оживилась и улыбнулась озорно, хоть и с оттенком грусти. Опять же от девчонок мне было известно, что на поминки приезжала из Касимова родная старшая сестра товарища Бродова. На похороны она не успела, удалось только на девять дней. И то хорошо: брата из колхоза вовсе не отпустили. Полина Ивановна оказалась женщиной простой, но сдержанной и замкнутой; поначалу сидела как заледенелая. Однако девчонки всё же её растопили немножко и разговорили, чтобы не держала горя в себе. Она порассказывала им кое-чего. Про детство, про умиравших в младенчестве сестёр и братьев и своих уже детей, из которых выжила одна только дочь. Про то, как Николай Иванович регулярно и безотказно помогал деньгами её собственной семье.
– Про патефон, – продолжила Лида. – Помнишь спор-то наш с тобой про патефон и пластинки?
Я прикусила губу.
– Лидок, ты хочешь, чтобы я всё-таки разревелась? Нельзя здесь, серьёзно!.. Помню, как не помнить!
– Ну, пойдём, мы уж всё сделали. Я интересное расскажу, не бойся!
Лида взяла меня под локоть и вывела на аллею.
– Так вот. Николай Иванович собирал пластинки для сестры. Она приезжала раз в год погостить – всего на неделю-другую. И она до страсти любит слушать песни.
Полина Ивановна всегда приезжала в Москву одна. Брат много раз предлагал ей взять с собой внуков, чтоб посмотрели столицу, и уверял, что для него это не будет обременительно. Полина Ивановна только отнекивалась, но со временем честно созналась: «Надоели они мне все хуже горькой редьки! Целый год пашу на них. Я у тебя отдыхаю, Коленька». Она имела в виду не внуков-сорванцов, а в целом семью единственной дочери, вместе с которой жила.
Конечно же, она и в Москве не покладала рук. Стараясь отблагодарить брата за его заботу, она готовила всё лучшее, что умела, драила и без того ухоженную квартиру. Ещё ходила по столичным магазинам, чтобы одеть и обуть свою семью. Поначалу Николай Иванович пытался приохотить сестру к выставкам и музеям, но та маялась от скуки и непонимания; театром он сам не интересовался. А вот к современным песням и модным исполнителям у Полины Ивановны открылась настоящая страсть. И Николай Иванович в течение года собирал для неё по магазинам новинки, а Полина Ивановна, приехав в гости, слушала упоённо всё подряд, порой – днями напролёт. Новинки брат с интересом прослушивал вместе с ней.
Однажды Николай Иванович предложил сестре: «Забирай патефон с пластинками. Я куплю другой». Но Полина Ивановна решительно отказалась от подарка: «Зять, паразит, в первую же неделю пропьёт.
Лучше я, Коленька, у тебя наслушаюсь на целый год вперёд!»
– Где ж теперь патефон? – спросила я тихо.
– Забрала Полина Ивановна. Зять погиб в сорок втором… Не на фронте. Несчастный случай на производстве.
– Хорошо, что забрала. Давайте ей как-то помогать!
– Она отказалась. Прямо ни в какую! Внуки подросли, пошли на завод, пропивать деньги теперь некому. Сказала: справлюсь, ребята, не держите в голове… Что ж, Таськ, хороша история?
– Хороша, Лидочка. Вот тебе и ясновидение, вот тебе и логика! – сказала я, уводя разговор подальше от воспоминаний. – Казалось, всё разложили по полочкам, всё поняли, так прекрасно догадались, что к чему. А тут – на тебе: новая информация полностью меняет картину.
– Не скажи! Отчасти мы верно угадали: песни-то он всё-таки слушал с удовольствием.
– Однако покупал и собирал пластинки не для себя. А мы с тобой Полину Ивановну вообще не считали – ни с патефона, ни с пластинок.
Мы уже выбрались на центральную аллею. Впереди маячили ворота, слева стояла высокая действующая церковь, из которой выходили женщины в платочках.
– Её трудно считать: она довольно прозрачная. Но ты права: не хватило внимательности в наблюдении и осторожности в выводах. Самоуверенность – плохой советчик.
– Не только. Каждый раз кажется, что раскрыла тайну – и готово. Но там под одной завесой – другая, под другой – третья… Понимаешь меня?
– Понимаю. Никогда не знаешь, докопалась ли уже до самой что ни на есть распоследней правды!
– Никогда не знаешь…
– Пойдём свечки ставить?
Я пожала плечами. Вспомнилась торжественная тишина готических церквей Берлина, тёплое мерцание толстых свечей в светлой пустоте устремлённого вверх, ничем почти не украшенного пространства, потусторонний голос органа.
– Хуже не будет. Нам можно: мы не комсомолки. Идём!
В те же, отпускные ещё, дни мне дали квартиру в Малом Власьевском переулке. Свою собственную, отдельную квартиру! В ней были и потолки побелены, и стены покрашены, всё чистенькое, свежее. Батареи не сильно, но тёплые. На кухне колонка. Из мебели – остов почти новой металлической кровати с отличными, совсем не растянутыми пружинами.
Переехала я с тем маленьким вещмешком, который остался мне на память от австрийского контрабандиста. В мешке – любимые ботинки и коробочка с украшениями – всё моё немецкое приданое. Одета я была в то, что девчонки принесли в палату.
Подруги с восторгом принялись помогать мне обустраиваться: натащили постельных и кухонных принадлежностей, раздобыли тюль и плотную ткань для затемнения, ещё не отменённого; откуда-то, как по волшебству, появились несколько разномастных стульев и табуреток, а также потёртый, но крепкий стол.
Девчонки по очереди нацепили мои ботинки, не подходившие ни одной, ни другой по размеру, шумно завидуя их красоте и удобству. По очереди подержали в руках серьги из белого золота с маленькими сапфирами.
– Те самые?
– Да.
– Ты хорошо передавала. Я представила очень похожие.
– А я даже зарисовала. Вот бы показать тебе! Но рисунок подшит с секретной документацией.
В общем, мы постарались отвлечься от того, о чём в тот момент действительно хотелось думать и говорить.
Так вышло, что ни Катю, ни Симу я не могла пригласить на новоселье: не получила права раскрывать свой адрес никому, кроме своих бывших связных.
У Лиды ситуация сложилась ещё жёстче. Лида не имела права сказать даже нам с Женькой, чем занимается и где живёт. Она часто приходила в Лабораторию – что-то обсудить, поработать вместе с нашими специалистами, но большую часть времени проходила учёбу где-то на стороне. Мы с Женькой великолепно понимали, что это значит, и нам троим не требовалось проговаривать друг дружке то, о чём Лида должна была молчать… Тем не менее Лиде, несмотря на все строгости, в которых она нынче жила, специально выделяли время на общение со мной: чтобы я детально познакомила её со своим опытом нелегально-нейроэнергетической работы… Жалко, что я не так много успела ей передать…
Наименее засекреченной из нас троих оказалась Женька. Она теперь учительствовала в нашей нейро-энергетической Школе, которая пока оставалась в Куйбышеве, и рассказывала о своих учениках взахлёб – всё, что можно было рассказать, не нарушив государственной тайны. Её командировали в Москву по подсказке Лиды и ходатайству лично Кирилла Сергеевича, чтобы встретила меня и помогла адаптироваться на первых поpax. Но Школа поставила условие: пусть в Москве подберёт материал для дальнейших занятий с учениками. Женя ежедневно ходила в секретную библиотеку, и сама Маргарита Андреевна лично руководила освоением ею спецлитературы.
Первая ночь в пустой новой квартире не принесла ни единого сновидения, хотя Женька, прощаясь вечером, заставила меня произнести нехитрое заклинание: «На новом месте приснись жених невесте!» За окном светило солнце. Никуда не нужно спешить: у меня ещё отпуск. Целый день впереди, и я предоставлена самой себе. Было тепло и сухо, дул не сильный, но очень свежий ветер – все приметы ранней дружной весны, разве что деревья ещё не проснулись: стояли голые, а под ними – остатки снега и ароматная прелая листва.
Не напрасно мы с Лидой потратили уйму времени в спецотделе ГУМа: одежды у меня теперь вполне хватало на все случаи жизни. Надев пальто, беретку и натянув привычные теперь перчатки, я отправилась заново знакомиться с городом.
Москву полностью освободили от маскировки, многие жители посмывали бумажные полоски с окон. Впервые я видела московское небо свободным от дирижаблей заграждения. Впервые – Большой театр и Манеж – в их истинном величественном обличье. Жаль, звёзды ещё не расчехлили. Да купола кремлёвских соборов и колоколен оставались чёрными. При взгляде на них сжималось сердце, ведь они напоминали о беде, которая не ушла ещё далеко, о войне, которая катится на Запад, но по-прежнему огромна, полновесна, и по-прежнему шлёт похоронки, и стоит не менее тяжёлых трудов.
Перед многими, кто в тот период возвращался из эвакуации, особенно из жарких и солнечных краёв, Москва представала обшарпанным, запущенным, мрачным городом. А мне, только что вернувшейся из Берлина, было не привыкать к разрушениям и неухоженности города, который в недавнем прошлом подвергался жестоким налётам, не привыкать к затемнению. Как в далёком теперь сорок первом, город показался мне похожим на усталого, израненного солдата, но теперь – наконец вернувшегося домой с войны.
В Москве я дышала полной грудью – давно забытое ощущение! Для прогулки я выбирала самые широкие улицы, самые просторные площади. Старалась пройтись там, где не успела побывать прежде… Хочется сказать: в детстве…
По правде говоря, я старалась избегать тех извилистых переулков, где побывала в сорок первом: уж слишком оживали в них воспоминания! В ту ночь, когда мы с девчонками устроили спиритический сеанс, я дала себе обещание больше не реветь, не бередить по возможности воспоминаний, чтобы не тревожить дух человека, который прямо просил его отпустить. Человека, которого мне так хотелось бы почувствовать рядом ещё хоть раз. Чтобы он опять вёл меня за руку, словно маленькую раззяву-деревенщину, по оживлённым перекрёсткам, и чтобы шагать бок о бок по кривым, узким улицам, разговаривая о судьбах домов и их жителей. Мне бы так хотелось, чтобы внимательные, испытующие глаза цвета военной формы ещё хоть раз вгляделись в моё лицо…
Как ни избегала, но случайно забрела на улицу Белинского и заметила знакомый проход сквозь двор. А ведь семья той пожилой женщины, должно быть, по-прежнему живёт здесь! Всё ли хорошо у них? Живы ли её сыновья? Я собралась настроиться на информацию. Я была бы рада встретить ту женщину, я бы рассказала ей…
«Таська, а почему глаза красные?» Такое отчётливое ощущение твёрдой, тёплой ладони на моём лбу. Слишком, как оказалось, памятное…
Я убежала из улочки сломя голову. Ведь я же обещала, и я выдержу, справлюсь, я больше не позову… Через Горького – в проезд Художественного театра. Дальше я ещё не бывала. Тут всё ново, интересно и безопасно. Петровка, Кузнецкий, площадь Дзержинского, и красавец Политехнический, и очаровательная улочка с неудобным названием «Имени 25 Октября». Интересно, как она называлась до революции?
Улочку низкое солнце пронзило широким, ослепительным лучом во всю длину. В этом горячем луче плавно парили неправдоподобно длинные тени прохожих и редких автомобилей. Венчал картину нарядный шатёр кремлёвской башни.
Уже при выходе на площадь мне припомнился давнишний сон, в котором она была скрыта зловещим и холодным туманом, и тогдашнее предчувствие необратимых перемен и тяжёлых потерь. Что ж, предчувствие сбылось, но теперь и площадь, и кремлёвские башни залиты солнечным светом. Чёрные крылья ещё не повержены окончательно, но уже не касаются сердца страны. Изгнаны они и из моей души. Всё теперь будет хорошо.
И вот она, во всей красе, без песка, без раскрашенных брезентовых «домиков» – Красная площадь! Открыты зубцы на стенах Кремля, красный кирпич не замалёван разноцветными картинками, тёмные ели вольготно расправили лапы, позабыв маскировочную сетку. Под надёжной защитой стены стоит, уже не прячась, величественное здание Мавзолея. И неудобно, и приятно, переждав автомобили, ступать ботинками по брусчатке. В этих камнях заключена невероятная сила и незыблемая надёжность. Ноги сами собой свернули вниз, легко протопали под горку вдоль стены и дальше – к ажурным воротам Александровского сада. Ноги так давно шагали без отдыха! Ближайшая уютная лавочка под раскидистой липой притянула их к себе.