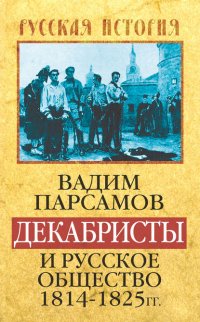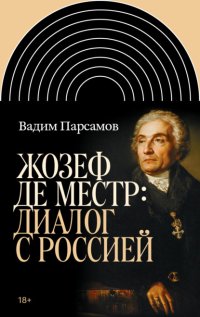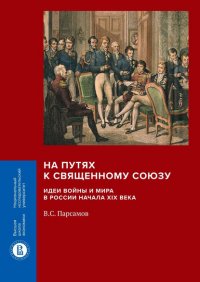
Читать онлайн На путях к Священному союзу: идеи войны и мира в России начала XIX века бесплатно
- Все книги автора: Вадим Парсамов
Монография подготовлена в результате проведения работы в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100»
Р е ц е н з е н т ы:
д. и.н., профессор кафедры новой и новейшей истории Института истории и политики МПГУ А.А. Орлов;
д. и.н., профессор Школы исторических наук НИУ ВШЭ Е.А. Вишленкова
Опубликовано Издательским домом Высшей школы экономики <http://id.hse.ru>
doi: 10.17323/978-5-7598-2110-6
© Парсамов В.С., 2020
Война и мир как культурные универсалии
(Вводные замечания к теме)
Среди универсальных категорий мировой культуры «война» и «мир» принадлежат к наиболее фундаментальным. Люди не только воюют и мирятся друг с другом, но и постоянно размышляют над природой этих явлений. Поэтому при всей кажущейся очевидности и привычности слов «война» и «мир» смысл их на протяжении тысячелетий оброс массой дополнительных значений и коннотаций. Можно было бы написать огромный труд о том, как в различных культурах люди по‑разному понимают смысл войны и мира. Но даже в пределах одной культуры на сравнительно небольшом историческом отрезке отношение к войне и миру может меняться самым кардинальным образом. И с тем и с другим часто связываются самые различные представления. В дальнейшем речь пойдет о первых 14 годах правления Александра I в России, и будет объяснено, чем мотивируется выбор именно этой эпохи. Но начать следует с более общих представлений и прежде всего с того, что скрывается за словами «война» и «мир» в русской и романо-германской языковых традициях. Слово «мир» более емкое и широкое, чем слово «война». Это связано с тем, что к миру, как правило, мы относим все то, что не является войной. А это значит, что война имеет определенные границы (начало и конец), а мир безграничен. Мир – это открытое пространство, облегающее войну, ограничивающее ее, но само не имеющее границ. Как увидим в дальнейшем, отсутствие границ входит в само определение мира.
В словаре В.И. Даля читаем: «Мир…отсутствие ссоры, вражды, несогласия, войны; лад, согласие, единодушие, приязнь, дружба, доброжелательство; тишина, покой, спокойствие» [Даль, 1981, т. 1, с. 328]. Как можно заметить, слово «мир» Даль определяет двояким образом: во-первых, через отрицание: мир – не война; во‑вторых, через утверждение: мир – это наличие определенных признаков, которые, в свою очередь, подразделяются на внутреннее эмоциональное переживание: «приязнь», «дружба», «доброжелательство», и внешние признаки: «тишина», «покой». При этом отметим, что только второе значение «мира», как «дружбы» и «доброжелательства», всегда имеет положительную окраску. Что же касается отсутствия войны, тишины и покоя, то это не всегда воспринимается людьми в позитивном смысле.
В русской дореволюционной орфографии наряду с написанием «миръ» было еще написание «мiръ». В.И. Даль определяет его как «вселенная; вещество в пространстве и сила во времени (Хомяков) || Одна из земель вселенной… || наша земля, земной шар, свет; || все люди, весь свет, род человеческий; || община, общество крестьян; || сходка» [Там же, с. 330]. Изменение орфографии сблизило эти значения и тем самым актуализировало их первоначальное единство[1]. В.Н. Топоров показал, что единое значение слов «мир» и «мiръ» восходит к древнеиранскому мифологическому персонажу Митра, буквально означающему «договор», «согласие» [Топоров, 1982, с. 154]. От имени Митра и происходит русское слово «мир». «Таким образом, славянская (в частности, русская) традиция уникальным образом сохраняет трансформированный образ индо-иранского Митры в виде представлений о космической целостности, противопоставленной хаотической дезинтеграции, о единице социальной организации, возникшей изнутри в силу договора и противопоставленной внешним и недобровольным объединениям (типа государства), наконец, о том состоянии мира (дружбы), которое должно объединять разные коллективы людей в силу Завета, положенного между людьми и их верховным патроном» [Топоров, 1973, с. 370]. Отсюда происходит еще одно современное значение слова «мир», используемое в дипломатическом языке: мир в значении договора, например, «Тильзитский мир».
Таким образом, в русском слове «мир» соединяются два значения, не соединяемые в других европейских языках. В церковнославянской языковой традиции эти значения восходят к трем греческим словам: είρήνη (мирное время) и κόσμος (вселенная, порядок) или οίκουμένη (обитаемая земля).
В отличие от «мира», «война», как правило, не определяется через отрицание. В словаре Даля «война – раздор и ратный бой между государствами; международная брань». Происхождение этого слова Даль ведет «от бить, бойня, боевать, как вероятно и боярин и воевода или боевода» [Даль, 1981, с. 230]. Согласно этимологическим словарям, слово «война» происходит от слова «воин» и первоначально представляло собой субстантивированное прилагательное женского рода [Черных, 1993, с. 162]. Из этого следует, что само противопоставление войны и мира принадлежит к довольно позднему периоду и появляется не раньше, чем слово «война» переходит в разряд существительных. М. Фасмер указал на то, что слову «воин» родственны такие понятия, как «преследовать», «гнать», «охотиться» [Фасмер, 1986, с. 334–335]. Если соотнести это значение со словом «мир» в значении οίκουμένη, то окажется, что война – часть мира и может быть осмыслена только на фоне мира. Если же соотнести понятие войны со словом «мир» в значении κόσμος, то откажется, что война и мир противостоят друг другу, как хаос и порядок. И поскольку порядок рождается из хаоса, то война оказывается фоном для мира, т. е. выступает в роли некой первичной субстанции, из которой происходит мир. Таким образом, уже в самом языке заложены различные смысловые соотношения слов «война» и «мир».
В романо-германской культурно-языковой традиции соотношение понятий войны и мира несколько иное. Понятие войны имеет различную этимологию. Гуго Гроций, вероятно, вслед за Цицероном [Демина, 2015] производит латинское bellum от древней формы duellum (поединок): «Duellum в таком же смысле происходит от duo [два], в котором для нас “мир” означает “единение”» [Гроций, 1994, с. 68]. Иными словами, единству «мира» противопоставляется раздвоенность «войны». В английском (war) и французском (guerre) языках закрепилась другая этимология слова «война», восходящая к древнефранкскому werra (ссора, досада). Если «война» как поединок и раздвоенность предполагает некие правила, позволяющие рассматривать ее в рамках правовой системы, то «война» же в значении ссоры не предполагает правовых норм, а является нарушением порядка. Слово «мир» в этих языках (peace, paix) восходит к латинскому рах (мирное время, покой). В немецком языке слово Krieg (война) восходит к индоевропейским корням *ger- (поворачивать, крутить) или *ker- (резать, гнуть) [Маковский, 2004, с. 278], а слово Frieden (мир) является однокоренным со словом frei (свободный). Таким образом возникает еще одно важное противопоставление войны и мира как насилия и свободы.
То, что слово «война» в русской языковой традиции имеет более узкое значение, чем в европейских языках, видно, в частности, из расхождения лингвистического и юридического понимания войны и мира. Так, например, термин «перемирие», которое в международном праве относится к состоянию войны, а не мира, в русском языке передается через понятие «мира», в то время как в английском и французском (armistice), а также в немецком (Waffenstillstand) передается через понятие «оружие», т. е. соответствует юридическому смыслу самого явления.
* * *
В памятниках древнерусской письменности преломляется христианское понимание войны и мира. Согласно христианской доктрине, войны являются результатом грехопадения, и до тех пор, пока человеческие грехи не будут искуплены, установление прочного мира на земле невозможно. Христос, отрицая войну и насилие, вместе с тем утверждал: «Царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Мое, то служители мои подвизались бы за Меня, чтобы я не был передан иудеям» (Ин. 18: 36), т. е. если бы Христос был земным царем, то стремление апостола Петра обнажить меч в его защиту, было бы одобрено. Петр в Гефсиманском саду действовал по законам «мира сего» и был остановлен Христом, подчиняющимся иной логике («Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» (Ин. 18: 11), не осуждающей, а отменяющей действия Петра. Вместе с любовью Спаситель несет на землю меч: «Не мир пришел Я принесть, но меч» (Мф. 10: 34). Таким образом, война не только является атрибутом мира, погрязшего в грехе, но и одним из путей к спасению. Эта мысль получила развитие в ранней христианской литературе. Блаженный Августин считал, что Божий промысел «обыкновенно исправляет и изглаживает войнами испорченные нравы людей» [Августин, 1994, т. 1, с. 3]. Противопоставлению Града Земного и Града Небесного у Августина соответствует противопоставление двух видов войн. Одни ведутся внутри Града Земного, это войны «худшего свойства, т. е. союзнические и гражданские[2]», которые тяжким гнетом лежат на человеческом роде [Там же, т. 4, с. 119]. Справедливые войны, по мнению Августина, ведутся между Градом Небесным и Градом Земным против земной несправедливости во имя вечной жизни и вечного мира. Но даже такие войны вызывают если не осуждение, то сожаление Августина, так как являются реакцией на несправедливость, а «несправедливость эта во всяком случае должна вызывать скорбь в душе человека» [Там же, с. 120]. Однако независимо от того справедлива война или нет, она для Августина является постоянным напоминанием о мире, так как любая война ведется ради мира: «…как есть некая жизнь без скорби, но скорбь без какой-нибудь жизни быть не может: так есть некоторый мир без войны, но войны без какого-нибудь мира быть не может» [Там же, с. 151]. Более того «у истинных богопочитателей даже самые войны имеют мирный характер». Соотношение мира и войны у Августина коррелирует с соотношением жизни и смерти. Сама смерть является результатом войны не только в том смысле, что одни люди убивают других, но и в том, что в Земном Граде война ведется не только между государствами, не только внутри государства, но и внутри семей и внутри отдельно взятого человека. И только последовательное восстановление мира, начиная с внутреннего мира каждого человека приведет к победе Небесного Града и установлению вечного мира и вечной жизни.
Собственно говоря, только вечный мир может быть подлинным и считаться прямой противоположностью войны. Развивая мысли Августина, Фома Аквинский противопоставлял мир совершенный как «предельную цель разумного творения» и мир несовершенный, «который обретается в этой жизни» [Фома, 2015, с. 367]. Мир в последнем значении предполагает согласие и единство людей, или, как цитирует Фома Августина, «людской мир есть упорядоченное согласие» [Там же, с. 364], в то время как Дионисий Ареопагит утверждал, что «мир всех объединяет и производит единомыслие». Фома, следуя Дионисию, не ставит знака равенства между согласием и миром, полагая, что «согласие» более широкое понятие. Оно включает мир, но не сводится к нему. Согласие может существовать между людьми, но при этом отсутствовать внутри одного человека. «Согласие подразумевает единство желаний различных желающих, а мир, кроме этого единства, подразумевает еще и единство желаний одного желающего» [Там же, с. 365]. В большей степени Фома соглашается с другим определением Августина: «мир есть спокойствие порядка». Резюмируя идеи своего великого предшественника, Фома считает войну справедливой при соблюдении трех условий. Во‑первых, она должна быть объявлена правителем, т. е. лицом, имеющим право говорить от имени народа; во‑вторых, война должна иметь своим источником несправедливость; в‑третьих, «чтобы намерение воюющих было правильным, т. е. чтобы они хотели либо произвести добро, либо предотвратить зло» [Там же, с. 480–481].
Христианские идеи справедливых войн порождали в различных культурах представления о добродетелях воинов, сражающихся во имя благой цели. В памятниках киевского периода осуждение междоусобных войн соседствует с представлением о войне как достойном и почетном занятии. Существовала довольно строгая воинская этика, предписывающая, каким должен быть настоящий воин. Прежде всего воин должен быть защитником, только тогда меч, который принес Христос в мир, будет служить добру, а не злу. В «Поучении» Владимира Мономаха сказано: «Всего же паче убогих не забывайте, но елико могуще по силе кормите, и придайте сироте, и вдовицю оправдите сами, а не вдавайте сильным погубити человека» [Мономах, 1978, с. 398].
Война, в представлении Мономаха, – это не эксцесс, а тяжелый будничный труд, который надо выполнять так же, как и домашнюю работу. Поэтому война и мир не противопоставляются, а соединяются в едином семантическом поле труда: «В дому своемь не ленитеся, но все видите; не зрите на тивуна, ни на отрока, да не посмеются приходящии к вам ни дому вашему, ни обеду вашему. На войну вышедъ, не ленитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни еденью не лагодите, ни спанью; и стороже сами наряживайте, и ночь, отвсюду нарядивше около вои, тоже лязите, а рано встанете; а оружья не снимайте с себе вброзе, не розглядавше ленощами, внезапу бо человек погыбаеть» [Там же, с. 400].
Заслуга воина заключается не только в победах, но и в умеренности притязаний, в умении прощать и мириться с противником. Мономах не только не стыдится, что добровольно отдал своему злейшему врагу Олегу Святославичу Чернигов, когда тот привел с собой против него половцев, но ставит в заслугу то, что «съжаливъси хрестьяных душь и селъ горящих и монастырь, и рех: “Не хвалитися поганым!” И вдах брату отца его место, а сам идох на отця своего место Переяслвлю» [Там же, с. 404]. Воин должен всегда оставаться христианином и воздерживаться от произвольного убийства: «…ни права, ни крива не убивайте, ни повелевайте убити его: аще будет повинен смерти, а душа не погубляйте никакояже хрестьяны» [Там же, с. 398].
Осуждая убийство как таковое, Мономах ничего не говорит об убийстве на войне. Он неслучайно обходит эту тему молчанием, так как, с одной стороны, убийство на войне – дело неизбежное, а с другой – оно осуждается церковью. Отрицательное отношение к убийству даже на войне в Киевской Руси, как показала Е.В. Белякова, было обусловлено 13‑м правилом Василия Великого (IV в.), «которое налагает церковную епитимью на воина, убившего на войне. <…> Согласно этому правилу воин отлучался на 3 года от церковного причастия» [Белякова 2003, с. 50]. В XV в. ситуация меняется, и «в посланиях и грамотах московского происхождения настойчиво проводится мысль о том, что погибшие на войне за “православное христианство” будут удостоены мученических венцов» [Там же, с. 58]. Таким образом, заключает автор, «мы можем говорить не о воспроизведении “византийской модели”, а о создании новой идеологии “священной войны”, чуждой Византии» [Там же, с. 60]. При этом Е.В. Белякова не идет дальше констатации факта смены представления о войне. «Мы не можем, – выделяет она курсивом, – ответить сейчас на вопрос, когда эта идея впервые появляется в русских памятниках и каково ее происхождение» [Там же, с. 58].
Между тем можно было бы указать контекст, в котором новое понимание войны и смерти за веру обретает подобный смысл. Идея священной войны, хорошо вписывается в общую ориентацию русской культуры конца XV – середины XVI в. на Восток. Падение Константинополя в 1453 г. и конец монголо-татарского ига в 1480 г. (оба эти события совершились на глазах одного поколения) поставило молодое московское государство перед проблемой освоения их наследия. В то же время недоверчивое отношение к Западу как к миру греха актуализировало представление русских людей об их принадлежности к миру восточной культуры.
Если говорить о субъективной ориентации деятелей русской культуры середины XVI в., то в первую очередь следует вспомнить «Казанскую историю». Написанное с промосковских позиций это произведение содержит неожиданно положительные характеристики казанцев, доходящие «до такой степени, что враги Руси молятся православному богу и видят божественные видения, а русские совершают злодеяния, как враги и отступники» [Лихачев, 1987, с. 367–368]. Какие бы ни были субъективные причины у автора «Казанской истории» восхищаться врагами Москвы, его восторженные характеристики мусульман находят широкие параллели в европейской и русской литературе того времени.
XVI век – период широкой экспансии турок в Европу, церковного раскола и начала религиозных войн. Психологический страх перед турецкой угрозой парадоксальным образом способствовал росту туркофильских настроений в европейском обществе. Создавалось представление (которое потом неоднократно будет повторяться в европейской культуре) о том, что западный мир, погрязший в пороках, ереси, внутренних распрях, мятежах и т. д., клонится к своему закату, а на его юго-восточных рубежах создается Турецкая империя, исполненная молодости и сил, управляемая строгими законами.
При этом среди прочих достоинств турок особо подчеркивались их религиозность и воинственность. М. Монтень писал: «Самое мощное государство на свете, какое только известно нам в настоящее время, – это империя турок, народа, воспитанного в почтении к оружию и в презрении к наукам» [Монтень, 1991, кн. 1, с. 228]. Он предлагал даже заставить молодежь, чтобы она «вместо того, чтобы без толку скитаться по городам и весям да обучаться бог знает чему, тратила половину своего времени на участие в морских походах под началом какого-нибудь хорошего капитана, командора родосских рыцарей, а другую половину на изучение дисциплины, принятой в турецком войске, как имеющей большие преимущества по сравнению с нашей» [Там же, кн. 3, с. 427][3]. Идеализируя Турцию, европейские публицисты создают ее образ как антипод европейского мира. Турция, в их представлении, – это как бы Европа наизнанку. Европейские монархи слабы, султан силен; европейские армии состоят из наемников и грабителей, у султана отличные дисциплинированные воины; европейские суды коррумпированы, у турок строгие и неподкупные судьи; европейцы – еретики и вероотступники, турки истинно религиозны и т. д.
Эти идеи проникали в русскую культуру XVI в., в частности через публицистику Ивана Пересветова[4]. Пересветов не считал Русь европейской страной и смотрел на нее как на «восточное царство», что в его глазах было не минусом, а плюсом. По его мнению, Турция, победившая Византию, должна занять ее место в русском культурном сознании. Идеальным правителем, на которого должен ориентироваться Иван Грозный, Пересветов считает Мухамеда II. Подобно тому как казанцы в «Казанской истории» молятся православному Богу, Мухамед II у Пересветова учится по христианским книгам. Он не слушает коварных вельмож, зато воины пользуются у него особым почетом: «Ино у царя, кто против недруга крепко стоит, смертною игрою играет и полки у недругов разрывает, и царю верно служит, хотя он меньшего колена, и он его на величество подымает, и ему имя великое дает, и жалованья много ему прибавляет, для того веселит сердца воинникам своим» [Пересветов, 1956, с. 158][5].
Таким образом, ислам, православие и война оказываются в едином смысловом пространстве. Ценности каждой из этих систем, комбинируясь между собой, и породили концепцию священной войны в русском религиозном сознании XV–XVI вв.
Хотя в Средние века мир постоянно прерывался войнами, и войны часто имели идеологический смысл, христианское мировосприятие исходило из идеи мира как некой первоосновы. О войнах потому много говорится в летописях, что летописцы их воспринимают как эксцесс. Мирная жизнь как норма редко становится предметом изображения и осмысления. В «Повести временных лет» есть года, под которыми нет никаких записей. Это значит, что кровь не лилась, никто не нарушал клятв и не совершал преступлений. А один раз летописец даже написал: «В лето 6537 (1029) Мирно бысть» [ПВЛ, 1996, с. 65], и все. Если мир, то и говорить не о чем. «Домострой» в этом смысле скорее исключение, свидетельствующее о начале глубоких сдвигов в сознании московского человека XVI в.
XVIII век – век Просвещения – с его крайними формами секуляризации перевернул средневековые представления о мире и войне. В России в начале XVIII в. сменилась культурная парадигма. Западное влияние, ощущавшееся в России с конца XIV в. и стремительно нараставшее на протяжении XVII в., получило идеологическое закрепление в ходе Петровских преобразований. Новые представления русских людей о войне и мире стали формироваться не только под воздействием русской национальной традиции, но и под влиянием новейших европейских идей. Идеи Нового времени, непосредственно предшествовавшие Просвещению, проникают в Россию в эпоху Петра I. В 1710 г. по распоряжению Петра был сделан перевод трехтомного труда Гуго Гроция «О законах брани и мира»[6].
Голландский юрист в своем сочинении на латинском языке рассматривает войну и мир как две правовые категории, включенные в тройную систему отношений: божественное право, естественное право и право народов. С большим количеством отсылок к трудам как античных, так и христианских мыслителей Гроций доказывает, что война не противоречит ни одному из этих прав, если она является справедливой. Правда, термину «справедливая» Гроций предпочитает термин «торжественная», имея в виду, что правильная война должна сопровождаться ритуальной символикой, свидетельствующей о включенности воющих сторон в единое правовое пространство. И хотя «по естественному праву никому не возбраняется воевать» [Гроций, 1994, с. 180], христианская нравственность заставляет отказываться от войны, даже когда она является оправданной и даже когда предстоит выбирать между миром и свободой, так как, по мнению Гроция, «жизнь… дороже свободы» [Там же, с. 551–552]. Если же отказаться от войны не представляется возможным, то «тем усерднее должно стремиться к тому, чтобы она смягчалась человеколюбием, пока, чрезмерно подражая диким зверям, мы не разучились быть людьми» [Там же, с. 824]. Торжественно-ритуальный характер войны является не только гарантией ее правового статуса, но и проявлением человечности. В этом смысле торжественная война противопоставляется «зверской» войне, ведущейся ради удальства, и «разбойнической», ведущейся ради захвата чужого имущества [Там же, с. 527–528].
Характерная для Просвещения антитеза естественное состояние – общественное состояние перевернула христианское представление о мире как изначальной норме человеческого бытия. Наиболее ярко эту точку зрения выразил Томас Гоббс. По его мнению, «естественное состояние, т. е. состояние абсолютной свободы, в каковом пребывают люди, не являющиеся ни суверенами, ни подданными, есть анархия и состояние войны» [Гоббс, 1991, с. 276]. При этом он поясняет, что «война есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения» [Там же, с. 95–96]. Если война у Гобсса получает позитивное определение и наполняется определенным содержанием, включающим как объективное состояние, так и субъективное намерение, то мир определяется только негативно: «Все остальное время есть мир». Мир не является синонимом гражданского состояния подобно тому, как война является синонимом естественного. Гражданское состояние лишь создает условия для мира. Желая сохранить жизнь и пользоваться результатами своего труда, люди естественным образом приходят к соглашению, т. е. заключают общественный договор, но этот договор в лучшем случае способен гарантировать внутренний мир при соблюдении Евангельского закона: поступай по отношению к другим так, как ты желал бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе [Гоббс, 1991, с. 99]. Если внутренний мир может быть обеспечен хорошей организацией общества, то международное право воспроизводит на уровне отдельных государств модель естественного состояния, так как, по мнению Гоббса, «международное право и естественное право одно и то же» [Там же, с. 275]. Еще одна функция войны – контроль над ростом населения планеты: «Когда весь мир окажется перенаселенным, тогда остается как самое последнее средство война, которая заботится о всяком человеке, давая ему победу или смерть» [Там же, с. 270]. Таким образом, по Гоббсу, война охватывает прошлое, настоящее и будущее человечества. Определяя естественное состояние людей как войну всех против всех, Гоббс тем самым молчаливо признает природу человека злой и неразумной.
Такое понимание шло вразрез с мнением большинства просветителей. Против отождествления естественного состояния и войны выступил Джон Локк. «Мы имеем ясную разницу, – отмечал он, – между естественным состоянием и состоянием войны; а эти состояния, что бы ни утверждали некоторые люди, столь же далеки друг от друга, как состояния мира, доброй воли, взаимной помощи и безопасности и состояния вражды, злобы, насилия и взаимного разрушения» [Локк, 1988, с. 272]. Поскольку человек по своей природе разумное существо, «постольку он не должен наносить ущерб жизни, здоровью, свободе или собственности другого» [Там же, с. 265]. Из состояния полной свободы и равенства, в котором пребывают люди в естественном состоянии «вытекают великие принципы справедливости и милосердия» [Там же, с. 264]. Состояние войны возникает тогда, когда человек вопреки законам разума «пытается полностью подчинить другого человека своей власти» [Там же, с. 271]. Война ведется везде, где сила заменяет право, неважно естественное или гражданское. В этом смысле война в равной степени соотносится как с естественным, так и с гражданским состоянием и противостоит норме как ее искажение. По точной формулировке Эммера де Ваттеля «война – это состояние, в котором своего права добиваются силой» [Ваттель, 1960, с. 425].
По мнению Ж.-Ж. Руссо, в естественном состоянии человек, предоставленный самому себе, не знает войн, а следовательно, он не знает и мира. «Уже хотя бы потому, – писал Руссо, – что люди, пребывающие в состоянии изначальной независимости, не имеют столь постоянных сношений между собою, чтобы создавалось состояние войны или мира; от природы люди вовсе не враги друг другу» [Руссо, 1969, с. 156–157]. Происхождение войн Руссо, как и Локк, связывает не с естественным и не с гражданским состоянием в отдельности, а с их наложением друг на друга, когда «законы справедливости и равенства ничего не значат для тех, кто живет одновременно и в независимости естественного состояния и в подчинении потребностям Общественного состояния» [Там же, с. 420]. В естественном состоянии человек имеет бесспорное право на самозащиту и даже «может завладеть плодами, которые собрал другой, дичью, которую тот убил, пещерою, что служила ему убежищем». Но при этом, замечает далее Руссо, он не может «достигнуть того, чтобы заставить другого повиноваться себе» [Там же, с. 70–71].
Наиболее естественное, точнее «единственное естественное», общество, по Руссо, – это семья, основанная полностью на добровольных отношениях, которые могут в любой момент быть разрушены. «Семья, – по его мнению, – это, если угодно, прообраз политических обществ, правитель – это подобие отца, народ – детей, и все, рожденные равными и свободными, если отчуждают свою свободу, то лишь для своей же пользы» [Там же, с. 153].
Все реально существующие общества, с точки зрения Руссо, совпадающей в данном случае с большинством просветителей, представляют собой чудовищное искажение человеческой природы в результате не грехопадения, а ложного выбора, сделанного человечеством в начале его истории. «Война, – по словам Л. де Жокура и А.‑Г. Буше д’Аржи, – является следствием испорченности людей, это судорожная и жестокая болезнь политического организма. Он здоров, или находится в так сказать своем естественном состоянии, только когда наслаждается миром» [Jaucourt, Boucher d’Argis, 1765, р. 768]. Таким образом, мир признается нормой, а война ее искажением. Такого рода теория разительно расходилась с практикой XVIII в., когда и в России, и в Европе шла череда непрекращающихся войн. И эта практика, порождавшая свои модели поведения, формировала представления о войне как источнике чести и славы, и одновременно наград и карьеры.
Вместе с тем в противопоставлении «свобода – деспотизм» война могла осмысляться и как средство борьбы против тирании за восстановление исконной свободы. В представлении Руссо и Радищева народ имеет безусловное право на вооруженное восстание в случае узурпации его природных прав. Если правитель, назначенный для того, чтобы «равенствó в обществе блюсти» (Радищев), присваивает себе все права и выступает в роли тирана, то общественный договор считается расторгнутым, и начинает действовать естественное право народа на самозащиту. Поэтому гражданский мир в значении «тишина» и «покой» ни для Руссо, ни для Радищева не ассоциировался с общественным благополучием. «Руссо, – пишет Ю.М. Лотман, – неоднократно высказывался против государственной устойчивости, “тишины и покоя” как несовместимых со свободой» [Лотман, 1992, с. 152]. Внутренний мир мог для него ассоциироваться с неволей и выступить в одном семантическом ряду с внешними войнами.
В «Общественном договоре» Руссо читаем: «Скажут, что деспот обеспечивает своим подданным гражданский мир. Пусть так, но что же они от этого выигрывают, если войны, которые им навязывает его честолюбие, если его ненасытная алчность, притеснения его правления разоряют их больше, чем это сделали бы их раздоры? Что же они от этого выигрывают, если самый этот мир становится одним из их бедствий? Спокойно жить и в темницах, но разве этого достаточно, чтобы чувствовать себя там хорошо? Греки, запертые в пещере циклопа, спокойно жили в ней, ожидая своей очереди быть съеденными» [Руссо, 1969, с. 155–156]. Итак, внутренний мир может являться источником внешних войн и прочих притеснений, если он не сопряжен с общественной свободой. Но свобода требует не мира, а постоянной готовности народа поднять восстание. «Право народа на восстание и его готовность это право реализовать гарантируют народный суверенитет от деспотизма администратора» [Лотман, 1992, с. 54].
Соединение понятий «война» и «свобода» наполняло старую идею справедливых войн новым содержанием. Если Гроций видел справедливую (торжественную) войну в соблюдении всех необходимых формальностей, то для просветителей она становится способом защиты естественных прав человека. Подытоживая эти идеи, Луи де Трессан писал в Энциклопедической статье: «При естественной защите я имею право убить, ибо моя жизнь принадлежит мне, как жизнь нападающего на меня – ему; также и государство ведет войну справедливо, ибо его сохранение является справедливым, как и сохранение любого другого государства» [Энциклопедия, 1978, с. 202]. Войны, преследующие иные цели, признаются несправедливыми.
Итак, внутри государства действует общественный договор, обеспечивающий внутренний мир и свободу, а между государствами – естественное право. Как справедливо заметил в свое время академик М.П. Алексеев, «для виднейших философов-материалистов и публицистов этого времени главные вопросы, подлежащие решению, сосредоточены были не в области международных отношений, но в сфере внутренней общественно-политической жизни» [Алексеев, 1984, с. 190]. Тем интереснее, что именно в эпоху Просвещения актуализируются проблемы вечного мира. Не останавливаясь подробно на содержательной стороне этих проектов [Андреева, 1975; Чудинов, 1995; Алексеев, 1994; Рудницкая, 2003; Орлов, 2017], скажу несколько слов об их месте в философии Просвещения.
В одной из фундаментальных просветительских антитез «Разум – Предрассудки», войны, за исключением справедливых, либо относились к предрассудкам, либо мыслились как их порождение. Идея общественного договора сама по себе исключает возможность войн, так как люди никогда о войнах не договариваются. Войны возникают в ситуации, когда общественный договор расторгнут, и начинает действовать естественное право. Поэтому внутренний мир в государстве гарантируется строгим соблюдением установленных соглашений. Для этого граждане должны строго следовать ограничениям, налагаемым на них этим договором. Руссо рассматривал общество как единую нравственную личность (personne morale), растворяющую в себе воли отдельных людей. Вступив в общество, человек утрачивает естественные права и перестает быть человеком. Само слово «гражданин», в представлении Руссо, является антонимом слова «человек». Общество только тогда справедливо и крепко, когда пользуется всеми теми правами, какими пользуется человек в естественном состоянии, а для этого необходимо растворить все индивидуальные желания («волю всех») в «общей воле». Человек утрачивает свою целостность и превращается в дробь. Руссо обосновывал это следующим образом: «Человек-гражданин – это лишь дробная единица, зависящая от знаменателя, значение которой заключается в ее отношении к целому – к общественному организму. Хорошие общественные учреждения – это те, которые лучше всего умеют изменить природу человека, отнять у него абсолютное существование, чтобы дать ему относительное, умеют перенести его я в общую единицу, так как каждый частный человек считает себя уже не единым, частью единицы и чувствует только в своем целом» [Руссо, 1981, с. 28][7].
Таким образом, ценой внутреннего мира является полный отказ личности от своего я. Руссо не видел каких-то сложностей, связанных с насилием над личностью потому, что, как и большинству просветителей, человеческая природа ему представлялась простой: все люди одинаково добры и все равны от природы. Поэтому понять друг друга и договориться для них не представляет труда.
Из идеи природного равенства людей вытекала еще одна важная черта Просвещения – отождествление человека и человечества. На все человечество переносились представления об отдельно взятом человеке. Между государствами существуют такие же отношения, как и между людьми. Они могут строиться как на основе естественного права, так и на основе договора. Первое не исключает участия в войнах, так как каждое государство вправе стремиться к максимальному удовлетворению своих потребностей. Поэтому если хотят избежать войн, то необходимо строить отношения между государствами на тех же принципах, на которых построены внутригосударственные отношения. В идеале это должно было привести к созданию универсальной республики.
Такие проекты в истории европейской культуры неоднократно выдвигались. В мемуарах министра Генриха IV М. Сюлли подробно излагается план создания общеевропейской христианской республики. Для этого, с одной стороны, требовалось изгнание турок с европейского континента, а с другой – расчленение империи Габсбургов. Однако если для Генриха и его министра идеи объединения Европы имели прежде всего политический смысл и вели к укреплению могущества Франции, то для просветителей идеи универсального государства непосредственно вытекали из их философских представлений о единстве человеческого рода и тождестве человека и человечества. Только в рамках единого общечеловеческого государства вечный мир станет реальностью. Но прежде чем это произойдет, необходимо добиться строгого соблюдения общественного договора внутри каждого государства.
В годы Французской революции идеи универсальной республики и вечного мира соединились с намерением экспортировать революцию во все страны. Идеологом этих настроений стал Анахарсис Клоотс. Голландец по происхождению, прусский барон по социальному положению и французский революционер по убеждению Клоотс называл себя «оратором рода человеческого». 14 июля 1790 г. во время праздника объединения Клоотс явился перед Национальным собранием во главе костюмированной процессии, представляющей народы мира, и провозгласил себя «главным апостолом Всемирной республики». Клоотс считал, что «коллективное честолюбие» так же разъединяет народы, как «индивидуальное» честолюбие» разобщает отдельных людей. Но подобно тому, как общественный договор кладет конец стремлению одного человека вредить другому, так и договор между народами положит конец войнам. Для этого требуется, чтобы все люди стали гражданами Всемирной республики, и тогда «организм не будет воевать сам с собой, и род человеческий заживет в мире только после того, как станет одним организмом, единой нацией» [Чудинов, 1995, с. 212].
Уже Генриху IV и Сюлли было ясно, что объединение Европы и идея вечного мира могут быть осуществлены только ценой глобальной войны. Это остановило Руссо, много размышлявшего над этими проблемами, от пропаганды вечного мира. «Давайте, – писал он, – отдав дань восхищения столь прекрасному плану, утешимся тем, что никогда не увидим его осуществленным: ибо это может быть совершено лишь при помощи средств, насильственных и опасных для человечества» [Руссо, 1969, с. 150]. Но это предостережение не остановило французских революционеров, развязавших длинную серию европейских войн во имя единства и счастья человеческого рода.
Базельский мир между Францией и Пруссией, подписанный в апреле 1795 г., хоть и не означал прекращение общеевропейской войны, для Канта он стал поводом обсудить в новых исторических условиях старые проблемы вечного мира. Кант переосмысляет традиционное противопоставление войны и мира как двух постоянно сменяющихся в истории состояний человечества. Само понятие вечного мира философ считает «подозрительным плеоназмом», так как в его представление мир – это не только отсутствие войны, но и отсутствие причин, способных порождать войны. Мир может быть только вечным, а любой другой мир всего лишь перемирие, не меняющее, по сути, перманентное состояние войны, в котором находится человечество. В отличие от просветителей, противопоставляющих естественное и гражданское состояние человека и связывающих войну то с одним, то с другим состоянием, Кант снимает это противоречие. Для него, как заметил И.Г. Фихте, «существование в государстве – единственное естественное состояние человека» [Фихте, 2003, с. 245]. Кант диалектически соотносит понятие войны и мира. С одной стороны, «естественное состояние… есть состояние войны», с другой стороны, «разум с высоты морально-законодательной власти, безусловно, осуждает войну как правовую процедуру» [Кант, 1994, с. 13, 21]. Тем не менее война играет важную роль в истории. Она создает государства, способствует расселению людей по всей планете, совершенствует форму правления, а главное, она диалектически сама себя отрицает, переходя в мирное состояние. Переход от войны к миру осуществится не благодаря и не вопреки усилиям отдельных людей. Он имманентен самой природе (судьбе, провидению), которая приводит к «согласию людей с помощью разногласия даже против их воли» [Там же, с. 26]. Мир, по Канту, возможен лишь при республиканской[8] форме правления, которая неизбежно установится при столь же неизбежной гармонизации отношений политики и морали. Процесс наступления всеобщего мира видится Канту как образование республики у «какого-нибудь могучего и просвещенного народа», к которому как к «центру федеративного объединения» примкнут остальные государства с аналогичной формой правления. «Философский проект» Канта, переосмысляя идеи просветителей, открывал дверь в XIX столетие.
* * *
Первые полтора десятилетия XIX в. выбраны нами не случайно. Этот период в истории России отмечен повышенной военной активностью: c 1805 по 1814 г. Россия участвовала в восьми войнах: трижды она воевала против Франции, а также против Турции, Персии, Англии, Швеции и Австрии [Троицкий, 1988, с. 20]. По завершении Большой европейской войны 1812–1814 гг. и последнего ее пароксизма – Ватерлоо, император России выступил с мистической идей глобального европейского мира под эгидой Священного союза. Никогда еще Россия не была так тесно интегрирована в Европу. Все это, безусловно, влияло на сознание людей и становилось предметом культурной рефлексии. Начало XIX в. – период романтизма в истории русской культуры. Возникший на рубеже столетий и отразивший переломную эпоху с ее резким переходом от веры во всемогущество человеческого разума к разочарованию в нем, как и в самой природе человека, романтизм, с одной стороны, переосмыслял многие фундаментальные идеи Просвещения, а с другой – развивался под его сильным воздействием.
Просвещению с его стремлением к обретению гармонии, интегрирующей человека в природу или справедливое общество, народы в одну семью и т. д., романтизм противопоставил дисгармонию, разрывающую отношения человека и социума. Человек эпохи романтизма – это не простодушный дикарь и не идеальный гражданин, а одинокая личность с уникальным внутренним миром. Этот человек не может понять другого и не может быть понятым другим. Герой романтизма, как правило, узник, изгнанник, беглец, человек, поправший пошлую мораль толпы и расплачивающийся душевным одиночеством за свое величие.
Проблемы войны и мира также были переосмыслены романтическим сознанием. Упомянутое выше просветительское противопоставление мира (как здорового состояния политического организма) войне (как его болезненному состоянию) в какой-то степени было усвоено романтиками. Но сама болезнь, дисгармония и хаос в системе романтизма нередко эстетизировались и переживались как освобождение от мертвящей неподвижности социальных отношений. Война в этом смысле могла приравниваться к очистительному огню, в котором сгорают мещанские принципы земного мира. Но в то же время романтики стремились к обретению высшей небесной гармонии, недостижимой на земле, и тогда войны и раздоры людей могли ассоциироваться с пошлостью обыденной жизни. Героика войны и ее осуждение с позиций неземного идеала в равной степени присущи романтическому мироощущению.
Противопоставляя себя Просвещению, романтики нередко стремились обрести идейную почву в тех системах, которые были в свое время отвергнуты просветителями. Так начинается романтическая реабилитация Средних веков и христианского мироощущения. Все это влияет и на новое понимание войны и мира.
Предметом предлагаемого исследования является идеология Наполеоновских войн и постнаполеоновского мира в том виде, в каком она формировалась и трансформировалась в России на пути от революционных войн, начатых Францией в преддверии XIX в., к Священному союзу, в котором сложно пересекались идеи мистического христианства с объединительными тенденциями XVIII в.
Считаю приятной обязанностью поблагодарить Любовь Николаевну Киселеву, прочитавшую рукопись этой книги и сделавшую множество ценных замечаний, которые я не мог не учесть. Особую благодарность выражаю Анастасии Геннадьевне Готовцевой, взявшей на себя нелегкий труд оформления библиографического указателя.
Глава 1
Девятнадцатый век начинается…
(Начало века как типологическая характеристика)
Существует некий парадокс, заключающийся в том, что такая условная и субъективная вещь, как хронология, порождает вполне реальные исторические периоды. Одно из объяснений этого заключается в том, что недискретное физическое время, попадая в сферу человеческого сознания, как бы разламывается на куски, и эти куски, называемые хронологическими отрезками, получают семантическую окраску. Мы без труда отличаем один век от другого, при том что само понятие «век» – фикция, придуманная людьми. Иными словами, люди придумали хронологию для того, чтобы ориентироваться в непрерывном временном потоке, и сами же оказались от нее в зависимости. Психология людей, живущих на рубеже веков очевидно отличается от психологии людей, живущих в середине века. Люди, вступающие в новый век, еще мыслят в категориях века прошедшего. И произнося суд над уходящим временем, как это делает, например, Радищев в стихотворении «Осмьнадцатое столетие», с новым веком они связывают в первую очередь несбывшиеся надежды прошедшего столетия. То, что не получилось тогда, должно получиться после пересечения временной границы. Так, у Радищева безумие XVIII в. поглотит море вечности, а его мудрость, воплощенная в деяниях Петра I и Екатерины II, продолжится в XIX в., в правление Александра I:
- Петр и ты, Екатерина! дух ваш живет еще с нами.
- Зрите на новый вы век, зрите Россию свою.
- Гений хранитель всегда Александр будь у нас…
Как сильно должны были поменяться представления вчера еще революционно мыслящего просветителя Радищева, чтобы царь, открывающий двери в новое столетие, сделался для него воплощением тех представлений об идеальном монархе, которые сложились в XVIII в., и которые сам Радищев еще недавно подвергал серьезным сомнениям в своем знаменитом «Путешествии». Смена веков представлена в стихотворении Радищева как смена суток. Каждый век имеет свое «дневное» и «ночное» время. «Днем» совершается прогресс, «ночью» – преступления. Ужасы Французской революции стали «ночным» временем для XVIII в., «и человек претворен в люта тигра еще». Начало XIX в. – новый рассвет в истории:
- Утро столетия нова кроваво еще нам явилось,
- Но уже гонит свет дня нощи угрюмую тьму.
Таким образом, запускается новый исторический цикл. Люди, вступающие в новое столетие и уже прожившие в нем некоторое время, могут по-разному оценивать самое начало века. Так, например, А.А. Бестужев-Марлинский писал в 1830‑е годы: «XIX в. взошел не розовою зарею, а заревом военных пожаров» [Бестужев, 1981, с. 422], что, конечно, не соответствовало действительности и являлось, скорее всего, аберрацией памяти. На рубеже веков будущему декабристу было четыре года, и его первые сознательные впечатления приходятся на военный период. Совершенно иначе вспоминал об этом же времени старший современник Марлинского Ф.Ф. Вигель (рубеж веков он перешагнул в 15‑летнем возрасте):
После четырех лет [Павловского правления. – В. П.] Екатерина воскресает от гроба в прекрасном юноше. Чадо ее сердца, милый внук ее, возвещает манифестом, что возвратит нам ее времена…. Но нет: даже и при ней не знали того чувства благосостояния, коим объята была вся Россия в первые шесть месяцев владычества Александра. Любовь ею управляла, и свобода вместе с порядком водворялись в ней. Не знаю, как описать то, что происходило тогда; все чувствовали какой‑то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее [Вигель, 2003, кн. 1, с. 170][9].
И более старшему поколению, приветствующему в начале века восшествие на престол Александра I, казалось, что в мире воцарились тишина и порядок, и теперь войн больше не будет. Эти ожидания, в частности, были высказаны Н.М. Карамзиным в стихотворении «Его императорскому величеству Александру I, самодержцу всероссийскому, на восшествие его на престол». Екатерина прославила русское оружие («Уже воинской нашей славы // Исполнен весь обширный свет»), а Александр должен продолжить ее славные дела, но уже не на военном, а на мирном поприще («Монарх! Довольно лавров славы, // Довольно ужасов войны!.. // Ты будешь гением покоя»).
По-иному с веком Екатерины II начало александровского царствование связал Семен Бобров. В стихотворении «Глас возрожденной Ольги к сыну Святославу» представлена историческая аллегория, скрывающая под именами княгини Ольги, ее сына Святослава Игоревича и внука Владимира Святославича отношения Екатерины II, Павла I и Александра. Христианка Ольга осуждает завоевательную политику своего сына язычника Святослава. Ее тень, обращаясь к Владимиру, произносит:
- Владимир! – Ольги внук, Владимир,
- Тебе реку: внемли! – В час гневный
- Мой сын, несчастный твой отец,
- Оставил ввек сей дол плачевный,
- Приял и дел и дней конец.
- Лишь росс со мной навек простился,
- И зреть меня он в нем не смел,
- Как и того теперь лишился.
Владимир должен теперь по смерти отца вернуться к тому, что было завещано Ольгой и отвергнуто Святославом:
- Чертеж небесный и священный,
- Чтобы народ весь возродить,
- Оставлен на случай пременный.
- Чертеж сей должен ты открыть.
«Чертеж» – это знаменитый Наказ Екатерины II Уложенной комиссии. Речь идет о том, что Александр должен вернуться к политике просвещенного абсолютизма и предстать перед своими подданными не как его отец, воинствующий деспот, а как бабка-законодательница:
- Чертеж теперь славянам лестен
- В нем целый дух мой помещен,
- А дух душе твоей известен.
- Разгни его! – и росс блажен.
- Ты узришь в нем, что дар сладчайший,
- Что небо земнородным шлет,
- Есть царь любезный, царь кротчайший,
- Который свой народ брежет.
Таким образом вводится тема просвещения как антитезы войне:
- Питомец мой багрянородный!
- Ты должен мудрость насаждать
- Среди пелен в умы народны,
- Чтоб с сердцем души воспитать.
При этом просвещение ассоциируется не с насилием, как это нередко бывало в истории России [Парсамов, Шанская, 2003, с. 243–260], а с любовью, которая является лучшей защитой монарха: «любовь, одна любовь – твой щит». Поэтому Святослав (Павел), исповедующий войну – не просветитель:
- Отец твой не был просветитель,
- Он витязь, – к рыцарству рожден.
В религиозном же плане он уподобляется Юлиану Отступнику. В то время как Ольга (Екатерина)
- …водрузила божье знамя
- В холмах Аланских с чертежом;
- В Иулиане гибло пламя…
Поэтому задача Владимира (Александра) возродить наследие бабки: «Ты возроди», – обращается к нему Ольга (Екатерина). Таким образом, создается поэтический миф: некое идеальное начало, ассоциирующееся с миром и законом, в роли которого могут выступать как христианство, так и законодательство; дальнейшая порча, выражаемая войной или деспотизмом; и, наконец, восстановление исходного состояния мира и порядка.
Люди начала столетия при всей их субъективной ориентированности на новизну и устремленности в будущее еще пользуются знаками предшествующего столетия, но уже вкладывают в них иное семантическое наполнение. Особенно это заметно на таком понятии, как «просвещение». В России, начиная примерно с середины XVIII в., слово «просвещение» использовалось как калька с французского les Lumières и соотносилось с философией Просвещения. Просвещенный человек – это, прежде всего, человек, философски взирающий на вещи. В более широком смысле «просвещение» являлось синонимом европеизма. В это смысле просвещенный человек – это человек, получивший европейское образование. Подспудно за этим скрывалось первоначальное церковнославянское значение слова: «Просвещати… значит: крестить, сподобить св. Крещения» [Алексеев, 1816, с. 348]. Однако в обоих случаях имелся инвариант: внесение света во тьму. Это мог быть и свет истинной веры, рассеивающий мрак ложных верований, и торжество разума над предрассудками. Культурная ситуация начала XIX в., в которой сложно переплетались идеи просветителей, разочарование в них, рост религиозных настроений и т. д. превращало слово «просвещение», в силу его терминологической неустойчивости, в мощное оперативное понятие. В этом смысле интеллектуальная деятельность людей начала XIX в., так или иначе связанных со сферой образования, может быть интерпретирована и как антипросветительская – поскольку она была направлена против влияния просветителей XVIII в., и как просветительская – поскольку ее целью было распространение религиозных идей.
С точки зрения самих носителей культуры, речь шла о противопоставлении истинного и ложного просвещения. Под ложным просвещением могла пониматься как вся философия XVIII в., так и злоупотребление ею в ходе Французской революции. Так, например, Владимир Васильевич Измайлов в 1804 г. в своем журнале «Патриот», не подвергая сомнению основной комплекс просветительских идей, писал:
…Истребление всех предрассудков, вредных, для человека; терпимость всех мнений политических, религиозных и философских, как скоро они не приносят вреда обществу; распространение Искусств и Наук, которые умножая наслаждения жизни, размножают в то же время способы народной промышленности; должное уважение к нравам, просвещеннейшее употребление богатств, обращение власти к пользе народов…
Полагая, что «Франция страдала беспримерным образом от недостатка Философии», В.В. Измайлов снимал ответственность с «писателей-философов», которые хотели «просветить умы для великих должностей, прежде нежели даровать им великие права» [Измайлов, 1804, с. 6–8]. Противопоставляя идеи Просвещения их непросвещенному применению на практике, В.В. Измайлов не только не считал необходимым подвергать их пересмотру, но, напротив, призывал к их более глубокому осмыслению. Однако такая точка зрения в начале XIX в. казалась уже архаичной. Люди, размышляющие о социальных преобразованиях в новых условиях, стали полагать, что Французская революция показала жизненную непригодность просветительских идей. И именно в силу этого они не могут служить делу практического просвещения.
«Есть люди, – рассуждал Иван Петрович Пнин, – которые о просвещении народа заключают по числу их сочинителей: то есть там, где больше находится сочинителей, там более и просвещение. По мнению сих людей, Франция должна бы почесться наипросвещеннейшею страною в свете, потому что она обильнее всех прочих своими писателями. Но сколь при всей ее блистательной учености далеко еще отстоит она от истинного образования[10]. Ибо там, где царствует просвещение, там спокойствие и блаженство суть уделом каждого гражданина» [Пнин, 1934, с. 124].
Если ложно понятое просвещение ведет к революции, то правильное просвещение способствует установлению прочных отношений между сословиями в государстве на основе строгих законов. Таким образом, синонимом «просвещения» становится образование как в широком, законодательном смысле, так и в узком – как создание сети учебных заведений. Народное образование должно служить основой для преобразования всего общества. 8 сентября 1802 г. Александром I был подписан указ об учреждении восьми министерств, в том числе Министерства народного просвещения, которое, по мнению И.П. Пнина, «поистине может назваться древом, а прочие его ветвями» [Там же, с. 159].
Соединение просвещения и образования меняло сам характер просветительского мифа. Если раньше просвещение могло мыслиться как мгновенный акт, как некое прозрение, превращение ветхого народа в новый народ, то теперь оно связывается с постепенным процессом распространения знаний. Теперь речь идет не о достижении какого-то идеала, а о постепенном искоренении недостатков. Практическая сторона просвещения становится важнее его идеологического насыщения.
Просветители, как известно, исходили из исконно доброй природы человека. Из этого вовсе не следует, что они не замечали противоречивости окружающих их людей. Когда Жан-Жак Руссо в «Эмиле» писал: «Человек от природы добр» [Руссо, 1981, с. 278], это не значит, что ему была недоступна реальная сложность человеческой природы. Совершенно другой взгляд на человека дан в «Исповеди»: «Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил свою душу и показал ее такою, какою ты видел ее, всемогущий» [Руссо, 1961, с. 10]. В «Эмиле» и в «Исповеди» представлены разные уровни моделирования личности. Если в «Исповеди» речь идет о том, чтобы показать человека таким, какой он есть на самом деле, и в качестве объекта Руссо берет того, кого он лучше всего знает – самого себя, то в «Эмиле» дана чистая конструкция человека, т. е. он показан с философской точки зрения. Иными словами, в одном случае читателю показывается человек как текст, во втором – человек как язык. Для Руссо же в целом как для просветителя характерна ориентация на язык, а не на текст, на теорию, а не на практику. Поэтому неслучайно героем воспитательного романа становится непорочный Эмиль. Отсюда задача воспитателя заключается в том, чтобы не дать социальным предрассудкам заглушить в человеке доброе начало, заложенное в него от природы.
Эти представления в начале столетия оказались перевернутыми. Оппоненты просветителей ориентировались, как правило, на тексты, а не на язык, и стремились представить своих противников беспочвенными мечтателями. В противовес теории выдвигался опыт. Как писал А.С. Стурдза: «Опыт, сын труда и лет, по изречению великого современного поэта, сей неутомимый обличитель суетных мечтаний и заблуждений человеческих, доводит законы и учреждения гражданские до некоторой зрелости не везде равной и не всегда обращаемой в существенную пользу народов и Государств» [Стурдза, 1818, с. 54].
Опыт, в отличие от теории, имеет дело с заведомо несовершенными конструкциями. Он всего лишь помогает человеку из двух зол выбирать меньшее. Это объясняется в первую очередь несовершенством самой природы человека. То, что Руссо признавал как факт, но без чего он легко обходился в теории, для Жозеф де Местра становится основополагающим принципом. Сложность человеческой природы является для Местра исходной точкой в его социологических построениях: «Человек как существо одновременно нравственное и порочное, справедливое в своем рассудке и испорченное в своих желаниях, должно обязательно быть управляемым, иначе он был бы одновременно социальным и асоциальным, и общество было бы одновременно необходимым и невозможным» [Maistre, 1884–1886, t. 2, р. 167].
Другое не менее важное для XVIII в. понятие «народный суверенитет» в новой парадигме идей включалось в двойную систему оппозиций. Идее безграничности народного суверенитета, отстаиваемой Руссо, противопоставлялась идея ограничения любой власти. Следует заметить, что европейский либерализм в лице одного из его зачинателей, Бенжамена Констана, выдвинул идею ограничения любой власти, от кого бы она ни исходила: «Суверенитет может существовать только в ограниченном и относительном виде. Там, где начинается независимость индивидуального существования, там заканчивается юрисдикция суверенитета. Если общество переступает эту черту, оно становится так же виновно, как деспот, не имеющий иного права, кроме права меча… Руссо не знал этой истины» [Constant, 1997, р. 313].
Стремление к ограничению народного суверенитета связано не только с представлением о том, что, как выразился Никита Муравьев, «масса людей может сделаться тираном так же, как и отдельное лицо» [Дружинин, 1985, с. 85–86], но и с разрушением самой идеи народа как некой антропологической целостности, изоморфной отдельно взятому человеку. XIX век расщепил эту идею на две, выдвинув, с одной стороны, идею уникальной личности, а с другой – идею национальной самобытности. Первая очень быстро породила представление о душевном одиночестве, раннем нравственном увядании, вызванном апатией и опытом. По этому поводу Б. Констан писал:
Мы потеряли в воображении то, что мы получили в знании, через это мы стали неспособны к длительному воодушевлению. Нравственная жизнь древних находилась в состоянии юности, наша находится в состоянии зрелости, и, может быть, старости. Мы влечем за собой груз задних мыслей, рождающих опыт и убивающих энтузиазм. Первое условие энтузиазма – это не наблюдать с проницательностью самого себя. Мы так боимся быть обманутыми или казаться ими, что беспрестанно самым беспощадным образом следим за нашими впечатлениями. Древние о всех предметах имели целостные суждения, мы же почти обо всем имеем суждения мягкие и колеблющиеся[11], в неполноте которых, мы напрасно ищем рассеяния. Слово иллюзия не имеется ни в одном из древних языков, потому что она появляется, когда исчезают предметы [Constant, 1997, р. 207].
Эти слова представляют собой психологический концентрат европейского романтизма, породившего тот тип героя, который в русской литературной традиции будет именоваться «лишним человеком».
Идея же абстрактного народа трансформировалась в идею неповторимости национальных культур. Ж. де Местр иронизировал по поводу просветительских представлений о неизменности человеческой природы: «В моей жизни я встречал французов, итальянцев, русских и т. д.; я даже знаю, благодаря Монтескье, что можно быть персиянином… Но вот, что касается человека, заявляю, что никогда в жизни его не встречал; и если он существует, то мне об этом ничего неизвестно» [Maistre, 1884–1886, t. 1, р. 74].
Эти две идеи – идея автономной личности и идея национального суверенитета как монокультурного образования – по‑новому поставили старую идею вечного мира.
В Европе идея мира в тот период ассоциировалась, прежде всего, с именем первого консула Французской республики Наполеона Бонапарта. При этом сам Наполеон считал себя основоположником европейского либерализма[12]. 9 февраля 1801 г. был подписан Люневильский мир, положивший конец австрийским претензиям на европейскую гегемонию и закрепивший лидирующее положение Франции на континенте. В состоянии войны оставалась лишь Англия, которую Наполеон, заклиная дать свету мир, пытался представить в образе агрессора. Оказавшись в изоляции, Англия вскоре вынуждена была пойти на перемирие, и 27 марта 1802 г. был подписан Амьенский мирный договор. По мнению Альфонса Олара, «эти два договора – Люненвильский и Амьенский – были встречены почти единодушной радостью. Все с уверенностью смотрели на будущее. Казалось, что для всего человечества начинается новая эра согласия и благоденствия. Казалось, что Бонапарт, подобно Генриху IV, окончательно “повенчал Францию и мир”. Он сделался героем мира, как раньше был героем войны. Все сердца устремлялись к нему, невольно и наивно подкупленные его блестящими заслугами и очарованные тем обаянием, которое исходит от гения [История, 1938, т. 1, с. 91].
Сам факт, что Александр вступает на престол в момент общеевропейского мира, воспринимался как доброе предзнаменование нового царствования. В.А. Озеров в «Оде на радостное восшествие его императорского величества Александра Павловича на Всероссийский престол» писал:
- Так светлой радугой заветной
- Предстала ныне нам весна,
- Когда десницею бессмертной
- В Европе брань потушена
- И вместе с миром вожделенным
- Мы Александра возведенным
- Увидели на русский трон.
- Так после бурной непогоды
- С полуночи в морские воды
- Блестящий светит Орион
«Десница бессмертная» – это метонимическая замена Наполеона, с которым в это время ассоциируются идеи сильной власти и миротворчества. Особенно много об этом говорится на страницах карамзинского «Вестника Европы». Как справедливо заметил Ю.М. Лотман, «“Вестник Европы” Карамзина – журнал откровенно бонапартистский» [Лотман, 1997, с. 270]. Это отражало широкие настроения русского дворянства. Сергей Глинка, вспоминая юность, писал:
С отплытием Наполеона к берегам Египта мы следили за подвигами нового Кесаря; мы думали его славой; его славой расцветала для нас новая жизнь. Верх желаний наших было тогда чтобы в числе простых рядовых находиться под его знаменами. Но не одни мы так думали и не одни к этому стремились. Кто от юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом [Глинка, 1895, с. 194].
В России начало нового века было отмечено не только сменой монарха на престоле, но и началом нового тысячелетия русской истории. Фредерик Цезарь Лагарп писал Александру 19 августа 1804 г.: «Россия ждала вас десять столетий» [La Harpe, 1979, р. 167], или еще раньше (ноябрь 1803 г.): «Россия купила ваше правление десятью веками страдания» [Ibid, р. 86]. Лагарп рассчитывал, что новое тысячелетие откроется для России беспрецедентными реформами, которые не только превратят ее в цивилизованную страну, но и выведут в силу ряда как внешних, так и внутренних причин на первое место в мире. Он предлагал царю в первую очередь уничтожить злоупотребления, уважая священное право собственности, обеспечить гражданские свободы и заменить правительственный деспотизм сильным правлением, гарантирующим как права правительства, так и граждан. В этом, по мнению Лагарпа, должна состоять главная цель правления Александра. И хотя бывший наставник Александра считал, что «внешняя политика может быть только на втором месте и единственно как средство обеспечивающее достижение великой и благородной цели» [La Harpe, 1978, р. 452], тем не менее он стремился своими советами помочь молодому царю найти правильную линию и в международных отношениях.
Мир воспринимался в то время, не как отсутствие войны, а как особым образом организованный порядок. Этим, собственно говоря, вечный мир отличается от простого мира. Если последний есть всего лишь интервал между войнами, то первый исключает саму возможность войны. Для поддержания такого порядка необходимы сильная власть внутри страны, наличие некоторого международного органа для решения спорных вопросов между странами и поддержание баланса международных интересов.
В октябре 1801 г., находясь в Петербурге, Лагарп в личном письме Александру I изложил план обустройства России. Но приехал он в Россию в августе того же года с иной и вполне конкретной целью. Значительно позже, уже после смерти Александра, в письме к великому князю Константину Павловичу Лагарп раскрыл цель своего приезда:
Я предпринял поездку в Петербург для того чтобы поговорить с Императором об одном проекте, может быть романтическом, но, по крайней мере, филантропическом, состоящем в том, чтобы сблизить двух людей, поставленных тогда судьбой во главе России и Франции, в надежде, что результатом такого сближения будут: 10 поддержание мира в Европе; 20 преобладающее влияние на ход дел в пользу просвещения и либеральных учреждений [La Harpe, 1980, р. 1610].
По дороге в Петербург Лагарп остановился в Париже, где имел беседу с министром полиции Ж. Фуше. Отказавшись от личной встречи с Наполеоном, Лагарп изложил суть своего проекта Фуше: «Франция и Россия оказались в положении, в котором они могут без взаимного вреда помогать друг другу. Они располагают такими возможностями, что, объединившись, установили бы мир в Европе. Во главе обеих стран стоят люди молодые, энергичные, активные. Если они договорятся друг с другом, и согласятся между собой в том, что нужно делать, и заложат основания для совместных действий, то могут получиться великие и спасительные результаты». Подобный план вызвал недоумение у наполеоновского министра, решившего, что за этим скрывается какая-то политическая игра, на что Лагарп в свойственной ему открытой манере заявил: «Вы дипломатничаете со мной. Я же дипломатию ненавижу и говорю то, что пришло мне в голову. Вы, может быть, будете смеяться над этим, как смеялись над проектами аббата Сен-Пьера, но для меня это не имеет значения» [Ibid., р. 665–666].
Таким образом, Лагарп хотя прямо и не говорит о возможности вечного мира, отсылка к Шарлю Ирене Кастелю аббату де Сен-Пьеру показывает, что эти идеи так или иначе присутствовали на периферии его политической программы 1801 г. или, во всяком случае, в то время не казались ему невозможными.
Александр I, скорее всего, разделял в то время взгляды своего бывшего наставника и друга. Адам Чарторыйский в своих мемуарах недвусмысленно свидетельствует о симпатиях юного Александра к «принципам 89 года, которые ему были внушены Лагарпом». Александр и Лагарп неоднократно беседовали на эту тему, и незадолго до отъезда Лагарпа из России царь поручил ему передать личное письмо Наполеону, свидетельствующее о его готовности сделать первый шаг к сближению.
Но еще до приезда Лагарпа с его проектом в Петербург 7 (19) мая 1801 г. прибыл адъютант Наполеона Жерар Кристоф Мишель Дюрок для установления отношений с новым царем [Шильдер, 1897–1898, т. 2, с. 56] и встретил там радушный прием. Как свидетельствует Чарторыйский, «Александр был очарован при виде французов пресловутой революции, которых он считал еще республиканцами. Он смотрел на них с любопытством и интересом: он столько слышал о них и столько думал! Он имел огромное удовольствие вместе с великим князем Константином, разговаривая с ними, называть их титулом гражданин, которым, как полагал Александр, они гордились. Но это было совсем не во вкусе двух посланцев Бонапарта, и они вынуждены были несколько раз протестовать, ссылаясь на то, что во Франции больше не принято называть друг друга гражданами, прежде чем Александр и его брат перестали это делать» [Czartoryski, 1887, р. 284].
Любопытно, как быстро менялись эпохи и настроения! Абсолютный монарх и его брат с удовольствием называют вчерашних революционеров гражданами, а последние уже стыдятся этого обращения.
В беседе с Дюроком, расточая комплимент первому консулу и в то же время желая избежать каких бы то ни было конкретных обязательств по отношению к Франции, Александр I сформулировал принцип невмешательства во внутренние дела государств как средство избежать войны. Летом 1801 г. русские представители в Лондоне, Вене и Берлине получили рескрипт от высочайшего имени, в котором, между прочим, говорилось:
Я не вмешиваюсь во внутренние несогласия, волнующие другие государства; мне нет нужды, какую бы форму правления ни установили у себя народы, пусть только и в отношении к моей империи руководствуются тем же духом терпимости, каким руководствуюсь и я, и мы останемся в самых дружественных отношениях [Шильдер, 1897–1898, т. 2, с. 59].
Этой фразой Александр как бы узаконивал те изменения, которые произошли в Европе после Французской революции. Пожизненный консулат, уставленный 2 августа 1802 г., рассеял бонапартистские иллюзии и у царя, и у его наставника. В письме к Лагарпу от 7 июля 1803 г. Александр писал:
Начиная с момента установления пожизненного консульства, завеса пала, и с тех пор дела идут от плохого к худшему. Он сам лишил себя самой прекрасной славы, на которую только может рассчитывать человек и плоды которой ему только оставалось собрать, славы продемонстрировать то, что он трудился без всякой личной выгоды единственно для счастья и славы отечества, и будучи верным конституции, на которой он клялся, сложить после десяти лет власть, которая была в его руках. Вместо этого он предпочел обезьянничанье придворных, полностью нарушив конституцию своей страны. Теперь это один из самых знаменитых тиранов, каких производила история [Николай Михайлович, 1912, т. 2, с. 358; La Harpe, 1979, р. 44–45].
Александр ждал почти год, прежде чем возмутиться пожизненным консульством гражданина Бонапарта. Решающую роль здесь сыграла оккупация французами Ганновера, наследственного владения английского короля Георга III, с перспективой захвата всей Северной Германии и установления контроля над русской торговлей. При этом и Наполеон, и Сен-Джемский кабинет надеялись привлечь царя каждый на свою сторону. Предчувствуя, что Александр готов вмешаться в войну Франции и Англии на стороне последней, Лагарп пытается представить дело так, что обе стороны несут равную ответственность за эту войну, и России нет оснований в нее вмешиваться: «Современная война, подготовленная непрочным Амьенским миром, является результатом беспутства французского правительства и злонамеренности англичан и французов в настоящее время». Далее Лагарп продолжает: «Английское и французское правительства равно амбициозны, равно коварны, равно погрязли в интригах и отличаются друг от друга только тем, что одно разбойничает на континенте, а другое на море. Поэтому было бы кстати использовать их друг против друга, если бы при этом не страдали посторонние» [La Harpe, 1979, р. 68].
Любой исход этой войны, по мнению Лагарпа, будет гибелен для Европы, так как установится единственная гегемония победителя. Впрочем, если выбирать между Францией и Англией, то теперь Лагарп явно склоняется в сторону Англии. В его представлении Наполеон – ббольшая угроза миру, чем эгоизм внешней политики Англии. Но и это обстоятельство, по его мнению, не должно побуждать Россию вступать в эту войну.
Особенно сильно Лагарп убеждал царя сохранять нейтралитет после убийства герцога Энгиенского, ставшего удобным поводом для разрыва отношений России и Франции. История похищения и расстрела герцога многократно описана в мемуарной, научной и популярной литературе, опубликованы также материалы его допросов [Marguerit-Montmeslin, 1814; Saint-Hilaire, 1844; Boulay de Meurthe, 1886; Bertaud, 1972; Fragioli, 2008]. Это событие потрясло Европу. Но не расстрел невиновного человека, и даже не сам факт грубого попрания международного права французскими жандармами возбудили протестные настроения европейских политических кругов. Бурбонам в то время мало кто сочувствовал. В эмиграции они жили обособлено и вызывали у европейских правителей скорее раздражение, чем сочувствие. С их именем связывались главным образом войны и расходы на их содержание. Поэтому сам факт убийства одного из Бурбонов вряд ли привлек бы чье-либо продолжительное внимание, если бы за этим не увидели поворот в политике Бонапарта. То, что уже вызвало серьезные опасения (занятие французами неаполитанских и ганноверских портов, открытое вмешательство в дела Пьемонта и Швейцарии и т. д.), теперь обрело отчетливые признаки того, что Наполеон поставил себя выше международного права и стремится стать единственным господином Европы. Английские эмиссары старательно подогревали ненависть к Наполеону немецких князей, но вряд ли могли бы в этом успеть из‑за сильных противоречий между германскими политиками, предпочитавшими ссориться между собой, не ссорясь при этом с Наполеоном.
В этих условиях сама идея мира скорее ассоциировалась с неволей, чем благом. Либерализм, исповедуемый Александром I, отнюдь не исключал военные средства в борьбе против наполеоновской тирании. Новые принципы своей внешней политики царь изложил в секретной ноте Н.Н. Новосильцеву от 11 (23) сентября 1804 г. В ней речь шла не только о возможности военного союза России и Англии против наполеоновской Франции, но и о новых принципах построения мира в послереволюционной Европе. Прежде всего бросается в глаза густая либеральная риторика, которой насыщен этот документ. Александр понимает, что пропаганда свободолюбивых идей действует сильнее, чем оружие. И этим в первую очередь он объясняет успех наполеоновской политики:
Самое могучее оружие французов, которым они до сих пор пользовались и которое все еще представляет в их руках угрозу для всех стран, заключается в убеждении, которое они сумели распространить повсеместно, что они действуют во имя свободы и благоденствия народов. Было бы постыдно для человечества, если бы столь благородное дело считалось целью правительства, не достойного ни в каком отношении выступать ее поборником; для всех государств было бы опасно оставлять за французами и на будущее время важное преимущество обладания подобной репутацией. Для блага человечества, действительных интересов законных правительств и успеха предприятия, намечаемого обеими нашими державами, необходимо, чтобы это грозное оружие было вырвано из рук французов и обращено против них самих [ВПР, 1961, с. 146].
Вся нота строится, с одной стороны, на разоблачении «недостойного правительства» Франции, «прибегающего поочередно то к деспотизму, то к анархии»; а с другой – на пропаганде «либеральных принципов», позволяющих «завоевать уважение и внушить к себе всеобщее и заслуженное доверие» [Там же, с. 143].
Всеобщая война (la guerre généralе) мыслится как война за установление вечного мира (la paix perpetuelle), который для Александра возможен только между обновленными государствами. Поэтому первое выдвигаемое им условие заключается в стремлении «не только не восстанавливать в странах, подлежащих освобождению от ига Бонапарта, прежний порядок вещей со всеми его злоупотреблениями, с которыми умы, познавшие независимость, не будут уже более в состоянии примириться, но, напротив, постараться обеспечить им свободу на ее истинных основах» [Там же, с. 146]. Правительства должны действовать в интересах народов внутри своих государств и во взаимных интересах между собой. Их отношения должны строиться на основе международного права (droit de gens).
Видимо, для наблюдения за действием этого права будет создан специальный орган, наподобие «Европейского сейма» Ш.И. Сен-Пьера, известного автора одного из многочисленных в XVIII в. проектов вечного мира. И хотя прямо этот орган никак не обозначается, Александр упоминает «объединенные вооруженные силы нового союза [курсив мой. – В. П.]». Союз, разумеется, будет добровольным и в первую очередь рассчитан на защиту интересов малых государств от посягательств со стороны больших. Характерно, что Александр, сам находясь во главе огромной империи, считает существование европейских империй угрозой для мира. Поэтому «необходимо… чтобы в состав каждого государства входили однородные национальности (peuples homogènes), которые могли бы жить согласно между собою и со своим правительством». Правда, сам царь при этом признается, что «трудно еще сказать, в какой степени можно будет достичь этой цели» [Там же, с. 148].
В качестве исторического прецедента всеобщего договора Александр приводит Вестфальский мир и объясняет причину его несоблюдения недостаточным уровнем просвещения. Е.Л. Рудницкая обратила внимание на «совпадение идей» этой инструкции с рядом положений книги Василия Федоровича Малиновского «Рассуждение о мире и войне» [Рудницкая, 2003, с. 121]. Эта книга писалась на протяжении многих лет, точнее в три этапа. Первая часть была написана в 1790 г. в Ричмонде, в загородной резиденции русского посла в Лондоне Семена Романовича Воронцова. Вторая часть писалась в 1798 г. уже в России, в имении В.Ф. Малиновского недалеко от Павловска. В 1803 г. обе эти части были изданы отдельной книгой, и тогда же была написана третья часть, оставшаяся неопубликованной.
Первая часть начинается гневным проклятием в адрес войн и человеческого равнодушия, их допускающего:
Привычка делает нас ко всему равнодушными. Ослепленные оною, мы не чувствуем всей лютости войны. Если же бы можно было, освободившись от сего ослепления и равнодушия, рассмотреть войну в настоящем ее виде, мы бы поражены были ужасом и прискорбием о нещастиях, ею причиняемых. Война заключает в себе все бедствия, коим человек по природе может подвергнуться, соединяя всю свирепость зверей с искусством человеческого разума, устремленного на пагубу людей. Она есть адское чудовище, которого следы повсюду означаются кровию, которому везде последует отчаяние, ужас, скорбь, болезни, бедность и смерть [Малиновский, 1958, с. 41].
Исследователи неоднократно подчеркивали связь миротворческих идей Малиновского с просветительскими идеями вечного мира [Алексеев, 1984, с. 206–211; Рудницкая, 2003, с. 115–128]. Отмечался также общий характер этих идей, затрудняющий возведение книги Малиновского к каким‑то конкретным источникам [Кросс, 1996, с. 47]. Малиновский действительно смешивает в своем труде различные просветительские традиции, в частности, относительно проблемы происхождения войн. Так, в первой части он, как и большинство французских просветителей, считает, что человеческой природе как таковой войны не свойственны:
Люди не были в войнах с самого начала света; говорят, было время, когда они не знали оных. Войны начались в те несчастные времена, когда человеческий род стал развращен, когда люди оставили природную невинность, когда они пришли в то несчастнейшее природы человеческой состояние, в коем, не довольствуясь малым, захотели иметь всего более и не знали другого права, кроме права сильнейшего, права, лишающего человека всех прав, права разбойников и завоевателей [Малиновский, 1958, с. 43].
Речь идет о переходе человека от естественного свободного состояния к гражданскому со всеми присущими цивилизации пороками. Здесь Малиновский, пожалуй, ближе всего к Ж.‑Ж. Руссо. Однако во второй части книги говорится: «Война предшествовала учреждению обществ и составила их случайно, как мороз холодных стран внезапно, останавливая быструю воду, превращает ее в безобразные кучи разных кусков неподвижного льда» [Малиновский, 1958, с. 84]. Это противоречие, видимо, следует объяснить эволюцией взглядов. Напомним, что первую и вторую части «Рассуждения о мире и войне» разделяют восемь лет, насыщенных трагическими событиями в европейской истории. Когда писалась первая часть, Малиновский лишь предчувствовал «приближение новой эпохи, эпохи “больших войн”, большой крови» [Лотман, 1997, с. 182]. При этом он, сохраняя, как и большинство просветителей, оптимистическую веру в добрую природу человека, видимо, еще продолжал надеяться, что большую кровь удастся предотвратить и что разум в конечном счете восторжествует над предрассудками. Спустя восемь лет самые мрачные прогнозы уже превратились в историческую реальность, и сама вера в добрую природу человека оказалась подорванной. Поэтому происхождение войн Малиновский теперь уже связывает с тем естественным состоянием человека, которое, по выражению Гоббса, «есть война всех против всех». И если первая часть представляла собой предостережение, в котором акцент ставился на бедствиях, приносимых войной, то во второй части речь идет главным образом о мерах, способных остановить льющуюся кровь и в дальнейшем сделать войны невозможными.