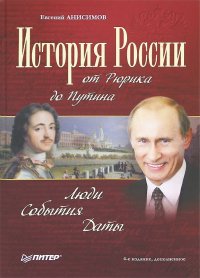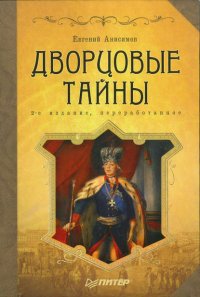Читать онлайн Тайны запретного императора бесплатно
- Все книги автора: Евгений Анисимов
Введение
В 1747 году при досмотре на таможне вещей возвращавшегося из России в Германию «пуговишного подмастерья» Каспера Шраде в его бауле обнаружилось пять монет с портретом императора Иоанна Антоновича. Подмастерье сразу был арестован и отправлен в Петербург, в Тайную канцелярию. Там его вздернули на дыбу, били кнутом, и он признался, что захотел привезти из России что-нибудь своим братьям, и монеты с профилем юного императора ему показались самым подходящим подарком. По тем временам пуговишник Шраде поступил как настоящий безумец. Это все равно, что теперь на досмотре в Шереметьево предъявить баул, в котором лежат пять гранат Ф-1. Использовать, расплачиваться, принимать и вообще брать в руки монеты с изображением императора, которого по официальной версии вообще не существовало, было категорически запрещено с 1742 года многочисленными манифестами счастливо царствовавшей тогда государыни Елизаветы Петровны. В итоге Шраде поехал не домой, где его тщетно ждали братья, а в Оренбург, с приговором: «На житье вечно». Естественно, что указ обрекал его не на вечную жизнь, а на пожизненную ссылку. Правда, в истории пуговишного подмастерья есть свой подтекст. Он направлялся не просто в Германию, а в Брауншвейг-Люнебургское герцогство, и не исключено, что пытался провезти пять запрещенных рублевиков для того, чтобы продать их с выгодой для себя, но просчитался: всякое упоминание этого чудесного германского герцогства вызывало у русских чиновников озноб. Ведь именно оттуда приехал в Россию отец императора Ивана Антоновича принц Антон-Ульрих, и отношения у России с этим герцогством были самые напряженные – на престоле там сидел родной брат Антона-Ульриха герцог Фердинанд, обеспокоенный судьбой брата, неведомо куда канувшего на просторах России.
Если брауншвейгский пуговишник пострадал по своей глупости или жадности, то множество российских подданных теряло свободу, здоровье и даже жизнь фактически ни за что. Один – канцелярист – поленился пересмотреть свои делопроизводственные бумаги, чтобы вырвать из дела и сжечь, согласно строжайшему манифесту Елизаветы, указы, мемории, записки, письма «с титлом» императора Ивана Антоновича, а товарищ канцеляриста это обнаружил и донес куда следует. Другой человек, псковский целовальник, привез в Петербург две бочки рублевиков – винный сбор, и при сдаче в казначейство среди 3899 монет вдруг обнаружилась одна с профилем царя-младенца. Третий, пьянчужка обыкновенный, расплатился с кабацким сидельцем за чарку водки проклятым рублем; четвертый, библиофил, пожалел книгу с посвящением автора юному государю, которое надлежало вырвать и сжечь, а потом дал ее почитать своему коллеге; пятый, священник, вовремя не сдал завалившуюся за сундук «Форму поминовения членов высочайшей фамилии». Она начиналась страшными словами: «Во первых великих ектениях на вечерни, утрени и литургии: о благочестивейшем, самодержавнейшем, великом государе нашем, императоре Иоанне Антоновиче, о благоверной государыне принцессе Анне и о супруге ее…»[1], а бумагу нашел убиравший горницу псаломщик… А уж о шестом, обычном болтуне, произнесшем прилюдно вслух имя опального императора или его матери, много и говорить не приходится – таких сотнями хватали и волокли в застенок, чтобы задать три роковых вопроса: «С какими намерениями ты эти слова говорил? Кто тебя этим словам подучил? Кто твои сообщники?», а потом сечь плетью, кнутом, резать язык, клеймить и ссылать в Рогервик, Охотск, Нерчинск, Оренбург – да мало ли было в России ударных строек, где требовались работные люди без жалованья!
Если бы Елизавета Петровна приказала написать историю XVIII столетия, то глава о царствовании императрицы Анны Иоанновны кончалась бы датой ее смерти 17 октября 1740 года, а следующая за ней глава о счастливо царствующей государыне Елисавет Петровне начиналась бы датой 25 ноября 1741 года. Что произошло между этими двумя датами, было приказано забыть навсегда.
Собственно говоря, истории этого «пропущенного» года с небольшим, в который уложилось все царствование императора Иоанна III (V) Антоновича и одновременно регентство герцога Бирона и правительницы Анны Леопольдовны, и посвящена эта книга. Историография данной темы совсем невелика. Конечно, ни один историк регентства не может обойтись без незаменимого 21-го тома «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьева[2], и как бы мы ни возмущались (про себя, конечно) вольностью нашего патриарха исторической науки при цитировании источников, а порой – художественно-эпическим изложением материала, все-таки от этого тома, как от печки, танцуют все исследователи. Справедливости ради отметим, что Соловьев был не первым в научной разработке этой темы. Приоритет по праву принадлежит истинному подвижнику – собирателю, публикатору и исследователю «потаенной» истории XVIII века М.И. Семевскому, издателю знаменитой «Русской старины». Его статья в «Отечественных записках» 1866 года и открывает, по существу, скромную историографию темы, ныне (даже с вкраплениями переводов иностранных авторов XVIII–XIX веков) в значительной мере устаревшую[3]. На сегодня наиболее выверенная история царствования Ивана Антоновича изложена в книге И.В. Курукина «Эпоха “дворских бурь”. Очерки политической истории послепетровской России. 1725–1762 гг.» (Рязань, 2003)[4]. Эта книга посвящена не только времени регентства, а охватывает всю историю так называемой «эпохи дворцовых переворотов» и является лучшим исследованием этой темы в историографии как отечественной, так и зарубежной. Автор не стремится (как нередко бывает в науке) построить исследование на уничтожении работ своих предшественников, на вытаскивании и смаковании их вольных и невольных ошибок и неверных прочтений. Соглашаясь с трактовками автора понятия «дворцовый переворот» и с другими его тонкими наблюдениями аналитического, обобщающего характера, резко возражаю против оригинальной по замыслу попытки «вычислить» (и отчасти вычертить в виде графиков) некую «парадигму дворцовых переворотов» и тем самым, на основании комплекса известных фактов и современных исторических и сопредельных исторической науке концепций, выявить главные причины ошеломляющей политической «карусели» у российского трона в послепетровское время. Сама затея выведения некоей типологии, как мне кажется, бесплодна, как и другие псевдотеоретические выкладки на материалах истории. Так, многие выделенные автором причины политической нестабильности и «переворотства» в послепетровское время присутствовали в таком же сочетании и в других эпохах русской истории, но тем не менее не приводили к переворотам. Но они же, в том же сочетании могут «срабатывать» не только в период с 1725 до 1762 года, но и в другие эпохи. И в этом смысле заговор и переворот 29 июня 1174 года, завершившийся свержением и убийством князя Владимирского Андрея Боголюбского, мало чем отличается от заговора и переворота, закончившегося убийством императора Павла I 11 марта 1801 года. Словом, мне кажется, что даже самая тонкая и изящная попытка выявить в истории переворотов некие закономерности и парадигмы заведомо обречена на неудачу, она позволяет нам только тешиться иллюзией познания непознаваемой в принципе истории.
Мне кажется, что истоки «дворских бурь» – исключительно в сущности самодержавной власти. В самой сердцевине самодержавного режима, как в яйце жизни и смерти Кощея, заключена личностная, часто неуправляемая, «бешеная» и страшная для подданных неправовая сила. Спору нет, на уровне законодательства именно эта сила и была источником правовых норм. Не без оснований И.И. Дитятин писал, что попытки водворения законности в системе управления – черта весьма характерная для русской действительности еще с московских времен. Вместе с тем, пишет Дитятин, если отрешиться от юридической сферы, перейти от памятников законодательства к «памятникам самой жизни», то «у вас не останется и тени сомнения в том, что в этой жизни, на всем протяжении этих четырех веков начало законности в “государевом царственном и земском деле” вполне отсутствовало».[5] В долгой истории отношений самодержавия с законом образовалась роковая замкнутая цепь. С одной стороны, самодержавие возникло и укрепилось в московский период русской истории вопреки складывавшейся тогда же системе сословного представительства, за счет уничтожения начал сословности, механизмов и атрибутов института земских учреждений. Прекращение деятельности земских соборов стало следствием усиления самодержавной власти. Именно тогда, в конце XVII века, самодержавие достигло такого могущества, которое позволило Петру I провести свои реформы, не считаясь с потерями и жертвами во имя достижения имперских целей. В ходе этих реформ Петр последовательно избегал восстановления или создания (на западный манер) институтов сословного или иного группового представительства. Источником закона окончательно стала его самодержавная воля. Слов нет, самодержавие было могущественной силой. Созданная на его фундаменте система властвования отличалась колоссальной прочностью и накрепко связывала под единой властью Москвы, а потом Петербурга гигантскую страну (в современных размерах), но с малочисленным (всего 10–15 миллионов человек) населением.
Допускаю, что, возможно, иного способа, кроме самовластного и недемократического, управлять такой страной и ее населением тогда (как, впрочем, и теперь) не было. Неслучайно Василий Татищев, Екатерина II и многие другие русские мыслители ухватились за популярный в просветительской литературе «географический фактор», отводили ему особое место в истории становления и существования России как государства. По их мнению, великим государством на таких просторах Россия могла стать только благодаря мощной централизующей, сплачивающей силе «вольного» самодержавия. Нет сомнений также, что многие люди в XVIII веке понимали издержки самодержавной формы правления (степень гуманности которой определялась в конечном счете «добронравием» государя), но были единодушны в том, что самодержавие для России есть если не безусловное благо, то уж точно – необходимое зло, так же как и то, что прогресс в России достижим не иначе как исключительно с помощью насилия, принуждения.
С другой стороны, огромная мощь самодержавия, основанная на непререкаемом праве государя править без нормативных ограничений, без определения хотя бы примерного круга компетенции монарха как высшего должностного лица, оборачивалась для русского самодержавия (а вместе с ним и для России) неожиданной стороной, делало его в какие-то моменты беззащитным и слабым. Начиная с 1682 года огромная власть самодержца многократно подвергалась нападкам авантюристов, не раз становилась заложницей стрельцов, гвардейцев и «ночных императоров» – фаворитов. Досточно было нескольких сотен или даже десятков пьяных солдат, чтобы свергнуть законного государя и возвести на престол нового. Из всех, кто сидел на престоле в XVIII веке, две государыни – Елизавета Петровна и Екатерина II – оказались попросту узурпаторшами – они нарушили все принятые тогда на сей счет юридические нормы, попрали священную присягу, проигнорировали не писанные на бумаге заветы отцов, традиционные «династические счеты». Так, при разных обстоятельствах, в силу вроде бы разных причин, самодержавие, буйно разросшееся за пределами поля закона (на котором худо-бедно, но все же произрастали порядок и законность), оказывалось беззащитным перед незаконными силовыми действиями, становилось подверженным случайностям. Напротив, развитие тех правовых выборных и представительских институтов (земских и иных), которые существовали в России до утверждения самодержавия, могло бы в принципе обеспечить русскому царю-императору гарантии неприкосновенности его власти и личности, ибо защита закона и установленных им порядков является институционной обязанностью подобных правовых учреждений. В отсутствии таких учреждений я вижу причины хронической политической неустойчивости в России на протяжении всего XVIII века, да и позже. Это была та высокая цена, которую платило самодержавие за право править без права[6].
Ценна и интересна для историографии темы и вышедшая в 2000 году книга Л.И. Левина «Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих (история “Брауншвейгского семейства” в России)». Автор поднял, в сущности, неизвестный до сих пор пласт брауншвейгских источников по теме. Сведения этих источников, наряду с материалами сборника статей и документов «Брауншвейгские князья в России в первой половине XVIII века» (Gottingen, 1993), позволяют уточнить картину происходившего в России в 1740–1741 годах. Меньше находок принесла работа автора в российских архивах. Он шел по борозде, ранее уже «пропаханной» бароном М.А. Корфом – современником Пушкина, автором книги «Брауншвейгское семейство», подготовленной в 1860 – 1870-х годах. Публикацию этой книги Корфа начали издатели журнала «Старина и новизина», но в 1917 году прекратили по независящим от публикаторов причинам. Полностью текст книги Корфа был издан в 1993 году в Москве. Тогда же значительная часть глав рукописи этой книги была заново опубликована Л.И. Левиным под придуманным «завлекательным» названием: «Холмогорская секретная комиссия: Грустная повесть об ужасной судьбе российского императора и его семьи, написанная Владимиром Стасовым для другого императора и извлеченная с архивной полки для читателя Леонидом Левиным» (Архангельск, 1993). Уже из названия видно, что Л.И. Левин считает истинным автором книги Корфа (которую почему-то называет повестью), знаменитого критика В.В. Стасова, работавшего под началом Корфа – директора Императорской Публичной библиотеки, хотя и не приводит убедительных аргументов в пользу своей гипотезы. Вообще же вопрос об авторстве этой книги непростой. Безусловно, Корф, как многие другие высокопоставленные историки, активно использовал труд своих подчиненных в качестве собирателей архивного материала и его первоначальных литературных обработчиков. Стасов как раз и был таким «литературным рабом», но при всей значительности его труда по обработке архивного материала он не позволял ему претендовать на авторство или хотя бы соавторство – чего В.В. Стасов, кстати, никогда и не делал. Известно к тому же, что кроме Корфа рукопись книги читал и правил сам император Александр II, а Стасов, по приказу своего начальника Корфа, аккуратно покрывал пометы государя лаком. Книга Корфа состоит в значительной степени из больших цитат и выписок из архивных дел Тайной канцелярии, ныне числящихся по разряду 6 (Уголовные дела по государственным преступлениям) Российского государственного архива древних актов (РГАДА)[7], и поэтому не утратила своей ценности.
Огромные возможности для исследователя представляют опубликованные источники различного происхождения по данной теме. Во-первых, это достаточно большой (для рассматриваемого отрезка времени) комплекс мемуаров Х.Г. Манштейна, Б.Х. Миниха, Эрнста Миниха, князя Я.П. Шаховского, Э.И. Бирона и других. Переведенные и изданные в XIX – начале XX века, теперь они переизданы в серии мемуаров «История России и дома Романовых в мемуарах современников XVII–XX вв.»[8]. Попутно замечу, что серия эта продолжается уже второе десятилетие благодаря поистине подвижнической издательской деятельности Маргариты Дубовой, превосходит по качеству подготовки текстов и комментария другие переиздания подобных источников[9]. Это существеннейшим образом облегчает работу историков дореволюционной России.
Второй большой пласт источников – донесения иностранных дипломатов, в том числе участников событий 1740–1741 годов. Они были опубликованы в сборниках Императорского Русского исторического общества (РИО) в основном во второй половине XIX века[10]. Тексты на языке оригинала и в переводе содержат уникальные сведения, работа с которыми, тем не менее, требует внимания, здорового источниковедческого недоверия и перепроверки – так субъективны и неточны бывают порой донесения посланников при русском дворе. Особенно интересны донесения французского посланника Шетарди, которые порой противоречат одно другому, и из этого можно извлечь немало выводов и наблюдений. Ценен для нас своими комментариями к донесениям Шетарди и том документов, изданный П. Пекарским, неутомимым публикатором материалов времен регентства Бирона и Анны Леопольдовны[11].
Третий комплекс источников – следственные дела почти всех главных действующих лиц той эпохи: Бирона, А.П. Бестужева-Рюмина, Миниха, М.Г. Головкина, Остермана, Левенвольде. Особенность этих источников заключается в том, что сановники, которые упекали за решетку своих врагов и допрашивали их, сами бывали замешаны в том, в чем обвиняли подследственных, а потому стремились «скорректировать» ход расследования и оформление его материалов[12]. А затем, спустя год-полтора, они становились фигурантами дел, заведенных уже на них самих. И в том, чтобы распутать образовавшиеся в ходе следствия клубки, в которых нити правды и лжи невероятно перепутаны, сопоставить их с данными, излеченными из мемуаров, официальных документов, донесений иностранных дипломатов и восстановить картину прошлого, и состоит увлекательная задача для историка.
Глава 1. Близкая нам и такая далекая Мекленбургская сторона
История эта начинается задолго до рождения Анны Леопольдовны в 1718 году, и уж тем более – до рождения Ивана Антоновича в августе 1740 года. И чтобы рассказать ее, нам нужно ринуться в самую гущу военных и политических событий, потрясших Европу в годы Северной войны (1700–1721).
В 1711–1712 годах русские войска Петра Великого вместе с союзниками – саксонцами и датчанами вступили в Мекленбург-Шверинское герцогство, расположенное на севере Германии. Да, к этому времени Северная война России, Саксонии, Польши, Дании против Швеции, начавшаяся под Ригой и Нарвой в 1700 году, докатилась и до Северной Германии. Целью союзников были германские владения Швеции в Западной Померании. Присоединенная к могучему Шведскому королевству по Вестфальскому мирному договору 1648 года, она так и называлась – Шведская Померания. Но Северная война, столь успешно начатая королем-воином Карлом XII, заканчивалась не в пользу шведов. К 1716 году из всех северогерманских владений в их руках остался только город Висмар на мекленбургском берегу Балтики. Его и осадили союзные войска, к которым на помощь шел русский корпус генерала А.И. Репнина.
К этому времени между царем Петром и мекленбургским герцогом Карлом-Леопольдом наладились весьма дружественные отношения. Герцог, вступивший на престол в 1713 году, видел большую пользу в сближении с великим царем – полтавским триумфатором. Во-первых, Петр обещал содействовать возвращению Мекленбургу некогда отобранного у него шведами Висмара. Во-вторых, присутствие русских войск во владениях герцога очень устраивало Карла-Леопольда, так как его отношения с местным мекленбургским дворянством были весьма напряженными, и он надеялся с помощью русской дубинки укротить дворянских вольнодумцев, недовольных тираническими замашками своего сюзерена.
Петр также искал свою «пользу» на мекленбургском берегу. Царь не собирался легко и быстро уходить из понравившейся ему Северной Германии – важной стратегической зоны, откуда можно было угрожать не только непосредственно Швеции, но и Дании, которая требовала пошлины с каждого русского торгового корабля, проходившего через созданный Богом, а не датчанами Зундский пролив при выходе из Балтийского в Северное море. А это не нравилось Петру, мечтавшему об активном участии России в мировой торговле.
И вот 22 января 1716 года в Петербурге был подписан русско-мекленбургский договор, положивший начало всей истории, о которой пойдет речь в этой книге. Согласно этому договору, Карл-Леопольд брал себе в супруги племянницу Петра I царевну Екатерину Ивановну, а Петр со своей стороны обязывался вооруженною рукой обеспечивать герцогу и его наследникам безопасность от всех внутренних беспокойств. Для этого Россия намеревалась разместить в Мекленбурге несколько полков, которые поступали в полное распоряжение Карла-Леопольда и должны были «оборонять его, герцога, от всех несправедливых жалоб враждующего на него мекленбургского дворянства и их приводить в послушание». Кроме того, Петр обещал подарить своему будущему зятю еще не завоеванный союзниками шведский Висмар. Дело требовало быстроты, и свадьбу решили сыграть, не оттягивая, сразу же после Пасхи 1716 года в Данциге (Гданьске), куда ехал по делам Петр.
Петр Великий был подлинным реформатором России. Он прервал идеологическую, религиозную, политическую и экономическую замкнутость России и через прорубленное им «окно» довольно грубо вытолкал русских людей на Запад. Одним из нововведений, потрясших русских современников, были международные брачные союзы, которые стал планировать и заключать царь. Как известно, в XVII веке Россия полностью отказалась от браков царственных особ с иностранными женихами и невестами, хотя раньше, в древности, это было делом обычным – вспомним королеву Франции и дочь великого князя Киевского Ярослава мудрого Анну Ярославну или супругу Ивана III Софью Палеолог. Не раз намеревался жениться на иностранках Иван Грозный, привечал иностранных женихов для своей дочери Ксении царь Борис Годунов. Но ужасные последствия Смуты, история Лжедмитриев, Марины Мнишек, избрания в цари польского королевича Владислава, вообще – нашествие иностранцев в Россию – все это после Смуты, со вступлением в 1613 году на трон Михаила Романова, привело к политике династической самоизоляции. Отныне русские цари женились только на соотечественницах, а русские царевны так и умирали, не изведав сладости и горечи брака, потому что их не выдавали ни за своих верноподданных – как можно, чтобы женщиной царского рода владел государев холоп, пусть даже и знатный! – ни за женихов из иноземных пределов – можно ли отдать царскую дочь или сестру за какого-нибудь «поганого лютора» или «схизматика-паписта»!
Петр резко переменил династическую политику. Первым делом он поставил эксперимент на собственной семье – подобрал для своего непутевого сына царевича Алексея невесту из древнего германского герцогского рода Вольфенбюттель. Это была Шарлотта Христина София, кронпринцесса Вольфенбюттельская, приходившаяся к тому же сестрой императрице Елизавете-Христине – супруге императора Священной Римской империи германской нации Карла VI. Свадьба царевича Алексея состоялась в Торгау в 1711 году. Чуть раньше, в 1710 году, за потомка славного рода курляндских владетелей Кетлеров герцога Фридриха-Вильгельма была выдана племянница царя, царевна Анна Иоанновна, ставшая впоследствии императрицей Всероссийской (1730–1740 гг.). Намеревался царь Петр выдать за юного французского короля Людовика XV и свою дочь Елизавету – почти ровесницу правнука «короля-солнца». Ее же старшую сестру Анну Петровну царь в 1724 году просватал за голштинского герцога Карла-Фридриха. Свадьба их состоялась уже после смерти Петра Великого, в 1725 году, и плодом этого брака стал будущий император Петр III, родившийся в 1728 году в Киле.
Начатая таким образом петровская «брачная экспансия» была рассчитана на далекое будущее. Царь исходил из того, что политические союзы России с державами Европы временны и недолговечны, а вот династические связи Романовых с европейскими правящими домами могут быть надежными и прочными. И хотя история правящих династий Европы говорила, что родство и браки – вовсе не препятствие для распрей даже между ближайшими родственниками, когда воевали с братьями и сестрами, отцами и матерями, Петр все-таки считал очень важным для Романовых влиться в пусть и недружную, но все-таки семью европейских государей. Это было для Петра верным знаком признания «европейскости» России, ее принадлежности к ойкумене европейского мира. Преемники Петра с таким успехом развили эту «экспансию», что в последнем российском императоре Николае II текла ничтожная часть крови от ветви Михаила Романова, и огромнейшая – от других (в первую очередь – германских) европейских династий. Это, кстати, принесло в семью Николая II страшное несчастье – гемофилию наследника цесаревича Алексея. Но вернемся в 1710-е годы.
Брак мекленбургского герцога Карла-Леопольда с царевной Екатериной Ивановной был одним из этапов петровской династической политики. И вот, как сообщает «Журнал, или Поденная записка Петра Великого», «в 8 день [апреля 1716 года] государь, будучи во Гданьске, поутру герцогу Мекленбургскому изволил наложить кавалерию ордена Святого Андрея по подтверждении трактата супружественного, а по полудни в 4 часу щасливо совершился брак Ея высочества государыни царевны Екатерины Ивановны с его светлостью герцогом Мекленбургским при присутствии государевом и государыни царицы (Екатерины Алексеевны. – Е.А.), королевского величества Польского (Августа II. – Е.А.), также генералитета и министров российских, польских и саксонских и других знатных персон, и ввечеру был фейерверк», который устроил и поджег на рыночной площади Гданьска сам Петр – большой любитель огненных потех.
Молодая жена герцога Мекленбургского Екатерина Ивановна, по критериям ХVIII века, когда замуж нередко выходили в 14–15 лет, была не так уж молода: она родилась 29 октября 1692 года и, следовательно, вышла замуж за Карла-Леопольда в 24 года. Жизнь ее до брака была вполне счастливой. Она появилась на свет в семье старшего брата Петра Великого, царя Ивана V, и царицы Прасковьи Федоровны. После смерти отца в 1696 году четырехлетняя Екатерина вместе с матерью и двумя младшими сестрами – трехлетней Анной (будущей императрицей) и двухлетней Прасковьей – переехала жить в подмосковную усадьбу Измайлово. Здесь, в тиши и покое, в удобном деревянном дворце, среди садов и полей, прошло детство Екатерины. Уже пятнадцатилетней девицей она покинула уютное Измайлово и в числе других родственников царя-реформатора переселилась в его тогда еще неофициальную столицу, Санкт-Петербург, в новую, непривычную для царевен-москвичек обстановку. Но, в отличие от сестер и от многих других москвичей, тосковавших на болотистых, неприветливых берегах Невы по обжитой, «нагретой» Москве, Екатерина Ивановна быстро приспособилась к стилю жизни молодого, продуваемого всеми ветрами города. Этому благоприятствовал характер царевны – девушки жизнерадостной и веселой даже до неумеренности. Ей, как, впрочем, и другим юным дамам российской столицы, новые порядки светской жизни, праздники и, конечно, моды были не просто симпатичны, а кружили голову. Вообще же создается впечатление, что не очень уж подавленная «Домостроем» русская женщина ХVII века как будто только и ждала петровских реформ, чтобы вырваться на свободу. Этот порыв был столь стремителен, что авторы опубликованного в 1717 году «Юности честного зерцала» – кодекса поведения молодежи – были вынуждены предупреждать девицу, чтобы она, несмотря на открывшиеся перед ней возможности светского обхождения, соблюдала скромность и целомудрие, не носилась по горницам, не садилась к молодцам на колени, не напивалась бы допьяна, не скакала бы, наконец, «разиня пазухи», по столам и скамьям и не давала бы себя тискать «как стерву» по всем углам.
Это было написано как будто для Екатерины Ивановны – девицы, которая была, как нынче говорят, без комплексов – до нас дошли упорные слухи, ходившие в тогдашнем обществе, что ее прелестями пользовался сам грозный дядюшка – государь Петр Алексеевич. Как и многие другие русские женщины, царевна особенно полюбила петровские ассамблеи и маскарады, где отплясывала с кавалерами до седьмого пота. Маленькая, краснощекая, чрезмерно полная, но живая и энергичная, она каталась, как колобок, и ее смех и болтовня не умолкали весь вечер. По общему мнению, Екатерина, как и две другие Ивановны, умом и образованностью не отличались. Не изменился пылкий характер Екатерины и позже: «Герцогиня – женщина чрезвычайно веселая и всегда говорит прямо все, что ей придет в голову». Так писал камер-юнкер Берхгольц, придворный голштинского герцога Карла-Фридриха. Позже ему вторил испанский дипломат герцог де Лириа: «Герцогиня Мекленбургская – женщина с необыкновенно живым характером. В ней очень мало скромности, она ничем не затрудняется и болтает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и любит мужчин». Последнее высказывание напоминает знаменитую реплику из «Бригадира» Дениса Фонвизина: «Толста, толста! Проста, проста!»
Во всем Екатерина была совершенной противоположностью своей высокорослой и угрюмой сестре Анне, и, насколько не любила мать-царица Прасковья Федоровна среднюю дочь, настолько же она обожала старшую, которую ласково называла «Катюшка-свет». Именно для того, чтобы удержать подольше возле себя любимицу, царица в 1710 году отдала за курляндского герцога нелюбимую Анну, хотя по традиции принято было выдавать первой старшую дочь. Но в 1716 году настал момент расставания и с Екатериной – отправляясь в конце января из Петербурга в Гданьск на встречу с Карлом-Леопольдом, Петр захватил с собой племянницу, которая смело поехала навстречу своей судьбе.
Жених, которому было тогда 38 лет, собственно говоря, ждал другую невесту – он рассчитывал получить в жены более молодую Ивановну – вдовствующую курляндскую герцогиню Анну, потерявшую мужа почти сразу же после свадьбы. Но у царя Петра на сей счет было иное мнение, и он в раздражении даже пригрозил Сибирью мекленбургскому посланнику Габихсталю, который, согласно воле своего господина, настаивал на том, чтобы за герцога была выдана именно Анна. Мекленбуржцам пришлось, скрепя сердце, согласиться на кандидатуру Екатерины Ивановны, тем более что Петр сразу же после брачного контракта подписал с герцогом договор о военной и прочей помощи России мекленбургскому владетелю. Это было очень нужно Карлу-Леопольду, вступившему в острое противостояние с собственным дворянством: стиль его правления был до того жестоким и беззаконным, таким непривычным для Германии, что дворяне отказывались подчиняться герцогу и жаловались на него во все имперские инстанции (Мекленбург входил в Священную Римскую империю германской нации). Чтобы «укротить смутьянов и бунтовщиков», Карл-Леопольд и решил прибегнуть к русской помощи. Дружба с мекленбургским владетелем была выгодна и Петру, так как русская армия воевала тогда против шведов в Северной Германии, и царю хотелось закрепиться в Мекленбурге – важном стратегическом пункте, позволявшем иметь выход и к Балтийскому, и к Северному морю. После грандиозных попыток построить Волго-Донской канал идея сооружения в Германии канала, соединяющего эти моря (будущего Кильского), не казалось Петру фантастической. Словом, вокруг брака Екатерины Ивановны и Карла-Леопольда шла большая политическая игра, и племянница Петра Великого была той первой пешкой, с которой царь начал свою партию в Северной Германии.
Естественно, с грозным дядюшкой-стратегом не могли спорить ни вдовствующая царица Прасковья Федоровна, ни «Катюшка-свет». Отправляя племянницу под венец, Петр дал краткую, как военный приказ, инструкцию, как ей надлежит жить за рубежом: «1. Веру и закон, в ней же радилася, сохрани до конца неотменно. 2. Народ свой не забуди, но в любви и почтении имей паче протчих. 3. Мужа люби и почитай яко главу, и слушай его во всем, кроме вышеписанного. Петр»[13].
О любви к мужу, конечно, и речи идти не могло: Карл-Леопольд этого доброго чувства не вызывал ни у своих подданных, ни у первой жены, Софии-Гедвиги, с которой, кстати, он едва успел развестись к моменту женитьбы на Екатерине, да и то благодаря тому, что торопивший дело Петр сам заплатил деньги за развод герцога. Герцог Мекленбургский, по отзывам современников, был человек грубый, неотесанный, деспотичный и капризный, да ко всему прочему страшный скряга, никогда не плативший долги. Подданные герцога были несчастнейшими во всей Германии – он тиранил их без причины и жестоко расправлялся с жалобщиками на его самоуправство. К своей молодой жене Карл-Леопольд относился холодно, отстраненно, подчас оскорбительно, и только присутствие Петра, провожавшего новобрачных до столицы герцогства города Ростока, делало его более вежливым с Екатериной. После же отъезда царя из Мекленбурга герцог своей неприязни уже не сдерживал, потому что брак этот, вопреки обещаниям Петра, не принес ему реальных выгод – русские войска, на которые герцог так рассчитывал, вскоре покинули Мекленбург навсегда. Дело в том, что планы русского царя вызвали серьезную тревогу у соседей Карла-Леопольда – в Ганновере и Брауншвейге. Русское присутствие в Северной Германии их категорически не устраивало, как и фигура деспотичного мекленбургского герцога. Петр довольно быстро понял, что его план не удается, что с Ганновером лучше не связываться – с 1714 года ганноверский курфюрст взошел на английский престол под именем короля Георга I, причем связей с родиной не порвал, а наоборот, усилил заботу о ней. Поэтому Петр ушел из Мекленбурга и, в общем-то, бросил Карла-Леопольда на произвол судьбы, оставив того перед лицом дворянской оппозиции, которой новый родственник русского царя еще недавно грозил Сибирью. Изменив тактику, царь стал советовать Карлу-Леопольду помириться со своими дворянами, действовать осторожно, расчетливо. Но герцог был неисправим, негодовал на царя и продолжал воевать с собственными дворянами. В конце концов, проиграв все имперские суды, он стал изгоем среди немецких князей.
Естественно, что в сложившейся обстановке герцогине Екатерине Ивановне пришлось несладко. Это мы видим по письмам ее матери, царицы Прасковьи Федоровны, к царю Петру и его жене царице Екатерине. Если поначалу вдовствующая царица благодарила царя «за особую к Катюшке милость», то потом ее письма наполнились жалобами и мольбами. «Прошу у Вас, государыня, милости, – пишет она Екатерине Алексеевне, – побей челом Царскому величеству о дочери моей Катюшке, чтобы в печалях ее не оставил… Приказывала она ко мне на словах, что и животу своему (т. е. жизни. – Е.А.) не рада…» По-видимому, много плохого пришлось вытерпеть прежде такой жизнерадостной Катюшке в доме мужа, если мать умоляла ее в письмах: «Печалью себя не убей, не погуби и души».
Положение герцогини в Ростоке было чрезвычайно сложным. Карл-Леопольд считал, что царь Петр его обманул. Висмар, отнятый у шведов союзниками Петра в годы Северной войны, ему так и не достался, а русскую армию А.И. Репнина союзники – датчане и саксонцы – туда даже не впустили, что стало причиной международных трений. Словом, Петр решил отложить помощь Карлу-Леопольду до завершения Северной войны. После заключения Ништадтского мира 1721 года царь писал племяннице в Росток: «И ныне свободно можем в вашем деле вам помогать, лишь бы супруг ваш помягче поступал», – имея в виду застарелую ссору герцога с его дворянством. А еще царь советовал, чтобы герцог «не все так делал, чего хочет, но смотрел по времени и обстоятельствам». В этом видна мудрость Петра. Сам царь, горячий и часто несдержанный, все-таки умел обуздывать свой нрав во имя высших государственных целей. Но Карл-Леопольд был другим человеком, к компромиссам совершенно неспособным, и продолжал самоубийственную борьбу не только с дворянством Мекленбурга, но и со всем окружающим его германским миром. Добром это кончиться не могло, да и Петр был раздражен упрямством нового родственника. По переписке самой герцогини Екатерины Ивановны видно, что она, как жена, воспитанная в традициях послушания мужу, поначалу не стремилась бежать из Мекленбурга, да и боялась ослушаться грозного дядюшку-царя. По воле деспотичного мужа Екатерина даже писала письма царю в его защиту: «При сем прошю Ваше Величество не переменить своей милости до моего супруга, понеже мой супруг слышал, что есть Вашего величества на него гнев, и он, то слыша, в великой печали себя содержит». Просила она, чтобы Петр, ведя большую политическую игру на Балтике, уж не забыл и интересы ее мужа.
Бесправность, униженность мекленбургской герцогини видны во всем – в ее незавидном положении жены человека, которому было бы уместнее жить не в просвещенном ХVIII веке, а в пору Cредневековья, и в пренебрежительном отношении к ней знати немецких медвежьих углов, называвших московскую царевну «Die wilde Herzoginn» – «Дикая герцогиня», и в повелительных, хозяйских письмах к ней царя Петра, и, наконец, в ее подобострастных посланиях в Петербург. 28 июля 1718 года она пишет царице Екатерине: «…милостью Божию я обеременела, уже есть половина, а прежде половины писать я не посмела до Вашего величества, ибо я подленно не знала». И вот 7 декабря того же года в Ростоке герцогиня родила принцессу Елизавету Екатерину Христину, которую в России, после крещения в православие, назвали Анной Леопольдовной.
Девочка росла болезненной и слабой, и здоровье внучки, ее образование, времяпрепровождение были предметами постоянных забот нежно ее полюбившей на расстоянии старой бабушки-царицы Прасковьи Ивановны. А когда Анне исполнилось три года, Прасковья стала писать письма уже самой внучке. Они до сих пор сохраняют человеческую теплоту и трогательность, которые часто возникают в отношениях старого и малого: «Пиши ко мне о своем здоровье и про батюшкино, и про матушкино здоровье своею ручкою, да поцелуй за меня батюшку и матушку: батюшку в правый глазок, а матушку – в левой. Да посылаю тебе, свет мой, гостинцы: кафтанец теплой для того, чтоб тебе тепленько ко мне ехать… Утешай, свет мой, батюшку и матушку, чтоб оне не надсаживались в своих печалех, и назови их ко мне в гости, и сама с ними приезжай, и я чаю, что с тобой увижусь, что ты у меня в уме непрестанно. Да посылаю я тебе свои глаза старые (тут рукой царицы были нарисованы два глаза. – Е.А.) уже чуть видят свет, бабушка твоя старенькая, хочет тебя, внучку маленькую, видеть». Тема приезда герцогской четы в Россию становится главной в письмах старой царицы к Петру и Екатерине. Прасковья страстно хочет завлечь дочь с внучкой в Петербург и там оставить, благо дела Карла-Леопольда шли все хуже и хуже: объединенные войска германских государств изгнали его из герцогства, и Карл-Леопольд вместе с женой обивал имперские пороги в Вене. Помочь ему было трудно. Петр с раздражением писал племяннице весной 1721 года: «Сердечно соболезную, но не знаю, чем помочь. Ибо ежели бы муж ваш слушался моего совета, ничего б сего не было, а ныне допустил до такой крайности, что уже делать стало нечего».
К 1722 году письма царицы Прасковьи становятся отчаянными. Она, чувствуя приближение смерти, просит, умоляет, требует – во что бы то ни стало, она хочет, чтобы дочь и внучка были возле нее: «Внучка, свет мой! Желаю тебе, друк сердешной, всева блага от всево моего сердца, да хочетца, хочетца, хочетца тебя, друк мой, внучка, мне, бабушке старенькой, видеть тебя, маленькую, и подружитца с табою: старая с малым очень живут дружна. Да позави ка мне батюшку и матушку в гости и пацалуй их за меня, и штобы ане привезли и тебя, а мне с табою о некаких нуждах самых тайных подумать и перегаварить [нужно]». Самой же Екатерине царица угрожала родительским проклятием, если та не приедет к постели больной матери – к этому времени царица была уже серьезно больна. Писала она и государю, прося его помочь непутевому зятю, а также вернуть ей Катюшку-свет. К лету 1722 года старая царица наконец добилась своего, и Петр потребовал, чтобы герцогская чета прибыла в Россию, в Ригу. Император писал, что если Карл-Леопольд приехать не сможет, то герцогиня должна приехать одна, «понеже невестка наша, а ваша мать, в болезни обретается и вас видеть желает». Воля государя, как известно, закон, и Екатерина с дочерью, оставив супруга одного воевать с его вассалами, уехала в Россию, в Москву, в Измайлово, где ее с нетерпением ждала мать, царица Прасковья, посылая навстречу дочери и внучке нарочных с записочками: «Долго вы не будете? Пришлите ведомость, где вы теперь? Еще тошно: ждем да не дождемся!» И когда 14 октября 1722 года голштинский герцог Карл-Фридрих посетил Измайлово, то он увидел там довольную царицу Прасковью: она сидела в кресле-каталке и держала на коленях «маленькую дочь герцогини Мекленбургской – очень веселенького ребенка лет четырех». Да, уже в августе 1722 года Екатерина Ивановна с дочерью Анной приехали в Измайлово. Снова Екатерина оказалась в привычном старом дедовском доме, среди родных и слуг. А за окнами дворца, как и в детстве царевны, шумел полный осенних плодов прелестный измайловский сад.
И мать, и придворные, вероятно, только посмеивались, глядя на Катюшку: жизненные трудности, печали, болезни не сокрушили ее всепобеждающего оптимизма, не изменили веселого нрава общей любимицы. Она была, как и прежде, жизнерадостна и беззаботна. Почти сразу же по возвращении она начинает танцевать, веселиться до упаду. В октябре 1722 года для своих гостей Екатерина устроила спектакль. Она набрала труппу из фрейлин и слуг, заказала у придворных портных костюмы, попросила в долг у голштинского герцога парики и самозабвенно режиссировала спектакль, состоявший, как писал Берхгольц, «не из чего иного, как из пустяков». Примечательно, что во время частого опускания занавеса, когда зрительный зал, наполненный приглашенными на спектакль иностранцами, погружался в полную темноту, у Берхгольца украли дорогую табакерку. Полегчали карманы и других голштинских гостей.
Берхгольц в 1722 году писал, что раз, прощаясь с царицей Прасковьей, он имел счастье видеть голенькие ножки и колени принцессы, которая, «будучи в коротеньком ночном капотце, играла и каталась с другою маленькой девочкой на разостланном на полу тюфяке» в спальне бабушки. По-видимому, красавец камер-юнкер очень понравился маленькой прелестнице. 9 декабря того же года Берхгольц записал, что его посетил придворный герцогини и «просил, чтобы я после обеда приехал в Измайлово танцевать с маленькой принцессой, которая все обо мне спрашивает и ни с кем другим танцевать не хочет». Привезенная матерью девочка-принцесса сразу же попала в обстановку русского ХVII века, постепенно терявшего, под натиском новой культуры ХVIII века, свои черты. Берхгольц занес в дневник за 26 октября 1722 года запись о визите его господина к мекленбургской герцогине в Измайлово. Екатерина привела голштинцев к себе в спальню, где пол был устлан красным сукном, а кровати матери и дочери стояли рядом. Гости были шокированы присутствием там какого-то «полуслепого, грязного и страшно вонявшего чесноком и потом» бандуриста, который пел для герцогини ее любимые и, как понял Берхгольц, не совсем приличные песни. «Но я еще более удивился, увидев, что у них по комнатам разгуливает босиком какая-то старая, слепая, грязная, безобразная и глупая женщина, на которой почти ничего не было, кроме рубашки… Принцесса часто заставляла плясать перед собой эту тварь и… ей достаточно сказать одно слово, чтобы видеть, как она тотчас поднимает спереди и сзади свои старые вонючие лохмотья и показывает все, что у нее есть. Я никак не воображал, что герцогиня, которая так долго была в Германии и там жила сообразно своему званию, здесь может терпеть возле себя такую бабу». Наивный, непонятливый камер-юнкер! Екатерина Ивановна выросла в царицыной комнате своей матери, и нравы традиционного окружения русской царицы, люди, его составляющие, – шуты, дураки, убогие – никуда не исчезли. Измайловский дворец хранил старину, несмотря на ветры петровских перемен. И девочка-принцесса оказалась в этой среде, в окружении привычных для бабушки и матери ценностей.
О том, как прожила Екатерина Ивановна с дочерью все годы после своего возвращения из Мекленбурга в Россию и до воцарения Анны Иоанновны, мы знаем очень мало. Не можем мы сказать ничего определенного и о характере девочки. Наверное, она росла обыкновенным ребенком. Известно, что девочка-принцесса вместе с матерью переехала из Измайлова в Петербург. Здесь 13 октября 1723 года скончалась царица Прасковья. Перед смертью, как пишет современник, она приказала подать зеркало и долго всматривалась в свое лицо. Похороны царицы состоялись через две недели и были по-царски торжественны и утомительны: балдахин из фиолетового бархата с вышитым на нем двуглавым орлом, изящная царская корона, желтое государственное знамя с крепом, печальный звон колоколов, гвардейцы, император со своей семьей, весь петербургский свет в трауре. Наконец, прозвучал условный сигнал – и высокая черная колесница, запряженная шестеркой покрытых черными попонами лошадей, медленно поползла по улице, которую позже назовут Невским проспектом. Царицу Прасковью до самой Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря провожала вместе с матерью и теткой Прасковьей пятилетняя Анна, которую везли в карете.
Дела мекленбургского семейства после смерти царицы Прасковьи не пошли лучше. Стало известно, что муж Екатерины Карл-Леопольд не намерен менять своей самоубийственной политики и что германский император пригрозил передать управление герцогством его брату Христиану-Людвигу. Екатерина Ивановна была огорчена и тем, что Карл-Леопольд отказывался приехать в Петербург, к Петру, который мог бы помочь «дикому герцогу». Все просьбы герцогини к мужу были бесполезны. Петр Великий в 1725 году умер, и, в конце концов, после долгой борьбы герцог, не менявший своей «натуры», в 1736 году был лишен германским императором престола, который перешел к его брату. Брауншвейгские и ганноверские войска заняли герцогство, а позже Карл-Леопольд был арестован и кончил жизнь в ноябре 1747 года в темнице мекленбургского замка Демниц. С женой и дочерью он после их отъезда в Россию так никогда и не увиделся.
Впрочем, огорчения Катюшки были неглубоки и недолги – ее оптимизм и легкомыслие неизменно брали верх над печальными мыслями, она веселилась, да к тому же и полнела. Берхгольц писал, что как-то герцогиня пожаловалась ему: император, видя ее полноту, посоветовал ей есть и спать поменьше, и она очень страдала от такого бесчеловечного совета. Но, замечает Берхгольц, «герцогиня скоро оставила пост и бдение, которых, впрочем, и не могла бы долго выдержать».
Анна все время жила рядом с матерью, которая при Екатерине I, вступившей на престол в 1725 году, и при Петре II – российском императоре с 1727 по 1730 год, окончательно уходит в тень безвестности, – в этот период Ивановны никого уже не интересуют.
Глава 2. Новый поворот судьбы
Так и канули бы в безвестности имена наших героинь, как пропал во времени уютный деревянный дворец в Измайлово, если бы в январе 1730 года не произошло чудо: умер Петр II, и державшие власть в руках верховники – члены Верховного тайного совета, пригласили на престол Российской империи вдовствующую курляндскую герцогиню Анну Иоанновну, тетку одиннадцатилетней мекленбургской принцессы Елизаветы Екатерины Христины.
Довольно быстро, к началу февраля 1730 года, Анна Иоанновна освободилась от тех ограничений власти, которые наложили на нее члены Верховного тайного совета, и сделалась полновластной самодержицей. Вслед за этим с неизбежностью встал вопрос о престолонаследии. Анна не имела детей, по крайней мере, законнорожденных, и смерть ее могла открыть дорогу к власти либо дочери Петра Великого цесаревне Елизавете Петровне, либо «чертушке» – так звали при дворе племянника цесаревны, двухлетнего голштинского принца Карла Петера Ульриха, сына умершей в 1728 году старшей дочери Петра Великого Анны Петровны. Этого Анна Иоанновна ни при каких обстоятельствах допустить не могла – она, дочь русского царя, «природная» русская царевна, презирала «выблядков» – бастардов, какими были Анна и Елизавета Петровны, родившиеся до брака Петра с бывшей лифляндской прачкой Мартой Скавронской – Екатериной I. Сама же императрица Анна, давно состоявшая в пикантной связи со своим фаворитом Эрнстом Иоганном Бироном, замуж идти не хотела. Когда в 1730 году вдруг объявился жених – брат португальского короля инфант Эммануил, его подняли на смех и поспешно, одарив собольей шубой, выпроводили восвояси – никто в России даже представить себе не мог, чтобы у самодержицы-императрицы появился муж! Кто же тогда будет над нами царствовать?
И вот тут-то возник довольно сложный вариант решения проблемы престолонаследия, который разработал вице-канцлер Андрей Остерман – мастер хитроумных и запутанных комбинаций, а осуществил обер-шталмейстер граф Рейнгольд-Густав Левенвольде. В 1731 году Анна Иоанновна потребовала от своих подданных всеобщей присяги на верность тому наследнику престола, которого в будущем выберет она сама. Поступая так, императрица воспользовалась знаменитым «Уставом о престолонаследии» Петра Великого 1722 года, согласно которому государь имел право назначить себе в преемники любого из своих подданных. Послушно присягая в том, что от них требовали, подданные слегка недоумевали: кто же будет наследником? Вскоре стало известно, что им станет тот, кто родится от будущего брака племянницы царицы, которой в ту пору было всего двенадцать лет, и ее еще неведомого мужа. В этом-то и состоял хитроумный план Остермана. Это он подал императрице доклад, явно подготовленный по ее поручению, ибо в преамбуле его было сказано: «Чтоб Е.и.в. известное всемилостивейшее намерение во исполнение приводить, следующее всеподданнейше представляется…» Хотя доклад Остермана не датирован, он, скорее всего, относится к 1732 году, когда Левенвольде отправился в Германию, в Брауншвейг. Ему было поручено передать принцу Брауншвейг-Вольфенбюттельскому Антону-Ульриху, племяннику правящего герцога Людвига-Рудольфа, официальное приглашание Анны Иоанновны прибыть в Россию в качестве претендента на руку племянницы императрицы.
Миссия Левенвольде принесла успех, принц в конце 1732 года начал собираться в Россию. Из записки Остермана следует, что эта брачная комбинация была тщательно продумана и подготовлена. Согласие на брак было уже получено как от родителей принца, так и от австрийского двора. Остерман писал: «О соизволении и желании Римского цесарского двора уже и без того известно, однако же в разсуждении о ближнем сродстве, в котором оне с принцом находятся, небеспристойно быть может, чрез грамоту цесарю… о том нотификацию учинить». «Ближнее родство», упоминаемое Остерманом, это, в сущности, главная лакомая приманка для русского двора – Антон-Ульрих приходился племянником австрийской императрице Елизавете-Христине. Он же был племянником умершей в 1715 году кронпринцессы Софии-Шарлотты, несчастной супруги не менее несчастного царевича Алексея, казненного Петром Великим в 1718 году. Сын Алексея и Шарлотты, российский император Петр II, занимал престол с 1727 по 1730 год, а после его смерти династическая ниточка, связывавшая петербургский и венский дворы, оборвалась. И тут, спустя больше десяти лет, возникла реальная возможность соединить эту порванную судьбой нить. Опытным ткачом, способным это сделать, и выступил Остерман, видевший в этом брачном союзе массу внешнеполитических выгод благодаря родству с могущественным европейским домом. Уже с середины 1720-х годов Остерман делал ставку на Австрию как наилучшего союзника России в двух районах взаимных интересов: в Польше, с целью раздела ее территории, и в Причерноморье, где наиболее эффективной была союзническая борьба с общим и еще могучим соперником – османской Турцией. Неудивительно, что сохранилось много свидетельств особого интереса Остермана к судьбе Антона-Ульриха в это время. Словом, императрица Анна согласилась на доводы Остермана и одобрила его предложения.
В своем докладе вице-канцлер писал, что еще до сговора о браке следует племянницу императрицы «к православному греческой церкви исповедыванию публично приступить». 12 мая 1733 года девушка, некогда при крещении в Мекленбурге нареченная по лютеранскому обряду Елизаветой Екатериной Христиной, получила то имя, под которым она вошла в русскую историю – Анна. Впрочем, известно, что еще до крещения по православному обряду она звалась Анной и даже подписывала так письма – по-видимому, это было ее домашнее имя. Теперь она официально стала называться Анной Леопольдовной. При этом не совсем ясно, почему ее звали именно так, а не Анной Карловной по первому (и основному) имени отца, герцога Карла-Леопольда. У сторонних наблюдателей сложилось впечатление, что императрица удочерила племянницу и передала ей свое имя. Скорее всего, Анна Иоанновна была крестной матерью Анны Леопольдовны. С этого времени в судьбе принцессы начались волшебные перемены. Девочку поселили во дворце тетки, назначили ей приличное содержание, штат придворных, а главное – Анну начали поспешно воспитывать и обучать. Этим занимался ученый монах Феофан Прокопович – самый образованный в России человек.
Родная мать, герцогиня Екатерина, присутствовала на торжественной церемонии крещения дочери 12 мая 1733 года, но буквально через месяц умерла. Все годы замужества Екатерина Ивановна страдала серьезными женскими болезнями, позже у нее развилась водянка, и смерть пришла, когда ей было всего сорок лет. Как писал в Англию резидент Клавдий Рондо, Анна Иоанновна тяжело перенесла потерю сестры, «была крайне опечалена и горько плакала». Мекленбургскую герцогиню похоронили рядом с матерью – царицей Прасковьей в Благовещенской церкви Александро-Невского монастыря. Но она все же успела при жизни рассмотреть жениха дочери. Девятнадцатилетний Антон-Ульрих, принц Брауншвейг-Люнебургский, родился в августе 1714 года, происходил из знаменитого древнего рода немецких князей Вельфов, расплодившегося по просторам Германии и окрестных стран. Отцом юноши и его 13 братьев и сестер (Антон-Ульрих был вторым сыном после первенца Карла) был герцог Брауншвейг-Бевернский Фердинанд Альбрехт II, генерал-фельдмаршал австрийской армии, сподвижник великого полководца, принца Евгения Савойского. Мать же – Антуанетта Амалия, состояла с отцом Антона-Ульриха в довольно близком родстве, так как была дочерью герцога Брауншвейг-Бланкенбургского – двоюродного брата своего мужа. В 1731 году герцог Брауншвейг-Бланкенбургский стал главой обширного Брауншвейгского дома[14]. Герцог Людвиг Рудольф и отец Антона-Ульриха разрешили юноше отправиться в Россию под благовидным предлогом – наняться на русскую службу. Эта мода распространилась среди германских князей с тех пор, как в России сделали успешную карьеру братья принцы Гессен-Гомбургские. К тому же русские обещали пожаловать принцу чин полковника и создать для него особый кирасирский полк. Но все знали, что это лишь формальная причина поездки юноши в Россию – принц едет в качестве будущего жениха племянницы русской императрицы.
Антон-Ульрих прибыл в Петербург 5 февраля 1733 года, в студеную зимнюю пору, и попал сразу же на праздник тезоименитства императрицы Анны Иоанновны и, соответственно, – своей будущей невесты Анны Леопольдовны. В тот вечер он вместе с именинницами и их знатными гостями наблюдал удивительное зрелище: на поверхности застывшей Невы, на ледовом поле, которое образовалось между стрелкой Васильевского острова, Петропавловской крепостью и Зимним дворцом, тысячами зеленых и синих огней засиял искусственный сад, «в середине которого Ея императорского величества вензловое имя красными цветами [иллюминации] изображено было, а сделанную над оным корону представляли разные цветы, такой вид имеющие, какой в употребленных в короне натуральных камнях находится». На все это славное «позорище» пошло больше ста шестидесяти тысяч светильников. Иллюминация украшала крепости – Петропавловскую и Адмиралтейскую, а также Кунсткамеру – тогдашнюю Академию наук. Эти здания сияли множеством огней, вычерчивавших их фасады. Достигалось это с помощью тысяч горящих глиняных плошек с жиром. Принц мог убедиться, как ему повезло – его принимали в столице могущественной империи. Но больше всего он интересовался не фейерверком, а будущей невестой.
Если судить по письму брауншвейг-вольфенбюттельского посланника Христиана-Фридриха Кништедта, принцесса Анна произвела хорошее впечатление на немцев: «Довольно рослая, красива лицом, имеет хорошие манеры и весьма благовоспитанна, и можно надеяться, что меж ними (Анной и Антоном-Ульрихом. – Е.А.) возникнут добрые отношения»[15]. Характеристика, данная высокопоставленной девице посланником, весьма формальна: рост, лицо, манеры, воспитание. Но ведь в принципе большего от невесты и не требовалось.
Зато приезжий жених Анны Леопольдовны всех разочаровал: и невесту, и ее мать, и императрицу, и двор. Худенький, белокурый, заикающийся, женоподобный юноша был неловок под пристальными, недоброжелательными взглядами «львов» и «львиц» двора Анны Иоанновны. Английский дипломат Клавдий Рондо в 1739 году писал, что в 1733 году он являлся свидетелем приезда принца в Россию и «был на первом его представлении герцогу Курляндскому, тогдашнему графу Бирону (Бирон до 1737 года не был герцогом Курляндии. – Е.А.) и не мог не заметить крайнего удивления графа при виде малого роста принца, не соответствовавшего возрасту». Похоже, размышлял Рондо, венский двор отправил русским негодный династический товар. Впрочем, и никакой другой жених принцессы Анны не мог бы вызвать симпатии у временщика императрицы – Бирон больше других придворных боялся грядущих перемен, а с браком племянницы царицы они стали бы неизбежны. Будущее заведомо не несло фавориту стареющей императрицы ничего хорошего.
Но делать было нечего – жених уже приехал. Как писал в мемуарах сам Бирон, «принц Антон имел несчастье не понравиться императрице, очень недовольной выбором Левенвольде. Но промах был сделан, исправить его, без огорчения себя или других, не оказалось возможности». Иначе говоря, принц знатнейшего германского княжеского рода – это не жених из неведомой в России Португалии, и его просто так не выставишь за дверь, наградив собольей шубой с царского плеча. Тем более что о предстоящем сговоре уже поставили в известность (или, как тогда выражались, «учинили нотификацию») австрийский, прусский и английский дворы. В итоге, что бы не думала про себя императрица Анна Иоанновна, она «приняла принца чрезвычайно любезно и озаботилась снабдить его всем необходимым сообразно его положению»[16]. Тогда же при дворе решили, как принято в таких ситуациях, потянуть время. Государыня не сказала курировашему сватовство австрийскому посланнику ни да, ни нет относительно «главного дела» – так называли в своих письмах брауншвейгские дипломаты ту цель, ради которого принц отправился в далекую северную страну[17]. Принца оставили в России, чтобы он, якобы дожидаясь совершеннолетия принцессы, обжился, привык к новой для него стране. Для этого были формальные основания – официально принц, как уже сказано, приехал в Россию, чтобы поступить на службу. На самом же деле, как писал К. Рондо, в Петербурге «установилось мнение, что русскому двору приятно было бы отделаться от него»[18].
Антон-Ульрих неоднократно и безуспешно пытался сблизиться со своей будущей супругой, но она равнодушно отвергала его ухаживания – «была безучастна» – так оценивал ее реакцию Х.Ф. Гросс, брауншвейгский дипломат[19]. «Его усердие, – утверждал впоследствии Бирон, – вознаграждались такой холодностью, что в течение нескольких лет он не мог льстить себя ни надеждою любви, ни возможностью брака». Злопыхатели распространяли о нем невыгодные слухи: физически он слаб, страдает падучей и т. д.[20] Но будем помнить, что Бирон был одним из таких злопыхателей. Думается, что Бирон, с его влиянием на Анну Иоанновну, и поддерживал в государыне неприязнь к принцу. Сам же он, со свойственным ему дерзким хамством, открыто третировал Антона-Ульриха и «весьма уничтожал и, несмотря на высокое его рождение, хуже всякого партикулярного человека всегда принимал и не токмо все его поступки при Ее величестве и публично при всех, и при чужестранных министрах хуливал»[21] – так было написано в допросных пунктах следствия по делу Бирона за 1741 год. Как грубо и бесцеремонно обращался временщик с людьми, хорошо видно из записок князя Я.П. Шаховского, да и других мемуаристов. Неудивительно, что Бирон и его клевреты несколько лет повторяли, «будто царица никогда не обещала выдать племянницу за принца, а согласилась только принять его на русскую службу»[22]. Но это не так: точно известно, что в 1732 году Левенвольде вел в Брауншвейге переговоры именно о браке принца Антона-Ульриха и Анны Леопольдовны, а из упомянутой записки Остермана следовало, что об этом сватовстве были извещены австрийский и другие европейские дворы. Более того, в мае 1733 года между Остерманом и брауншвейгским посланником фон Кништедтом начались переговоры об условиях заключения брачного контракта и процедуре бракосочетания. Напомню, что в мае этого года принцесса была окрещена по православному обряду. Это Остерман в записке 1733 года отмечал особо: девицу необходимо перекрестить в православие «еще прежде зговору, а по последней мере прежде совершения брака». Но дальше этих переговоров брачное дело не пошло, и в этом была личная заслуга Бирона. С самого начала он встретил в штыки идею задуманного Остерманом брака, ибо расценил этот проект как удар против себя. И все это хорошо понимали. Недаром принц Антон-Ульрих в сентябре 1735 года в сочувственном письме матери, герцогине Антуанетте-Амалии, по поводу смерти своего отца Фердинанда-Альбрехта, просил ее походатайствовать за него перед Бироном и Остерманом. По-видимому, мать принца написала Бирону, и тот отвечал, что для него нет более важного дела, чем забота о ее сыне[23]. Цена этих слов, естественно, была весьма невысока. На самом деле для Бирона было бы лучше, если бы вообще никакого брака не заключили, а Анна Леопольдовна состарилась в девках. Из дела казненного в 1740 году по наветам Бирона кабинет-министра Артемия Волынского видно, что как только временщик узнал о частых визитах Волынского к принцессе Анне Леопольдовне, то его гневу против дерзкого сановника не было предела. Кабинет-секретарь Иван Эйхлер, хорошо знавший придворную конъюнктуру, предупреждал своего друга Волынского: «Не веди себя близко к Анне Леопольдовне и не ходи часто. Мне кажется, что там от его светлости есть на тебя за то суспиция, ты нрав его знаешь». Но Волынский не унимался, шел поперек воли Бирона, за что вскоре и потерял голову.
Что же касается Остермана, который поначалу столь деятельно взялся за брачное дело принца, а потом вдруг остыл к нему, то не может быть никаких сомнений в истинных причинах охватившего вице-канцлера равнодушия к брауншвейгскому жениху. Остерман, весьма чуткий – как флюгер – к настроениям Бирона, умыл руки и несколько лет тянул резину, кормя пустыми обещаниями брауншвейгских дипломатов, которые настойчиво и постоянно напоминали вице-канцлеру о договоренностях Левенвольде с герцогом Брауншвейгским, о прерванных переговорах в Петербурге и прочем[24].
Как же в действительности смотрела на это дело сама императрица? Возможно, что ей было жалко выдавать племянницу за человека, ей несимпатичного, а по общему мнению еще и неразвитого и слабого. Наверняка императрица вспоминала, как некогда, в 1710 году, ее, семнадцатилетнюю девушку, Петр Великий выдал, не спрашивая согласия, за герцога Курляндии Фридриха-Вильгельма – такого же, как Антон-Ульрих, несмышленыша, который через месяц после свадьбы умер (как утверждали злые языки, с перепою), и вся судьба юной вдовы Анны Иоанновны оказалась исковерканной чужой могучей волей. Следует отметить, что Анна Леопольдовна и императрица были родными, близкими друг другу людьми. Этому много свидетельств. При всей незатейливости натуры Анны Иоанновны, присущей ей грубости, в ней жили и чувства высокие, порывы щедрые и благородные, особенно когда дело касалось устройства благополучия бедных людей, обиженных жизнью сирот. Выступать в роли свахи, подбирать пары и устраивать их счастье (кто же будет возражать такой свахе!) было ее страстью. Некоторые из таких бедных пар, по воле Анны Иоанновны, праздновали свадьбу в царском дворце. Как известно, императрица, сама лишенная семейного счастья, лепилась к семье своего фаворита Бирона. Одновременно она выступала как несокрушимый оплот нравственности своих подданных и сурово наказывала нарушителей общепринятой морали.
После смерти сестер императрицы – Екатерины Ивановны и Прасковьи Ивановны – Анна Леопольдовна осталась для нее единственным родным существом. К тому же девушка была почти сиротой (отец ее был жив, но с четырех лет она его не видела ни разу). Словом, племянница очень подходила для проявления лучших чувств Анны Иоанновны. Да государыня и не скрывала своей горячей привязанности к Анне Леопольдовне, и, как писал в 1739 году Шетарди, «царица считает ее и желает, чтоб другие также смотрели на нее как на родную ее дочь». Это же говорил ему и вице-канцлер Остерман, когда они с Шетарди разрабатывали церемониал первых аудиенций французского посла у царственных особ русского двора[25]. При установлении очередности визитов посла к Анне Леопольдовне и Елизавете Петровне Остерман сказал, что официальное положение Анны Леопольдовны и цесаревны Елизаветы Петровны одинаково, однако «принцесса Анна настолько дорога для царицы, что все, относящееся к ней, затрагивает непосредственным образом Ее царское величество, которая смотрит на эту принцессу как на свою дочь». Примечательно, что и Шетарди отмечал: Анна Леопольдовна «такого же характера, как и ее тетка, и старается подражать ей во всем»[26]. Прямо скажем, императрица Анна Иоанновна была не лучшим образцом для девушки, хотя искренность их чувств друг к другу очевидна. Пожалев, что она доверилась Остерману и Левенвольде в выборе жениха для племянницы, императрица решила выждать, тем более что летом 1733 года русский двор получал через своего посла во Франции князя Антиоха Кантемира заманчивое предложение Версаля выдать племянницу за принца французского королевского дома. Но из этого ничего не вышло.
Во-вторых, существовала, пожалуй, и другая важная причина многолетней заминки с брачным соглашением. Думаю, что поначалу, придя к власти в 1730 году, Анна Иоанновна не хотела всерьез задумываться о наследниках – ведь ей, ставшей императрицей в тридцать семь лет, после стольких лет унижений и бедности выпал, наконец, «выигрышный билет». Она помнила, как ее, юную вдовствующую герцогиню, по воле Петра Великого оставили блюсти государственные интересы России в чужой, нищей Митаве, под присмотром русского резидента Петра Бестужева (который вскоре залез к молодой вдовице и в постель), и при этом совсем не думали о ее погубленной молодости, о ее желаниях, мечтах, страданиях. После памятных событий начала 1730 года Анне Иоанновне казалось, что жизнь ее только тогда и началась, когда она наконец вырвалась на свободу из курляндского заточения и стала государыней Всероссийской на долгие годы, а то и на десятилетия. Поэтому она не стремилась срочно решить брачное дело племянницы и тем самым подготовить себе при жизни замену. То, что приехавший жених ей не понравился, и послужило императрице поводом для отсрочки брака племянницы на неопределенное время.
Но время шло, и к концу 1730-х годов какое-то шестое, «династическое» чувство все-таки вынудило государыню, несмотря на все сказанное выше, задуматься хотя бы о потенциальном наследнике. Она всегда помнила, что в Киле подрастает опаснейший соперник – внук Петра Великого Карл Петер Ульрих, которого в российском обществе считали весьма серьезным претендентом на престол. Бирон говорил на следствии (и это подтверждается другими источниками), что существование голштинского принца нервировало Анну Иоанновну и она «изволила часто о возрасте голстинского принца спрашивать и объявляла при том всегда некоторое от него опасение»[27]. Поэтому после нескольких лет колебаний императрица решилась все-таки выдать племянницу замуж.
А тем временем принцесса Анна Леопольдовна взрослела, и это вскоре дало о себе знать. Летом 1735 года начался скандал, отчасти объяснивший подчеркнутое равнодушие принцессы Анны к принцу Антону-Ульриху. Как сообщал в Версаль 28 июня 1735 года французский посланник, императрица Анна Иоанновна обедала с племянницей в Екатерингофе, а затем, «не успела государыня уехать, как кабинет-министры явились к старшей гувернантке принцессы госпоже Адеркас с приказанием собрать вещи и тотчас выбраться из дворца, так как принцесса в ее услугах более не нуждается». Ошарашенной гувернантке дали денег, а «затем немедленно явился в комнату майор Альбрайт (в русской транскрипции Альбрехт. – Е.А.) с 10–12 гвардейцами», они быстро собрали вещи Адеркас и сопроводили ее в Кронштадт, где посадили на уходивший в море иностранный купеческий корабль. Скорее всего, на этом обеде в Екатерингофе состоялось объяснение, точнее – семейный допрос, во время которого Анна Леопольдовна – тогда шестнадцатилетняя девица – созналась тетушке в своей близости с красавцем и любимцем петербургских дам графом Линаром – польско-саксонским посланником в Петербурге. Выяснилось, что покровительницей этого романа была воспитательница принцессы (старшая гувернантка) госпожа Адеркас, родственница прусского посланника Мардефельда. Она благоволила Линару, который посещал Адеркас почти каждый день и благодаря этому мог беспрепятственно видеться и миловаться с Анной Леопольдовной. Разгневанная Анна Иоанновна постаралась пресечь эту связь на корню. После высылки гувернантки польский король Август II по просьбе русского правительства без шума отозвал из Петербурга и графа Линара, причем Бирон, ранее весьма расположенный к Линару, написал в Дрезден, чтобы его более в Россию не посылали. Словом, причина всего скандала была, как писал Клавдий Рондо, проста как мир: «Принцесса молода, а граф – красив» (the princess being very young and the count a pretty fellow). Маркиз де ла Шетарди был того же мнения: Линар обладал «прекрасной наружностью» (belle figure)»[28]. Пострадал и камер-юнкер принцессы Иван Брылкин, который, скорее всего, служил почтальоном возлюбленных. В свое время, в 1724 году, за такую же вину (переносил записочки императрицы Екатерины Алексеевны и ее любовника Виллема Монса) пострадал «на теле» Иван Балакирев, ставший уже при Анне Иоанновне первейшим шутом двора. Судьба Брылкина сложилась счастливей. Он был сослан в Казань, а с приходом Анны Леопольдовны к власти в 1740 году неведомый никому раньше бывший камер-юнкер Брылкин был назначен обер-прокурором Сената и камергером двора[29]. О судьбе Линара будет сказано ниже.
Известно, что после скандала императрица Анна Иоанновна установила за племянницей весьма жесткий, недремлющий контроль. Проникнуть посторонним на ее половину стало совершенно невозможно. Изоляция Анны Леопольдовны от общества ровесников, подруг, света и отчасти даже двора, при котором она появлялась лишь на официальных церемониях, длилась пять лет и не могла не повлиять на ее психику и нрав. И раньше не особенно живая и общительная от природы, Анна теперь совсем замкнулась, стала склонной к мрачности, уединению, раздумьям, сомнениям и, как писал Э. Миних, большой охотницей до чтения книг, что по тем временам считалось делом диковинным и барышень, как известно, до добра не доводящим. И вот, наконец, уже покрытое исторической пылью брауншвейгское брачное дело было реанимировано, что всех поразило. К. Рондо в мае 1739 года писал, что этого брака «никто не ожидал», он не сомневается, «что все проживающие здесь представители иностранных государств уверяли свои правительства в несбыточности такого факта (брака Анны и Антона-Ульриха. – Е.А.)».
Возможно, кроме вышеназванных мотивов императрица действительно обеспокоилась судьбой двадцатилетней племянницы – в те времена в такие годы замужне женщины уже рожали второго или третьего ребенка. Нет причин не верить Бирону, писавшему, что государыня как-то сказала ему: «Никто не хочет подумать о том, что у меня на руках принцесса, которую надо отдавать замуж. Время идет, она уже в поре. Конечно, принц не нравится ни мне, ни принцессе; но особы нашего состояния не всегда вступают в брак по склонности». Как писал Клавдий Рондо, русские полагают, что принцессе пора замуж, она начинает полнеть, а полнота может повлечь за собою бесплодие[30]. И это заставило Анну Иоанновну поспешить пристроить девицу.
Кроме того, возможно, что стимулом к возобновлению российско-брауншвейгского брачного проекта стало появление нового нежданно-негаданного жениха. Дело в том, что в 1738 году судьбой принцессы Анны вдруг озаботился фаворит императрицы, у которого обнаружился свой план решения затянувшегося вопроса о ее браке. Видя демонстративное безразличие Анны к жениху, герцог в 1738 году запустил пробный шар: через посредницу – одну из придворных дам – он попытался выведать, не согласится ли принцесса выйти замуж за его старшего сына, принца Курляндского Петра Бирона. То обстоятельство, что Петр был на шесть лет младше Анны, не особенно смущало герцога – ведь в случае успеха его замысла Бироны породнились бы с правящей династией и посрамили бы хитрецов предыдущих времен – Меншикова и Долгоруких, которые пытались проделать тот же династический фокус! Сведения о проекте Бирона уже летом 1738 года стали известны в Лондоне, и лорд Гаррингтон, статс-секретарь короля Георга II, просил К. Рондо передать Бирону, что «такой выгодный брак его очень приятен королю». Приятность подобного альянса для Англии заключалась в том, что столь неприятный британцам русско-австрийский союз в этом случае не состоится. И когда Рондо, воспользовавшись дружелюбным разговором с Бироном, спросил его о брачном проекте с участием старшего сына герцога, тот все отрицал, но как-то не очень убедительно. Поэтому Рондо в своей депеше Гаррингтону заключил: «Это заставляет меня предполагать, что, несмотря на все уверения, герцог все-таки пытается сосватать ее (Анну Леопольдовну. – Е.А.) за сына, когда принц достигнет надлежащих лет и найдется удобный случай открыть свои замыслы»[31].
Возможно, так это и было. Внимательные придворные и дипломаты стали замечать, что на балах принцесса стала все чаще танцевать не с Антоном-Ульрихом, а с пятнадцатилетним Петром Бироном, который однажды даже явился в одежде того же цвета, что платье Анны Леопольдовны – выразительный знак особого внимания к своей даме. Петр же стал ее частым партнером в придворной карточной игре. А в начале 1739 года сам Бирон переговорил с принцессой о ее брачном будущем, но получил решительный отказ. Принцесса сказала, что, пожалуй, готова выйти замуж за Антона-Ульриха – по крайней мере, «он в совершенных летах и старого дома». Это была звонкая пощечина фавориту, чистота происхождения и древность рода которого у всех вызывали сомнения (скорее всего, Бирон происходил не из конюхов, как говорили злые языки, а из мелкопоместного бедного курляндского дворянства). Известно, что императрица Анна Иоанновна безмерно любила своего фаворита, осыпала его наградами и ласками, ни в чем ему не отказывала, но тут она как-то странно молчала. Возможно, «династическое чувство» ей говорило, что все-таки подобный мезальянс с незнатным (как говорили тогда даже при дворе – «нефамильным», «худородным») Бироном пойдет во вред Романовым. А чувство своей избранности, важности чистоты крови никогда не покидало эту настоящую московскую царевну – дочь русского царя и русской царицы из знатного рода. Из истории ее отношений с Елизаветой Петровной нам известно, с каким презрением относилась императрица к отпрыскам «лифляндской портомои». Возможно, что при всей любви Анны Иоанновны к Бирону императрица не была готова отдать племянницу за его сына. Наконец, возможен еще один вариант (о котором писал Клавдий Рондо в донесении от 12 мая 1739 года[32]): императрица не мешала, но и не помогала Бирону в его проекте. Она предоставила племяннице выбор: какого из принцев выберешь – тот и будет тебе женихом! Но уже сам по себе предоставленный выбор (учитывая огромное влияние Бирона на императрицу) был скрытым неодобрением государыни возможного брака принцессы с Петром Бироном. И тогда Анна Леопольдовна остановилась на Антоне-Ульрихе – лучшем варианте из двух худших. Возможно, что принцесса вовремя получила и дельный совет. Из дела Волынского и его приятелей-«конфидентов» следует, что слухи о намерении Бирона женить своего сына Петра на Анне Леопольдовне их обеспокоили – все понимали, что власть Бирона усилится. Канцлер князь А.М. Черкасский, по словам Волынского, говорил ему: «Это знатно Остерман не допустил и отсоветовал (от брака Анны с Петром Бироном. – Е.А.), видно, – человек хитрый. Может быть, думал, что нам это противно будет», и они сошлись на том, что хотя принц Брауншвейгский «и не высокого ума, но милостив».
Впрочем, вновь обратив взоры на принца Антона-Ульриха, многие заметили, что за пять истекших лет, проведенных в России, он изменился и возмужал. Он пополнил свое образование: выучил русский язык – его учителем был знаменитый поэт В.К. Тредиаковский. С другими учителями он занимался науками по плану, некогда составленному еще в 1727 году Остерманом для малолетнего императора Петра II. Все это, кстати, говорит о том, что прибыл он в Россию явно недоучившимся. Иначе зачем ему пришлось заниматься арифметикой, геометрией, фортификацией и другими науками из минимального набора знаний тогдашнего джентльмена?
Принц посвящал время не только учебе. Он пошел по пути своего знаменитого отца, получил чин полковника – ради этого из Ярославского драгунского полка сделали Бевернский (или Брауншвейгский) кирасирский полк[33]. В 1737 году он отправился волонтером на русско-турецкую войну. В Петербурге этим обстоятельством были довольны – война есть война и назначение принца – хорошее средство убрать его с дороги. Принц служил при штабе Миниха, но там не отсиживался, а показал себя храбрецом во время осады турецкой крепости Очаков. Во время боя его одежда была прострелена вражескими пулями, один конь под ним ранен, а другой убит. Возле него погиб его паж[34], и есть версия, что как раз на смену этому погибшему молодому человеку и приехал в Россию в будущем знаменитый враль барон К.-Ф.-И. фон Мюнхаузен[35]. За участие в кампании принц удостоился чина генерал-майора и майора Преображенского полка. В январе 1738 года он был награжден орденом Андрея Первозванного и получил под свою команду гвардейский Семеновский полк. И что особенно важно – тогда же снискал похвалу самой императрицы, потрепавшей юношу по плечу. Отличился он и в кампании 1738 года под Бендерами, где сам участвовал в боях.
Словом, оценив все эти обстоятельства, императрица решила больше свадьбу не откладывать. Переломным можно назвать февраль 1739 года, когда Остерман в письме дипломатическому представителю Брауншвейг-Вольфенбюттельского герцога барону фон А.А. Крамму вдруг назвал брак принца с Анной Леопольдовной на манер Бирона «делом всей своей жизни»[36]. При этом мы знаем, что с 1733 по 1739 год Остерман даже пальцем о палец не ударил, чтобы продвинуть «главное дело» принца. Письмо Остермана стало сигналом для брауншвейгцев. В марте брауншвейг-вольфенбюттельский посланник при русском дворе Г.И. Кейзерлинг удостоился беседы с самим Бироном, который объявил ему о предстоящем браке Анны Леопольдовны и Антона-Ульриха. О том же Бирон объявил и английскому резиденту К. Рондо и, надо полагать, другим дипломатам[37]. Тогда же Остерман потребовал, чтобы сватом выступил – вероятно, для пущей важности, – вновь назначенный в Россию посол римского императора маркиз де Ботта д’Адорно, и чтобы все расходы жениха-принца взял на себя Брауншвейг (карета, наряд, подарки) [38]. Кроме того, принц не отправился, как предполагалось ранее, в армию, воевавшую против турок, а остался в Петербурге. В мае императрица приняла Крамма и вела с ним переговоры о браке, а 1 июля 1739 года состоялось официальное обручение. По тщательно разработанному Остерманом церемониалу состоялся торжественный въезд нового австрийского посланника маркиза Ботта д’Адорно. В Большом зале дворца ему – олицетворявшему при русском дворе Империю, подданным которой и был принц Антон-Ульрих, – была дана высочайшая аудиенция. Посланник от имени своего государя просил руки Анны Леопольдовны для принца Антона-Ульриха[39]. Анна Иоанновна дала на брак свое высочайшее согласие.
Затем последовал молебен в придворной церкви и обмен кольцами, которые обрученным подавала сама государыня. Принц Антон-Ульрих вошел в зал, где происходила церемония, одетый в белый с золотом атласный костюм, его длинные белокурые волосы были завиты и распущены по плечам. Леди Рондо, стоявшей рядом со своим мужем, пришла в голову странная мысль, которой она и поделилась в письме к своей приятельнице в Англию: «Я невольно подумала, что он выглядит как жертва». Удивительно, как случайная, казалась бы, фраза о жертвенном барашке стала мрачным пророчеством. Ведь Антон-Ульрих действительно был принесен в жертву династическим интересам русского двора. Но в тот момент всем казалось, что жертвой была невеста. Она дала согласие на брак и «при этих словах, – продолжает леди Рондо, – обняла свою тетушку за шею и залилась слезами. Какое-то время Ее величество крепилась, но потом и сама расплакалась. Так продолжалось несколько минут, пока, наконец, посол не стал успокаивать императрицу, а обер-гофмаршал – принцессу». После обмена кольцами первой подошла поздравлять невесту цесаревна Елизавета Петровна. Реки слез потекли вновь. Все это больше походило на похороны, чем на обручение.
Сама свадьба состоялась через два дня в Казанской церкви на Невском проспекте в присутствии государыни и всего двора. Венчал Анну Леопольдовну и Антона-Ульриха Амвросий, епископ Вологодский. Потом великолепная процессия потянулась по Невскому проспекту. В роскошной карете лицом к лицу сидели императрица и новобрачная в серебристом платье. Потом зазвенел бокалами торжественный обед, грянул бал, вспыхнул праздничный фейерверк. Простой народ поили белым и красным вином из фонтанов, специально для того устроенных, и кормили жареным быком с «другими жареными мясами». Наконец, невесту облачили в атласную ночную сорочку, герцог Бирон привел одетого в домашний халат принца – и двери супружеской спальни закрыли. Целую неделю двор и столица праздновали свадьбу. Сменяли друг друга обеды и ужины, придворный маскарад с новобрачными в оранжевых домино, опера в театре, фейерверк и иллюминация в Летнем саду. Леди Рондо была в числе гостей и потом сообщала приятельнице, что «каждый был одет в наряд по собственному вкусу: некоторые – очень красиво, другие – очень богато. Так закончилась эта великолепная свадьба, от которой я еще не отдохнула, а что еще хуже, все эти рауты были устроены для того, чтобы соединить вместе двух людей, которые, как мне кажется, от всего сердца ненавидят друг друга; по крайней мере, думается, что это можно с уверенностью сказать в отношении принцессы: она обнаруживала весьма явно на протяжении всей недели празднеств и продолжает выказывать принцу полное презрение, когда находится не на глазах императрицы». Говорили также, что в первую брачную ночь молодая жена убежала от мужа в Летний сад. Это похоже на правду – советник брауншвейгского посольства Гросс с тревогой сообщал в октябре 1739 года, что нет никаких признаков беременности супруги герцога, и что будто бы назло мужу Анна Леопольдовна часто катается в санях вдвоем с Петром Бироном – недавно отвергнутым женихом[40]. Позже, уже в елизаветинские времена, за «непристойные разговоры» был арестован полковник Иван Ликеевич. Он рассказывал собеседникам, что с самого начала «Антон-Улрих плотского соития с принцессой не имел и государыня на принцессу гневалась, что она тому причина». Потом якобы выяснилось, что и сам молодой муж нездоров, «призвали лекарей и бабок и Улриха лечили. И принцесса-де с мужем своим жила несогласно, и она-де его не любила, а любилась с другими»[41]