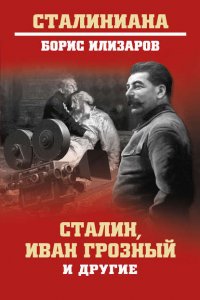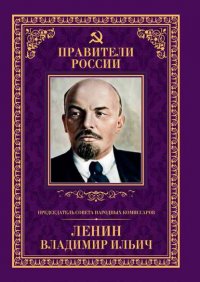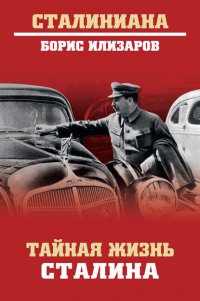
Читать онлайн Тайная жизнь Сталина бесплатно
- Все книги автора: Б. С. Илизаров
Иосиф Сталин (перевод с грузинского Ф. Чуева)
- Но очнулись, пошатнулись,
- Переполнились испугом,
- Чашу, ядом налитую, приподняли над землей
- И сказали: – Пей, проклятый,
- неразбавленную участь,
- не хотим небесной правды,
- легче нам земная ложь.
Федор Сологуб
- Человек иль злобный бес
- В душу, как в карман, залез,
- Наплевал там и нагадил,
- Все испортил, все разладил
- И, хихикая, исчез.
- Дурачок, ты всем нам верь, —
- Шепчет самый гнусный зверь, —
- Хоть блевотину на блюде
- Поднесут с поклоном люди,
- Ешь и зубы им не щерь.
Я перед вами ничего не утаю: меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость.
Федор Достоевский (из подготовительных материалов к роману «Бесы»)
Каждый из нас, человеческих существ, есть один из бесчисленных экспериментов…
Зигмунд Фрейд. Леонардо да Винчи. Воспоминание детства
Российская академия наук
Институт российской истории
Издание седьмое
Рецензенты:
доктор исторических наук В.С. Лельчук,
доктор исторических наук А.П. Ненароков
Знак информационной продукции 12+
© Илизаров Б.С., 2019 © ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Предисловие
Прошло десять лет с момента первой публикации этой книги. Я благодарен судьбе и издательству за то, что еще при жизни увижу обновленное издание. Обновленное не в том смысле, что пересмотрел взгляды на сталинскую эпоху и историю России ХХ века. Параллельно с этой выходит моя новая книга: «Почетный академик Сталин и академик Марр. О языковедческой дискуссии 1950 года и проблемах с нею связанных». Несмотря на то что через обе книги проходит один и тот же герой, в них рассматриваются взаимосвязанные, но разные проблемы. В книге, которую читатель держит в руках, анализируются скрытые душевные и моральные изломы сталинской натуры как части его биографии; вторая книга в большей степени посвящена истории интеллекта, причем в той области, в которой Сталин считал себя первым из наипервейших, то есть в области национального вопроса, языка и связанных с ними политических и культурологических проблем. Но и первая и вторая книги не только о Сталине, его эпохе и людях на жизнь и судьбу которых он повлиял, они о всех нас (включая Сталина, конечно), вынужденных с момента рождения и до момента смерти стоять перед выбором: добра или зла. Государственный деятель, как любой человек, родившейся на земле, не свободен от этого судьбоносного и для себя и для страны выбора. Мне кажется, что это новый аспект для современной исторической науки. В связи с этим я добавил заключительный параграф, в котором изложил свое понимание проблемы выбора (проблемы морали) применительно к историческому «герою» вообще и, к Сталину, в частности. Поскольку готовящаяся новая книга посвящена взаимоотношениям Сталина с академиком Марром – автором яфетической теории происхождения языка и мышления, я перенес из этой книги небольшой фрагмент, прямо связанный с языковедческой дискуссией 1950 года.
Сразу после выхода в свет первого издания, в 2002 году, я стал получать различные отклики. Но и положительные и отрицательные часто были поверхностны, а потому – малопродуктивны, и только в последние годы я познакомился с мнениями, касающимися самого существа поднимаемых в книге вопросов.
Патриарх современной русской литературы Даниил Гранин в недавнем интервью поделился такими соображениями:
(корреспондент) «– Как в нескольких словах вы можете охарактеризовать личность Сталина?
– Знаете, у меня в этом плане разные были периоды: до и после ХХ съезда, где разоблачили все жестокости Сталина и особенно “Ленинградское дело”, с которым немного столкнулся, но потом убедился, что все тут гораздо сложнее. В каком смысле? Ну, вот хотя бы в том, что Иосиф Виссарионович очень любил и знал литературу, много читал… Есть замечательные исследования на этот счет, в частности, историк Борис Илизаров изучал пометы, сделанные Сталиным на полях книг…
– …красным карандашом?
– Нет, разноцветными. Все эти надписи: “Так его!”, “Куда ж податься?”, “Неужели и это тоже?”, “Это ужасно!”, “Выдержим” – примечательны тем, что отражают неподдельное чувство читателя. Тут нет никакой показухи, ничего, рассчитанного на публику (кстати, эту читательскую реакцию хорошо показал в “Евгении Онегине” Пушкин).
Так вот, судя по тому, как Илизаров описывает сталинские пометы на “Воскресении” Толстого, на “Братьях Карамазовых” Достоевского, на произведениях Анатоля Франса и так далее, вождь был не просто книгочеем, а вдумчивым читателем, который все как-то усваивал, переживал, хотя на него это не действовало.
– Злодеем он все-таки был?
– Ну, объяснение это слишком простое – налицо невообразимая, чудовищная извращенность. Понимаете, Толстой, Достоевский – это же величайшие гуманисты, человековеды, никто лучше их о проблемах совести и добра не писал, но вот на Кобе это никак не сказывалось. Облагораживающее влияние литературы, искусства, о которых мы так любим рассуждать, здесь заканчивалось – он приезжал в свой кремлевский кабинет…
– …и напрочь забывал Толстого и Достоевского…
– …и подписывал расстрельные списки на сотни человек, причем не абстрактных, а тех, которых знал, с кем дружил»[1].
А вот прямо противоположное мнение Юрия Емельянова, журналиста, не поленившегося написать толстую книжку, посвященную «разоблачениям» антисталинистских высказываний, начиная с Троцкого, Хрущева, Горбачева, многих известных российских и зарубежных историков, публицистов ХХ века, апофеозом которых стала, как утверждает автор, моя книга:
«Пожалуй, наиболее ярким примером морального и интеллектуального падения антисталиниста стала книга Бориса Илизарова “Тайная жизнь Сталина. По материалам его библиотеки и архива”. Спору нет, Илизаров заведомо взялся за трудное дело: попытаться истолковать характер Сталина и раскрыть его мысли, разбирая пометки, которые тот оставлял на полях книг. Однако к книгам из сталинской библиотеки был допущен человек, явно не способный понять ни смысл сталинских пометок, ни содержание произведений, которые комментировал Сталин.
Сообщая, что он пять лет бился над расшифровкой помет Сталина на нескольких десятках книг, Илизаров лишь расписался в своей интеллектуальной беспомощности….
Но возможно, что Илизаров кое-чего добился бы в своих трудах, если бы не его позиция. Провозгласив принцип “эмоционально высвеченной научной истории”, Илизаров с первой же страницы книги не скрывает своей ненависти к Сталину» и т. д. и т. п.[2]
Читатель сам может судить о том, что в писаниях Емельянова правда, а что завистливая пропагандистская чепуха. Хочу так же обратить внимание на то, что я опирался не только на многочисленные сталинские пометы, но и на ранее неизвестные материалы из личного архива Сталина и документы других архивов. Но в одном я согласен: критик благодарит главного редактора издательства «Вече» С.Н. Дмитриева. Со своей стороны я выражаю благодарность С.Н. Дмитриеву за многолетнее сотрудничество и мудрую издательскую политику, позволяющую разным авторам, имеющим разные взгляды, свободно обращаться к современным искушенным читателям.
2018 г.
Предисловие к первому изданию
Перед вами первая часть давно задуманной книги о душевном, интеллектуальном и физическом облике И.В. Сталина, человека, во многом определившего историю России и всего мира в ХХ веке. Практически все, что здесь изложено, написано на основании новых или малоизвестных источников.
Хочу предупредить – в книге читатель встретится с незнакомым Сталиным. Кому привычен давно сложившийся положительный или резко негативный образ этого человека, лучше книгу не открывать, чтобы не тревожить душу сомнениями. В то же время я совершенно не стремился занять как бы «третью», среднюю позицию, когда, «с одной стороны», мой герой «то-то и то-то делал и мыслил положительное», а «с другой – то-то и то-то… отрицательное». Я рассматриваю фигуру Сталина без «священного» трепета и не менее «освященного» ернического пренебрежения. Для меня Сталин, недавно по историческим меркам сошедший с мировой арены, – старший современник, с которым я ныне знаком пусть и опосредованно, через источники и документы, но гораздо основательнее, чем если бы это произошло непосредственно при знакомстве, в реальной жизни.
Теперь я знаю – Сталин был гораздо проще, приземленнее, а иногда, как человек, воспитанный в определенной среде и действовавший при определенных исторических условиях, – вульгарнее, примитивнее, глупее, коварнее и злее, чем об этом повествовали мало что знавшие, а главное – мало что смевшие и желавшие знать его соратники и современники и некоторые мои современники, сталинские апологеты. В то же время это была натура гораздо более сложная, противоречивая, разносторонняя и незаурядная, чем о нем пишут другие наши современники, пережившие «культ личности», его разоблачение и настороженно отслеживающие каждую попытку его исторической реабилитации. Более основательно познакомившись с некоторыми ранее скрытыми сторонами сталинской натуры, эту настороженность считаю вполне оправданной. Убежден – к Сталину, к сталинизму как явлению всемирно-исторического масштаба следует относиться чрезвычайно серьезно, не менее серьезно, чем к Гитлеру и нацизму. Так же серьезно, как к Сталину относились все знаменитые его современники – от Троцкого и Черчилля до Рузвельта и того же Гитлера.
О Сталине написано огромное количество работ. Помимо широко известных, разноплановых монографий и исследований Л. Троцкого, А. Авторханова, Д. Волкогонова, Р. Такера, Р. Слассера, Д. Ранкур-Лаферриера, А. Антонова-Овсеенко, Р. Медведева, Э. Радзинского, Е. Громова, Н. Яковлева, М. Вайскопфа, ежегодно выходят десятки менее значительных книг и у нас, и в особенности за рубежом[3]. «Сталиниана», начавшаяся с середины 20-х годов ХХ столетия, сейчас насчитывает многие сотни, даже тысячи работ и документальных публикаций самого различного жанра и качества. Сама по себе литература о Сталине давно должна была бы стать темой самостоятельного историографического исследования. Чтобы не увязнуть в ней, я решил не выделять специального историографического раздела, так как работы, вышедшие о Сталине при его жизни, рассматриваю в качестве важнейших источников, раскрывающих процесс формирования историософии сталинизма. Все, что выходило при его жизни в стране, и большую часть того, что издавалось за рубежом, он лично контролировал и часто выступал как соавтор и вдохновитель своих «биографий» и исследований о себе. Заслуживающие доверия работы, вышедшие после его смерти, цитируются в соответствующих местах.
Ясно, что в условиях столь мощного потока публикаций и эмоционального противостояния не просто найти точный аспект в раскрытии личности Сталина, отстаивать собственный взгляд на результаты его интеллектуальной и душевной деятельности. Но я и не претендую на открытие «объективной», беспристрастной и безоговорочно приемлемой для всех истины. Первоначально научная «истина» всегда очень личностна и эмоционально субъективна, поскольку она принадлежит только тому, перед кем раскрылась, или тому, кто ее обнаружил. И лишь в том случае, если кто-то помимо первооткрывателя принимает ее, истина объективизируется, то есть становится истиной для многих, может быть, для очень многих, но никогда – для всех. На каждый закон, даже физический закон Ньютона, найдется свой ниспровергатель, свой Эйнштейн, а на него – еще кто-то, опровергающий и дополняющий казалось бы незыблемые постулаты. Тем более если речь идет об истине в исторической науке, где безраздельно господствует мнение. Однако, даже будучи относительной, истина (как и истинное мнение) таит в себе огромные и очень конкретные силы.
* * *
На протяжении 1998–2002 годов в научных и научно-популярных изданиях, в периодических изданиях России и за рубежом я публиковал отдельные разделы и фрагменты этой работы[4]. Не все они вошли в книгу. Однако то, что ранее было опубликовано, а теперь вошло в книгу, было в значительной степени переработано, расширено и уточнено.
Многим своим коллегам я благодарен за товарищескую критику, облегчившую постановку основных идей. В первую очередь я вспоминаю ныне покойных Ю.С. Борисова и В.П. Дмитренко, несколько лет назад поддержавших общее направление этого исследования. Особая благодарность А.Н. Сахарову, одобрившему в начале работы ее «сталинскую» и историософскую направленность. Без ценнейших консультаций бывшего заведующего библиотекой ИМЭЛ при ЦК КПСС, а ныне коллеги по Центру истории отечественной культуры Института российской истории РАН Ю.П. Шарапова работа выглядела бы намного беднее. Я благодарю коллег, взявших на себя труд прочесть книгу в рукописи и высказавших о ней свое мнение: Т.Ю. Красовицкую, А.В. Голубева, Ю.А. Тихонова, В.А. Невежина, В.Д. Есакова, А.Е. Иванова, А.П. Богданова. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить немецкого исследователя Дитриха Байрау.
Много лет я работаю в читальном зале Российского государственного архива социально-политической истории (РГА СПИ). Благодарю работников архива за постоянные и ценнейшие консультации. Хочу выразить благодарность М.В. Страхову, чьи уникальные знания о фондах архива не раз облегчали поиск необходимой информации.
На протяжении 2000 года в журнале «Новая и новейшая история» публиковались обширные фрагменты монографии. Инициатива этих публикаций принадлежала главному редактору журнала Г.Н. Севостьянову, которому я особенно благодарен за столь действенную поддержку. Считаю своим долгом поблагодарить и сотрудницу журнала Г.Г. Акимову, осуществившую значительную редакторскую работу над текстами статей. В переводах текстов, напечатанных на грузинском языке, неоценимую помощь оказал Нугзар Шария.
Без двух близких людей, неизменно поддерживавших меня, эта работа вряд ли бы состоялась. Это – историк и архивист А.В. Доронин и С.Е. Кочетова – моя жена и самый строгий критик.
2002 г.
«Пролог», он же «Эпилог»
Почему «пролог», а не – «введение»?
Именно с «пролога» начинается эта «Книга в книге». В центре обеих книг – Сталин, но в одной из них он конкретный, живой человек, а в центре другой – историческая личность. Я не берусь судить о том, где заканчивается одна книга и начинается другая.
«Введение» в современном историческом труде – это традиционная форма заявления автора о намерениях, а главное – представление доказательств своего профессионального трудолюбия. Еще со времен Средних веков в западноевропейской гуманитарной науке сложились обязательные формы ученических и школярских трудов, без зачета которых не принимали в цех мастеров. В советское время такие работы сознательно превратили в формальный канон гуманитарного сословия, вне зависимости от того, принадлежит ли труд ученику, подмастерью или мастеру. Все ходили в школярах, все были учениками очередного вождя, как величайшего «Мастера». Сталин первым назвал себя «мастером», «мастером от революции»[5].
В этой книге «Пролог» – нечто вроде сеней в деревенском доме. Это переход совместно с читателем из открытого, по существу, космического пространства всеобщей жизни в обособленный, суженный мир одного общества, одной семьи, одного человека, переход, который уже отделяет нас от внешнего и бесконечно открытого, но еще только таит в себе возможность проникновения внутрь, в интимную глубину. Примерно этим же целям служил пролог в античном театре и в театре времен Шекспира. Проводя зрителя через пролог, автор отсекал его от повседневно текущего и вталкивал в мир объясняющихся символов. Поскольку на земле только «через человека есть выход в иной мир»[6], постольку «пролог» таит в себе возможность такого совместного с автором перехода. В наше время классический «пролог» почти повсеместно заменен занавесом, который, конечно же, использовал и театр времен Сталина. Но в театр Михаила Булгакова, так же как в театр Шекспира или Мольера, естественнее было проникнуть, переступив именно «пролог». Через «пролог» Булгаков пытался войти в сталинский мир. В 1939 году, когда могущество вождя достигло, казалось бы, немыслимых высот, Сталин прочитал о себе пьесу Булгакова «Батум», начинавшуюся таким «прологом»: встреча «накоротке» с товарищем в зале Тифлисской духовной семинарии в 1898 году. Сталину около девятнадцати лет, но вся его судьба как отпечаток на ладони: «Понимаешь, пошел купить папирос, возвращаюсь на эту церемонию, и под самыми колоннами цыганка встречается. «Дай, погадаю, дай, погадаю!» Прямо не пропускает в дверь. Ну, я согласился. Очень хорошо гадает. Все, оказывается, исполнится, как я задумал. Решительно сбудется все! Путешествовать, говорит, будешь много. А в конце даже комплимент сказала – большой ты будешь человек! Безусловно стоит заплатить рубль»[7]. Здесь пролог – не предчувствие и не предсказание (чего уж там предсказывать, на дворе 1939 год!), а мгновенное сжатие несколькими фразами начала и конца судьбы «мастера от революции», «пастыря народов». Среди первоначальных булгаковских названий пьесы о Сталине были: «Мастер» и «Пастырь».
Пьеса «Батум» была запрещена лично Сталиным не только к постановке, но и к публикации. Но на другую пьесу Булгакова «Дни Турбиных» он ходил пятнадцать раз, и, конечно, неспроста. Наверняка и Сталин посматривал на свою страну так же, как втайне любимый им мхатовский драматург и гениальный писатель смотрел на театральную сцену с зарождающимся в его душе спектаклем. Он видел эту сцену как бы сверху и со стороны, на которой, однако, даже давно убиенные или никогда не существовавшие лица внезапно самовоскрешаются и действуют помимо воли постановщика.
Леон Фейхтвангер, талантливо слепивший из эмоциональных археологических обломков и такой же ветоши целую галерею героев для собственного исторического театра, в том числе зыбкий лик Сталина образца 1937 года, не мог не отметить особое, бездушное великолепие советского театра. «Сценические картины отличаются такой законченностью, какой мне нигде до сих пор не приходилось видеть, – писал он, – декорации, там, где это уместно, например, в опере или некоторых исторических пьесах, поражают своим расточительным великолепием». И все же, несмотря на масштабность и расточительность сталинского театра, «драмы у него нет» – жестко констатировал Фейхтвангер[8]. И это в то самое время, когда на подмостках Колонного зала Дома Союзов разыгрывалась очередная фантазийная драма под периодическим названием «Дело врагов народа», в которой сам Фейхтвангер, в соответствии с замыслом Сталина, играл роль зачарованного гостя и заморского очевидца. Хотя до приезда в Москву предшествующий политический процесс над Зиновьевым и Каменевым представлялся ему «какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством»[9]. Многие говорят о Сталине, в том числе наш известный драматург Эдвард Радзинский, как о ярком режиссере собственного политического театра и потому, как мне кажется, искренне ценившем талантливых мастеров лицедейства[10]. Все же Сталин как драматург и постановщик не так уж интересен. Все его политические спектакли кустарны и говорят о наивной, хотя и безудержной сценической фантазии автора. Но как актер, сыгравший с десяток уникальных ролей исторических героев, он будет не скоро превзойден на мировой политической сцене. В лицедействе он хорошо разбирался. И как истинный актер, он дико завидовал своим партнерам по сцене, в особенности Л.Д. Троцкому. В 1927 году Сталин завистливо и издевательски бросил в партийный «зрительный зал»: «Я думаю, что Троцкий не заслуживает такого большого внимания. (Голос с места: «Правильно!») Тем более что он напоминает больше актера, чем героя, а смешивать актера с героем нельзя ни в коем случае»[11].
Основная тема этой (и, дай бог, будущей) книги – подлинный образ героя, поверх которого – лики, маски и исторические личины И.В. Сталина как важнейшие составные части его авторской историософии. И все же, все же – история не театр и люди в ней не актеры!
Когда занавес падает, это значит, что главный герой, даже очень могущественный, бесповоротно мертв и возврат на ту же сцену, в том же исполнительском составе, в тот же зрительный зал и в ту же эпоху невозможен. И это несмотря на шумные рукоплескания современников и даже потомков, переходящие в овации, перекрывающие вопли и стоны. Невозможен, несмотря на здравицы и скандирования «бис!», то есть – «повторить!». Ах, как Сталин, один из главных героев, взобравшихся на сцену ХХ века, все это любил при жизни! И какое же это счастье, что как бы талантливо исторические герои ни лицедействовали, жизнь постоянно их обманывала – история никогда не будет театром, страна – сценой, а ее люди, сколько с ними не репетируй, – талантливыми статистами. Прав замечательный философ Кьеркегор, считавший, что в жизни каждого из нас на каждом шагу подстерегают все новые и новые повторения, то есть воспоминания, позволяющие предвкушать будущее[12]. Но это в раскрытой жизни, в свершающемся, но еще не в свершенном, в личной судьбе, в начатом, но незавершенном труде и во всем том, что еще напряженно ожидает будущего. А человеческая история не предусматривает повторения, как и черновиков. Там все в первый и все в последний раз и – навеки.
Но так же как в городе или деревне мы не только входим, но и выходим из дома через те же самые двери подъезда или одни и те же сени, то и выскользнуть из сталинской эпохи, из его внутреннего мира можно также через «Пролог». Тому, кто не хочет себя затруднять кажущимся длительным переходом, советую сразу же открыть первую страницу первой главы. Дочитав книгу, можно будет выйти через тот же «Пролог», на символически возвратной стороне которого, как и положено в театре, загорается табличка: «Выход здесь», а в классической драме крупно отпечатано – «Эпилог». Но никому не запрещен вход и выход даже через «окно» или сквозь «стены» – многие начинают читать книгу чужой жизни там, где она сама раскроется перед ними или куда упрется пытливый глаз, нетерпеливо ищущий ответы на все и сразу.
Поэтому здесь «Пролог» – всего лишь момент перехода: за нами – настоящее с его открытым будущим, впереди – прошлое, навсегда вечное повторение.
О Роли любви и ненависти, бесстрастия и беспристрастности в историческом исследовании
Вторую половину своей сознательной жизни Сталин думал о себе как об исторической личности исполинских масштабов. Анри Барбюс, мастер метафорической прозы, совершенно искренне писал о нем в 1935 году: «Во весь свой рост он возвышается над Европой и над Азией, над прошедшим и над будущим. Это – самый знаменитый и в то же время почти самый неизведанный человек в мире»[13]. И хотя еще не прогрохотала Вторая мировая война, после которой его странная фигура нависла уже не только над Европой и Азией, но и над всем остальным миром, Барбюс здесь во всем прав. До сих пор Сталин – один из самых знаменитых и в то же время один из самых неизведанных (именно так – «неизведанных») государственных деятелей в мире.
Не только Барбюс, но и большинство современников воспринимало Сталина как «гиганта», даже те, кто испытывал одновременно и ужас и омерзение. Почти пятьдесят лет спустя после его смерти, когда страх, восхищение или ненависть притупились и перестали опьянять разум и душу, наступила пора разобраться и в масштабах и в чувствах. Для современного российского историка, за плечами которого строгая школа эмпиризма, взращенного на скудной почве сталинизма и его поздних модификациях, разговор о человеческом, о чувствах может показаться, по крайней мере, странным.
В исторической науке вялая бесстрастность так же губительна, как и отсутствие беспристрастия. Бесстрастность и беспристрастие – очень разные чувства, а их путают. Я человек и, будучи абсолютно беспристрастным по отношению к другому человеку, могу и должен испытывать как минимум несколько душевных состояний: любить, ненавидеть, быть равнодушным. Разумеется, взвешенное равнодушие – малопродуктивное чувство. В исторической науке, как и в любой другой, часто доминируют любопытство, профессиональный интерес и изощренное ремесло. Исторические труды, написанные из планового или системного интереса к своему объекту, обычно вызывают встречный интерес у коллег по специализации или у товарищей по цеху. Конечно же, ценность таких трудов неоспорима, так как во всем мире именно они пополняют многовековой объем профессионального знания. Но когда Николай Карамзин писал о своем герое Иване IV, его в первую очередь раздирали чувства историографа, открывшего эволюцию человека в зверя, а не взвешенное любопытство стороннего наблюдателя иной эпохи. Когда древнекитайский историк Сыма Цянь с невыразимой печалью так поведал об удачливом, жесточайшем императоре Цинь Шихуанди, что, внимая ему спустя тысячелетия, и сейчас задыхаешься в тех же рвах, в которых живьем закапывали ученых мужей Поднебесной. Когда римлянин Арриан, горячась, рассказывал о делах и днях македонского царя Александра Великого, жившего за несколько столетий до историка, когда Светоний и Тацит со сдержанным гневом писали о канувших в Лету ритуально-развратных древнеримских императорах, Теодор Моммзен с расчетливым восхищением – о «совершеннейшем» Цезаре, Сергей Соловьев – о Петре I, евангелист Матфей с тоской и надеждой – о неразделенной трагедии Иисуса из Назарета, всеми ими овладевали такие же страстные и противоречивые чувства, какие испытывали при жизни их столь разные герои.
Нас, россиян, европейцы часто упрекают в инфантильной эмоциональности, которая, как им кажется, особенно проявляется в языке, в слове, в интонации. В свою очередь, многие россияне считают преувеличенно эмоциональным способ выражения чувств кавказца или жителя юга России. Я не думаю, что Леон Фейхтвангер, не понимавший по-русски, был прав, когда утверждал, что русский язык «звучит несколько странно, преувеличенно, как будто основным тоном его является превосходная степень»[14]. Каждый народ, как и отдельный человек, в определенные периоды своей истории переживает такие мгновения, когда только чувства способны и спасти и подстегнуть косный разум или наоборот – довести его до безумия. Недаром Фейхтвангер бросает тот же упрек в излишней «страстности» не только россиянам сталинской эпохи, но уже большинству своих западных коллег – интеллигентов, которые с негодованием узнавали о московских процессах и репрессиях.
Советская эпоха, как никакая другая в истории России, насыщена людскими эмоциями. Каждая печатная или письменная строчка, каждая звуковая дорожка, каждая фотография и кинопленка – это застывшая навек эмоция. Ко мне не сразу пришло понимание, что перводвигателем этой эпохальной эмоциональности, ее источником было не спонтанное «воодушевление народных масс, строивших социализм», не их внутреннее душевное напряжение, а конкретные большевистские вожди. При них (Ленине, Троцком, Сталине и других) накал положительных и отрицательных эмоций, радости и злобы, ненависти и любви достиг в общественной жизни невиданного напряжения. Дольше всех – целых три десятилетия – личность Сталина была источником и фокусом такого напряжения, явственно ощущаемого и в наше время.
Приступая к работе над этой книгой, я вначале ничего, кроме любопытства, не испытывал. Перечитывал опубликованные произведения Сталина, преодолевая их сухой, почти хрусткий стиль, и любопытство стало сменяться скукой и раздражением. Особенно раздражали тексты официальных биографий Сталина и его катехизиса: «История ВКП(б). Краткий курс» – лживая история, убого преувеличенная биография. Однако, знакомясь с архивными документами, с работами его соратников и политических врагов, я в какой-то момент понял, что стал любоваться и даже восхищаться своим героем. Ничего удивительного нет в том, что когда о ком-то очень долго думаешь, он начинает иногда сниться по ночам. Я и теперь в любой момент могу мысленно вызвать его образ и начать непонятно как происходящий молчаливый диалог. В этом диалоге есть оттенки как бы обоюдной заинтересованности. Ведь любой человек способен общаться не только с живым непосредственно, но и с отсутствующим, и с мертвым. Однако на очередном этапе произошел новый перелом.
Я понял, что меня завораживала не сама фигура Сталина, а те тайны, которыми она окутана. Не политические, не семейные, не архивные, а самые главные тайны. Это – тайна абсолютной земной власти, тайна интеллекта этой власти и особенно тайна ее души. Мне показалось, что постепенно я начал некоторые из этих тайн постигать. И тогда стал раскрываться человек в неразрывном единстве души, разума и внешнего облика. Сущность разума – интеллект, сущность души – эмоция, а в единстве с плотью – человек как подобие Божие. Это то единство, в котором нет главного и второстепенного, основного звена и вспомогательных, нет четко выраженной иерархии и приоритетов. Это – то подлинно человеческое единство, в котором мельчайшая деталь, чуть заметная вибрация души есть знак вселенского, а очевидная простота исторического факта многомерна до бесконечности. «Не упрости!» – слова, которые я бы вывесил перед входом в храм науки, чуть ниже слов: «Не лги и не лукавь!»
Мне уже не казалось странным, что этого человека, без сомнения, многие не только смертельно боялись, но и искренне любили при его жизни. А многие и посмертно еще долгое время будут искренне восхищаться или безгранично, болезненно ненавидеть. Еще большее число людей о нем узнает только в школе на уроке истории, а затем без необходимости (дай-то бог!) не вспомнит, занимаясь повседневными трудами. Но того, кто вообразит, что призван постигать сотворенный этим человеком мир, спускаясь шаг за шагом в глубины сталинизма, постигнет участь Данте. Скоро исполнится семьсот лет с тех пор, как знаменитый итальянец обрек самого себя, свой дух и образ на вековые блуждания с очередными поколениями разноязычных читателей в пространстве адских теней и божественных сфер. И непонятно – завидовать ли этой участи или страшиться ее как вечного наказания за дерзость проникновения за скинию незнаемого? Но я больше полагаюсь на справедливость марксистского толкования акта естественного отчуждения творца от плодов его творчества, тем более если они взращены на достоверных исторических фактах, а не только порождены его напряженным художественным сознанием.
В этой книге представлен весь спектр чувств. Но я пытался сделать все, чтобы не перейти опасную грань, за которой страстность вырождается в картонную патетику, а неравнодушие – в художественное присюсюкивание. В качестве камертона, для более точной настройки на специфическую тональность душевных струн моего героя, на их восприятие, я предлагаю слова, написанные собственной рукой Сталина, той самой, прикасаясь к которой у его ставленника венгра М. Ракоши возникало ощущение, что он пожимает «стеклянную перчатку, под которой скрывается бронированная рука»[15]. Сталин карандашом написал в 1935 году на полях XVIII тома третьего издания собрания сочинений В.И. Ленина по малозначимому поводу дореволюционной внутрипартийной борьбы: «Мягко забитый, злобно зацелованный»[16]. Был ли Сталин автором этой сентенции, или он у кого-то ее позаимствовал, в данном случае не имеет большого значения. Впрочем, очень похоже на то, что именно он автор столь емкой эмоциональной конструкции. Во встречном и перекрестном столкновении смыслов этих четырех слов вспыхивает такая невероятно мощная, эмоционально чувственная энергия, которой, как я надеюсь, должно с избытком хватить на освещение самых дальних лабиринтов сталинской души и интеллекта. Вряд ли эмоционально тусклый человек способен так выразить чье-то отношение к кому-то, а тем более так вообразить отношение к себе или свое – к другому. Именно поэтому я с первой строки этой книги настаиваю и буду настаивать до ее последней точки на правомерности и необходимости не только институциональной, биографической и интеллектуальной, но и эмоционально высвеченной научной истории.
Историософия
Книга посвящена философии истории сталинизма. Точнее – историософским взглядам Сталина. Все остальное служит скорее в качестве фона. Правда, такого фона, который многим может справедливо показаться богаче и интересней описываемого объекта. Здесь же приводятся наиболее важные источники, из которых Сталин черпал историософские и научные идеи и конструкции или литературные и исторические образы и личины. Особый разговор о том, как он в эти личины вживался и как он их в себе культивировал.
Как термин «историософия», так и комплекс проблем, связанный с философией истории, вряд ли можно отнести только к строго научным. Термин «философия истории» ввел лукавый, но мудрый Вольтер. Он сам себя испробовал в качестве историка и написал по-французски изящную книгу о шведском Карле XII. Ему надоели труды историков, которые больше напоминали лавки старьевщиков, – масса фактов, пересыпанных словами, но мало мысли и вдохновения. А мы добавим такого вдохновения, которое бы из мертвых фактов возрождало неповторимый исторический «Образ».
Вольтер был великий философ и интеллектуал и потому справедливо полагал, что историю надо не только описывать и переписывать, но о ней надо еще и размышлять. Но в научном или, точнее, в философском смысле основы историософии были заложены Кантом и Гегелем. В советское время, особенно в период правления Иосифа Виссарионовича Сталина, размышления об истории, то есть историософия была разрешена исключительно в рамках «исторического материализма». Этот плод сталинской мысли как «единственно верное учение» сыграл двоякую роль. С одной стороны, начисто отбил вкус к теоретическому мышлению у способных на это профессионалов, что привело к резкому снижению интеллектуального уровня научных исторических и философских работ в СССР. Сам же Сталин уже в молодые годы отлично знал из работ Г.В. Плеханова, что существует особый раздел науки, именуемый «философия истории»[17]. С другой стороны, «инъекции» сталинского исторического материализма, введенные в массовое общественное сознание через школу, вуз, печать, литературу, театр, кино, пропагандистский аппарат и т. д., представляли собой смесь не самых примитивных на то время догматов о «движущих силах истории», «общественно-экономических формациях», о классах, их борьбе и др. Самое же главное – он «объяснял» для в массе своей малообразованных и интеллектуально неразвитых людей советское бытие и быт, то есть настоящее, как закономерный результат, как блестящий апофеоз всего прошлого развития человечества и рисовал контуры пусть призрачного, но «прекрасного» будущего. В 1938 году Сталин, читая книгу заново «обласканного» им Г.В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», подчеркнул в ней и особо пометил на полях крестиком: «Будущее способен предвидеть только тот, кто понял прошедшее»[18]. К этому времени у него не оставалось сомнений в своих исключительных пророческих способностях, умноженных на силу «марксистско-ленинской» теории и базирующихся на знании истории. В своих выступлениях Сталин любил повторять: «Чтобы руководить, надо предвидеть». В его любимом детище – «Кратком курсе» – не единожды отмечается пророческое предназначение социальной теории. «Сила марксистско-ленинской теории, – говорится там, – состоит в том, что она дает партии возможность ориентироваться в обстановке, понять внутреннюю связь окружающих событий, предвидеть ход событий и распознать не только то, как и куда разворачиваются события в настоящем, но и то, как и куда они должны развиваться в будущем»[19]. Эти слова, которые с тех пор бесконечное количество раз почти неизменно повторялись в различных партийных документах до конца советской эпохи, содержат прямую претензию генерального идеолога партии на владение пророческим даром. В российскую действительность XX века Сталин ввел фигуру древнейшей библейской истории – фигуру пророка. Научная и пропагандистская литература советского времени была полна ритуальными трудами типа опуса Г. Васильева «Ленин и Сталин о роли научного предвидения»[20]. А первоначальной причиной была невероятная с точки зрения здравого смысла и «логики» развития исторического процесса удача государственного переворота в октябре 1917 года и сокрушительная победа большевиков в Гражданской войне. Пророческая настойчивость Ленина, предсказывавшего успех восстания, его и Троцкого одержимость на фоне осторожного скептицизма ведущих ленинских апостолов, включая Сталина, а главное – политическая одержимость ленинцев и их вера в возможность глобального социального переустройства планеты породили в России культ новых пророков. Ленин, по словам Троцкого, подметил в себе пророческий дар еще в 1910 году, называя его «антиципацией», то есть предвосхищением. Сталин в 1924 году объявил Ленина ясновидцем: «В дни революционных поворотов он буквально расцветал, становился ясновидцем, предугадывал движение классов и вероятные зигзаги революции, видя их как на ладони»[21]. При первой же возможности культ ясновидца и пророка Сталин оформил на себя и государственно укрепил. Иван Товстуха, Карл Радек, Клим Ворошилов, Лаврентий Берия, Анри Барбюс, Николай Бухарин, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Эмиль Людвиг, Леон Фейхтвангер, Ромен Роллан, Жан-Ришар Блок, Михаил Калинин, Емельян Ярославский, Сергей Киров, Вячеслав Молотов, Анастас Микоян, Григорий Орджоникидзе, Андрей Жданов, Петр Поспелов, Всеволод Вишневский, Алексей Толстой, Михаил Булгаков, Георгий Леонидзе, Константинэ Гамсахурдия и масса других, кто бездарно, а кто и талантливо, кто по необходимости, но большинство с радостной готовностью брали на себя роль новых евангелистов. Только единицы, например Андре Жид, обманывали его ожидания, да и то не совсем. Возможно, один Лев Троцкий всю жизнь был к нему трезво беспощаден.
Сталинская потребность быть причастным к образному ряду библейской истории была настолько велика и сейчас так очевидна всякому, кто пытается войти в его идейно-пропагандистский, а главное, в его душевный и интеллектуальный миры, что настоятельно диктует нам постоянно находиться на ее орбите. Так что здесь, в этой книге, элементы библейской образности и терминологии – настоятельная необходимость, а не художественный прием и не дань новомодным обскурантистским увлечениям.
На вершине могущества Сталину всерьез чудилось, что ему открылась вторая после Бога, самая великая тайна бытия – будущий ход истории человечества. Если Маркс и Энгельс пытались, как и многие до них, опираясь на свое понимание прошлого, это будущее предсказать, Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин и другие большевики попытались практически реализовать марксистское предсказание, то Сталин пошел дальше всех – попытался надолго предопределить историю своей страны и в значительной степени всего мира.
Именно для этого Сталин как мог, на свой лад выстроил единообразную историческую ретроспективу и насильственно, как тавро, «выжег» ее в мозгах своих подданных. Многие до сих пор благодарны ему именно за этот указанный им смысл существования, страдания и умирания на Земле. И не просто на Земле, а в стране, называемой СССР-Россия. В советское время в подполье и в подсознание были загнаны все другие историософские модели, включая «идеалистические» (философские), национальные, религиозные, естественно-научные, мифологические, мистические.
Трудно судить о том, многие ли советские люди безоговорочно принимали эти догматы в качестве путеводной звезды, но то, что с конца 30-х годов все граждане от школьников до их родителей в той или иной форме знали их суть, не подлежит сомнению. Лучшим доказательством этого служит заложенная в 30-х годах унитарная сталинистская историософия, в малоизмененном виде господствующая в наших умах, учебниках и книгах до сих пор. А вот перспектива и в особенности та ее часть, где положено было видеть то самое «будущее», растаяла, как знаменитый марксистский призрак коммунизма. Пока упразднена и должность государственного пророка России.
* * *
Первыми профессиональными историософами были гадалки и прорицатели, во все времена извлекавшие немало преимуществ из своей профессии. Именно им принадлежит знаменитая формулировка – обещание: расскажу, что есть, что было и что будет. Да что там гадалки и прорицатели, любой человек сам себе историософ. Человек живет, но когда у него возникает возможность отвлечься от мыслей о хлебе насущном, он, чуть более пристально вглядываясь в окружающее, интуитивно ищет его истоки в известном ему прошлом и так же неосознанно строит предположения о грядущем. Так же естественно, как дышим, все мы, охраняя свою целостность в мире и непрерывность своего бытия, живем сразу в трех временах, даже не очень задумываясь над этим. Для достижения же ощущения непрерывности жизни и бытия ничего особенного не требуется, кроме одного – быть человеком, а это, как говорил Ф. Ницше, – то же самое, что быть животным с долгой памятью. Мыслить историософски – это значит, плывя в рутинном потоке жизни естественным образом, непроизвольно сплетать в своем сознании нити трех времен. Вряд ли надо особо подчеркивать то, что связи эти могут быть как причудливо фантастичны, так и по возможности обоснованными, то есть рациональными и даже научными. И там и тут – везде проявляются свойства одной и той же трансвременной человеческой природы. Конечно, все это справедливо, только если не принимать во внимание вполне очевидную разницу качества научного и обыденного восприятия жизни как истории.
Талантливый советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн, заслуженно получивший в 1942 году за свои труды Сталинскую премию, а в 1947–1948 годах затравленный как «безродный космополит», писал: «Время жизни (человека. – Б.И.) объективно определяется лишь как время истории»[22].Действительно, из истории отдельных жизней складывается история государства, общества, народов. В процессе поиска смысла жизни одного-единственного человека можно надеяться набрести на проблеск смысла истории всего человечества. Тем более если это история жизни человека, вылепившего по своему образу и подобию огромнейшую Советскую мировую державу. Более тридцати лет, с 1922 по 1953 год, его жизнь была жизнью многомиллионного, многонационального государства и сателлитов. Но почему все же именно он? Ради кого или чего неимоверные жертвы, страдания, несбывшиеся мечты? Зачем, кому это было нужно? Какой был смысл в этой пережитой эпохе и наших в ней переживаниях?
Я, конечно же, не знаю ответов на эти и многие другие поставленные в книге вопросы. Но я позволю себе напомнить об одном простом житейском приеме, к которому издревле прибегают дети, женщины, а иногда и суровые мужи, – поделись с близким своими сомнениями и страхами, обсуди, казалось бы, неразрешимые вопросы. И ответ придет, но не в форме прямого откровения или отпущения грехов, а как разрядка, как катарсис, как освобождение от груза прошлого в процессе его припоминания, совместного переживания и осознания. Я убежден – именно в этом главная, очистительная функция истории как науки.
Конечно, гораздо проще лукаво спекулировать на примитивных «теориях» заговоров или, например, на представлениях об особой, мистической роли России и ее народа, избранного Богом, но в советское время отринувшего его и в наказание преданного врагу, этому очередному «бичу Божьему». Все эти и подобные им «объяснения» – самая обычная идеологическая пена, которую поднимает даже небольшой социальный шторм в России в любые времена. Теодор Моммзен по схожему поводу, но для германских условий бросил: «История – та же Библия, и если она, подобно Библии, не может помешать тому, чтобы глупцы понимали ее ложно и чтобы дьявол ссылался на нее при случае, то и она, подобно Библии же, будет в состоянии вынести и то и другое и все компенсировать»[23]. Не посчитаем и мы для себя зазорным присоединиться к «тевтонскому» оптимизму, заложенному в книге, которая в СССР была подписана в печать буквально накануне войны с Германией, в мае 1941 года.
Теодор Моммзен, как и Лев Толстой, во второй половине XIX века модернизировавший библейский тезис о божественном промысле, говорил о людях типа Цезаря или Наполеона как об «орудиях Господних»[24]. Правда, Моммзен признавал право на яркую индивидуальность и на огромную личную свободу очередного «орудия», в то время как Толстой историческую личность низвел до роли божественной марионетки и кривляки. Как известно, Г.В. Плеханов в работе «О роли личности в истории», по-марксистски «отобрав» у Бога роль «кукловода», отдал ее абстрактным социальным и экономическим силам, которые то диктуют свою волю великой личности, то сами подчиняются ей, продолжая при этом дергать ее же за неосязаемые нити и рычаги. Николай Бердяев, всю жизнь перемалывавший в себе марксистскую историческую доктрину, в конце жизни устало бросил: «Самая свобода в истории превращается в рок»[25].
Все эти и подобные им попытки разобраться с вопросами «свободы и необходимости» в истории в гегельянском, марксистском, ницшеанском или бердяевском духе слишком абстрактны, слишком отдалены от каждого из нас, слишком рассудочны. Нет, все гораздо проще и одновременно – сложнее. Проще потому, что ответ не надо искать очень далеко. Ответ здесь, и его знает каждый, и для этого совсем не обязательно писать ученые труды. Сложнее – потому что не каждый соотечественник способен признаться, что знает этот ответ и всегда его знал. Он содержится в издревле неразрывной для подавляющего большинства россиян связке: власть – это свобода, свобода – это власть. И глубинно понимая это, многие, если не большинство, безотносительно к тому, к какой они принадлежат национальности или вере, стремятся ухватить хотя бы микроскопическую толику власти, сводя все ее разнообразие к власти государственной. Но главный приз получают единицы, а чаще – единственный. И не имеет никакого значения, получает ли он эту абсолютно свободную власть по наследству или как дар судьбы и обстоятельств, или дорывается до нее собственными усилиями.
Может быть, именно поэтому в течение всей тысячелетней истории в России наиболее дефицитной были государственная власть и личная свобода, и одно без другого никогда не существовало. Ни деньги, ни имущество, ни особенный талант, ни даже любовь, ни что другое не были так притягательны, как власть и обретаемая с ней свобода. Тот, кто добивается у нас особо густой концентрации личной власти, только в силу одного этого становится желанным господином и кумиром большинства народа, у которого он эту власть, а с ней и свободу забрал. И если на мгновение согласиться с тем, что нас кто-то наказывает свыше, то уж никак не за неверие в Бога, за бытовой атеизм. Современное человечество в большинстве своем формально относится к любой религиозной обрядовости, а вера в душе – это личное дело каждого. Нет, мы несем вполне земное и человеческое наказание как раз за безграничную веру и яростное поклонение двуликому кумиру – власти и ее свободе. Точнее, много столетий мы сами себя за этот соблазн наказываем. По справедливости наказываем за то, что с каждым новым поколением очередному кумиру приносятся все более отягощенные кровью жертвы. Сталин пока последний в этом ряду. Впрочем, и все те, кто пришел за ним – не без крови.
Пресловутая легенда, которую эксплуатировал и поддерживал Сталин, об особой тяге россиян к самодержавной власти, к культу личности есть лишь иносказательное толкование повального поклонения кумиру властной свободы. И как бы ни стенали под игом этого кумира и ни проклинали его, находясь под пятой, многие даже там мечтают быть на его месте или хотя бы получить от него милостыню – «ярлык» на правление или на прокорм. Так что как только представится случай, с радостью принимают власть и свободу раба-надсмотрщика (чиновник одна из его разновидностей) над государственными рабами – над своими братьями и сестрами. Не случайно же все революции и перевороты в России приводили лишь к обновлению кумирни и ее обслуживающего персонала. Поэтому Сталин, может быть, всего лишь один из нас, просто более способный, более волевой, более удачливый, более циничный и коварный… В то же время в каждом из нас сидит (может быть, теперь уже и от рождения) «бацилла» сталинизма, не осязаемая до поры, до появления благоприятных для ее развития обстоятельств. Это не утверждения, это вопросы, на которые каждый волен отвечать так, как ему подсказывает внутренний судья.
И эту мысль, то есть о реальном воздействии на общество идейной «бациллы», как и многое в этой книге, не я высказываю первый. В далеком 1905 году Сталин в одной из заметок цитировал выступление Плеханова на II съезде партии (а Плеханов, в свою очередь, процитировал Ленина) о необходимости внесения «революционной бациллы» в «бессознательную массу»[26]. Но после успешного заражения революционной «бациллой» еще более успешным оказался опыт заражения нашего общества «бациллой» сталинизма, для которой в ХХ веке сложились удивительно благоприятные обстоятельства. Мне очень бы хотелось рассмотреть морфологию этой бациллы именно в Сталине, в ком она получила высшее развитие.
* * *
Попытка объяснить настоящее, исходя из знаний о прошлом, с надеждой предвосхитить будущее так или иначе всегда присутствует в любом историческом исследовании. Чаще всего явно это не декларируется. Именно в труде историка историософия начинает приобретать атрибуты научности. Но границы между житейской обыденностью, научным историческим исследованием и философским осмыслением исторического времени чрезвычайно зыбки и неопределенны и часто перекрывают друг друга. В каждой научной концепции всегда присутствует весомая толика фантазии и мифа, из каждого исторического мифа можно извлечь целые пригоршни рациональных зерен. Многое зависит от расстановки акцентов и, как всегда, если речь заходит о человеческом, почти все зависит от таланта. Поэтому от века в сознании каждого человека, будь он ученым или обывателем, как и в общественном сознании, причудливо переплетены элементы научного, обыденного, мифологичного…
Так что, выделив в заголовке этой книги слово «историософия», я имел в виду одновременно как упорядоченную научную систему взглядов на исторический процесс, так и обычную общечеловеческую мешанину представлений о прошлом и настоящем, сообща служащих в качестве строительных материалов для конструирования «моделей» будущего. Именно в этом смысле здесь говорится об историософии сталинизма. Поскольку герой книги – Сталин, то ему, как и всякому человеку, родившемуся в определенной социальной обстановке, чему-то учившемуся, что-то читавшему и размышлявшему о своей проживаемой жизни, а тем более размышлявшему о судьбах огромной страны, которой он так долго распоряжался, не откажем в способности мыслить историософски.
Я предлагаю читателю сообща бросить взгляд из сегодняшнего дня на то, как Сталин и люди, к идеям которых он в той или иной степени был причастен, изображали известный им отрезок исторического прошлого своей страны и других народов и сочетали его со своим настоящим и будущим.
Все это тем более интересно, если учесть то, что марксистская доктрина, ставшая одним из отправных пунктов (но не единственным!) теории и практики сталинизма, как никакая другая, пронизана историзмом. Понимая это, Бердяев (чье имя ныне на слуху почти так же, как в недавнем прошлом было имя Маркса) посчитал даже, что «самое большое прельщение и рабство человека связано с историей»[27].
Мы не сможем обойти и вопрос о том, во что превратилась философия истории марксизма и ее российских последователей в результате сталинского переосмысления. Какие новые компоненты и откуда были в нее внесены, а какие части бестрепетно изъяты? Здесь же с неизбежностью встает вопрос и об интеллектуальных способностях, идейных истоках и особенностях мышления Сталина, о его внутреннем духовном мире, находящемся в неразрывной связи с внешним обликом. Отсюда неизбежный вход в его философию жизни. На вопрос же – что есть сталинизм? – отвечает вся книга в целом.
Разумеется, все обозначенные вопросы историософии сталинизма не удастся разрешить в рамках одной книги. Поэтому здесь главное внимание уделяется биографии Сталина: как истории личности и его личной истории (автобиографии). Таким образом, я рассматриваю ее одновременно с двух точек зрения: с моей, исследовательской, авторской, и с точки зрения самого Сталина. Я считаю, что с автобиографии и с истории личности начинается любое историософское осмысление бытия. В последующем я хотел бы рассказать о тех образах, личинах и масках исторических деятелей и героев различных эпох, в которых время от времени жил Сталин. Возможно, тогда же удастся рассмотреть и собственно историософию сталинизма: взгляды Сталина на историю большевистской партии, революции, историю России, всемирную историю и их воплощение в учебную и научную литературу.
И все же некоторые внешние элементы историософии сталинизма как особенной социальной конструкции считаю нужным предварительно обозначить. Тем более что сам термин «сталинизм» был введен еще при жизни вождя его ближайшими соратниками в качестве высшей характеристики философии эпохи.
Несколько Соображений о Миграции Общечеловеческих Идей и О Роли Таланта в Социальной инженерии
Кажется, именно К. Маркс утверждал, что люди в процессе общения и деятельности обмениваются самыми разнообразными продуктами своего труда. Не только теми, которые они произвели в сфере материального производства (то есть товаром), но и словами, мыслями, информацией, то есть идеями. Сам факт «производства», обмена, присвоения, купли, воровства и т. д. идей в наше время настолько очевиден, что не требует особых доказательств. Но точно так же, как при производстве машин и механизмов, возникших как материальное воплощение технических идей, происходит постоянное совершенствование этих механизмов, так случается и с социальными идеями. Однажды, озарив своим завораживающим светом чье-то сознание, идея, овладевая умами людей, стремится через них воплотиться в историческую реальность. Конечно, не идея сама по себе, а люди, открывшие или присвоившие себе эту идею, воплощают ее в жизнь. Вне зависимости от того, становится ли она воплощением плана социального преобразования или нет, ее, передаваемую из поколения в поколение, из одной цивилизации в другую, преобразуемую, обогащаемую или вырождающуюся, все же неуклонно стремятся вновь и вновь воплотить в историческую реальность. Так, общество, однажды случайным образом открыв или сознательно произведя, затем уже сообща пестует «общечеловеческие» или «вечные» идеи, и в первую очередь в сфере организации общественной жизни.
Пока человечество существует, его будет мучить воистину вечная идея конструирования и обустройства наилучшего «государственного дома». Человечество обречено на вечный соблазн, на вечный поиск наиболее «совершенного», «разумного», «свободного», «незыблемого», «самого могучего», «демократичного», «справедливого», «богатого» и т. д. общественного устройства вообще и государственного в частности. Из идеалов, из представлений о наилучшем общественном устройстве выросли все формы политической борьбы – от парламентской и реформаторской до диктаторской и революционной. Или чего стоит, например, роль идеи, ведущей к консолидации, к сплочению общества или к его сбалансированности.
Достижению, допустим, сплоченности служат самые неожиданные и часто противоположные цели. Например, один и тот же народ может сплотиться как для завоевания своей независимости, отстаивания свободы, сохранения целостности своего государства, так и для достижения господства над другими народами или их уничтожения. Цели прямо противоположны, так же противоположны и исторические «вызовы», а механизм сплочения один и тот же – мобилизующая агрессивная общественная реакция. Конрад Лоренц, один из крупнейших психологов и философов ХХ века, с блеском доказал: агрессия – та сила, которая и разрушает, и строит, и защищает[28].
Состояние агрессии в доцивилизационный период истории человечества, точно так же как и в животном мире, могло быть вызвано спонтанной коллективной реакцией. Но сейчас чаще всего это состояние искусственно разжигают (или, наоборот, гасят) издавна сложившиеся в каждом обществе специализированные институты. Одну из ведущих и долговременных ролей здесь играет национальная историческая наука. Как бы это ни казалось на первый взгляд чрезмерным, за каждым солдатом современной регулярной армии, идущим в бой, за каждым боевиком-партизаном, за каждым политическим террористом и бескорыстным революционером маячит фигура кабинетного ученого-историка. Война между народами готовится, начинается, поддерживается, завершается и вновь готовится на страницах ученых книг, журналов и школьных учебников истории. В них даются объяснения и оправдания всему и вся, которые, если задуматься, по своей доказательности столь же весомы, как пули, летящие с противостоящих сторон. Историческая наука, заряженная агрессией, после очередной войны вновь множит ее вне зависимости от того, кто – «мы» или «они» потерпели поражение или победили. Сталин (как и Гитлер) не только всю жизнь с явным удовольствием штудировал исторические сочинения, но и сам выступил в качестве генератора историософских «патриотических» доктрин, открыв для себя колоссальную агрессивно мобилизующую роль исторической науки, этой эмоциональной сердцевины любого тоталитарного механизма.
Конечно, не Сталин первым взял на вооружение и подчинил своим политическим интересам историческую науку, но он был первым в новейшей истории, кто попытался полностью ее монополизировать, переписать (и не раз!) в сознании многочисленных и с очень разной исторической судьбой народов СССР и народов «социалистического» лагеря.
* * *
Задолго до Октябрьской революции некоторые русские марксисты, в особенности А. Богданов, а за ним и другие, плодотворно размышляли о роли идей в общественном развитии. (Сталин перечитал с десяток изданий одной только богдановской «Политэкономии».) Эта «идеалистическая» струя русского марксизма публицистично опровергалась, а на самом деле поддерживалась не кем-нибудь, а его идейным противником В. Лениным еще в далеком 1894 году, в хорошо знакомой многим советским гражданам работе «Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов». Ленин относился к распространенному у нас типу полемистов, которые незаметно для себя (а иногда и умышленно) усваивают чужие мысли и делают их своими именно в борьбе, в полемике, продолжая при этом плевать в сторону противника. До революции по ряду причин это произведение Ленина оставалось малоизвестным. В 1923 году его переиздали массовым тиражом с предисловием Л. Каменева. Свой по-большевистски замечательный текст Каменев завершил наиболее значимой итоговой цитатой из той же работы Ленина: «…когда передовые представители его (рабочего класса) усвоят идею научного социализма, идею исторической роли русского рабочего, когда эти идеи получат широкое распространение… тогда русский рабочий… поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции» (выделено мной. – Б.И.). Под этой фразой подписался бы любой представитель так не любимого Лениным философского «идеализма» – от Платона до Гегеля и далее… Сталин дважды отчеркнул эту цитату вертикальными и горизонтальными линиями и дополнительно выделил скобками[29]. Тогда она ему (как и мне ныне) явно пришлась по душе.
Конечно, сами по себе люди – как толпа, как масса, как класс или слой – никогда не могут соорганизоваться, даже если они находятся в плену притягательных и даже обольстительных идей или доктрин. Без агрессивной силы авторитета, таланта вождя, лидера, героя и его сподвижников (по-ленински – «партии») здесь не обойтись.
Часто увлекаясь предметом своих занятий, а иногда и из чисто конъюнктурных или националистических соображений, историк раздувает до невероятных размеров значение того или иного национального политика, государственного деятеля, военачальника. На самом же деле выдающийся государственный деятель явление столь же редкое, как и выдающийся ученый, литератор, мыслитель, живописец, шахматист. Политическое творчество имеет ту же самую природу, что и творчество в искусстве или науке. Творчество в высшем его проявлении – это воплощение в реальность особо насыщенной достоверными знаниями фантазии мощного ума. В политическом творчестве, как и в любом другом, присутствуют десятки градаций и множество степеней. Крупный талант, а тем более – гений, редчайший случай в политической истории не только одного государства, но и человечества в целом. Как же не ошибиться, как убедиться в том, что перед нами государственный гений, значительный политический талант?
У большинства политиков основная часть жизни уходит на то, чтобы добиться или дождаться власти, затем на то, чтобы удержаться в ней. Совсем немногие обладают волей и умением для того, чтобы без плачевных последствий для себя и особенно для общества что-то изменить и усовершенствовать или распознать и сохранить полезное в существующем порядке вещей. И уж совсем редко мы встречаем в истории людей, в которых сочетаются мощная воля, глубокий конструктивный ум с даром государственного творчества. Такие деятели, вне зависимости от того, что принесли они своим и окружающим народам, оставляют неизгладимый след в истории человечества. Так или иначе, они определяют ее ход.
Отвечать на вопрос, был ли Сталин гениальным политическим и государственным деятелем или посредственной авторитарной личностью, силою обстоятельств дорвавшейся до абсолютной власти в гигантской стране, как будто не наша задача. Но по возможности ответить все же придется, так как интеллектуальная деятельность Сталина, частью которой была его историософия, имела откровенно прагматический и прикладной характер. Сталинская историософия это не только некоторая система исторических взглядов и изменчивых мнений вождя, то есть идеология, но и их воплощение в реальной политике и государственном строительстве. В чем, в чем, а здесь сила воздействия идеологии и практики сталинизма на российское общество до сих пор явственно ощутима.
По критерию воздействия на ход мировой истории ХХ века Сталин, без сомнения, вошел в группу крупнейших политических деятелей мира. Но многие выдающиеся политические деятели обладали еще одним необходимейшим талантом – даром конструирования и воплощения в жизнь своего долгосрочного «проекта» общественного устройства. Как правило, такими способностями обладали талантливейшие, иногда даже гениальные «социальные инженеры». Каждый из них был неповторим и оригинален в своем государственном и общественном строительстве. Их творческий радикализм, их подлинная революционность приводила к созданию новой и чрезвычайно устойчивой общественной традиции. Чем более удачной и новаторской была навязанная обществу социальная конструкция, тем более длительное время «проект» развивался в рамках этой конструкции, превращая ее в историческую традицию. После исчерпывания всех возможностей традиции, заложенной выдающимся политиком, обществу необходим новый импульс. Дальнейшая его судьба зависит от того, в какое время появится, насколько талантлив и удачлив будет новый исторический герой, радикальный реформатор, революционер. От установленной радикальным путем длительной традиции – к преодолению уже одряхлевшей, иссохшей традиции с помощью очередной революции – таков ход маятника часов человеческой истории. Троцкий, который был не только революционером-практиком, но и талантливым историком, справедливо подметил: «Что потеряно в традиции, то выиграно в размахе революции»[30].
Исторический герой при благоприятных обстоятельствах может играть не только роль движущей пружины революции (то есть разрушителя старого), но и главного проектировщика и строителя нового общества. Чаще же всего эти роли разделены, что и создает иллюзию, будто «каждая революция пожирает своих детей». На самом же деле – это новая популяция «детей» пожирает своих родителей-революционеров, в свою очередь кроваво расчистивших им историческое пространство.
Однако вместо подлинного государственного таланта человечество легко принимает за него подражателя, имитатора, эпигона. Политическое и государственное эпигонство так же бесплодно, как и всякое другое, но в своей бесплодности оно еще и крайне опасно для общества, так как подавляет подлинно творческие силы, паразитирует на них и тем самым тормозит общественное развитие, что ведет к загниванию и разложению. Еще опаснее такой «реформатор» и «революционер», который больше напоминает безумного вивисектора, по собственной прихоти кромсающего и уродующего живое общественное тело.
Все это не просто мало уловимые оттенки некоторых типов государственных деятелей. Здесь я хочу более резко подчеркнуть то, что граница между истинным новаторством в области социальной инженерии, эпигонством и безумной авантюрой все же достаточно ощутима для историка. Эту границу определяют три традиционных показателя: цели, средства, результат. Особенно – результат. Не позволим себе свести проблему к банальности типа обсуждения прекраснодушного вопроса – оправдывает ли цель средства? Для тех, кто прикоснулся к реальной власти, этот вопрос уже не актуален, а для того, кто властью вполне овладел, ответ однозначен – оправдывает, еще как оправдывает.
В сохранившейся части сталинской библиотеки я не нашел книги Никколо Макиавелли «Князь», хотя многие утверждают, что он ее штудировал. В этом утверждении сквозит неприкрытый намек – циник Макиавелли дает соблазнительные рекомендации достижения государственной власти столь же циничному государственному деятелю и тем развращает его. Еще в сталинскую эпоху нас всех приучили: знание «преступного» знания есть преступление. И сейчас многие продолжают считать, что сам факт ознакомления с какой-либо идеей уличает человека как ее сторонника. На самом же деле важно лишь то, как он понял и что вынес из этой книги, но это как раз и неизвестно. Можно подумать, что до Макиавелли люди ничего не знали о реальных механизмах достижения и укрепления неограниченной личной власти. Да о механизмах власти «князя мира сего» буквально вопят все мировые религии, историография, философия, литература и практически вся человеческая культура, абстрактно уличая, но применительно к своему, национальному, оправдывая его. Двойственность оценки объективно заложена в самой природе государственной власти, в обособлении части человечества в собственном государстве от всего человечества.
* * *
Римская империя, одна из величайших и длительно существовавших, выдвинула очень много способных государственных деятелей. Но тех, благодаря которым империя в самые критические времена приобретала новые качества и тем самым, трансформируясь, развивалась по восходящей, можно перечислить по пальцам. Чтобы не слишком сильно отклоняться от основной темы повествования, опустим республиканский период, более богатый политическими героями. А вот в императорском периоде можно назвать всего несколько имен действительно выдающихся деятелей, которые не только заботились о расширении империи или поддерживали ее устойчивое существование, но и в критические времена безжалостно разрушали старые и закладывали новые социальные основы для обеспечения последующего мощного импульса развития. Это Юлий Цезарь с Октавианом Августом (середина I в. до н. э.), затем – Константин Великий (первая половина IV в. н. э.). Между Августом и Константином лежат почти четыре сотни лет, на протяжении которых, конечно же, происходили значительные социальные изменения: войны, народные движения, реформы, периоды относительного подъема и упадка. Но все эти изменения протекали в рамках заложенной Цезарем и Августом насильственным, революционным путем, ценой гражданских войн и большой крови очень живучей социальной парадигмы «цезаризма» («принципата», «военной монархии»), которая и стала традицией. Сменившая ее парадигма теократической империи как христианской монархии, заложенная Константином Великим, просуществовала в форме традиции почти тысячу лет, до самого падения Византии. Неисчислимо количество христианских монархов, пытавшихся ее воспроизводить, включая австрийских и русских. Не отставали от них с учетом своих религиозных и национальных особенностей арабские халифы и турецкие султаны.
Другой пример – империя Наполеона Бонапарта. Будучи очень талантливым полководцем и разносторонним для своего времени человеком, он тем не менее был всего лишь блестящим политическим эпигоном и эклектиком. Что-то заимствовал из государственных идей Древнего Рима (законодательство и др.), что-то из идей Карла Великого (территориально-иерархическую организацию империи), что-то сохранил и даже развил из идей Великой французской революции (ее антифеодальную направленность), а что-то – из монархической, консервативной Европы (атрибуты наследственной монархии и т. д.). Академик Е. Тарле, чей «мягко забитый» талант внимательным к историку вождем так и не смог полностью раскрыться, свел разговор о своем любимом герое, о Наполеоне («завоевателе и государственном человеке»), к «объективной» роли «хирурга истории»[31]. Тарле, как и многие до и после него, считали возможным высоко оценивать историческую личность и восхищаться ею не по созидательной и конструктивной, а по ее разрушительной силе. Эта древнейшая эпическая и историографическая традиция оправдывала и поддерживала разрушительные инстинкты и иллюзии у творчески несостоятельных государственных деятелей и вождей. Но разве кто-нибудь скажет доброе слово в адрес строителя, развалившего старый дом, но не способного положить даже краеугольный камень в основание нового жилища?
Несмотря на очевидную романтичность наполеоновской эпохи, она была скоротечна, унесла в могилу сотни тысяч человек, но не дала того мощного импульса, которого должно было бы хватить всей Европе или хотя бы Франции на два-три столетия. Несмотря на все усилия эпигонов, от Наполеона III до Гитлера, идея единой Европы-империи как иерархии подчиненных одному правителю территорий-государств и народов оказалась мертворожденной. Впрочем, последний – Гитлер – был эпигоном не только Наполеона и Карла Великого, но и Ленина, Муссолини и во многом – Сталина. Политическому эпигону никогда не суждено основать «тысячелетний рейх».
Я, разумеется, не делаю никакого открытия, указывая на Петра Великого как на выдающегося реформатора и преобразователя России. Убежден, что влияние его социальной парадигмы российское общество ощущало, по крайней мере, до 1917 года. Сошлюсь на мнение одного из мудрейших российских историков XIX века Сергея Соловьева, который считал, что отмена крепостного права в 1861 году, последующие реформы и вообще все положительные начинания XVIII – XIX веков полностью находились в русле петровских преобразований[32]. Кстати говоря, он ценил Петра I не только как «западника», но как государственного гения, пытавшегося сочетать и Запад и Восток и сумевшего тем самым развить, а не просто сохранить промежуточную самобытность России. Конечно, тезис С. Соловьева не абсолютен. Как известно, в петровском времени много было случайного, наивного, хаотичного, иррационально-жестокого и попросту бессмысленного, но важен сам принцип оценки масштаба личности. Это – длительная плодотворность развития общества в рамках заданной парадигмы-традиции.
Впрочем, даже значительные современные мыслители, с легкой руки Отто Шпенглера, по-немецки основательно переварившего некоторые идеи Николая Данилевского и Константина Леонтьева, считают петровское вживление элементов западноевропейской цивилизации в ткань незрелой российской культуры делом малопродуктивным и даже опасным. Например, фон Вригт, глубокий знаток русской философской и этической мысли, утверждает (и не только он), что результатом петровских реформ стало не глубинное преобразование всего российского общества, а всего лишь его верхушечный «псевдоморфизм»[33], приведший к тяжелейшему социальному уродству. «История России не полностью синхронизируется с историей Европы, – пишет он. – Модернизация в России не была результатом органичного совершенствования снизу – скорее попытками навязать ее сверху незрелому обществу. Первая была сделана Петром I. Он пожелал пересадить в свою страну знания и практический опыт, обеспеченные наукой и нарождающейся технологией. Можно назвать петровские реформы “модернизацией без просвещения”. В качестве опытной реформации общества это было преждевременно. Это привело к тому, что названо Шпенглером историческими “псевдоморфозами”… Взгляд на историю России от Петра до Ленина как на псевдоморфоз преждевременной западнизации кажется мне в основном корректным»[34].
В этой и подобных мыслях чувствуется привкус европоцентристского высокомерия, которому вряд ли найдем оправдание. Обратим внимание на ряд вполне успешных модернизаций в такой азиатской стране, как Япония, или в наши дни в Китае, Индии, Бразилии и др. Каждое общество, не желающее впасть в ничтожное состояние, время от времени и по необходимости проходит стадии технической модернизации и культурного заимствования. Только руководители одного общества это делают вовремя и творчески, то есть талантливо, а другие – убого и подражательно. Здесь важно не только то, как происходит заимствование, но и то, что отбирается в качестве образцов. На стадиях революционной ломки и созидания удачность подбора тех или иных конструкций в первую очередь зависит от «социального инженера» и его соратников. С библейских времен человечество склонно преувеличивать роль «объективного» фактора в собственном историческом развитии, что позволяет психологически снять с себя большую часть ответственности и вины за неумение организовать и организоваться, за неоправданно пролитую кровь, за создание адских условий существования на благодатной земле для себе подобных и даже для близких.
* * *
На каком-то этапе Сталин сравнивал себя с Петром Великим, читал С. Соловьева, Н. Карамзина, почитывал научную и художественную литературу о Карле Великом, Кромвеле, Наполеоне, Цезаре, Иване Грозном, Чингизхане и других исторических героях, любил историческую драму, оперу и кино. При жизни он постоянно примерял на себя масштаб мировой истории. Но он хорошо понимал, от чего зависит объективная оценка государственного деятеля. Он не раз высказывался в том смысле, что «слова и легенды проходят, а дела остаются»[35]. В 1934 году Сталин заявил Герберту Уэллсу: «Конечно, только история сможет показать, насколько значителен тот или иной крупный деятель…»[36] Совершенно верно – оценка зависит от остающихся потомкам «дел», от исторической судьбы детища государственного деятеля. И вот развал в 1991 году СССР, не протянувшего и сорока лет после смерти своего «проектировщика и инженера», как будто бы предопределил оценку сталинского социального проекта, его эффективность для народов бывшей мировой державы. И все же для окончательных выводов на сей счет время все еще не наступило. Никто не может исключить возможность того, что России (и некоторым бывшим советским республикам) в той или иной форме еще предстоит пережить второе издание сталинизма. Несмотря на всю ее бессмысленность, такая попытка наверняка опять будет многого стоить, но хочется надеяться, что жертва не будет очень велика, а ее последствия так плачевны для страны, какой была, например, попытка воскресить бонапартизм во Франции Наполеоном III. Афористичному Марксу принадлежит замечательное наблюдение. Напомню его не по современному переводу, а по не очень совершенному дореволюционному изданию, которое Сталин читал с карандашом в руке: «Гегель заметил где-то (на самом деле у Гегеля этого нет. – Б.И.), что все великие всемирно-исторические события и лица появляются в истории, так сказать, два раза. Он забыл прибавить: в первый раз как трагедия, а второй раз как фарс»[37].Эта фраза была направлена как раз в адрес двух Наполеонов – дяди и племянника. Очень хочется надеется, что историческое правило Маркса на этот раз в России не сработает. Но иного отношения к эпохе сталинизма и ее последствиям как к очередной волне раз за разом переживаемой во всевозрастающих масштабах национальной трагедии я предложить не могу.
О Двойственном характере мобилизационных, «вечных» идей
Итак, все те идеи, которые рождаются и вращаются в социальной сфере, сами по себе не плохи и не хороши, как не плохи и не хороши любые изобретения человеческого ума. Одна и та же машина может быть использована и для рытья котлована под фундамент нового жилого дома, и для рытья окопа, из которого будет вестись стрельба по этому же дому. То же самое можно сказать относительно универсальных форм общественной мобилизации, стержневых, «вечных» идей человечества, с помощью которых на протяжении тысячелетий мировой истории цементируются или рассыпаются в прах самые разнообразные общества. Это тоталитаризм, социализм и национализм. Конечно, можно назвать и другие, но мы сейчас говорим только об этих. Все они, несмотря на очевидную новизну терминологии, на самом деле имеют древнейшие истоки и насквозь пронизывали все мыслимые общественно-экономические формации, любые глобальные или замкнутые цивилизации, культурно-исторические типы. Они переживались и совершенствовались всеми народами мира в различные периоды их развития.
Понятия «нация», «национализм» появились в первой половине XIX века; термин «социализм» вошел в европейские языки примерно тогда же. Понятие «тотальность» стало впервые разрабатываться фашистскими идеологами в 20—40-х годах ХХ века. Один из «отцов» испанского фашизма Ледесма Рамос утверждал, что «тотальная государственность» – это «сплав народа и государства». Это самое краткое и самое точное определение тоталитаризма. Слова «тотальная» война, «тотальная» мобилизация нации, насколько мне известно, впервые стали использоваться геббельсовской пропагандой в фашистской Германии в конце войны. Хотя «тоталитаризм» как социальное явление, характерное главным образом для истории ХХ века, фундаментально рассмотрено Ханной Арендт, а затем другими авторами уже после Второй мировой войны[38].
Несмотря на позднее происхождение терминов, явления, ими обозначенные, столь же древни, как и само человечество. Я не склонен смешивать «идею», ее бытование и процесс ее воплощения. Нельзя смешивать идею с социальными конструктами типа «нация», «национальное государство», «тоталитарное государство», «социализм» или «демократия». В то время как социальные конструкты могут расцветать и гибнуть, быть вообще нежизнеспособными, устаревать, гнить и медленно разлагаться, идеи, даже на первый взгляд нелепые и экзотические, бесконечно развиваются и совершенствуются человечеством.
Не случайно еще Маркс и Энгельс находили истоки идей социализма в «первобытном коммунизме», в античности и раннем христианстве, в трудах средневековых утопистов и современных им мыслителей. Я же попытаюсь несколькими штрихами показать, что и социализм, и тоталитаризм, и национализм – это такие формы социальной организации, к которым человечество всегда обращалось, и вечно будет обращаться, сочетая их на практике в разных пропорциях, постоянно совершенствуя их через религию, науку и фантазии мечтателей. Как и отдельный человек, общество чаще всего наиболее активно в экстремальных ситуациях.
* * *
С тотальностью, с тоталитаризмом, то есть с поголовной мобилизацией всех членов социума, мы встречаемся в истории каждый раз, как только та или иная человеческая общность оказывается в экстремальных условиях. И часто именно высочайшая степень государственной мобилизации спасает ее от неизбежной гибели. Поэтому есть все основания говорить, что тоталитаризм – это крайняя форма всеобщей мобилизации в условиях, когда ставится под сомнение само существование государства и социума.
Такая всеобщая мобилизация от стариков и инвалидов до детей и женщин, полное слияние государства и общества – не столь уж редкое явление в истории человечества. Так, например, древние греки – афиняне – смогли сорганизоваться в V веке до н. э. в тотальное сообщество для отпора намного превосходящих их по экономическим возможностям и по численности персам. Одной из самых ярких иллюстраций такой всеобщей мобилизации может служить рассказ Геродота о том, как вся афинская община, жившая по законам рабовладельческой демократии, до единого человека, включая рабов разных национальностей, покинула полис и села на корабли. Все вдруг ощутили себя гражданами, и все были полны решимости дать коллективный отпор врагу.
Однако эта форма крайней, исключительной мобилизации общества, возникающая как реакция на экстремальные условия и по этой причине по необходимости влекущая за собой в той или иной степени тотальный контроль над каждым членом общества и всеми сферами общественной жизни, при определенных условиях может законсервироваться. Вне зависимости от формы правления, будь то режим личной власти или режим демократии, в обществе искусственно поддерживается чрезвычайно высокий уровень от мобилизованности и агрессивности. Тогда оно становиться крайне опасным для соседей, а внутри общества для части своих же членов, для всякого рода диссидентов («предателей», «врагов народа»), плохо поддающихся тотальному психозу и государственному нивелированию.
Нечто подобное произошло с Афинским союзом, который после разгрома персов из оборонительной фазы стремительно перешел в фазу наступательной агрессии. Это, как известно, в конечном счете привело к затяжной войне со Спартой и к упадку всей Эллады.
В XII веке н. э. небольшая, этнически разнородная группа кочевников Центральной Азии – татаро-монголы, организовавшаяся в целях самосохранения в тотальное сообщество (орду) для отпора многочисленным степным врагам, в чрезвычайно короткий срок использовала эту форму уже для порабощения огромной части Евразийского континента. Здесь, как и во всех подобных случаях, в наличии были все те компоненты тоталитаризма, которые называют современные исследователи[39]: унитарная идеология (идея мирового господства в его раннесредневековом варианте), массовое народное движение и жестокий диктаторский репрессивный режим Чингисхана («Бич народов»!), установивший тотальный контроль над обществом и личностью в обширном государстве – орде.
Конечно, между Афинским союзом с его рабовладельческой демократией и раннефеодальной кочевнической империей чингисидов существовали колоссальные различия. Но они такого же примерно свойства, как разница между тоталитарными режимами нацистской Германии или фашистской Италии и маодзэдуновским режимом в Китае или полпотовским – в Камбодже. Эта разница не мешает современным исследователям объединять их одной характеристикой – тоталитаризм.
Отвлекаясь от других не менее ярких иллюстраций, заимствованных из древней и средневековой истории, отметим, что элементы тоталитаризма легко обнаружим в жизни всех тех европейских государств, которые были непосредственно вовлечены еще в Первую мировую войну. Особенно сильно они проявились в Германии в конце войны и в большевистской России в период Гражданской войны.
Правда, тогда предпочитали говорить не о тотальной мобилизации нации, а о «милитаризации» жизни общества для достижения победы. Эта разница в терминах сути не меняет, а лишь справедливо указывает на то, что любая постоянная, а тем более массовая армия организована по тоталитарному принципу – полное подчинение личности авторитарному командующему и его иерархии для достижения общей агрессивной цели, то есть победы. Здесь так же должна присутствовать общность идеологии, хотя бы в форме официального патриотизма или религии.
Вообще же и в мирное время любая армия даже в самом демократическом обществе по необходимости несет в себе ген тоталитаризма. Исключений нет. Это же, но еще в большей степени относится к любой тюремной, пенитенциарной, полицейской системе, включая, разумеется, и тайную полицию. Не случайно именно армия, тюрьма и полиция со всеми их разновидностями составляют ударную силу всех тоталитарных государств. Но в странах, где демократия имеет твердую почву и длительную традицию, такие же, по сути, тоталитарные структуры используются для ее же защиты извне и изнутри. Так что тоталитаризм при определенных условиях является спасительной формой самосохранения, а порождаемые им институты всего лишь нейтральные инструменты. В каких целях они будут использованы, зависит от того, в чьих они руках.
Во время Первой мировой войны по армейской модели были организованы почти все жизненно важные государственные институты, и особенно жестко в тех воюющих странах, где ограниченность ресурсов была наиболее ощутима. Опыт, пережитый в начале ХХ века Германией и Советской Россией, показал, сколь сильна и жизнестойка становится нация или ее часть (называвшаяся тогда большевиками пролетариатом и крестьянством), если они организованы по тоталитарному принципу. Большевистские лидеры, хорошо знавшие предвоенную и военную Германию, откровенно говорили о заимствовании идей «милитаризации» народного хозяйства и всей жизни в период Гражданской войны именно из Германии. Как известно, наиболее горячим поклонником идей милитаризации и военного коммунизма в Советской России, вплоть до формирования «трудовых армий» мирного времени, был Лев Троцкий. Не без одобрения Ленина во время Гражданской войны появились и первые трудовые лагеря для «врагов народа».
Таким образом, тоталитаризм возникает как ответная мобилизационная реакция общества на экстремальные условия, которые для различных государств могут иметь диаметрально противоположные исторические причины и последствия. После устранения этих причин общество по возможности возвращается в исходное состояние, но, как показывает история, далеко не всегда. Например, в отличие от разгромленной Германии, где мобилизационный тоталитаризм, вызванный войной, на короткий срок сменился пусть слабым, но демократическим строем Веймарской республики[40], в России и в мирное время, после окончания Гражданской войны, он остался доминирующей формой общественной жизни. Более того, агрессивный тоталитаризм в России оказался соединен с идеями социализма, которые внедрялись в общественную жизнь тоталитарными же методами. Из этой смеси и родился военный коммунизм как первичный питательный «бульон» для саморазвития «бациллы» сталинизма.
* * *
Хочу напомнить, что идеи социализма, то есть идеи общественной поддержки и государственного патроната над отдельным конкретным членом общества или целыми слоями, имеют чрезвычайно древние корни в истории человечества. Их можно обнаружить даже в элементах государственной патронатной политики стран Древнего Востока. Наиболее же отчетливо «социалистические» мотивы, которые зачастую неотличимы от мотивов еще одной стержневой общечеловеческой идеи – демократии, улавливаются в политической жизни античных демократий (равное для свободных избирательное право, государственная помощь малоимущим, возможность участвовать в государственном управлении, организация общественных работ, элементы общественного образования, общественные культурные и религиозные мероприятия и т. д.). Все это элементы социализма, получившие дальнейшее развитие в христианстве, а затем во всем ходе исторического развития европейских государств и США. Не вызывает сомнения, что социалистические идеи сами по себе являлись ответной реакцией на извечно присутствующие в любых обществах экономическое, политическое, этническое, половое, возрастное, интеллектуальное, физическое и другие виды неравенств. Социалистические идеи и социалистические формы общественной жизни также сродни формам мобилизационным. Их особо настойчиво начинают конструировать и проводить в жизнь тогда, когда социальная напряженность достигает такого накала, что обществу угрожает опасность взорваться изнутри.
Идея социальной взаимопомощи и связанное с ней определенное общественное нивелирование сами по себе крайне необходимы для нормального развития. В любом обществе и во все времена постоянно происходит корректировка между бедными и богатыми, между властью и личностью, между малыми и большими народами и т. д. Формы таких социальных корректировок могут быть самыми различными – от национальных и религиозных обычаев до восстаний масс или национальных движений. Но в Советской России навязанные силой тоталитарно организованного государства социалистические идеи второй половины XIX века очень быстро превратились в инструменты дикого, варварского закрепощения тоталитарной властью всех классов, групп и слоев населения. В 1922 году на XI съезде партии Ленин очень ясно сформулировал авторскую заявку на свой социальный проект: «Сотни лет государства строились по буржуазному типу, и впервые была найдена форма государства не буржуазного. Может быть, наш аппарат и плох, но говорят, что первая паровая машина, которая была изобретена, была тоже плоха, и даже неизвестно – работала ли она. Но не в том было дело, а в том, что изобретение было сделано. Пускай первая паровая машина по своей форме и была непригодна, но зато теперь мы имеем паровоз. Пусть наш государственный аппарат из рук вон плох, но все-таки он создан, величайшее историческое изобретение сделано, и государство пролетарского типа создано. И поэтому пусть вся Европа, тысячи буржуазных газет повествуют о том, какие у нас безобразия и нищета, все-таки во всем мире все рабочие тяготеют к Советскому государству»[41]. Оставим на совести автора определение «государство пролетарского типа». Тем не менее так называемое «Советское государство» действительно есть изобретение, которое сделал и внедрил Ленин и его ближайшие соратники. И как в каждом изобретении, в нем соседствовали элементы творчества, случайных удач и неслучайных неудач. И как каждое изобретение, оно могло быть использовано, по крайней мере, двояко. Сталин, безраздельно завладев новым типом «государственной машины» (ленинский термин, вокруг которого развернулась дискуссия на том же съезде), не только совершенствовал ее до конца своей жизни, но и оснастил ее дополнительными агрегатами. И вновь зададимся вопросом: каков же результат? Результат однозначен – ленинско-сталинская конструкция не выдержала испытание временем и элементарной человеческой моралью.
Конечно, не только рабочих захватила идея конструирования нового государства и нового общественного устройства. В первую очередь она захватила романтиков разных стран из различных социальных слоев. Тех самых романтиков, для которых новизна идеи и возможности, которые она открывает в практической, социальной сфере, значат больше, чем любые материальные блага, классовые или национальные предрассудки. Как известно, идейные революционеры-романтики, а большевики первой волны именно таковыми и были, обладают мощной агрессивной душевной силой. В 1925 году Сталин несколькими карандашами подчеркнул, обозначил скобками эту ленинскую фразу, тем самым особо выделил ее для себя. Тогда он искал идейные основания для конструирования экономики нового типа как базового элемента для «построения социализма» в отдельно взятой России. Сбоку, на полях, синим карандашом приписал: «Соц. промышленность (аналогия)»[42]. Он, конечно же, чувствовал себя социальным инженером и был им на практике, в жизни.
Социалистические принципы, соединенные с тоталитарным государственным устройством, действительно привели к рождению нового, неведомого до того общественного строя. Уровень бюрократического контроля, зависимости личности от государства и его правителя достиг неведомых в истории размеров. Поскольку все было сосредоточено в руках государства и исходило от него, то степень человеческой несвободы стала приближаться в сталинской России к несвободе раба в Римской империи. Недаром Леон Фейхтвангер, великолепно знавший древнюю историю, публично провел такую аналогию: «Если Ленин был Цезарем Советского Союза, то Сталин стал его Августом, его “умножателем” во всех отношениях»[43].
Так, социалистические идеи, имеющие чрезвычайно важное положительное, подлинно демократическое значение для любых обществ, в условиях советского тоталитаризма, «скрестившись» с ним, выродились в свою противоположность, отнимая у человека не только политическую, но и экономическую, а за ними и духовную свободу.
Как известно, социалистические идеи, развиваемые марксизмом, были встречены с энтузиазмом не только в России и Германии, но и в большинстве стран Европы и Азии. Притягательность этих идей была в значительной степени связана с концепцией интернационализма, которая в перспективе должна была привести к единству человечества. Речь шла не только об идее равенства народов, которая сама по себе в эпоху колониальных империй для многих очень привлекательна, но и о слиянии всего человечества в единую семью, в единую расу и единое сообщество. Первый серьезный шаг в этом направлении был сделан человечеством еще с усвоением интернациональных идей мировых религий. Но, разрушая этнические и национальные преграды и расширяя ареалы человеческой общности, они способствовали установлению более жестких, конфессиональных границ.
Марксов «пролетарский» интернационализм – младший брат космополитизма европейских гуманистов и отличался от него одним – «подлинный» интернационализм возможен только после победы мировой социалистической пролетарской революции, которая, как предполагалось, сметет все национальные и религиозные перегородки.
Однако, осуществляя под социалистическими лозунгами революцию в отдельно взятой, но многонациональной России, большевики бессознательно, объективно направились в прямо противоположном направлении – в сторону национально-имперского социализма. Хочу подчеркнуть, поворот этот произошел не летом 1924 года, когда Сталин, Бухарин и их соратники провозгласили программу построения социализма в одной, отдельно взятой стране (это скорее символизировало осознанную реализацию национально-социалистической идеи), а в октябре 1917 года. Именно первое поколение большевиков, и в первую очередь Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, как теоретики и практики социалистической революции в России заложили, не желая этого, фундамент невиданного прежде первого тоталитарного национально-социалистического государства. Сталин же осознанно и на свой лад продолжил и завершил постройку. Троцкий первым увидел опасности «национально ограниченного социализма» и даже заговорил о формировании теории советского «национал-социализма»[44], то есть сталинизма, но свою причастность к закладке его фундамента никогда не признавал.
Для большинства сторонних наблюдателей демократического толка идейная близость советского и фашистских режимов была очевидна уже тогда, когда они совместно укоренились на земном шаре. В 1936 году в процессе интервью американский журналист Рой Говард спросил Сталина: «Вы признаете, что коммунистическое общество в СССР еще не построено. Построен государственный социализм. Фашизм в Италии и национал-социализм в Германии утверждают, что ими достигнуты сходные результаты. Не является ли общей чертой для всех названных государств нарушение свободы личности и другие лишения в интересах государства?» Сталин, который часто был находчивым полемистом, в этом случае вяло отвечал общими фразами, типа того, что: «Выражение “государственный социализм” неточное», что под эти термином понимают такой порядок, когда вся собственность в руках государства. А в СССР есть и государственная и «общенародная», то есть «кооперативно-колхозная», собственность, а в фашистских странах большая часть собственности в руках капитала и т. д.[45] Сейчас для нас важнее не ответная реакция вождя. Важно то, что Сталин, безусловно, знал о таком сближении во многих человеческих умах коммунизма и фашизма на общей почве «национального социализма», и знал не только из книг врага – Троцкого. И он сам, хотя бы мысленно, внутренним взором не мог не проводить подобные сравнения, хотя бы в целях более убедительных опровержений. Впрочем, будет время, когда он не только найдет много общего у себя и своих нацистских соперников в борьбе за мировое господство, но и возьмет в свой идеологический арсенал часть оружия, выпавшего из рук им же поверженного врага.
* * *
Следует учесть, что все три мобилизационных социальных компонента сошлись в стране с ярким историческим своеобразием. И дело не только в том, что при всей географической грандиозности экономическая и культурная база предреволюционной России была примитивной, а против мощнейшего инструментария тоталитарного социализма не было выработано соответствующего общественного, а тем более личностного иммунитета. Гораздо существенней то, что идеи национального социализма внедрялись в многонациональном государстве. Для того чтобы эта мысль стала понятней, рассмотрим также, в какой исторической среде и контексте чаще всего оживает такое явление, как национализм.
Если не шарахаться от столь иногда необходимых абстракций, то национализм можно определить как псевдоиндивидуализацию коллективного. Иначе говоря, это приписывание всей этнической, языковой или культурной общности качественных черт характера, которые могут быть присущи (и то относительно) только конкретному человеку, но никогда не являются общими свойствами социума. Так же как тоталитаризм и социализм, национализм в своих первоначальных импульсах возникает как защитная, агрессивно-мобилизационная реакция социума на угрозу этнического или культурного растворения, порабощения или уничтожения. В основе любой формы национализма лежат завышенная самооценка обезличенных качеств представителей данного сообщества и заниженная оценка членов других сообществ. Символами национальной самобытности могут выступать любые приписываемые качественные признаки и свойства, якобы отличающие данное сообщество от любого другого.
О древнейшей укорененности национализма в общечеловеческую ткань свидетельствует известная формула Б.Ф. Поршнева: «мы» и «они»[46]. С нее начались процессы деления, интеграции и смешивания в новые, более высокоорганизованные сообщества первобытных человеческих стад. Даже сама история, как история человека, началась с того, что все люди противопоставили себя природе, животному миру, с того, что вызрел агрессивный «общечеловеческий шовинизм». Благодаря ему люди выделились из природного мира, осознав, что обладают душой, разумом, способностью творить, трудиться и господствовать.
В основе национализма как мобилизационного общественного фактора тоже лежит идея исключительности, но не общечеловеческой, а псевдовидовой. Моей, и только моей, нации якобы природно присущи черты яркой индивидуальности, редких положительных особенностей и уже только поэтому имеющей право на особые привилегии и преимущества. Любая так называемая «национальная идея» есть не что иное, как претензия на такие преимущества.
В качестве примера можно указать на ярчайший символ «национальной идеи», который сформировался в Древней Иудее – «Богом избранный народ». Именно она позволила сохраниться евреям как народу, несмотря на высокую социальную активность, рассеяние, преследования и малочисленность. Однако эта же самая идея национальной исключительности в своем крайнем развитии и в определенных условиях вырождается и из средства самосохранения превращается в очередное орудие агрессии и господства. Недаром еще Ленин вполне разумно предлагал качественно различать национализм большой и малой нации. Именно он говорил о национализме малой нации как защитной реакции на агрессивный национализм большой. Но дело, конечно, не в численности, а в направленности. Мы и сегодня видим, как в различных уголках земного шара лидеры даже не очень многочисленных этнических групп могут при определенных условиях развернуть мобилизационные свойства национализма в сторону агрессии. А когда подобное происходит с большой нацией, начинается катастрофа, ведущая к геноциду.
Христианство (как и мусульманство) «лишает» евреев божественной привилегии. Христос сказал: «Нет ни эллина, ни иудея…» Если бы в Евангелии не было этой фразы, то христианство (как и мусульманство, Мухаммед был хорошо знаком с иудаизмом и христианством) вряд ли бы утвердилось так широко на земле, как сейчас. Тогда всем христианским народам пришлось бы признать привилегированное пред Богом (а значит, и перед ними) положение иудеев, о чем недвусмысленно говорится в Ветхом Завете. В этом случае весь христианский мир представлял бы собой фантастическую иерархию народов, организованную по степени «близости» к божеству или по времени принятия единобожия.
Благодаря христианству (и мусульманству тоже) национальная идея иудаизма стала интернациональной, всечеловеческой. Но в официальном русском православии XIX века и в связанной с ним общественно-политической мысли отчетливо зазвучала сходная с древним иудаизмом нота национально-религиозной исключительности. Как и многие подметившие это, Николай Бердяев писал: «Крайняя национализация церкви и есть юдаизм внутри христианства. И в русском христианстве есть много юдаистических элементов, много ветхозаветного»[47]. После 1801 года, хотя весь Кавказ и Грузия еще не были полностью включены в состав России, царское правительство сумело подчинить грузинскую церковь Священному Синоду[48]. Сталин, как известно, был учеником православного училища и православной духовной семинарии, где ему, грузину, десять лет проповедовали, в том числе и русские священники, русскую версию православия. О том, какие изломы прошли по его национальному самосознанию и как они проявились в зрелом сталинизме, мы не раз еще будем говорить.
Нечто подобное гипотетической иерархии иудео-христианских народов можно обнаружить во многих многонациональных колониальных империях давнего и недалекого прошлого, где господствующая нация обосновывала свое право на верховенство особым покровительством высших сил, а в наше время как бы особыми, присущими только ей нравственными, интеллектуальными и физическими качествами. Это могут быть воинская доблесть, трудолюбие, высокий интеллект, особая душевность, доверчивость, организованность или милая расхлябанность, рациональность или бесшабашная расточительность, терпеливость, то есть все, что угодно. Нацистские идеологи утверждали, например, что только представители германской расы умеют держать корпус при ходьбе по-настоящему прямо. В таких случаях «враг, – пишет К. Лоренц, – или его чучело может быть выбран почти произвольно и, подобно находящимся под угрозой ценностям, может быть конкретным или абстрактным. “Эти” евреи, боши, гунны, эксплуататоры, тираны и т. д. годятся точно так же, как мировой капитализм, большевизм, фашизм, империализм и многие другие “измы”»[49]. Во всех колониальных империях Нового времени с помощью подобных нехитрых идеологических бирок тщательно выстраивалась своя иерархия народов и рас. Вернее, она ими оправдывалась.
Нечто подобное происходило и в Российской империи. Формирование русского национального самосознания, нации, впитавшей в себя различные этнические элементы, началось как мобилизационная реакция на татаро-монгольское иго и как защитная реакция на западный религиозный и культурный «вызов». Однако после избавления от ига «поганых», с началом формирования многонациональной империи, идея национальной исключительности, выросшая из уверенности в религиозной исключительности и нараставшей военной мощи, стала доминирующей. Владимир Соловьев, вслед за отцом, как никто другой глубинно обдумывавший исторические судьбы России, открыто и беспощадно писал: «Признавая себя единственным христианским народом и государством, а всех прочих считая “погаными нехристями”, наши предки, сами не подозревая того, отреклись от самой сущности христианства, то есть от его интернационального “универсализма”. Тогда же, – продолжает мыслитель, – началось “национальное самообожание”, которое привело “к окончательному заключению, что Россия есть единственная христианская благочестивая страна”»[50].
Еще до революции в России сложилась, как и в любой многонациональной империи, своя иерархия народов. В этих условиях строительство тоталитарными методами национального социализма неизбежно должно было не разрушить, а, напротив, укрепить и ужесточить на новых идейных основах эту иерархию, которая уже несколько столетий формировалась как «традиция». Сталин еще в юности усвоил негативную сторону этой традиции, но затем сознательно использовал ее в борьбе за власть и задолго до войны с Германией творчески «развивал» ее в качестве главной движущей силы всей своей политики. Попробуем показать, как идея национально-религиозной исключительности была трансформирована Сталиным в идею национально-социалистическую.
* * *
Можно подумать, что в конце концов мы пришли к фаталистическому, гегельянско-марксистскому взгляду на историю, в которой господствуют силы, мало подвластные человеку. Это совершенно не так. Напротив, те формы социальной мобилизации, о которых мы говорим, не могут кристаллизоваться сами по себе, но могут быть сознательно использованы или так же сознательно не использованы политическими лидерами – вождями человечества. Они могут быть ими изощренно усовершенствованы или, наоборот, применены в самых древних, грубо-примитивных формах. И чем больше у лидера власти, чем больше у него воли к этой власти (проще говоря, силы), тем большей свободой исторического выбора он обладает. Но, как известно, беспредельная свобода даже сверхвыдающейся личности чревата полной несвободой всех членов общества. Диалектика общественного развития коварна и прихотлива и далека от закономерностей ровно настолько, насколько в ней начинают господствовать человеческий дух и воля. Демократические общества с сильными устоявшимися традициями исторически себя тем и оправдали, что в большей степени живут по законам внутреннего развития, а не по прихоти очередного властного кумира, который может оказаться на поверку бездарем или еще хуже – социальным садистом и вивисектором.
Отцы-основатели, политические гении или олигархи – не важно кто, но обладающие реальной властью, могут раскрутить маховики или установить сильнейшие ограничители на развертывание тех или иных механизмов тоталитарного, социалистического, националистического, демократического, авторитарного или иного свойства. Сталин был одним из тех, кто умел раскручивать до невероятных скоростей нужные ему маховики, а при необходимости и притормаживать их. И здесь неумолимо встает неразрешимая проблема взаимоотношения государства и личности, государственной власти и человеческой морали.
Ни Моммзен, ни С. Соловьев, ни Тацит и Ариан, ни другие современные и древние историки не знали, как быть, как вывести за скобки, например, проскрипционные списки, широко применявшиеся «блестящим» Августом, санкционировавшим массовые убийства рядовыми гражданами своих же соотечественников, политических противников диктатора? Как быть с бессмысленно жестокими поступками перепившегося «солнечноликого» юноши Александра Македонского, сжегшего Персеполь с жителями и заколовшего лучшего друга? Как забыть, как затушевать не то что страницы, а целые главы истории Петра I, которые он собственноручно вписал массовыми казнями, фантастическими пытками и смертельным мучительством родного сына, гораздо менее порочного, чем отец? А вот Сталин, кажется, собственной, единственно здоровой правой рукой никого не пытал, все его дети умирали не по его вине, а сомнения в отношении причин смерти второй жены – всего лишь молва. Но не домыслы и не молва – прекрасно налаженная машина невиданного государственного террора у этого, без всякого сомнения, неординарного социального инженера. Ну а чем его «проект» порочнее проекта изобретателя водородной бомбы (А. Сахаров), или динамита (А. Нобель), или меча и лука (автор неизвестен)?