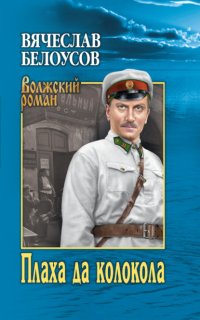Читать онлайн Коварная дама треф бесплатно
- Все книги автора: Вячеслав Белоусов
Тетрадь восьмая
Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…
Королева играла в башне замка Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж.
И. Северянин, поэма-миньонет
ЧП городского масштаба
Ванна полна алой крови, смешавшейся с водой. Из этой страшной смеси виднелись полголовы с темно-русыми мокрыми волосами и круглая женская коленка, белая, словно из могильного мрамора.
Шаламов постоял в дверях, впервые почувствовав себя не в своей тарелке, беспомощно оглянулся, косолапо переступил с ноги на ногу, кашлянул подавленно, оттер назад напиравших оперативников.
– Кузя! – позвал он. – Глотов скоро там? Позвони еще раз. Я без него начинать не могу.
– Щас, щас! Я мигом! – крикнули сзади.
– И пусть санитаров не забудет. Ее вытаскивать из ванны после осмотра придется. Заглушка под ней. Так воду не спустить.
– Где телефон-то? А, черт! – донесся опять голос сзади.
– Там вроде, на кухне, – кашлянув, полез за сигаретой Шаламов, совсем выставив оперативников из ванной и шикнув на нетерпеливых. – Туда без экспертов ни ногой! Особо ретивых сам придушу. Облазить пока все в квартире.
– Да ладно, Михалыч, – огрызнулся старший. – Одно дело делаем.
– Я повторять не стану, – чиркнул спичкой Шаламов, но, вдруг спохватившись, торопливо затушил огонь.
– Что? – выпучил глаза опер.
– Глянь газовые горелки! Что-то гнильем ударило, как зашел.
– Газа нет, я проверял, – успокоил старший. – С трупа поперло. Два часа – и запах начинает валить. А эта больше здесь кочумает. И вода, видно, горячая была.
– Вот черт! – утер взмокший лоб Шаламов. – Накрыло даже. Про газ подумал. Не бабахнуло бы…
– И на старуху бывает, Михалыч, – хмыкнул рыжий опер, его веснушчатая физиономия разъехалась в сочувствующей ухмылке.
Сыщики помоложе запереглядывались, зашушукались, но повеселиться не успели.
– Бывает, когда ее поп накрывает! – рявкнул на них Шаламов, и смеяться сразу расхотелось.
– Все перевернуть, но аккуратно. Следы у меня чтобы ни-ни! – Он уперся жестким взглядом в старшего опера. – Оставь одного побашковитей здесь, а остальных гони по этажам, по соседям. Опросить весь дом. И чтобы никто не филонил. Треп прекратить.
– Михалыч, ну ты совсем нас за детей держишь, – обиделся старший, разведя по-детски руки, только что губы не надул.
– Константин, работать! – не принял обид криминалист. – Я думаю, через часок сюда как бы сам Максинов не пожаловал. Ты знаешь, чья это квартира?
– Чья?
– Вот генералу своему, когда он примчится, и задашь этот вопрос. Разумеешь?..
* * *
Так начиналось расследование дела о загадочном убийстве в известном всему городу семействе врачей. У прокурора-криминалиста Владимира Шаламова оно было одним из самых сложных и памятных.
Вспоминая спустя много лет, он мучительно переживал давно прошедшее и твердил, что во всей этой истории с самого начала ему чудилось присутствие неземного, нечеловеческого, темного и иррационального.
Веселая компания
На кухне их уместилось пятеро. Раньше никогда такой гурьбой не собирались. Все как-то двое, трое. Заскочат на минутку: «Ты как?» – «Я нормально. А ты?» – «Путем». А тут сбежались все. И повода, вроде, никакого.
Раньше и объемами все были аккуратнее, одно слово – студенты, а теперь – сплошь врачи и сплошь габаритные. Откуда что взялось за какие-то год-полтора? Одна Инка Забурунова все еще светилась насквозь, только грудь выдавалась, а так – тонкие ручонки в обтягивающем белом свитере и ножки – длинные ходульки в голубых продранных на коленках джинсах.
Лаврушка Фридман и Семен Поленов обосновались на роскошном диване из гарнитура чуть ли не дореволюционных времен. Благородная кожа под ними тяжко хрустнула, но выдержала и в дальнейшем скрипела, не переставая, при каждом их движении, тоскливо и безнадежно. Оба от удовольствия закрыли глаза, но Инка все же втиснулась между толстяками, отвоевывая пространство острыми локотками и довольно повизгивая, для полной комфортности расширяла территорию, покалывая то одного, то другого острыми ноготками.
Димыч Гардов оседлал единственный стул, приняв от Фридмана его увесистую модерновую сумку с провиантом, а Эдик Мартынов, пощипывая гитару, блаженствовал на своем когда-то любимом месте – выше всех, на широком удобном подоконнике, потеснив Светкину драгоценность – крохотный цветок с васильковыми глазками в глиняном горшке.
Сам Вадим остался стоять на пороге кухни и, когда гости – приятели благополучно разместились, потолкавшись и поутихнув, хлопнул в ладоши, будто подавая команду, вопросил:
– Как обычно?
– А Туманская? – вырвалось у Забуруновой, она, как прежде, света белого не видела без подружки.
– Семеро одного!..
– Обидится!
– Слез будет!
– Это ее проблемы! – крикнул Вадим, завершая стихийное обсуждение.
– Как же так! Как без хозяйки? – бунтовала Инка.
– Слезы женщины… – поддакивал ей Поленов, погладив худенькое плечико.
– Слезы любимой женщины… – покачал головой, будто осуждая, Эдик, но в глазах его прыгали злыдни-бесенята.
Но Вадим уже принял от Димыча бутылку красного вина из Лаврушкиной сумки, поднял, подозрительно разглядывая ее на свет.
– Опять спер у предков? – обернулся он к кудрявому до безобразия толстяку. – Проказник ты наш.
– Не убудет, – хмыкнул Лаврушка. – Французское винцо.
– Алжирское, – поправил Семен. – Скиснешь с него. Сейчас бы водочки.
– А за чем же дело стало? – Вадим дернулся к холодильнику.
– Один черт, наливай, – опередил его Мартынов, ему не терпелось, он и бренчать перестал на гитаре.
Хлопнули по бокальчику, бутылка, хотя и велика была, кончилась; затянулись душистыми французскими сигаретами из той же сумки. Все знали, запасы были не Лаврушкины, его родителей. Он, хотя и громоздкий с виду, после института так еще и болтался, не определившись с профессией, обитая где-то на кафедре. Ждал, как решат «предки». Те спорили между собой в периоды, когда возвращались на некоторое время из Северной Африки, где в Алжире, Марокко или Тунисе – сам Лаврушка не интересовался, отец его спасал туземцев от особой заразы. Мать каким-то образом помогала, хотя единственной ее специальностью была ветеринария, говорить о которой она при людях стеснялась. Собственно, и вино, и сигареты, и многое то, что имелось в их доме и приносилось Лаврушкой, тоже было «из-за бугра». Поэтому, не успев выпить, Фридман тут же обычно начинал нахваливать и одновременно ругать буржуев, «у которых даже негры, спрыгнув с пальмы, уже без застенчивости права качают где-нибудь в конгрессах, а у нас и в туалете слова не скажи…».
Вадим смотрел на взбалмошного кудрявого бедолагу – ничего не изменилось в Лаврушке за это время; тот уже начал долдонить Семену старую песню о прелестях заграницы, правда, темой его вместо Африки стал Израиль.
А кстати, что могло измениться? И почему? Лаврушка остался таким же наивным, хотя и закончил институт. Настоящей жизни не нюхал. Так, все по верхам да с чужих слов. Его бы запрячь дежурным в «скорую», как ему, Вадиму, приходится. Куда бы делись его велеречивость, бахвальство, напыжная философия!
Инка тоже пока треплет нервы родителям и себе. Корчит черт-те что, а сама спряталась за отцовскую спину. Тот ее в аптечное управление кем-то пристроил. Сидит вон, перемигивается с Поленовым, оба поджидают момента, чтобы свалить в спальню и остаться наедине, а нет – выпросить разрешение вечерком час-другой в их квартире поваландаться. Лирики-любовники! Светка, их жалея, позволяла. Они у нее частые клиенты-нахлебники, а его воротит от их двуличности. Семен давно уж женат, и ребенок, кажется, вот-вот второй появится. А Инка чего-то все ждет от него, крутится, не отступает. На что надеется? Если серьезно любишь, ну рви сразу, чего мотать нервы всем? Не понимает он Семена…
Твердо и надежно один Эдик обустроился. С помощью влиятельного родственника, конечно. У Мартына всегда все по полочкам. Лев Русланович, вроде? Вадим стал его забывать, а раньше, по молодости, они с Эдиком частыми гостями были в том доме на Кировской улице. Светские манеры, роскошь… другой мир завораживал и увлекал. Такой родственник – мечта! Теперь без этого куда? Мартын только благодаря ему ходит теперь судовым врачом по Каспию на теплоходе; Баку, Махачкала – для него родные стены, в Иране, как у себя дома! Деньги, сказывают, гребет Эдик солидные и подбивает клинья в большую загранку, в Атлантику. Там простор! Там есть, где развернуться! Европа, Англия… да что там говорить! Дух захватывает… Вот так. Вот тебе и Лев Русланович, низкий ему поклон.
Мартынов, как будто почувствовал взгляд Вадима, обернулся, подмигнул хитро, громче затянул:
- – А у тебя глаза, как нож,
- Если прямо ты взглянешь,
- Я забываю, кто я есть и где мой дом.
- А если косо ты взглянешь,
- Как по сердцу полоснешь,
- Ты холодным острым серым тесаком…
Хороший парень Эдик, только очень запрограммирован на результат, делячеством сквозит от него за версту, ужасно практичен. Ясно дело – прагматик. Сух, как осенний лист, – сказал он ему однажды, не сдержавшись, а тот и не обиделся. И гитару вот завел не для души, а по надобности; Окуджава, Высоцкий из каждого окна выпадают, на каждой молодежной вечеринке только немой не поет, стараясь похрипеть, а пуще всего заморочки у молодых по Визбору да Клячкину. Эдик тоже взялся петь. Благо все совпало! И голос появился, и манеры, и величавость. Откуда все взялось! Будто с другой планеты! Даже завидно. Но у Мартынова все так. За что ни возьмется, все веретеном и к месту. В бокс его на первом курсе Вадим сманил. Эдик драться не умел, больше боялся, руками, словно мельница, махал вместо того, чтобы учиться лицо прикрывать, оттого с полгода синяками преподавателей пугал, а потом оперился – Вадим к нему подступиться не мог, и хуки, и свинги, и аперкоты освоил!
В одном только утер его Вадим. Увел у приятеля Светку. И получилось все тогда чудно, можно сказать, случайно. Еще на третьем курсе, в стройотряде. Вышло как-то само собой: в деревенском клубе устраивали вечером танцы, Светка вдрызг разругалась с Эдиком, запуржила, задурила, подбежала к нему, Вадиму, пригласила танцевать. Знала ведь, что они – друзья! Весь вечер тогда они и протанцевали под пластинки в том перекосившемся клубе, и он уже никуда не смог деться от ее зеленых глаз. С тех пор кончилась их дружба с Эдиком, они стали соперниками. Вида не подавали, не трепались зазря, но событие это не утаишь. И началась у них не учеба, не жизнь, а сплошная борьба.
Во всем обскакивал его Эдик, во всем старался верх держать, а Светку прозевал. Но вида и сейчас не подает, вроде, локти и не кусает. Веселеньким все держится. Однако с тех пор особенно на девчонках не зависает, не задерживается. Закоренелый холостяк. А в море начал ходить, совсем запижонился, с женщинами завязал, живет, как кузнечик, случайными встречами. Хорохорится с улыбочкой дурацкой – нам, мореманам, мол, иначе нельзя. Не хватает терпения у женщин нас ждать – его тезис. Вон, послушать его, так уши вянут:
- – …но с тобой жизнь скоротать,
- Не подковы разгибать,
- А убить тебя – морально нету сил…
Это он, Мартын, откаблучивает на подоконнике, глядя на Вадима. Только Вадиму последнее время тоже похвастаться особенно нечем. Порвалось у них где-то с женой. Светку не узнать. Не завела ли кого на стороне? Она заводная. С нее станется. Нападет зараза какая!
Несколько месяцев прошло уже, как будто подменили его Светку. Он пытался объясниться, вытащить на серьезный разговор. Только не получилось – избегает. Вечером не дождаться, а то и совсем не является ночами; мельком звонит, что у матери осталась ночевать, приболела та, но враньем тянет от ее слов, не верит он, а тещу терзать этими проблемами не желает. Теща у него – персона нон грата! Мать свою попросить навестить родственницу да выведать все? Не решился. Сызмальства приучила она его самого во всем разбираться. Растила – от себя держала на дистанции, хотя и женщина, мужика в нем воспитывала. Поэтому он и не думал заикаться ей о Светкиных проделках. А ему самому особенно не разбежаться… С этими дежурствами на «скорой» личного времени совсем в обрез.
Он бы и бросил эту «скорую»! Были предложения, появлялись вакансии со щадящим режимом, как в санатории: от девяти до шести – и гуляй. Однако, как только задумывался всерьез, что уйдет, и сердце щемило. Чуял – здесь его дело! Больше нигде не чувствовал он себя мужиком, настоящим врачом, нужным, необходимым. Как увидишь под своими руками ожившие глаза только что умиравшего секундой назад, действительно понимаешь, зачем ты сам на белом свете. Ради одного такого чудесного мига забываешь про все беды и неурядицы.
Пусть изматываешься и к концу дежурства едва держишься на ногах! Но это его ритм жизни. Он нужен делу, и дело это нужно ему. Близкие смеются, мать упрекает – науку, перспективы, будущее забросил, забыл… Он все помнит. Он докажет, что не зря сейчас убивается в сумасшедшем ритме. Год, два, а там о нем узнают!.. Он соберет материал, накопит опыт… Он в науке еще скажет свое слово!
Вадим стряхнул пепел с сигареты в окошко за спиной Мартынова. Тот, не переставая рвать гитару, орал во все горло:
- – Спасите наши души!
- Мы бредим от удушья.
- Спасите наши души!
- Спешите к нам…
Вадим сунулся в холодильник – гулять так гулять! Накопилось нервотрепки за неделю! В веселой компании старых друзей, бывших однокурсников, когда и где еще расслабишься! Он извлек из холодных недр заветную заначку и потряс ею над головой, вызвав всеобщий восторг и удивление.
– Ого! – дружно охнула ватага молодцов.
– Кто же такую драгоценность на морозе держит! – взвился Эдик.
Вадим не удостоил его взглядом, водрузил на стол литровую бутылку медицинского спирта. Лаврушка повел длинным горбатым носом и многозначительно произнес:
– Братцы! Вот теперь погуляем!
– У больных спер? – осудил Димыч, тряся бородой.
– Чего несешь? – толкнул его сверху Мартынов гитарой. – Больным такого не положено. Не иначе шашни наш друг с сестрой-хозяйкой завел. А, Вадик? Бутылка со склада?
Авторитету Мартынова не прекословили.
– Мальчики, а закусить? – Инка бросилась тоже к холодильнику. – Вам так просто это зло не одолеть.
– Вот! – величаво достал из внутреннего кармана пиджака помятую плитку шоколадки Семен и, конфузясь, опустил глаза перед Инкой. – Из наших запасов.
Но та его простила и даже чмокнула в щечку.
Вадим, небрежно расплескивая, по-командирски лил спирт в подставленные стаканы.
– Братцы! – вопил Фридман. – Братцы! Водички бы. Не запылать бы нам.
Кто-то подсунул в центр стола банку, полную воды из-под крана.
– Мальчики! – добыв кружок колбасы из холодильника, радовалась Инка. – За что пьем?
– За доблестного бессребреника, врача самой скорой помощи Вадима Туманского! – заорал на всю комнату Лаврушка, все подхватили.
Мартынов выпил первым, не дожидаясь остальных, глаза его запылали шальным огнем, он забыл и про воду, и про колбасу. Утершись рукавом, хулигански гаркнул в одно дыхание:
- Эх, дайте, дайте мне, ребятушки,
- На милую взглянуть.
- На ее бесстыжи ножки,
- На жемчуженную грудь!
– Светка! Светка! – запричитала, заголосила Забурунова, отпив из бокальчика и задохнувшись. – Вадим, где же она? Я без нее не буду.
Но чокнулась второй раз с Семеном, не стесняясь, расцеловала его и допила из бокальчика остатки. Она раскраснелась, сомлела, не находя себе места в нетерпении. Поленов тоже держался из последних сил, подмигивал Вадиму, кивая на дверь спальни, мол, можно им удалиться? Вадиму было не до них. Его прижал к стене спрыгнувший с подоконника Мартынов.
– Как сестричка-то? – протягивая сигарету, приставал он.
– Зинаида? Статная дама.
– Зинаида? Имечко не для амуров, – захохотал Эдик. – Хотя постой! Как ты говоришь? Зинаида? Кажется, знакомая особа. Клеит тебя спиртом? Давно ныряешь к ней?
– О чем ты?
– Да ладно тебе. Все свои.
– Нет. Я правду. Серьезная женщина.
– Халда баба!
– Не надо так о женщинах.
– Халда, халда! Я вспомнил. Черненькая. И усики на верхней губе. Это от избытка гормонов. Хотя гарсонка[1]. Но изящна. Молодец, одним словом, – ерничал Мартынов.
– Хватит тебе, Эдик.
– И запах Востока в подмышках, да? Мускус. Аж обжигает!
– Ну… Жжет – не жжет. Не знаю. Видишь – жив, не сгорел.
– Знали, знали.
– Я не нюхал. И ты не трепись.
– Ишь, заговаривает!
– Брось! Я говорю – женщина строгая.
– Что ты! Стерва!
– Зря ты так. Тут Инка.
– А что Инка? Ребенок? А Зинка твоя – стерва!
– Ну хватит об этом.
– А ты хорош, старичок, – подмигнул Мартынов, изрядно захмелев. – Но тут ты запоздал. Тут я тебя обошел. Ты меня там, а я тебя тут. Так что у нас с тобой – один на один. Персиянку эту, ты опоздал…
– Прекрати!
– Понял. Молчу. Но усики у нее!.. И этот убивающий аромат меж грудей! – Эдик округлил в неподдельном ужасе глаза. – Сжигает все внутренности. Она просто опасная для мужчин. Как ты терпишь?
– Будешь еще? – Вместо ответа Вадим поднес бутылку к его стакану.
– С тобой выпью, – с трудом поднимая глаза на Вадима, качнулся Мартынов на нетвердых уже ногах.
Компания расползалась на глазах. Каждый наливал себе сам. Инка с Семеном, улучив момент, исчезли в спальне, не дождавшись разрешения. Он и не уследил, только услышал краем уха, как щелкнул в двери ключ. Лаврушка клялся и убеждал в преимуществе израильского бытия теперь уже бородатого Димыча за неимением лучшего слушателя, сбежавшего с подружкой. Димыч Гардов клевал носом, подрагивал бородой, диковато крутил время от времени зрачками мутных глаз, словно пытаясь убедиться, здесь ли он еще присутствует и кто рядом. Иногда он нечленораздельно мычал, пытаясь что-нибудь возразить или просто сказать, но Лаврушка, не давая ему вымолвить и слова, как искушенный лектор, перебивал, не принимая возражений, или просто закрывал ему рот своей рукой, в другую он стряхивал пепел с сигареты.
«Что же всех так развезло-то? – подумалось Вадиму, и ему стало весело. —Разучилась пить компания-то…»
Он попытался глазами отыскать бутылку, но ее на столе не оказалось. И на подоконнике тоже не было. Там образовалась кучка окурков в консервной крышке – следы пребывания Эдика, сам он, потеснив Фридмана, бренчал на диване.
Вадим нагнулся, поискал под ногами, под стулом, сунулся в углы. Бутылка завалилась под диван, где успокоилась совершенно пустой на полу. Видно, туда ее уронили Фридман и Гардов, периодически подливая себе, вцепившись в нескончаемой дискуссии о патриотизме. Лаврушка, долбя свое, уже привлек на помощь своего кумира, любимого Илью Ильича[2], он раскачивал кудрявой головой и твердил, умиляясь и едва не плача, что за границей жить лучше, а вот умирать следует лишь в матушке России.
– Ты почитай, старина, Илью Ильича. Поразмысли, дружок. – Фридман водил сигаретой перед носом хлопающего глазами Гардова. – Ему досталось от газетчиков в свое время. А ведь он, брат, отчаянный патриот был, не нам с тобой чета. Помнишь его «Этюды»? А письма?.. Как он оказался прав! Гений! Провидец! Это же он сказал… Его великое открытие… «Наши желания несовместимы с нашими возможностями!» Вот, брат, в чем дело!.. Это гениально! А мы упростили, сжились… Гениальное всегда оказывается простым. Для нас, идиотов! Ты только вдумайся, старик… наши желания и наши возможности… Они несовместимы! Вот в чем парадокс физиологии человеческой!..
– Достал…
Лаврушка прикрыл рот оппоненту своей рукой с сигаретой.
– Достал ты меня этими письмами, – все же удалось бородатому вывернуться из-под его руки. – Что мне его письма? Не мне же он их слал. Другой Ильич тоже вон в самый ответственный момент за границей посиживал. И слал нам письма. А мы их не читали…
– Почему? Читали.
– Кто читал? Ты читал?
– Ну, скажешь, я. Я, допустим, не читал. Россия читала.
– Не надо обобщать. – Бородатый Димыч начал злиться от сигареты, все время едва не обжигавшей ему губы и бороду. – История не терпит обобщений. Ей нужны конкретные факты. Ты читал?
– Чего?
– Сам спрашивал.
– Ты почитай Илью Ильича. Зачем мне кто-то другой. Плевал я на всех. А вот Илья Ильич без обиняков… И цензура царская, между прочим, не заметила… Вот как, брат!
– А может, лопух сидел? – Гардов, защищая свою бороду от сигареты, на всякий случай зажал ее в кулак. – Да что мне твой кумир! В России, слава богу, хватало их и без эмигрантов! И не трогают их теперь власти! Зря ты ахинею несешь.
Вадим зажмурился. Действительно, допились дружки, их теперь в этот мир не возвратить, они далеко. Где же выпить достать? Он пошарил глазами, но ничего не нашел.
– Значит, не трогают их власти? – выпучил глаза от возмущения Фридман.
– Ни пальцем, – покачал головой Димыч.
– Назови хоть одного.
– Назову.
– Назови, брат, назови.
– Ну… хотя бы… Волошин[3].
– А что Волошин? Кто такой?
– Волошин. Поэт. Какие откровенные стихи! Про Крым. Про белых… расстрелы… голод. Живые мертвых жрали! Про…
– Мазила, – отмахнулся сигаретой Лаврушка. – Стихоплет! Кого ты мне подсовываешь? Кому он интересен? Без него Россия не пострадала бы. Да у него и свой особнячок был. Он жил в нем, как царь. В Коктебеле. Нашел пример! Другие, может, жрали трупы… В Поволжье! Читал. Там голод свирепствовал! А твой пиит на море пузо грел. И стишками промышлял… Это не пример. А вот Илья Ильич!.. Это да! Илья Ильич страдал!.. Ты это понимаешь?..
Откуда-то, словно издалека, донесся голос Мартынова. Подыгрывая себе на гитаре, всеми забытый, он бормотал нараспев, временами странно подвывая, закрыв глаза. Получалось что-то невразумительное. Вадим все же постарался разобрать. Различил вполне разумные слова. Эдик заметил его внимание, оживился, подмигнул и запел уже внятнее, на публику:
- Откуда мы пришли, куда свой путь вершим?
- В чем нашей жизни смысл?
- Он нам непостижим.
– Эдик! – окликнул его Вадим. – Давай, Эдик, про нас! Нашу давай!..
Мартынов услышал, кивнул грустно, улыбнулся кисло, допел:
- Как много чистых душ под колесом лазурным
- Сгорают в пепел, в прах,
- А где, скажите, дым…
– Эдик, – подобрался к нему Вадим, сторонясь Фридмана и Гардова, обнял его за плечи. – Ты молодец, Эдик! Я тебя люблю!
Он начал целовать Мартынова в щеку, в лоб, в ухо, куда успевал и куда получалось, Эдик увертывался, прятал голову, но от него веяло прежним, прошлым, теплым, добрым, и у Вадима щемило душу.
– Прочь, сатана, – ухмылялся Эдик. – Воздуха мне. Душно здесь. Я задыхаюсь. Нутро разрывается.
Он бросил играть, застучал в грудь кулаком.
– Я окошко еще одно открою! – отскочил от него Вадим. – Сейчас!
– Может, валидолу? – оторвался от Димыча и Лаврушка.
– Глупцы! – засмеялся Мартынов. – Спирту мне. Есть еще выпить?
– Кончилась бутылка, – поддел ногой от досады пустую тару Вадим, и она загремела по полу, затерялась где-то под ногами.
– Вот, дружки, допили остатки, – Вадим перевел пьяный взгляд на Фридмана и Гардова; Лаврушка глуповато улыбался:
– Виноваты-с. Не вспомнили про вас-с.
– Постой! – попытался подняться на ноги тяжелый Димыч. – А вот и моя доля. Извиняйте, братцы, запамятовал…
Он все же нашел в себе силы залезть рукой за пазуху и извлек оттуда бутылку водки.
– Как же? Мы тоже с понятием…
– Зажать хотел, бродяга! – хлопнул приятеля по плечу Лаврушка. – А со мной беседы ведет, дискуссии. Вот жмот.
– Забыл тут с тобой… – оправдывался Димыч, теребя бороду, – запудрил мозги… Израиль, Палестина, Париж…
Вадим выхватил у Гардова бутылку.
– Живем, друзья! Подставляй тару!
Все пьяно засуетились, завозились в поисках стаканов.
– Очаровательно! – Мартынов, наткнувшись на рюмку со спиртом, недопитым Инкой, не дожидаясь остальных, опрокинул содержимое в себя, утерся рукой, снова задергал гитару, принялся за старое:
- Несовместимых мы всегда полны желаний.
- В одной руке вино, другая на Коране.
– Давай, Эдик, давай! – притиснулся к певцу Лаврушка. – Кто совместит наши желания? А этот, бородатый, мне Волошина, шут его знает, подсовывает. Кому он нужен? Мы – изгои в своем отечестве. Изгои! Подумать только!..
– Чего мелешь, балбес! – хлопнул Фридмана по спине кулачищем Димыч. – Что ты знаешь? Носа дальше дома не совал!
- Вот так вот и живем под небом голубым.
- Полубезбожники и полумусульмане[4].
Остановился, замер певец, поник головой.
– Хорошо! – затормошил Эдика Вадим и поцеловал его в ухо. – Пробирают твои строчки. Ты меня растрогал, Эдик. Востоком дышат. Ираном. Оттуда привез?
– Из-за морей, – закивал головой тот. – Персия, друг мой, Персия! А ты учись. Тебе пригодится. Зинка, она с восточными причудами. Какой пушок на губке, а?
– Опять ты за старое…
– Нет, старичок, не обижайся. Ты просто умница. Зинка – сумасшедшая баба. Она, если захочет, так закружит. А ведь хочешь уже? Хочешь? Что молчишь?
Вадим, не отвечая, отвернулся. Ему начинали надоедать грязные намеки и приставания.
– Не дождаться тебе Светки, – вдруг ни с того ни с сего ляпнул Мартынов и перестал бренчать на гитаре.
– Это почему? – уставился на него Вадим.
– Ты к Зинке, а Светка тоже не дура.
– Чего, чего?
– Я знаю, что говорю.
– Повтори, я что-то тебя не пойму.
– Все знают вокруг, один ты дураком ходишь.
– Чего?
– Помнишь того старичка?
– Ты о ком?
– Помнишь, помнишь. Не прикидывайся. Я же тебя тогда посылал ему морду бить. А ты расчувствовался… Ошибка вышла… Ты же не понял тогда ничего. Или дурочку корчил? Как сейчас!
– Серый тот?
– Вспомнил! Ну слава богу. Серый, говоришь? Никакой он не серый. Это мы с тобой серыми тогда были. А он, брат, зубаст. Он волк! Мы перед ним шавки! Я-то тогда вовремя скумекал. А ты, как был лопух, так до сих пор ушами и хлопаешь.
– Ну? Ты конкретнее, конкретнее давай.
– А что же тебе конкретнее? Светка лапшу-то тебе навешала. Мне что же стараться?
– Ты давай, давай… ну!
– Лопух! Вот он, старичок тот, и ездит, а тебе только понукать остается…
Мартынов не договорил, очутившись от сильного удара на полу. Он вывалился с дивана, задев, разворачивая стол. В сторону отлетела гитара. Вадим хоть и забросил бокс, но навыки остались, его боковой снизу в челюсть Эдику был неожиданным и поэтому вдвойне страшным. Он постоял над лежавшим, дожидаясь, пока тот придет в себя, хотел в душившей ярости ударить его ногой и замахнулся уже в запале, но тот вскочил на ноги, покачался, помаячил перед глазами и бросился на него. Мгновение – и они вцепились друг в друга пуще лютых врагов. Дрались молча, молотили друг друга два обезумевших, заждавшихся от внутренней, скрываемой от всех ненависти монстра.
Лаврушка в ужасе взгромоздился с ногами на диван, Димыч оказался где-то рядом, прижимаясь к спинке и вскрикивая.
Бой кипел с неистовой силой не на жизнь, а на смерть.
Эдик был выше и длиннорук, Вадим – кряжистый атлет. Где-то в середине побоища, изловчившись, поймал он противника в объятия, оторвал от пола и швырнул в угол кухни. Загремел, опрокидываясь, стол, полетела посуда, посыпались, разбиваясь, тарелки, стаканы, заблестели, заскрежетали под ногами осколки. Вадим бил Мартынова, сжавшегося в углу, беспощадно, не разбирая куда. Эдик уже и не сопротивлялся, закрывал руками голову, лицо, но, улучив момент, ударом ноги отбросил Вадима назад к дивану, тут же вскочил вслед за ним, махнул кулаком в голову жилистой левой. Вадим опрокинулся на Гардова, тут же Лаврушка затолкал, задвигал его в спину, инстинктивно отпихивая от себя, но потом спохватился, обнял, не выпуская, заорал, как на пожаре:
– Братцы! Да что вы творите? Димыч, подлец! Где ты? Помогай! Растаскивай их!
Гардов запыхтел, начал было выбираться из-под Вадима и Лаврушки, но ему не удавалось. Зато Вадиму наконец удалось расцепить объятия Фридмана, он сорвался с дивана, но тут же получил встречный жесткий удар в лицо от Мартынова и упал, распластался на полу. Из носа у него хлынула кровь. Залила рот, рубашку на груди. Вадим, не помня себя от ярости и боли, опять попытался вскочить на ноги, но, получив еще один удар, ткнулся лицом в пол. Сделав попытку подняться, он оперся на руки, встал на колени, обхватил голову обеими руками.
– Ну, хватит тебе, урод, – хмыкнул над ним Эдик, однако он недооценил противника, когда-то приведшего его на спортивный ринг.
Вадим, спружинив на коленях, подскочил и снизу в прыжке нанес страшной силы удар ему в подбородок. Эдик дернулся головой, отлетел к стене и затих. Вадим постоял, пошатался над ним и свалился рядом.
* * *
Здесь их и нашли оперативники. Один лежал на полу у стены в кровь избитый, без памяти. Другой распластался рядом в ногах в луже крови, натекшей из носа. Осколки посуды, мусор по всему полу, стол с задранными вверх четырьмя ножками… И разбитый глиняный горшок в куче земли, из которой выбивались васильки…
Старший опергруппы дал команду проверить, живы ли? Оказались живы, но мертвецки пьяны.
Чем оборачиваются легкомысленные проказы
От Варьки вреда никакого, но и пользы особой ни на грош. Мало, что с уборкой квартиры стала лениться, на нее порой находит черт-те что, и тогда без спроса забирается к нему в постель и остается на всю ночь.
А с ней ночь – не ночь, сон – не сон. Лаврушка вставал утром весь разбитый, белый свет не в радость, вроде и не ложился; прогуливал институт, а ей хоть бы что! Халат на голое тело, а то и без него, бессовестная шалашовка, и по квартире шастает, песни горланит под грохот пылесоса, только задница сверкает. Мало того, что всю ночь спать ему не давала, – чуть свет торчком и уборкой квартиры занимается. Отрабатывает за пропущенную неделю.
А это известно что – шум на всю квартиру да ее взбалмошный сумасбродный концерт, песенки нескладные. И ничего ей не скажи! Ты ей слово, она в ответ – два. Как встанет – сразу про сон забыть. Нарочно все устраивает. Вот и на этот раз.
Лаврушкина голова гудит, раскалывается после вчерашнего бодуна у Туманского, а ей наплевать. Вскочила едва засветились окошки и носится по комнатам. Лаврушка с боку на бок перевернулся, закашлялся, сообщая для глухих и невоспитанных о своем пробуждении – никакого эффекта; он в туалет, как был в трусах, сбегал, – может, одумается глупая дева и уберется восвояси, однако та, узрев, что он глаза продрал, опять к нему сунулась под одеяло. Голая, жадная, мягкими титьками притиснулась, обхватила сзади, он, не зная куда деться, уперся в стену головой, начал храп изображать, да уж опоздал, теперь куда там! Развернула она его к себе…
Вот так. Однажды маху дал, позарился, узнать захотелось, что с женщиной в постели делают. И узнал на свою шею. Похоже, Варвара от него надолго не отстанет. Теперь возвращения родителей «из-за бугра» придется ждать. И что-то придумывать…
Пристрастилась к нему эта кошелка! Он все ее старше себя считал. Учиться у нее тайным любовным утехам двадцатилетний балбес собрался! А какая она старая? Старая б была, тогда другое дело. Ему чуть за двадцать, а ей как раз на десять лет и больше было, когда они познакомились. Всего-то делов! Еще неизвестно, кто кого учил все это время в постели? Она ведь тоже про все это по книжкам знала. И замужем не была.
Лаврушка дух перевел, отдышался, высвободился из-под ее горячего тела, сдвинул осторожно с себя, отвалился на свою подушку, закрыл глаза, успокаиваясь; даст она ему сегодня поспать хоть под утро или не даст? Сдурела девка неугомонная!.. Ревновать его начала с некоторых пор… Ленивые мысли бродили в голове, оседали в сознании спросонья, разбегались, как круги на воде от брошенного камешка…
Родители виноваты… его предки. Покидая сына надолго, понимали, что без присмотра их недоросль Лаврушка, хотя и здоровенным вымахал детиной, а все ж без царя в голове – оставлять одного нельзя. Думали-гадали на кого взрослое дите поручить-оставить, мало ли что: и сготовить-покормить, и прибрать, проследить за квартирой, и позаботиться, если прихворнет. А более всего боялись, чтобы хулиганья не водил да девок не таскал в постель, парень-то вырос! Кровь с молоком! И красавец, кудряв…
Одним словом, в присмотре Лаврушка отговаривал родителей, упирался, уверял, что один справится. В гувернантке – не в гувернантке, как маман, Аглая Иосифовна многомудрая, над отцом подшучивала, таких уж нет нигде, а в женщине пожилой, хозяйственной и серьезной нужда имелась. Вот и присмотрели они ему с отцом на пару племянницу дальней родственницы Фридмана Павла Моисеевича, то есть папаши проворного.
Звали ее Варвара Исаевна. Девица она серьезная, женщина степенная, в начальных классах преподавала несколько лет, даже одно время была классной дамой; замужем, правда, не привелось быть, но на то причина веская – мать больная; Стефания Израэловна последние двадцать пять лет в особом уходе нуждалась, не вставала почти, а если Бог миловал, отпускали боли в позвоночнике, – в кресле время коротала. Баловалась старушка картишками, гадала.
В такой женщине как раз и имелась нужда у Лаврушкиных родичей. Вот ее и уговорили, не сразу, правда, общими усилиями с теткой, мать-то Варвары померла раньше болезной сестры. Сманили обещаниями заморских подарков из-за границы, кто ж на них не западет, не клюнет! А женщины в особенности! Ну и приплачивать стали, не без этого. А в деньгах Варвара с теткою нуждались…
Обязательства свои Варвара взялась исполнять ретиво. Она во всем скрупулезной была, за что бралась, все до ума доводила и с толком. Но когда с Лаврушкой спуталась, волю почуяла и задурила. Даже ревновать его начала. И было бы к кому? По пустякам. Понимала ведь, что ничего путного у нее с сосунком, маменькиным сынком этим, не получится, а женским сердцем жадничала. Вот и мстила ему по-своему редкими ночами, а в особенности такими вот утренними часами, когда тому, как сейчас, и без нее тошно бывало.
Только в передней звонок внезапно затрезвонил. Кто бы это мог быть? Они никого не ждали, и незваные гости исключались, поэтому и осталась у него Варька на ночь. Лаврушка дернулся испуганный, а она уже вспорхнула от него, заметалась по комнате, одеваясь.
– Кого бес принес? – захлопал вслед за ней босыми ногами по паркету и Фридман. – В такую рань!
Родителей ему только через месяц ждать. Приятели? Вчера лишь расстались. Соседи? Эти к нему, как отец с матерью уехали, не заглядывают.
– За тобой кто? – сунулся он к Варваре.
– Да кто же ко мне-то? – Варвара скрылась в ванной комнате.
– По чью же душу гость незваный, – пропел Фридман, морщась. – Из жэка, не иначе.
– Лавруш, я все-таки в ванной побуду, – закрылась на крючок Варвара и свет даже не включила.
– Сиди тихо. – Он нашел «домашки», захлопнул полы халата, пошел на кухню демонстративно, не торопясь, поставил чайник для кофе.
Все это время надрывался звонок.
– Повопи, повопи у меня, – приговаривал Лавр Павлович и величаво продефилировал к двери.
Гость был незнаком и внушал озабоченность. Уж больно серьезен, и при галстуке.
– Чем обязан? – спросил Фридман.
– Можно войти? – торкнулся вперед гость.
– Я не одет.
– Ничего. Я подожду. – Незнакомец уже втиснулся в квартиру.
– Ну что же, – потеснился Фридман, но не сдавался еще. – Милости, как говорится, просим, хотя, конечно, незваный да ранний гость, сами понимаете, хуже… Как это? Или я ошибся?
– Вы ошиблись.
– Из жэка?
– Не совсем.
– Тогда, может, с радостью? – схохмил Лаврушка от безысходности, совсем отступая от двери.
– Я по случаю. Здравствуйте, Лаврентий Павлович, – и незнакомец сунул ему под нос красную книжицу, на корочке он успел рассмотреть грозные щит и меч над надписью «удостоверение».
– Муракин. Владимир Иванович. Комитет государственной безопасности, – то ли шепнул втиснувшийся, то ли за него кто-то проговорил на ухо Лаврушке.
Тот растерялся.
– Вы не волнуйтесь. Я думаю, мы успеем пообщаться. Вы на кафедру не опоздаете, – продолжил гость. – Куда удобнее пройти?
– На кухню, – не забыв про Варьку в ванной, с трудом сообразил Лаврушка.
Гость, маленький, неказистый, лысый, глазасто огляделся, словно отыскивая нужные ему предметы. Даже носом повел, принюхиваясь. Задержался на сброшенном впопыхах Варькой халатике, выпирающем своей яркостью среди строгой темной полированной родительской мебели, на ее тапочках – дурочка, перепугавшись, босиком убежала, на пылесосе с проводом, так и торчащим в розетке. Крякнул, хмыкнул, утер нос кулачком и, не снимая черных поскрипывающих полуботинок, видно, новеньких еще, проскользнул на кухню, где совсем некстати на кофейном столике примостился Варькин носовой зелененький платочек. Он взял его осторожно, как обнаруженное невесть что значительное, и поднял двумя пальчиками к своему длинному птичьему носу с горбинкой.
– Уборщица забыла, – хотел выхватить платочек Лаврушка, но промахнулся, так как тот сдвинул в сторону свою руку и зашмыгал носом.
– Ва-ря, – по слогам прочитал-произнес гость вышитую «стебельком» надпись на платочке. – У вас, Лаврентий Павлович, уборщица, как у доктора Айболита, тоже Варвара. Ругачая или кусачая? А может, ласковая?
Фридман не знал, что отвечать, как гость неожиданно назвал его по имени и отчеству, именно Лаврентием Павловичем, у него что-то екнуло внутри и слегка начало подташнивать, хотя он изо всех сил старался не подавать вида.
– Кофе?
– Не откажусь, – уселся за стол ушастый, осматриваясь и не оставляя платочек. – Чуть свет, знаете ли, на ногах. А вы, значит, только встали? Поздненько встаете? А с другой стороны – куда же вам спешить?
Лаврушка копался в шкафу, подыскивая лысому чашку; родительскую посуду трогать было запрещено, чтобы не побить, а лишнего в доме не держали; на столике маячил Варькин бокальчик с цветочками, он схватил его с облегчением.
– Вам с сахаром?
– Я сладкий люблю, – хмыкнул гость и даже облизнулся. – Бросьте кусочков пять.
– А не вредно?
– Не вредно. Я молодой. Кости еще укрепляются, – снова хмыкнул «ушастый», не уставая бегать глазами по комнате, нашел книжицу стишков, тоже из Варькиных владений, начал листать.
«Вот дура, сколько всего сюда натаскала!» – злился про себя Лаврушка, разливая кофе, он и не замечал никогда присутствия ее вещей в квартире, а этот «ушастый» минуту пробыл и чего только не отыскал!
– Откуда это у вас? – вдруг зажав страницу, уставился «ушастый» на Лаврушку.
– Что? – не понял тот.
«Ушастый» прочитал без выражения:
– «Мы тайнобрачные цветы… Никто не знал, что мы любили, что аромат любовной пыли вдохнули вместе я и ты…» Откуда это?
– Я не знаю, – смутился Лаврушка. – Кто это?
– Это? – «Ушастый», не закрывая книжку, завертел ею, ища название. – Тэффи[5] какая-то? Интересно?
– Сроду не слышал, – откровенно признался Лаврушка. – Уборщицы книжка. Ее. Кого ж еще!
– Забавно, – покачал головой «ушастый», – занятная у вас прислуга.
– Ну какая же это прислуга? – смутился опять Лаврушка, казалось, гость только тем и занимался: то смущал его, то загонял в тупик. – Она и не прислуга. Прибираться наняли родичи, пока сами отсутствуют.
«Ушастый» долистал книжку, и, раскрыв там, где читал, продолжил, но теперь уже старался выдавать нотки в голосе:
- Там, в глубине подземной тьмы,
- Корнями мы сплелись случайно,
- И как свершилась наша тайна —
- Не знали мы!
- В снегах безгрешной высоты
- Застынем – близкие – чужие…
- Мы – непорочно голубые,
- Мы – тайнобрачные цветы!
– Кхе, кхе! – закашлялся чтец, закончив строчку, будто его пробрало или запершило в горле. – Какие прозрачные и трогательные! Вы не находите, Лаврентий Павлович?.. И что это? Я не разберу. В стихах я не дока, не дока. Непорочно голубые – это кто?
– Да кто же их знает! – не находил себе места Лаврушка. – Я тоже стихами не баловался никогда. Шут с ними.
– А надо бы, – укоризненно покачал головой чекист, и, казалось, уши его заколыхались, закачались отдельно от лысины. – Вы же интеллигент!
«Вот привязался! Что его принесло? В институте чтото случилось? – ломал голову Лаврушка. – Тут что-то не то. Приперся ведь, когда Варька у меня застряла. Неужели прознал кто? Но этим-то в органах зачем? Бабы их стали интересовать? Нет… Все-таки из-за родителей примчался с раннего утра, любопытный… С ними что-то случилось? Ну а если так, сейчас скажет сам. Не из-за Варьки же в конце концов!..»
Лаврушка повнимательнее вгляделся в гостя. Об этих органах ему уже приходилось слышать. От родичей. Те делились между собой с придыханием впечатлениями, когда возвращались с очередных «политбесед», проводимых с ними «там» перед каждой отправкой за кордон. От сына, естественно, они большинство своих впечатлений скрывали, но по лицам он видел – непростыми были те испытания и для отца, и для матери. А повзрослел и сам домыслил, но кое-что узнал от приятелей постарше, в особенности – от Мартынова. Эдик порасписал, порассказывал, как его «оформляли» в первое загранплавание…
«Что же все-таки стряслось с родителями?» – заволновался он уже всерьез.
– Вы Светлану-то вчерась так и не дождались? – продолжая теребить книжку и отпив кофе, между прочим, спросил «ушастый», изучая посудный шкаф – гордость Аглаи Иосифовны.
– Кого? – оторопел Лаврушка.
– Светлану так и не дождался вчера муж ее верный Вадим Сергеевич? – отчетливо и громко спросил «ушастый», и лицо его вдруг стало острым от выпирающих скул, торчащего носа и пронзительных глаз-стрелочек.
– Не могу сказать… не знаю, право, – залепетал Лаврушка, забыв про кофе.
– Ну как же? Вы там были. Интэллигэнтные беседы вели, – именно так и произнес посетитель.
– Как? Откуда вам?..
– Были там? – повысив голос до крика, подался к нему «ушастый».
– Был… конечно…
– Так как же? Она пришла?
– Не знаю.
– Вы ее видели?
– Да нет… понимаете…
– Где она?
– Мне неизвестно…
– Как же так!
– Простите, но я ушел с Гардовым.
– А что же случилось?
Лаврушка поднял глаза на «ушастого». «Нет! От этого ничего не утаить! Он допечет. А может, и знает все? Но что ему их пьяная драка? Чем они там все занимаются, эти органы? И почему к нему этот жук приперся?» – Мысли путались, прыгали, метались в его голове, пугали.
– Выпили немножко, – отвернулся от «ушастого» он, – ну и развезло. Спирт был. Если бы не спирт…
– Что же все-таки случилось? – наседал «ушастый».
– Подрались… – опустил голову Лаврушка.
– Кто?
И Фридман, путаясь и запинаясь, через пятое на десятое, понукаемый вопросами непрошеного гостя, изобразил все, что помнил.
– А они, значит, там и остались вдвоем? – когда он замолчал, переспросил «ушастый».
– Нет. Почему «вдвоем»? – Лаврушка поджал губы от возмущения. – В квартире еще наши были. Квартиру-то не бросишь открытой!..
– Кто?
– Забурунова с Поленовым.
– А эти где же? Посуду битую собирали?
– Вроде того… – промямлил, как нашаливший ребенок, Лаврушка.
– Ну вот что, Лаврентий Павлович, – помолчав, посерьезнел «ушастый». – Вы все равно узнаете, что я сейчас скажу. Думаете, наверное, почему я вам тут разные вопросики эти задаю?
Лаврушка поднял глаза на «ушастого».
– Светлана Туманская найдена мертвой в квартире своей матери.
Лаврушка вскочил на ноги.
– Сядьте! Она вскрыла вены этой ночью.
– Что вы говорите! Зачем?
– Вот и я хочу знать – зачем. – «Ушастый» тяжело вздохнул. – Затем к вам и пришел.
– А я причем?
– Вы! И остальные!
– Я ничего не знаю. Это у Вадима лучше спросить.
– Он в медвытрезвителе.
– Что?
– Кто из вас «скорую» вызвал? Шутники!..
– Это Димыч… Но они оба до крови морды себе посшибали. А Инке не до них.
– Шутники! Ваши шуточки пьяные друзья ваши еще долго помнить будут. Врачи со «скорой» после вас милицию вызвали.
– Вот дурак-то! – схватился за голову Лаврушка. – Это Димыч все! Он за Вадима переживал. Тот упал, словно мертвый. А Мартын совсем в отключке лежал. Кто же знал?
– Вам еще представится возможность и покаяться, и рассказать, как все случилось, а теперь послушайте внимательно меня.
Лаврушка навострил уши.
– С вами Вадим Сергеевич не делился проблемами взаимоотношений с женой? Только теперь без дураков, пожалуйста. Я вам представился. Сами понимаете – откуда я.
– Понимаю, конечно.
– Так как же?
– Ничего не говорил. Чужая семья, знаете ли…
– Но вы же дружили! Общались, так сказать.
– Встречались… учились вместе… но сколько лет прошло!..
– У них, вроде, последнее время были разногласия?.. Светлана Михайловна и ночевать оставалась иногда у матери?.. А на этот раз?
– Я не знаю. Может Инка что знает. Они дружили, теснее держались после института.
– А дневников она не вела? Записки там какие? Для себя.
– Что?
– У нее не было друга?.. Ну… Кроме мужа… Вы понимаете…
– Мне ничего не известно. Такие вещи… Деликатные, знаете ли… Я близок не был. Если кто об этом знает, так это Инка. Больше некому.
– Ну хорошо. Спасибо. – «Ушастый» поднялся. – Вам пора уже собираться в институт.
– Да, я уже опаздываю, – спохватился Лаврушка, вскочив со стула.
– Мы еще встретимся с вами в спокойной обстановке.
– Пожалуйста, – развел руки в тоскливой улыбке Лаврушка. – Но мне ничего не известно… Я бы рад…
– Встретимся. Я вас найду. А теперь прошу запомнить, – «ушастый» заглянул ему в глаза. – О нашей встрече и этом разговоре никто не должен знать. Вы понимаете? Никто! И милиция тоже.
– Ну как же! Конечно, конечно. Я всегда. Я к вашим услугам, – затараторил Лаврушка, закрывая дверь за гостем.
* * *
Прошло некоторое время. Давно убежала Варька по своим делам, он начал собираться, а мысли, одна тяжелее другой, не покидали сознания. Неприятное ощущение исходило от человека, посетившего его; чувства нахлынули одно мрачнее другого. Мало того, что гость нежданный принес Лаврушке страшную весть о происшедшем в семье Туманских, о трагедии со Светкой, так и витавшей в представлениях Лаврушки бестелесным небесным созданием; весть, обрушившаяся на него и придавившая его будто тяжелой плитой, породила в его сознании жуткий страх. От этого страха он больше ни о чем и думать не мог, не знал, куда себя деть. На Лаврушку навалились невиданная раньше безысходность, гремучая тоска и боль и вместе с ними тревожное предчувствие, что он становится участником надвигающегося тяжкого кошмара, участником еще более таинственной и страшной трагедии.
Грустное продолжение старого
Мать позвала ее к телефону и, как-то странно неловко сунув трубку, будто та жгла ей руки, заспешила на кухню, где с утра колдовала над «наполеоном». Майя приводила глаза в порядок у зеркала над умывальником, растерялась, но все же успела спросить:
– Кто?
– Тебя.
– Кто же, мама?
– Володя, Володя! Ну кто же еще?
– Мама! Я же просила!
У нее с запозданием мелькнула догадка, что это не случайно, что мать, жалея ее, слукавила, скорее всего, заранее договорилась с ним о звонке; сама Майя уже несколько дней не подходила к телефону, объявив, что ее ни для кого нет.
– Это надолго у вас? – грустно покачав головой, спросила тогда Анна Константиновна, услышав необычный ультиматум дочери.
– Навсегда! – в сердцах сорвалась она.
– Серьезные, вроде, люди, а ведете себя, словно дети малые!
Мать знала, дочь в отца, слово свое держала, упрется – ничем не пробить. И вот они ее перехитрили. Трубка действительно жгла руки, Майя не знала, куда ее деть, что с ней делать. Но, в конце концов, не бросать же!
– Не соскучилась, учительница? – как будто ничего не произошло, спросил он, явно изображая грусть, но переигрывал.
– Нет, – тоже не здороваясь, ответила она, сдерживая волнение.
– Нервная обстановка?
– Угу.
– Очень занята?
– У нас экзамены.
– Обычное дело.
– А мне все заново.
– Я пригласить тебя хотел.
– Вряд ли получится.
– К нам. В школу.
– Что такое?
– Послушать мою первую лекцию.
– Первую?
– Новый курс открыли. Криминология. Выпало счастье. Начальство доверило мне.
– Поздравляю.
– Придешь?
– Я не разбираюсь в уголовном праве…
– Как лектор. Послушаешь. Замечания сделаешь. По риторике… аргументации… Первая самостоятельная!
– Не знаю, что сказать…
– Приходи. Я и транспорт найду!
Это уже звучало как миру – мир, войне – конфетка.
Он действительно прислал за ней черную «Волгу». Когда она спустилась, ничего не подозревая, с третьего этажа, у подъезда оседала пыль от колес сверкающего автомобиля. И дверь заднюю распахнул выскочивший из-за руля строгий шофер в форме. Сам Свердлин встретил ее у ворот школы.
– Как доехала, малыш?
– Володь, ты с ума сошел! – все еще приходила в себя Майя. – Чья машина?
– Пустяки, – махнул он небрежно рукой. – Начальник наш, полковник, одолжил.
– Что! Да как ты мог! Я же тебя просила!
– А что? Ты дочь генерала. Он тоже почти генерал.
– Я со стыда сгорю.
– Успокойся. Бежим, – перебивая, Свердлин взял ее за локоть и увлек за собой. – А то лектор на свою первую лекцию опоздает. Собрались уже все. Ни минуты лишней.
Он усадил ее к курсантам, но на последний ряд, где заранее стоял отдельный стул с кожаным сиденьем. Над ней со стены в портрете внимательно оглядывал аудиторию в фуражке набекрень Железный Феликс. Лекция началась, но курсанты исподтишка, то один, то другой, оборачивались на нее, оценивая, щурясь. Она плохо слушала, отвлекалась. Все начало почти пропустила, курсанты не унимались. Владимир говорил громко. Иногда слишком. И размахивал руками. Это и помогло ей быстрее прийти в себя. Но все равно многое она не поняла. Запомнились примеры, которые вставлял лектор в материал, об убийствах, о разбоях, другие криминальные жуткие ситуации, одна другой страшней.
«И где он их выкопал? – удивлялась она, казалось, много книжного. – Неужели и в жизни такое? Надо спросить отца».
И еще впечатляло одно слово, часто употребляемое Владимиром; делал он это с особым выражением. Весь преображался, глазами сверкал, ей вспомнился Черкасов в фильме о Дон Кихоте, сражающийся с мельницами. Похоже метался и буянил.
– И всполохи! Что было! – Владимир кричал от чистого сердца, будто неведомые стихийные чудеса природы возникали перед ним каждый раз, когда он произносил это загадочное экзотическое слово. – Всполохи в общественном сознании! Как волновался народ! Потрясение! Сплошная жуть!
Это впечатляло, действовало на аудиторию, курсанты даже прижимали головы к столам, будто прятались от звуков его голоса, как от смертоносных снарядов.
– Как? – Когда аудитория опустела, он подошел к ней.
– Хорошо, – обмахивалась она, в помещении все же было душно. – Пойдем на воздух.
– Погоди. Ты все же ответь. Как впечатление?
– Это что за всполохи у тебя везде? Кто полыхает?
– Не кто, а что. Сознание полыхает, психология этих жуликов. Красивое выражение, да? – он оживился, лицо так и горело. – Мне встретилось в энциклопедии. Ты знаешь, я ничего теперь не читаю. Не засоряю голову. Только спецпредметы, которые веду, и энциклопедии. А это?.. Я подумал, не помешает. Украшает фразу. Правда, смыслового значения мало, поэтому иногда проигрывает, но красота спасает все?
– Я бы подумала. Может, ради содержания пожертвовать все же формой?
– Идеализм.
– Причем здесь…
– Мне нравится. Красиво.
– К месту ли?
– Я тебя начальнику хотел представить, – не ответил он ей. – Десяткин еще не успел никуда укатить. Здесь должен быть.
– Что ты! – Майя замахала руками. – Зачем? Я не официальное лицо. К чему все это?
– Да, да, да! Быть здесь и не посетить его!..
– Так не договаривались!
Но было поздно. Полковник, сопровождаемый двумя офицерами, уже входил в аудиторию и направлялся к ней. Майя покраснела, вцепилась в сумочку, застыла.
– Спасибо, Майя Николаевна! – принялся пожимать ей руки полковник. – Снизошли. Нашли время. Спасибо. Владимир Кузьмич меня заверил, а я, признаться, все же ни слухом ни духом. И не думал, что найдется у вас минутка для нас.
Он говорил, не переставая, словно торопился, чтобы не перебил кто; откуда-то появились цветы, белые и желтые, душистые; он, сделав значительное лицо, преподнес их, задержав ее руки в своих.
– Спасибо. Чайку ко мне? – заглянул полковник ей в глаза. – Владимир Кузьмич, приглашай гостью.
Свердлин повел ее по коридору под локоть, полковник шел рядом, поддерживая под другую руку, курсанты растекались по стенкам и исчезали.
– Вот! Индийский! Вам конфет? – полковник обвел рукой угощения на столе, заполнившем почти все пространство комнаты, где они оказались.
– Я, признаться…
– Ну что ты, – подтолкнул будто невзначай Свердлин, – присаживайся.
Он, усадив, повернулся к начальнику:
– Иван Клементьевич, разрешите тост?
– Тост? У нас вроде… – повел полковник руками и глазами по чашкам с чаем, но Свердлин уже разливал коньяк в маленькие хрустальные рюмки, а за его спину смущенно прятался усатый капитан.
– Николай Семенович! Ты здесь? – кивнул полковник капитану, того действительно и не видно было с ними, а тут, в комнате этой, и нашелся.
– Начальник курса, – представил полковник Майе капитана. – Наставник, так сказать, нашего Владимира Кузьмича. Разворачиваемся мы, Майя Николаевна, укрепляем плацдармы. Вот новый курс, новые дисциплины и новые, так сказать, педагоги у нас появляются. Большому кораблю, как говорится, у нас зеленый свет.
– Скажите, Иван Клементьевич, – подал рюмку Майе Свердлин, сам он так и не присел, стоял подле нее у стула, как адъютант, рука согнута в локте на уровне плеча, в пальцах рюмка.
– Надо сказать. А как же. По такому случаю. Не часто нас посещают такие гости, – полковник поднялся. – Подымем, товарищи офицеры, за нее. За нашу школу. Чтоб процветала милицейская наука и наша, так сказать, альма-матер.
– Товарищи офицеры! – крикнул Свердлин так, что и Майя невольно привстала.
Все выпили. Сели. У Майи сразу почему-то закружилась голова, она оперлась на руку Владимира, слегка склонилась к нему. Полковник протянул ей развернутую конфетку.
– Как Николай Петрович? – спросил он ее на ушко.
– Ничего, – ответила она.
– Я слежу. Он недавно по телевизору выступал. О проблемах. Блестящее выступление.
– Когда? – Свердлин элегантно подлил в рюмку начальнику. – Неужели я пропустил?
– Выступал, – подтвердил, закусывая, капитан. – Содержательно. Моя Клавдия Захаровна даже хотела записать на магнитофон.
– А давайте пригласим Николая Петровича к нам, Иван Клементьевич, – Свердлин взглянул на полковника, поднял свою рюмку. – Разрешите?
– Скажи, именинник, сам бог велел.
– Товарищи! – поднялся над столом тот, степенно огляделся, легонько коснулся плечика Майи, подмигнул усатому капитану. – Мне хотелось от всей души поблагодарить вас всех. В моем становлении как педагога я вам всем очень обязан и признателен…
Он умел говорить красиво, у него получалось, капитан раскрыл рот, полковник несколько раз кивал головой и довольно посмеивался, Майя заслушалась.
Позже, когда Свердлин на той же «Волге» довез ее до дома и они, не сговариваясь, завернули прогуляться в скверик, наслаждаясь свежим весенним воздухом остывающего дня, Майя, не удержавшись, все же сказала:
– Володя. Так нельзя. Я бы не хотела, чтобы все так. Ну зачем?
– О чем ты? – будто не расслышав, нагнулся он к ней. – Разве плохо получилось?
– Ну как же ты не понимаешь!
– Ты права. Согласен. Присутствовал определенный экспромт. Но с этой публикой иначе нельзя. Их следует брать за рога, как быка. И он засмеялся, довольный пойманной на лету фразой, повторил с удовольствием: – За рога, как быка!
– Ты меня совсем не хочешь понять!
– Нет. Это ты вокруг ничего не видишь. У тебя на носу, прости меня, розовые очки. Еще с детства. А вроде дочь прокурора.
– Ты так считаешь?
– Чего уж там. Я извиняюсь, этот долбак, полковник наш, какой он офицер? Аж три звездочки нацепил! На самом деле он тупица! Причем сущий дебил. Бывший инструктор обкома! Как сюда попал? Одному богу известно. Ладно, время пришло, там толку от него никакого, вот в ментовку и выдвинули. Учить! Готовить милицейские кадры! Попомни мои слова, дорогая! От таких учителей мы скоро кашлять кровью будем. Устроят нам варфоломеевскую ночь их воспитаннички!
– Как ты можешь такое говорить!
– Могу. Мне не надо много таращиться, чтобы все это увидеть. Ты знаешь, как и чему здесь учат?
– Не бравируй. Все у тебя не так! И в райотделе все не по тебе было.
– Там как раз и проявляются плоды воспитания таких школ.
– Ты ошибаешься. Там люди из институтов.
– Хрен редьки не слаще.
– Что же ты сюда-то прибежал?
– Ну знаешь!
– Я слушаю. Только спокойно. Без эмоций. Чего ты размахался опять руками. Не с курсантами.
– А-а-а, – махнул Свердлин рукой. – Что тебе говорить! Мы в разных весовых категориях.
– Это что же? Опять? Как у твоего любимого Джека Лондона? Ты, конечно, опять за Мартина Идена у нас. Весь от станка, от земли. В мозолях. А я – барышня-буржуйка с интеллигентскими вывертами?
– Похоже. Но это твоя старая пластинка.
– Старая не старая, а объясняет. Только ты всегда забываешь про финал.
– Чего?
– Помни о финале. Там герой геройствовал – буйствовал да свел с жизнью счеты. Не нашел ничего лучшего. И ты сам себе тупик ищешь? Володя, задумайся, что с тобой происходит все это последнее время. Ты очень изменился.
– Я? Тебе кажется. Я всегда таким был. У меня все получалось. И теперь получится. Ты скажи мне, кто вокруг нас? Оглядись! Эти микроорганизмы! Полковник этот! Он же чего за меня уцепился? Ему показалось, что я ему кандидатскую смогу накатать. Я накатаю. Мне, как два пальца!.. Но ему-то она зачем?
– Откажись!
– Чего?
– Не пиши.
– Простите покорно, – раздраженно хмыкнул он. – А куда же деться? Ты – дочь прокурора области! Личность другого масштаба! А мне кем предстать? С этими мелкоклеточными мне не справиться. Полковник – гнида отпетая! А все за свое – пригласи да пригласи. Месяц за мной бегал. Интересовался здоровьем твоего отца. И ты ему зачем-то понадобилась. Не просил ничего за столом-то?
– Иван Клементьевич? – растерялась она.
– Рыба эта, – сплюнул он.
– Нет, кажется.
– Гляди, а то и не заметишь.
– Вот! А тебе зачем меня везде таскать?
– Как?
– Я что? Картина Васнецова?
– Майя! Маечка… ну…
– Витязь на распутье? А я – плита, на которой все записано: что можно, что нужно и чем дело кончится. Удобную ты занял позицию.
– Ну зачем ты так!
– Опять? Опять все повторяется? Сколько раз я закрывала глаза! Прощала! Я же тебя предупреждала?
Она отвернулась, насупилась. В сквере почти никого. Засиделись они на импровизированном банкете по случаю становления нового педагога. А педагог-то мало в чем изменился. Действительно, все повторялось, только качеством еще неказистее. И сетования на все и всех вокруг, но только не на себя и завышенное представление о себе: весь мир – бардак, все люди – гады… Майе вспомнилось все, что случилось с ними после ее возвращения из-за границы.
Свердлин, хотя и не провожал ее, но встречать в аэропорт примчался. Весь взъерошенный, словно опомнился, говорливый. После уже, в институте, заботливая приятельница, Неля, преподаватель французского, доверительно поведала, что тот времени не терял, спутался с брюнеткой длинноногой, студенткой иняза, выпускницей курса, та на роль Марьи Антоновны в студенческом спектакле пробовалась, так с ней и «репетировал» в ее отсутствие. Она пропустила мимо ушей, приятельница отличалась злословием, все про всех знала, во всем институте всегда на передовых позициях, а спектакль запомнился, но больше банкетом, который приурочили к празднованию Нового года. Было много приглашенных, Владимир не забыл бывших сослуживцев из райотдела. Те оказались веселыми людьми, хотя и из милиции, запомнился муж Пановой, танцевал здорово, сама Екатерина Михайловна производила впечатление, а Владимир преуспел в тостах и анекдотах. Но как говорится, кто много позволяет, – дойдет до глупости, он тамадил-тамадил и увлекся. Опять задел больную тему, как он ее называл: «взаимоотношение классов в бесклассовом обществе», она его одернула раз, два, он забывался, у нее кончилось терпение. Чего хаять советскую власть? Здесь живешь! И потом – ничего нового!.. Он снова затянул анекдот про Брежнева. Боже мой! Сколько можно?..
– Я пойду, – поднялась она.
– Не нравится?
– Надоело.
– А чего тебя-то задевает?
– Глупость.
– А может зависть?
– Было бы к кому.
Он был пьян.
– Я же не касаюсь твоего отца.
Это было слишком. Она заспешила к выходу. Никто не обратил внимания. Его кто-то пригласил танцевать. Так они снова расстались, хотя по-настоящему и не ссорились. Не встречались с месяц. Мать спрашивала, волновалась, металась между ними, видно, звонила ему. Потом ей надо было лететь в Москву, тогда он и прикатил первый раз на этой самой черной «Волге». Она узнала, что это машина начальника, Владимир похвастался небрежно, что наладил с ним отношения. А тут еще пожаловала московская киногруппа снимать фильм с участием самого Куравлева, рабочее название картины было загадочное: «Ты – мне, я – тебе», про браконьеров, Максинов поручил их Десяткину, а Иван Клементьевич закрепил за артистами его, есть возможность познакомиться со знаменитостью. Майя, усмехнувшись, пожелала ему удачи.
И вот этот звонок…
В сквере посвежело. Он попытался ее обнять. Она подняла глаза на окна. Свет горел, мать, конечно, не ложилась, ждала ее.
– С артистами распрощался? – спросила она, чтобы заполнить затянувшуюся паузу.
– Укатили.
– А театр?
– Причем здесь театр? Что ты имеешь в виду?
– Быстро ты забыл Гоголя, – задумчиво сказала она, про длинноногую так и подмывало спросить, впрочем, это опять скандал, надоело уже.
– Тебя после заграницы не узнать, – робко пощекотал он у нее под ушком, как когда-то прежде.
– Заметил, наконец.
– А меня тоже радуют эти туземцы, – спохватился он. – Ты знаешь, у них денег, будто они их рисуют.
– А тебе какой интерес?
– Сидели как-то в ресторанчике, и они подсели. Я сначала не узнал. Все, как с пальмы, – на одно лицо. И они таращили на меня глазища. Двое из спектакля того оказались. Пробовали мы их. У одного имя даже, как у нашего. Джамбул. Представь! Я познакомился второй раз. Занятный малый. Вытащил кучу баксов.
– Не может быть, чтобы Джамбулом звали, – грустя о своем, возразила она. – Они арабы, а то таджикское или туркменское имя.
– Вот! Мусульмане же!
– Ты ошибаешься, – она еще витала где-то, но заинтересовалась его последними словами. – А что ты в ресторане делал? У тебя курсанты! Педагог советской школы милиции!
Он не смутился, даже поленился отпираться и обронил небрежно:
– В минуты горьких размышлений и гениальный Блок заглядывал в «Бродячую собаку»[6].
– Куда, куда? – рассмеялась она.
Он закрыл ей рот поцелуем.
– Сам не знаешь, что говоришь, – высвободившись, она легонько щелкнула его пальчиком по носу. – Дурачок.
Они, кажется, снова помирились.
Там, где еще и не там, но уже и не тут
Он старался здесь не бывать. И уж когда никуда не деться, когда припекало, заглядывал к Наталье в приемную, хватал необходимое, потом к начальству поздороваться и назад. Все стесняло здесь, все давило и напрягало, веяло каким-то потусторонним холодом, хотелось на солнце, на воздух. Вот и теперь.
В просторном помещении с низким потолком, в дальнем углу близ окна стояли два длинных прямоугольных тяжелых стола. Возле них в каком-то мерцающем сером свете маячили две фигуры. Одна – мужская и кряжистая, пригнувшись, копошилась над столом. Вторая, похоже женская, полнилась, расползалась на стуле юбкой, вроде как отдыхала.
На обоих столах темнели, отливаясь синевой, трупы. И запах витал характерный, который Шаламов не терпел и, не признаваясь сам себе, боялся.
Труп, над которым колдовал мужчина в несвежей шапочке и коротковатом не по росту халате, был располосован по грудной клетке, второй еще не тронут.
Женщина, развернув на коленях сверточек с бутербродами, лениво ела. До этого она записывала, что ей монотонно диктовал мужчина, но когда гулко бухнула дверь за Шаламовым, отложила бумаги в сторону. Верткий сухой мужчина тыльной стороной руки в резиновой перчатке сдвинул совсем на макушку шапочку, отвел взор от стола и долго внимательно вглядывался в приближающегося Шаламова, подняв в ожидании вопроса лохматые брови. Был это известный авторитет среди судебных медиков, эксперт Варлаамов.
– Чем обязан опять, милейший Владимир Михайлович? – рассмотрев, наконец, спросил он.
– Я извиняюсь, Сила Петрович, но…
– Владимир Михайлович, дорогой, ты меня, ей-богу, до печенок… Если снова по тому же вопросу, что по телефону намедни?..
– Силантий Петрович, я с дополнительными, с дополнительными…
– Слушаю, – смирился тот и кивнул женщине. – Мария Степановна, у вас, голубушка, есть пять-десять минут от меня отдохнуть. А я бы закурил.
Женщина также лениво, как ела, отложила в сторону сверточек с бутербродами, тяжело поднялась, помогла патологоанатому освободиться от перчаток, развернулась и степенно затопала к дверям.
– Я тоже закурю, – спохватился Шаламов и полез за сигаретами. – Будете мои? «Шипка». Болгарские.
– Слабы-с. Я уж лучше наш «беломорчик», – эксперт достал папироску, распахнул окно, задымил с наслаждением.
– А чего задыхались-то? – рванулся тоже к окну Шаламов. – Душновато у вас тут. И эти еще…
Он, не глядя, отмахнулся на трупы.
– Целых два! Накопили! Ночные, что ли?
– Жарко, – согласился патологоанатом, утер пот со лба, потом вспомнил, пошел смывать руки под струей воды умывальника; вытирая пальцы, закончил: – А окна нельзя открывать. Когда работаешь особенно, чтоб все закупорено было.
– Это почему?
– Техника безопасности.
– Чего?
– Вдруг зараза какая!
– Да ладно вам, Сила Петрович, – недовольно поежился Шаламов. – Хватит пугать-то. И без этого у меня сегодня с утра не заладилось.
– Что такое? Что прибежал-то? – Варлаамов слегка прикрыл окошко.
– Прибежишь, – Шаламов поморщился. – Тут и прилетел бы! Обстоятельства. Да вы уже слышали небось? Мамаша-то, видно, к вам звонила?
– Было дело, – кивнул тот, но без видимых тревог. – Марковна тут обозначилась. Но Константиныч, сам понимаешь, ее успокоил.
– Чем? – насторожился Шаламов.
– Поручился, что на контроль возьмет.
– Насчет скорости?
– Насчет качества, – усмехнулся патологоанатом. – Ты бы забежал к нему сам. И поговорил.
– Занят он пока, а Глотова, значит, нет?
– Сменился. Ему вчера досталось. Навозил, – он качнул головой в сторону столов. – Я вот, помогаю.
– А как же?..
– С вопросиками?
– Ну да.
– Давай посмотрю. – Варлаамов, не спеша, принял лист у криминалиста, пробежал его глазами, отвел руку с папироской в сторону, перевел глаза на Шаламова и брови свои лохматые снова картинно поднял.
– Что, Сила Петрович?
– Ты куда же пожаловал, земной червь? – после театральной паузы покачал эксперт головой.
Шаламов только комок в горле проглотил и моргнул глазами.
– Ты не к Господу Богу явился?
– Петрович… Я умоляю… Без этих ваших, пожалуйста…
– А тебе фамилию убийцы не написать сразу? Ты же тут Глотову, бедняге, столько вопросов накатал!
– Ну… поломал голову… Сказал же, ночь не спал.
– Не слышал…
– Как в этом?.. В кино! Смотрели? – Шаламов почесал затылок. – Приснилась эта! Вчера из ванны с Глотовым вытащили. Так в ванне и летала. Вот, вспомнил! «Вий» кино называлось. По Гоголю.
– Курить бы бросить надо, – помолчав, пожалел Варлаамов криминалиста. – И это дело. – Он прикоснулся к шее под подбородком и слегка пальцами пощекотал. – Хотя это спорный аргумент. Наши до сих пор единого мнения не имеют.
– Мне не до шуток, Петрович, – нахмурил брови Шаламов. – Ночь толком не спал. Спозаранку сюда помчался, вопросы вот дополнительные набросал. На службе еще не появлялся. Верите?
– А что ж? Бывает, – посочувствовал тот. – А с вопросами? Ну что ж… Раз Константиныч сам возьмется, как обещал мамаше, то, полагаю, ответы получишь. А вот эти!..
Он со значением ткнул пальцем в лист.
– Этих здесь немножко. Но не мне судить. С ними к разлюбезной нашей Маргарите Львовне. Она как раз химик. По ее части. Чем закусывала грешница покойная, что принимала на грудь, прежде чем на тот свет отправляться… К Львовне. У нее интересуйся.
– К Маргарите?
– К ней, разлюбезный Владимир Михайлович. У нас, как положено, химик застольем и отравами заведует.
Варлаамов докурил папироску, аккуратно притушил.
– Ты заходи, Владимир Михайлович, – сказал он уже в спину криминалисту. – Не забывай. И если увидишь, кликни там мне Марию Степановну. Управилась, наверное, с завтраком-то, бедняжка.
– Да уж. Не приведи бог к вам без надобности, – не на шутку проникся криминалист суеверием и буркнул, не оборачиваясь, сердито: – У вас, как в той загадке: хотя еще и не там, но уже и не тут.
* * *
До работы многострадальному Шаламову предстояло еще добираться от морга на перекладных. Сначала троллейбусом.
Он поспешил на остановку, втиснулся в толпу, по приобретенной привычке штопором ввинтился, пробрался поближе к дверям подоспевшего рогатого транспорта. И вроде занят насущными тривиальными проблемами – влезть в троллейбус, купить билет (проездной менять забрали в кадрах и запаздывали с возвращением), протиснуться к окошку, а мысли витали вокруг одного и того же. Его сознание не покидала тяжкая тревога, охватившая еще вчера в квартире Туманских, у края ванны, откуда глядела на него голова несчастной. Он не только почуял себя невольным соучастником неведомых пока, но надвигающихся с необратимой силой таинственных событий, но предчувствие ужасной беды уже страшило его.
Важная персона
Любитель традиций, Игорушкин не терпел их нарушений. Малейшие отступления вызывали у него нервозность и выводили из себя порой надолго. В особенности такими бывали ночные звонки, внезапные визиты незнакомых и уж, конечно, любая суматоха.
Но тут, как назло, все соединившись, навалилось одним разом.
Уже не ночь, но еще и не утро, а затрезвонил с кухни телефон. Сын, Петруха, давно не объявлялся. Анна Константиновна, как была в ночной сорочке, заторопилась с постели, босой зашлепала по паркету, восклицая тихонько на ходу:
– Коленька! Небось внучок. Кому ж еще в такую пору? С петухами, истинное дело, с петухами!.. Вот несмышленыш!
Но оказалось не он; на проводе был Алексей Моисеевич Личого. Анна Константиновна хорошо знала заведующего областным отделом здравоохранения. С аппаратом в руках и трубкой она так и подошла к кровати. Игорушкин уже и сам поднялся, сидел, нахохлившись, хмурился на нее, будто она во всем виновата.
– Кто?
– Алеша. Алексей Моисеевич. Беда, видно. Не станет зазря.
Игорушкин принял аппарат на колени и трубку к уху. Заведующий отделом охал, причитал, не здороваясь. Разобрать, понять что-либо было сложно. Игорушкин отстранил трубку от уха, крик слышался теперь издалека, повременил, потом сказал в нее:
– Ты не на пожаре, Алексей Моисеевич. Остынь.
В трубке поутихло.
– Вены вскрыла дочка ее?
На другом конце провода зашумел, завозмущался, заверещал голос.
– Что надо-то? Говори внятно… Принять?
Голос в трубке смирился.
– Приму… Разберемся… Когда? Да сегодня же. С утра.
– Вот горе-то, – вздохнула рядом Анна Константиновна.
– И звонят! И звонят домой! – хлопнул рукой по подушке Игорушкин. – Не могут дождаться!
– Беда ж, Коленька! – приняла от мужа аппарат Анна Константиновна. – К нам только с этим народ и спешит… Куда ж еще?
* * *
Она ждала его в приемной. Уже вся в черном. Высокая, стройная, властная – по лицу заметно. Напряглась, как струна. Представилась:
– Калеандрова, Софья Марковна.
– Проходите.
Она, вся подобравшись, прошла в кабинет, присела не горбясь за столом, глядела прямо на него, не опуская темных глаз в набрякших красных веках. Держалась, только руки заметно подрагивали. Спохватившись, убрала их со стола.
– Алексей Моисеевич вам звонил?
– Я слушаю.
Она смотрела, видно было, спокойствие давалось ей с большим трудом.
– Я не знаю с чего начать…
– С начала.
Она внезапно разрыдалась, слезы хлынули из глаз, но она успела прикрыть лицо платком, сжалась на стуле, согнулась вся, содрогаясь, всхлипывала громко и отчаянно. Он, давно такого не наблюдавший, застигнутый врасплох, вскочил, поспешил к двери.
– Надежда! Надежда! Воды!
Вбежала секретарша, бросилась успокаивать, лезла со стаканом. Во внезапно наступившей вдруг тишине он внятно различил мелкий частый стук по стеклу. Это стучали ее зубы по стакану. Потом секретарша ушла. Он ходил по кабинету. Она заговорила.
– Светочка не могла с собой так поступить…
– Вы успокойтесь.
– С ней это сделали…
– Вы успокойтесь. Потом расскажете. Выпейте еще.
– Ее убили! – закричала снова она, вскочив на ноги. – Вы понимаете это? Убили ее!
– Кто?
– Они!
– Кто они?
– Возбудите дело! Вы узнаете! Надо только хорошего следователя!
– Кто они?
– Можно из Москвы? Я обращусь к Брежневу!
– Все можно.
– Я напишу.
– Присядьте, Софья Марковна. – Игорушкин вернулся за стол, взял в руки карандаш, слегка постучал им по столу, успокаивая себя. – Кто они? Вы можете назвать убийц?
– Я?.. На это есть следователь! Так, кажется…
– Значит, вам ничего не известно?
– Как же! Что вы говорите? Ее убили! Это очевидно!
Она, торопясь, проглатывала окончания слов, пугаясь, что ее перебьют, остановят, начала рассказывать. Как они виделись с дочерью, как той жилось, как ночевать оставалась из-за болезни, муж дочери, Вадим, понимал, относился к этому без скандала, хотя нервничал.
– Ее убили! – вскрикнула она, завершив сбивчивый рассказ. – В доме кавардак! Убийцы что-то искали!
Игорушкин сжал зубы, поежился, стараясь не вспылить.
– Будет правильнее, если вы, Софья Марковна, мне бы рассказали все, что вам известно о смерти дочери, – как можно спокойнее, выговаривая четко каждое слово, сказал он.
– О смерти я… – она заговорила и снова смешалась, сбилась; чувства, слезы не давали ей сосредоточиться.
– Вам бы повременить с визитом? Пережить все это, – начал тихо, но твердо Игорушкин. – Осмыслить. А через несколько дней приходите. Я вас приму.
– Она у меня в глазах… Как живая, – женщина опять заплакала, но тихо, как-то про себя. – Я все забуду… Я боюсь…
– Чего же?
– Знаете?.. Она у меня одна… А теперь…
Женщина зарыдала снова, затряслась в истерике.
– Надежда! – позвал Игорушкин. – Валерьянки, что ли?
Нашлось лекарство. В кабинете тревожно, тоскливо запахло. Секретарша бросилась к окну.
– Открыть, Николай Петрович?
Игорушкин кивнул и, подумав, добавил:
– Среди наших есть кто из врачей?
– Есть. Тамара Николаевна.
– Смирнова?
– Да.
– Пригласи. А то как бы чего ни случилось.
– Не надо, – вдруг поднялась женщина. – Не надо. Мне хорошо.
– Присаживайтесь. Присядьте. Так лучше? – секретарша засуетилась вокруг посетительницы.
– Спасибо, – женщина повернулась к Игорушкину. – Вы правы. Мне предстоит еще многое сделать сегодня… И надо все обдумать… Я потом приду. У меня только одна просьба.
– Пожалуйста.
– Вызовите следователя из Москвы.
– У вас есть основания не доверять моим работникам? – Игорушкин насторожился.
– Нет. Простите великодушно.
– Тогда почему?
– Я все расскажу… Только потом… Когда расстанусь с моей дочкой совсем… – Женщина снова задрожала, но удержалась от слез, прикрывшись платком.
– Хорошо, хорошо.
– Обещайте!
– Я подумаю. Во всяком случае, обещаю, что следствием будут заниматься мои лучшие работники. Старшие следователи. Устраивает?
– Спасибо, – она встала, выпрямилась, но остановилась, замерла и обернулась.
– Только поспешите, ради бога. Они уже прячут следы.
– Кто они?
– Они! Они перевернули весь дом! Что же они ищут? Спасите меня!
И схватилась за подвернувшуюся ручку двери, чтобы не упасть.
* * *
А Игорушкин, подойдя к окну, еще долго не мог прийти в себя, выбраться из стихии нахлынувших эмоций.
Ошибкой было бы предположить, что визит этой несчастной, но не сломленной страшной трагедией женщины, стал исключительным событием или редкостью. Вся его прокурорская жизнь, насыщенная разными, в том числе и такого рода неприятными происшествиями, заморозила душу. Убийства, самоубийства, смерть, трагедии похлеще, чем гибель одного человека, взрывали, будоражили психику и преследовали его часто в молодости, но потом, со временем, стали обычным, ординарным явлением.
Смерть щадила его и не прикасалась к его близким.
Помучился он, схоронив мать. Он ее любил по-своему, переживал сильно, даже слег. Но, конечно, она свое пожила, старушке повезло, дотянула до девяноста почти…
Близкие у него не умирали. Петруха, хотя и жил далеко, а звонил часто, сам наведывался из года в год, последний раз с внучком уже прикатил, Колькой его порадовал. Есть кому дело его продолжать! Малец, внучок, в него пошел, так же глазаст и крепок! Майка, та рядышком постоянно, под рукой, стрекоза непоседливая. Аннушка… повсюду идет с ним рядом. И так всегда.
Игорушкин отошел от окна, сел к столу. Рабочий день продолжался; за окном он шумел, гудел снующими машинами, шелестел, играл ветром в листьях любимого ясеня у балкона, пощипывал лицо солнечным лучиком, забежавшим в бумаги на столе. Игорушкину предстоял день больших хлопот и забот. Но прежде нужно прикоснуться к тому, от чего страдала и мучилась только что покинувшая его кабинет женщина.
Молодая, красивая… и все!
– Владимир Владимирович! – Шаламов на ходу прицепился к спешащему заместителю начальника следственного отдела. – Володя!
Малинин, не останавливаясь, широкими шагами торопился к приемной прокурора области.
– Михалыч, погоди! Мне докладывать шефу! Колосухин приболел, – так и не затормозив, с кучей бумаг вошел в дверь приемной тот. – Дождись. Через полчаса, максимум – час, освобожусь.
– Что ты! Меня в медвытрезвителе заждались.
– Где? – замер у раскрытой двери Малинин. – Ты как туда? Какими?..
– Расскажу все. Выдели мне сейчас минут пять-десять.
– Надежда! – крикнул в приемную Малинин. – Что шеф? Один?
– Занят, – донесся голос секретарши. – У него персона важная. Женского пола.
– Меня спрашивал?
– Сказал, чтоб никого.
– Ого! – покачал головой Малинин. – Как освободится, найди меня.
– Хорошо, Владимир Владимирович.
– Твое счастье, Михалыч, – Малинин улыбнулся криминалисту. – Пошли ко мне. Ты что это с утра в медвытрезвителе забыл?
– Не что, а кого, – Шаламов по обыкновению был хмур. – Мужики там меня дожидаются. Двое.
– Кто ж залетел-то?
– Нет, ты не то подумал, Володь.
– А чего ж?
– Они у меня вроде подозреваемых.
– Погоди! Это не по ночному трупу, что вчера ты выезжал?
– Точно, – качнул головой криминалист.
– А я вот сводку шефу несу как раз. Самоубийство женщины?
– Да, – совсем нахмурился Шаламов. – Только пока не уверен я. Как бы уголовное дело не пришлось возбуждать.
– Она же вены вскрыла? – Малинин, зайдя в кабинет, остановился у стола, отыскал среди бумаг нужную, прочитал.
– Вот. В группе самоубийств эта информация за прошедшую ночь. Дочка известного лекаря, между прочим, заместителя главного врача нашей областной больницы, обнаружена в ванной с порезанными венами на обеих руках.
– Ну чего ты мне читаешь, – отвернулся к окну Шаламов. – Меня подняли. Сам выезжал. Я же тебе сказал. Вместо районников вытащили. Это что же творится? Кто дежурит у нас? Не пойму.
– Максинов подписал сводку? – тоже вопросительно глядя на криминалиста, проговорил Малинин и присел за стол. – Ты чего же, Владимир Михайлович, особое мнение имеешь по этому поводу? Сомневаешься в самоубийстве?
– Сам пока не знаю, – Шаламов так и не поворачивался от окна. – Не все там так просто, чтобы сразу с самоубийством выскакивать. У милиции все упрощенно, им все ясно.
– Так эти мужики? В вытрезвиловке-то? – Малинин быстро соображал. – Они, выходит, подозреваемые у тебя?
– Не то чтобы…
– Это как? Тогда за что же ты их туда упек?
– Да не я! – Шаламов повернулся, красные глаза его выдавали бессонную ночь. – Я с осмотра трупа запоздно уже домой добрался, лег, спать не спал, кошмары какие-то мучить начали. Эта баба приснилась! Летала перед моим носом пуще Натальи Варлей! А потом менты снова меня подняли почти под утро. Их самих врачи «скорой помощи» вызвали в квартиру, где муж этой… покойной Туманской, Вадим, в крови валялся. Сам он тоже врач «скорой», но мертвецки пьяный и избитый почти до смерти на полу в углу.
– Вот дела… – Малинин повертел в руках листок оперативной сводки. – Тут об этом ни слова.
– Там и не должно быть. Я ж его не задерживал как подозреваемого, – Шаламов достал сигареты, закурил. – В той квартире его дружок рядом в том же непотребном виде покоился. Тоже весь в крови, избит до неузнаваемости и пьян как свинья.
– Да…
– Ну я сыщикам нашим команду дал, чтобы в вытрезвиловку их везли. До полного, так сказать, человеческого вида в себя приходили. Они же оба невменяемые. Ни бе, ни ме, ни кукареку. С ними работать нельзя. Квартиру соседям сдал до лучших времен.
– А со здоровьем?
– Да живы, – махнул рукой Шаламов. – Что с ними будет? Молодые. Здоровые, как слоны. Вывески себе попортили да кости помяли. Ротоборцы сраные. Между собой дрались.
– Ты что же? И не спал совсем?
– Я где сегодня не был! – Шаламов закашлялся, сигарету смял. – Менты меня с утречка раннего к этим бойцам примчали из дома. Только пусто все. Оба, как сговорились, твердят: ничего не помним. Но про жену, понятное дело, я этого муженька не спрашивал пока. А сам он ну дуб дубом. Глаза очумелые у обоих, себя едва признали.
– Может, рано ты сейчас спешишь, Михалыч? Не очухались еще?
– Все может быть. Вот я их там и мурыжу пока. Велел держать до моего приезда. Искупать обоих, то да се. Привести в людское состояние. А сам к медикам в резалку сгонял.
– А туда зачем? Ты же постановление на месте, наверное, выдал? Тут, в сводке, отмечено, что с тобой Слава Глотов выезжал?
– Он мастак, – согласился Шаламов. – Его учить не надо. Мы там все сделали. Но за мной генерал не зря, видно, сразу послал. У нас же следователь Кировской прокуратуры выезжать должен был, а подняли меня. Я тоже поначалу возмущаться начал, а мне говорят – Максинов велел, чтобы из облпрокуратуры старших следаков взяли. Ну а дежурный разве станет важняков подымать, вот я под раздачу и угодил. Максинов потом сам на труп приезжал. Впервые я с генералом так встретился. Ничего… впечатляет… Но не мешал работать, молодец. Не лез, как некоторые, с советами.
– Да, ночка у тебя была, Михалыч, – Малинин улыбнулся, сочувствуя, – не позавидуешь.
– Чего уж, – Шаламов снова закурил. – Я и хотел посоветоваться. Раз такая нервотрепка! Сам генерал! Люди, видно, важные тут зашевелятся. К Игорушкину побегут. В общем, дело непростое, чую. Переполох будет. Да и я, понимаешь, Володь, не верю пока тому, что на поверхности. Молодая женщина… красивая и мертвая… Жуть! Если и сама вены себе вскрыла, за этим все равно многое таится…
– Да, дела… – Малинин задумался, поднял голову. – Молодая, красивая… И все!
– Муж ее и дружок тот, выяснил я, весь вечер вместе пьянствовали в той хате, где их нашли. – Шаламов горько хмыкнул. – Она оказалась в квартире своей матери. Голая. Одна. В ванной. Здесь много вопросов у меня появилось. И все без ответов. Глотов вчера при осмотре сказал кое-что. Я это и без него сам видел.
– Чего же?
– Ну лежит в крови… Ну вены вскрыла… Еще неизвестно ничего. Ее и довести могли до самоубийства. И снотворное дать, а потом вены вскрыть… Чего хочешь придумать можно, если голову поломать.