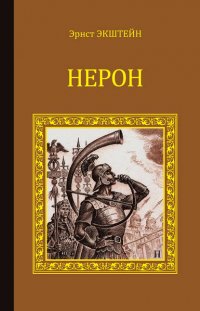
Читать онлайн Нерон бесплатно
- Все книги автора: Эрнст Экштейн
Часть первая
Глава I
Три солдата римской городской префектуры вели по Кипрской улице пленника. Молодому человеку двадцати трех лет был вынесен смертный приговор: рука палача должна была обезглавить его, а затем закопать на выгоне, где погребали преступников.
Прохожие, встречавшие конвоиров и их жертву, останавливались и смотрели им вслед. Бледное, но, однако, решительное лицо несчастного возбуждало участие к нему даже в легкомысленных римлянах. Казалось, внезапное сострадание овладело этим народом, на глазах которых каждый год тысячи гладиаторов истекали кровью и умирали на арене цирка и который считал лучшей на свете музыкой предсмертные хрипы жертв. Женщины особенно сокрушались о красивом Артемидоре. Правильные, словно высеченные из мрамора черты лица, темные, мечтательные глаза с черными ресницами, благородный лоб и роскошные волосы – все в нем напоминало величавого Нехо, жреца бога Пта, очаровывавшего знатных римлянок как своим прорицательским искусством, так и своей привлекательной наружностью.
Артемидор был также уроженец Востока. Он родился в далеком Дамаске, был куплен в Иерусалиме сенатором Флавием Сцевином и вместе с ним прибыл в семихолмный город. Скоро получив свободу, он служил своему бывшему господину казначеем, чтецом и библиотекарем и сделался уже почти его доверенным во всем, когда внезапно неожиданный переворот разрушил мирное течение его жизни и бросил его во власть ищеек.
Чем ближе становилась плаха, к которой солдаты вели юношу, тем медленнее и тяжелее двигался он, и начальник конвоя должен был не раз обращаться к нему со строгими упреками.
Был чудный октябрьский день. Рим казался плавающим в жидком золоте. Красная листва винограда, с видневшимися из-под нее темными гроздьями, одевала стены садов или вилась вокруг развесистых вязов. Улицы дышали весельем и свежестью. Мужчины, приободрясь, расправляли плечи, а женские лица сияли особенной красотой и привлекательностью.
Так по крайней мере казалось бедному осужденному, который скоро должен был расстаться с этим прекрасным миром.
Куда девалось его равнодушие к смерти, еще так недавно наполнявшее его сердце, подобно предвкушению лучшего, недоступного человеку бытия?
Взглянув на колеблющиеся от ветерка пурпурные лозы, он вспомнил красивую девушку, стыдливо зардевшуюся, когда однажды он украшал ее таким венком в блаженном уединении тенистого парка, принадлежавшего его господину.
– Хлорис! Хлорис! – со страстной мукой вздохнул он.
Какое несчастье, что образ возлюбленной предстал перед ним как раз в то мгновение, когда он нуждался в непреодолимой силе духа и презрении к жизни, чтобы показать, с какой радостью и светлой надеждой последователь Сына назарянского плотника идет по стопам своего Спасителя.
Как ни старался он забыть о прошлом, оно вставало перед ним во всем блеске минувшего счастья.
Он увидал Хлорис лишь несколько недель тому назад в доме Кая Кальпурния Пизо, где она играла на девятиструнной гитаре и пела радостную любовную песнь Алкея. Это было ее первое появление в полной опасных соблазнов столице и в то же время ее первый триумф. Все рукоплескали ее мастерской игре и чудному голосу.
Находившийся в свите своего господина, Флавия Сцевина, Артемидор был очарован и с этого мига мысль о ее любви не покидала его.
Но рядом с этой мыслью, у него возникла другая, более возвышенная: спасение ее души! После незабвенного мгновения, когда он впервые поцеловал ее уста, в нем возгорелось страстное желание спасти погибавшую. В глазах верующего юноши она должна была погибнуть, если ему не удастся просветить ее небесной истиной, открытой Иисусом Христом.
И Артемидор с таким же рвением старался овладеть ее душой, с каким он раньше добивался ее сердца.
К сожалению, его усилия были напрасны.
Хлорис знала жизнь только с ее лучшей стороны. Мир представлялся ей душистым увеселительным садом, предназначенным исключительно для счастья и наслаждений. Верная своей природе, гречанка пугалась всего сурового и мрачного; учение Христа, требовавшее воздержания, отречения от земных благ, было недоступно ей, проникнутой лучезарным культом древнегреческих богов. Прекрасная певица пожимала плечами, улыбалась, наконец, объявила Артемидору, что он ей надоел и, после долгого неприятного спора, на все его доводы решительно произнесла с насмешкой: «Никогда!»
После этого «никогда», он в гневе оставил возлюбленную. Гнев его был направлен не на нее, – ведь она неповинна в том, что злой дух так опутал ее безрассудное сердце, – но на коварство старых богов, сохранивших еще такую власть даже над самыми чистыми и благороднейшими из смертных, несмотря на пришествие Спасителя.
Вот что было причиной его осуждения на позорную смерть: обвинение в хуле на государственную религию…
Но, быть может, постигшее его несчастье было наказанием, ниспосланным на него единым истинным Богом? Быть может, Он хотел уничтожить его за упорство в любви к насмешливой Хлорис?
Все эти мысли беспорядочно толпились в его мозгу и, задыхаясь, он боролся с охватившими его чувствами. Он попытался молиться.
– Блаженны гибнущие за учение Христа, – дрожащими губами прошептал он и замолк.
Солнечные лучи золотым потоком заливали дорогу, в лицо ему пахнул благоуханный ветерок и, громче всяких спасительных истин, в замиравшем от страха сердце его раздался вопль:
– Горе твоей цветущей юности!
Сияющая вокруг него теплом и жизнью природа еще сильнее обостряла сознание грядущей участью.
«Умереть так, вдали от нее!.. – беспрерывно проносилось в его пылающей голове. – Вдали от нее, вдали от нее!..
Да, неумолимое Божество осудило его на величайшую из земных мук – глубокое отчаяние. Если бы он мог взглянуть в последнюю минуту в глаза возлюбленной, какое это было бы утешение! Но умереть так, – значило умереть еще заживо!
«Вдали от нее! – звучало кругом него. – Вдали от нее!» Колени его подкосились и в глазах потемнело.
– Не шатайся! – сказал начальник конвоя. – Если уж ты должен умереть, то умри как мужчина!
Артемидор взял себя в руки. Слабость его прошла. Он перевел дух и спокойно и твердо пошел дальше.
Конвой свернул влево, по юго-восточному направлению от Кипрской улицы, и здесь их окружила такая густая толпа мужчин и женщин, по большей части бедно одетых, что стражники вынуждены были остановиться на несколько минут.
– Артемидор! – со всех сторон раздались голоса. – Будь тверд, Артемидор! Прощай, Артемидор! Не забывай твоих друзей! Молись за нас перед престолом Всевышнего!
Иные хватали связанные руки юноши и целовали их, другие торжественно затягивали жалобные гимны, в которых имя Иисус произносилось с особенным чувством.
Сквозь толпу протеснился высокий и худой пятидесятилетний человек, широкое, блестящее золотое кольцо которого выдавало его принадлежность к благородному сословию.
– Позволишь ли ты мне, – обратился он к старшему конвойному, – прежде чем свершится судьба, еще раз обнять осужденного?
Солдат нахмурился. Такое множество сочувствующих Артемидору, очевидно, внушило ему некоторое сомнение, и он не осмеливался грубо отказать этому мрачному человеку с величаво и грозно закинутой за плечо тогой.
– Поторопись! – нерешительно отвечал он. – Хоть я сотворен не из камня и железа, но если префект узнает об этом, мне будет худо.
– Никодим! – прошептал Артемидор, в то время как друг целовал его в лоб. – Какая страшная участь!
– Мужайся, сын мой! Будь тверд до конца! Твой поступок, может быть, безрассуден и опрометчив, но он тем не менее благороден. Счастливая юность не знает, что спокойная рассудительность ведет к цели гораздо вернее, нежели гнев и увлечение!
– Ты прав, – отвечал Артемидор. – Вы все смотрели в будущее с такими радостными надеждами, что, быть может, мне, как одному из младших, не подобало это… Но Хлорис, заслуживающая ненависти, возлюбленная Хлорис всему виной с ее ужасным неверием. Я почти лишился рассудка. Все мои убеждения были тщетны! И когда, возвращаясь от нее, я увидал в атриуме отвратительных идолов с их насмешливыми улыбками…
– Молчи! Ты бездумно раздражал римское общество. Здесь никого не оскорбляют за веру. Мы можем и будем тихо и осторожно следовать по пути, ясному для последователей Евангелия. Только без бурь, без насилия! И ты, дорогой Артемидор, был бы участником с таким трудом составленного мной союза. Я не могу утешиться, теряя тебя.
Юноша выпрямился.
– Как? Ты сожалеешь обо мне? Но разве это не высшая божественная милость – победоносно умереть за учение Назарянина?
– Твой пример не пройдет бесследно, Артемидор, – успокоительно прошептал Никодим. – Но ты мог бы жить, жить…
Слова Никодима были прерваны внезапным смятением среди народа.
– Император! – раздались тысячи голосов, и все взоры обратились по направлению Porta Querquetulanа, откуда медленно приближались роскошные носилки с пурпуровым балдахином. Их несли на шестах из позолоченного кедрового дерева шестеро рослых, белокурых сигамбров в ярко-красных одеждах.
Широкие занавеси были отдернуты. На подушках восседала гордая, величественная женщина – Агриппина, мать императора, а возле нее юноша поразительной красоты, с большими, мечтательными глазами и полным, выразительным ртом.
Начальник конвоя вздрогнул, увидев его. Он знал, как неприятны были императору напоминания о всем том, что шло вразрез с его спокойным, ясным характером и в особенности, как его волновали суды и их жестокие последствия.
«Фаракс, ты попался! – сказал себе солдат. – Если префект узнает об этом, твоей спине придется испробовать лозы центуриона! Конечно, это только случайность, но слуга префекта расплачивается и за капризы судьбы…»
– Император! – вскричал Никодим. – Он пройдет в двух шагах от тебя! Проси помилования, Артемидор!
Толпа раздвинулась. Никодим схватил за руку молодую блондинку, с глубоким состраданием смотревшую на осужденного. Девушка вопросительно взглянула на него. В уме Никодима, должно быть, пронеслась блестящая мысль, потому что лицо его озарилось неожиданной радостью, а почти торжествующее выражение губ, казалось, говорило: «Это удастся!»
Наклонившись к девушке, он быстро прошептал:
– Актэ, ты видишь! Само небо указывает нам путь! Если ты еще сомневалась в том, что план мой приятен Господу Иисусу Христу, то эта чудесная встреча должна убедить тебя. Слушай, чего я требую от тебя! По моему знаку ты выйдешь вперед, бросишься императору в ноги и спасешь отважного Артемидора!
– Я сделаю это! – отвечала Актэ. – Молись, чтобы цезарь внял мне!
– Надеюсь на это, – прошептал Никодим. – Только говори так же горячо и искренно, как ты чувствуешь! Ведь тебе жаль цветущей юности, которую безжалостно погубит топор палача?
Актэ молча вздохнула, пристально и робко смотрела она в пеструю толпу.
«Как она прекрасна и молода! – подумал взволнованный Никодим. – Другой такой нет в целом Риме… Это должно удаться, непременно должно!»
– Да здравствует император! – раздавалось все ближе и ближе. К этим крикам теперь присоединились звучные голоса конвойных, римлян и большей части назарян. – Честь и слава императору! Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!
Император сделал знак своим сигамбрам, и носилки остановились. После бури приветственных криков, на которые Нерон отвечал приветливым движением руки, наступило полное безмолвие.
– Вот несчастный! – обратился он к Агриппине. – Позволишь ли, дорогая мать, спросить у солдат, какое его преступление?
– Делай, как желаешь, – отвечала императрица. – Властителю мира несомненно подобает вникать даже в мелочи, встречающиеся на его пуги.
– Мелочи? – усмехнулся Нерон, смотря в глаза матери. – Человек в цепях; на его лице отразились страдание и отчаяние… Нет, дорогая мать, ты говоришь так не от сердца! Неужели достоинство императора требует такого же невнимания к несчастью его подданных, какое можно оказать участи вот этой розы, падающей из твоих прекрасных волос?
И изящным жестом он поправил цветок, выскользнувший из-под блестящей диадемы, которая удерживала огненно-красное покрывало Агриппины.
– Кого ведете вы и в чем провинился он? – благосклонно продолжал Нерон, обращаясь к начальнику конвоя.
– Повелитель, – ответил солдат, – это отпущенник Флавия Сцевина.
– Как? Нашего друга, вечно юного сенатора?
– Его самого.
Нерон пристально посмотрел на юношу, стоявшего с опущенными глазами.
– В самом деле, я узнаю его… Это Артемидор, который однажды в парке развертывал перед нами рукописи Энния… Флавий Сцевин так расхваливал тебя, твои качества и ум. А теперь я не понимаю!
– Повелитель, – снова заговорил солдат, – он осужден законом. Один из рабов застал его поносящим домашних богов и затем свергнувшим их с цоколей.
– Артемидор, – обратился Нерон к юноше, – правда это?
Осужденный поднял свое прекрасное, бледное лицо с лучезарным взором.
– Да, повелитель, – твердо отвечал он.
– Знал ли ты, – со спокойной строгостью продолжал император, – что оскорбление домашней святыни наказуется смертью?
– Смертью, в смысле закона – да!
– Что же побудило тебя презреть этот закон?
– Любовь к истине.
– Каким образом?
– Ваши лары и пенаты ложные божества, я же верую в истинного Бога, о котором учил Иисус Христос.
– Ты назарянин?
– Да, повелитель!
– Это было известно твоему высокому покровителю Флавию Сцевину?
– Да, повелитель!
– Он преследовал тебя за это?
– Нет, повелитель.
– Так веруй во что ты хочешь и предоставь другим веровать, во что они хотят. Согласен ты со справедливостью этого требования?
– Иисус Христос завещал нам распространять спасительное Учение и бороться против ложных богов.
– Пусть так! Борись – но только духом! Можно ли убеждать поднятыми кулаками? И разве брань – философский аргумент? Поистине, ты заслужил твое наказание, Артемидор…
Лицо старшего конвойного выразило огорчение. Он был почти уверен, что Клавдий Нерон своей императорской властью отменит исполнение приговора. В этом случае, лоза центуриона, естественно, должна была спокойно оставаться в шкафу. Вместо этого, против всякого ожидания, цезарь одобрял и находил заслуженной казнь, казавшуюся варварской и устарелой даже самому Фараксу и его товарищам! Дело принимало неприятный оборот.
Между тем, повинуясь знаку Никодима, из толпы стремительно выбежала Актэ и упала на колени перед носилками императора. С невыразимой грацией подняв цветущее личико к властителю мира, она воскликнула, вложив в свою мольбу все чары женского обаяния:
– Помилования, повелитель! Помилования моему брату!
Молодой император с изумлением и удовольствием смотрел на стройную фигуру девушки, устремившей на него страстно молящий взгляд. Сама императрица-мать не могла подавить мимолетного сочувствия к ней, и на суровом, гордом лице ее мелькнула мягкая улыбка.
– Я так и думал, – сказал тронутый император. – Тот, у кого есть такая прелестная сестра, может поступать дурно вследствие необдуманности или заблуждения, но не может быть дурным человеком.
Он забылся на несколько мгновений, наслаждаясь ее красотой, а потом, схватив руку Агриппины, заговорил с пафосом театрального актера:
– Третьего дня был день твоего рождения! Я обыскал всех ювелиров среди двух миллионов населения этого города, чтобы создать нечто, достойное тебя! Но нашел одну лишь эту жалкую диадему. Драгоценная сама по себе, она все-таки давит твою божественную голову подобно обручу из коринфского металла. Теперь судьба посылает мне высший дар! Во славу твоего дорогого имени, возлюбленная мать, я пользуюсь своим правом освобождения и прощения.
Он приказал конвойным подвести осужденного к носилкам, между тем как Актэ удалилась, бросив на императора горящий, полный признательности взгляд.
– Ты слышал, – произнес Нерон, – я дарую тебе помилование! Отведите его обратно в дом Флавия Сцевина и передайте о происшедшем моему превосходному другу! Скажите, что я прошу его посадить преступника в заключение на восемь дней. Тебе же, юноша, советую быть благоразумнее и осторожнее! Повторяю: если римские боги кажутся тебе призраками, то поклоняйся Изиде или Гору, или кому знаешь, но обуздай твой невоздержный язык и не оскорбляй чувств квиритов!
Губы юноши дрогнули, будто, несмотря на милость императора, он все-таки хотел возражать ему, но сдержавшись, он скрестил на груди руки и едва слышно произнес:
– Благодарю, повелитель.
Солдаты префекта с обрадованным Фараксом во главе, тотчас сняли с него цепи. С этой минуты с ним начали обращаться вежливо и почтительно, и Фаракс поздравил его крепким рукопожатием.
В доме Флавия Сцевина освобожденный встретил восторженный прием: весть о милости к нему императора еще раньше долетела сюда. Сцевин лично принял его в остиуме. Раб же, с такой поспешностью донесший о неосторожном поступке Артемидора, уже за несколько дней перед тем был подарен кому-то впавшим в глубокое огорчение сенатором.
Глава II
Императорские носилки двинулись дальше среди восторженных криков толпы.
Нерон и Агриппина возвращались из дома Афрания Бурра, начальника преторианской гвардии, некоторое время страдавшего лихорадкой. По отзыву врача, болезнь была не опасна, но влиятельному префекту гвардии следовало оказывать особенное внимание.
Когда носилки и их военная свита покинули Кипрскую улицу, мысли императрицы снова обратились к больному Бурру.
Ее мучило тайное недовольство: чем более она убеждалась в народной любви к некогда обожаемому ею сыну, тем сильнее пробуждалась в ней ревность к столь опасному сопернику. Она старалась освободиться от гнета опасений, думая лишь о том, что могло бы возвратить ей обычную самоуверенность. Начальник гвардии Бурр и бывший воспитатель Нерона Сенека до сих пор с непоколебимой верностью поддерживали ее, когда дело шло о руководстве молодым императором, о ведении государственных дел в ее духе и о внушении ее сыну, что она, Агриппина, есть первое лицо империи, он же, – только второстепенное, на основании естественного закона сыновнего долга.
И если, таким образом, Бурр был ее мечом, а Люций Анней Сенека – щитом, то к чему ей тревожиться из-за ропота или одобрения народа? Что ей за дело до темных, тайных слухов, которые, – она чувствовала это так же, как чувствуют взор враждебного наблюдателя, – повсюду переходили из уст в уста? Лучшего префекта, чем Бурр, она не могла желать: он восторгался ее красотой, был признателен за каждую милостивую улыбку, ибо более всего был поглощен сознанием своего долга и заботами о общем благе. При этом, он понимал, что опытная, способная женщина принесет государству больше пользы, чем едва созревший, мечтательный юноша…
– О чем ты задумалась, мать? – спросил император по-гречески. – Ты не примечаешь поклонов сенаторов…
– В самом деле? Я не видала никого…
– Нам встретился Тразеа Пэт со многими клиентами. Я кивнул ему; ты же не только не ответила на его привет, но даже как бы намеренно скрылась за занавеской.
– Тебе так показалось, – возразила Агриппина. – Хотя та рассеянность простительна матерям, непрерывно занятым благом своих сыновей. Я думала о твоей будущности и, сказать правду, она сильно заботит меня.
– Заботит? Почему? Разве у ног моих не лежит цветущий мир? Разве я не цезарь? Да, клянусь этим ясным небом, я могу разлить счастье до самых отдаленных стран, до тех пределов, где в море еще белеет римский парус! Народ мой любит меня! И сейчас, слышала ты, как из тысячи уст, подобно горному потоку, вырвался оглушительный благодарственный клик? «Да здравствует император!.. Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!» О, мать, для меня эти клики звучат подобно праздничной песни бессмертных богов!
Агриппина, вспыхнув, медленно покачала величественной головой.
– Тем не менее я озабочена, мой мальчик. Ты кажешься мне слишком мягким, слишком уступчивым для ужасной обязанности цезаря. Твой невинный взор не примечает страшного коварства, таящегося кругом в закоулках отвратительной зависти. Ты должен с ранних лет править с подобающей суровостью. Хороша народная любовь, но страх народный еще лучше и вернее. В этом, как и в других важных вопросах, доверься моей искушенности! Допусти меня действовать, когда я нахожу это благоразумным! Думаешь ли ты, что так почтительно преклоняющиеся перед твоим величием сенаторы действительно проникнуты им? О, как мало знаешь ты римских аристократов! Они думают: Нерон – цезарь только по нашей милости! И если они замыслят мятеж и тому представится случай, они свергнут тебя так же, как перед тобой свергли Клавдия!
– Клавдия? – с изумлением повторил император.
– Да, твоего отчима, моего высокого супруга. Его отравили члены верховного совета.
– Сенека рассказывал мне другое, – возразил Нерон.
Агриппина побледнела, но внешне сохраняя спокойствие, спросила:
– Это любопытно. Тогда, как тебе известно, сенат воспретил всякое расследование, и одно это…
– Расследование было бы бесполезно, так как отравителя нельзя было обличить. Неужели ты в самом деле не догадываешься?..
Императрица затрепетала.
– Нисколько не догадываюсь, – отвечала она, закрывая глаза.
– Так тебя щадили, – продолжал Нерон. – Преступление совершено личным врагом Клавдия, отпущенником Евтропием.
– Это мне известно, – прошептала Агриппина, – но я полагала, что он был лишь орудием гораздо более высоких лиц.
– Нет! Император Клавдий пригрозил привлечь его к ответственности за многочисленные кражи и преступник поспешил предупредить своего судью. Он исчез бесследно раньше, чем его могли схватить. Но оставим этот грустный предмет. Припоминая предостережения Сенеки, я вижу, что вовсе не должен был касаться его.
Он задернул занавеску, как бы желая защитить чувствительную страдалицу от слишком яркого света. Потом, нежно положив голову на плечо матери, глубоко вздохнул и внезапно спросил ее:
– Как понравилась тебе белокурая девушка, просившая помилования отпущеннику Флавия Сцевина?
– Я не обратила на нее внимания.
– По-моему, она очаровательна! Это детски невинное лицо, эти чудные глаза! Она немного напомнила мне статую Психеи в Акеронии, но в тысячу раз красивее и живее!
– Твои слова звучат вдохновенно. К сожалению, этот тон удается тебе только там, где он не совсем уместен. Если бы ты хоть на половину восхищался так Октавией!
– Мать, я всегда был тебе покорным сыном, и теперь я послушаюсь тебя, тем более, что и покойный супруг твой желал этого союза…
– Послушаюсь! Точно это наказание – жениться на знатнейшей и прелестнейшей девушке столицы!
– Для других, быть может, это было бы неизмеримое счастье, – сдержанно произнес император. – Я не оспариваю ее достоинств, но не умею оценить их. Октавия слишком совершенна для меня.
– Неужели ты уже дошел до этого своим умом? Тебе, конечно, нравилась бы больше цветочница из Аргилета или порхающий мотылек вроде арфистки Хлорис, которой недавно вы расточали такие преувеличенные похвалы? Вас всегда тянет туда, где не обойтись без грязи, как утверждает Энний.
– Не будем ссориться, дорогая мать! Я женюсь на Октавии, буду уважать ее и обращаться с ней сообразно ее положению. Но любить ее меня не могут принудить сами бессмертные боги. Эрос не является по приказанию: он приходит без зова и часто как раз туда, откуда рассудок должен был бы изгнать его. Для него добродетель и высокие качества не имеют значения. Рабыням случалось возбуждать большую страсть, чем принцессам и, как уверяет Сенека, высшее право при этом всегда принадлежит рабыне.
– Пустяки!
– Не пустяки, позволь тебе сказать! В этом случае рабыня представляет собой выражение воли природы; природа же правдивее и искреннее человеческих условностей.
– Так Сенека и этому учит тебя? – с досадливым смехом спросила Агриппина. – Прекрасно! Кажется, своей блестящей теорией он совершенно разбивает мой практический опыт.
– Ты несправедлива к нему. Подобные размышления лишь при случае он присоединяет к разъяснению трагедий. Но нет ни малейшего повода сердиться. Мое сердце свободно. Благодаря моему превосходному воспитателю, я научился воздержанию. Разгул друзей всегда служил мне лишь предметом наблюдений. Я никогда не любил и даже сомневаюсь, способен ли к любви. Тем не менее повторяю тебе, что я отнесусь к нашей Октавии со всей нежностью, на которую имеет право супруга императора. Довольна ли ты, мать?
– Не совсем. Меня огорчает это равнодушие. Октавия создана для тебя. Ее ясное, неподкупное суждение будет большой подмогой мечтателю, ежечасно рискующему забыться в философских размышлениях или в водовороте художественной фантазии. Тебе известен мой образ мыслей. Стоя – прекрасная школа, но она не должна истощать наши силы. Искусство имеет пленительную прелесть, но цезарь не должен превращаться в художника. Мечтай, но не забывай жизни! Строй театры, покровительствуй модным поэтам, бросай деньги, как овес, под ноги певцов и музыкантов, но сам не сочиняй и не декламируй! Не пой, подобно изнеженной девчонке! Предоставь струны певцам! Рука, держащая скипетр, не создана для перебирания струн. Вот мой взгляд на предмет, и Октавия будет влиять на тебя именно в этом направлении.
Нерон улыбнулся.
– Ты мне совершенно напомнила те дни, когда еще драла меня за уши после моих шалостей в Субуре с сыновьями пекарей и харчевников!
– Уж не хочешь ли ты запретить мне порицать выращенного мной сына? – с раздражением спросила Агриппина. – Кто сделал тебя тем, что ты есть? Моя всемогущая рука возвела тебя на престол. Пока ты признаешь это, твой добрый гений будет охранять тебя. Но попробуй возмутиться, и я сомневаюсь, чтобы у тебя хватило силы удержаться на такой головокружительной высоте.
– Ты волнуешься совершенно напрасно. Возмутиться? Ты первая произнесла это отвратительное слово. Я прекрасно знаю, что никого, даже цезаря не бесчестит повиновение советам матери. Одного только мне хотелось бы, так как мы уже заговорили об этом, чтобы ты несколько смягчила и умерила форму этих советов. Вряд ли ты могла бы желать, чтобы кто-нибудь имел право посмеяться над чересчур детской покорностью Нерона.
– Я не знаю, какой повод имеешь ты… – начала императрица с гневом.
– Так, так, мать! Но я вижу, тебе тяжел наш разговор. Прекратим его. Напрасно я упомянул об этом. С течением времени все сгладится само собой.
– Но ведь ты видишь, – живо возразила она, – как я далека от личного честолюбия! Иначе, разве я так хлопотала бы о твоей женитьбе? Брак этот, естественно, уменьшит мое влияние. Октавии, как императрице, принадлежит значительная роль, которая…
– Могу себе представить, – усмехнулся Нерон. – Она взором Аргуса будет наблюдать за тем, чтобы никогда и нигде не была пропущена ни одна церемония, несмотря на всю ее нелепость в моем понимании. Она будет требовать, чтобы я каждое утро молился обожаемому Ромулу, чтобы повесил себе на шею амулет с изображением волчицы и голодных близнецов и чтобы я помогал ей верить, когда в каждом событии она будет видеть непосредственное участие Юпитера и его нежной Юноны.
– А если бы она и делала все это, что тут худого?
– Худого? – повторил император. – Ну, я не знаю, что ты думаешь о божественной истории наших предков. Ты никогда не рассказывала мне о них, Даже когда я был еще мальчиком. Полагаю поэтому, что наши взгляды одинаковы.
– А именно?
– Я не верю народным сказкам.
– Да? А чему же ты веришь?
– Разве это можно сказать сразу? Вместе с Сенекой я верю в существование могучей первобытной силы, скрытого, всеобъемлющего и всепроницающего духа. Дух этот живет и в нас; его воля и его чувства – суть наша воля и наши чувства! Но богов таких, каким поклоняется народ, я считаю вымыслом, необходимым для того, чтобы служить основой разрушающейся нравственности нашего общества.
Агриппина долго молчала.
– Знаешь, сын мой, – сказала она наконец, – ты находишься на самом верном пути к государственному преступлению, в точно таком же роде, как преступление только что помилованного тобой Артемидора.
Нерон улыбнулся.
– Ты имеешь слишком низкое мнение о моей сметливости. Я умею отделять императора от частного лица. Перед сенатом, конечно, я остерегусь легкомысленно выражать мои философские убеждения. Там я буду говорить о многолюбимой Минерве не хуже глупейшего из глупцов. Но это нисколько не помешает мне находить скучным, если и дома, как муж, я вынужден буду продолжать ту же комедию, и если даже в спальне со мной будет жрица, верящая в вола Европы! Чудесный бог был этот эллинско-римский Зевс, переплывший море с дочерью царя Агенора для того, чтобы произвести на критских лугах Миноса и Радаманта!
Агриппина пожала плечами.
– Верить в Юпитера, как в царя вселенной, и принимать за чистую монету фантазии греческого народного поэта – две разные вещи.
– Истинно верующий верует и в фантазии, – возразил Нерон. – Если бы было иначе, то художественные изображения таких глупых эпизодов считались бы оскорблением божества.
– Боюсь, ты сам стараешься во многом убедить себя, – заметила императрица. – Но впрочем, я благодарю тебя за откровенность. Увы! К чему отрицать? Я вижу, ты сын своей матери. Ты угадал, что боги и мне вполне чужды. Я верю только в один Рок, предначертавший наш жизненный путь с начала до конца. Кроме того, я верю еще и в то, что некоторым избранникам дается сила украшать этот путь цветами там, где простые смертные находят одно лишь терние. Я верю в силу духа, иногда принуждающего Рок к уступкам. Для этого необходимы ясность и спокойствие ума, уменье пользоваться всеми преимуществами и постоянство в преследовании цели. Все эти качества у тебя только в зачатке. Октавия же скоро разовьет их.
– Октавия? Тихая Октавия?
– Она тиха только в твоем присутствии. Самая заурядная девушка и та догадалась бы, что ты не разделяешь ее чувств. Она любит тебя всем сердцем, ты же, несмотря на дружелюбие к ней, еще ни разу не говорил с ней голосом любви. От этого, сын мой, она чувствует себя стесненной, почти уничтоженной. Если бы не боязнь возбудить общее внимание и не надежда победить наконец твое равнодушие, она давно порвала бы все.
– Это было бы самое лучшее! – задумчиво прошептал Нерон.
– Это было бы твоей гибелью! – вскричала возмущенная Агриппина. – Признаюсь, что мне давно уже до муки смертной наскучила твоя ледяная холодность к Октавии. Я требую, чтобы ты переменился. И так как тебе не удается роль жениха, то я позабочусь поскорее соединить вас. Быть может, она больше понравится тебе, когда ты будешь обладать ею и вполне узнаешь ее.
– Мать! Ведь мне дан был еще год сроку.
– Это слишком долго!
– Но ты дала слово.
– Я беру его назад. Пожалуй, эту зиму еще ты можешь философствовать и сочинять греческие трагедии. Но как только запахнет весной…
– Тогда придет конец моей весне! – вздохнул император. – Ну, мы еще поговорим об этом!
Носилки остановились перед дворцом.
Сильно расстроенная, императрица-мать отправилась в свои покои. Нерон же тотчас забыл неприятный разговор. В колоннаде приветствовал его Сенека и пригласил прогуляться с ним до обеда. Под высокими деревьями палатинских садов мудрый учитель рассказывал своему любознательному ученику чудесные истории о новом духовном, пока еще тайном и неприметном движении, под именем назарянства распространявшемся с востока на запад, и представлявшем в основах своего учения многие неожиданные точки соприкосновения с римской философией; вследствие чего оно несомненно заслуживало изучения такими свободными от предрассудков людьми, какими были Нерон и Сенека.
Глава III
Прошла неделя.
В Палатинском дворце только что окончился завтрак.
Агриппина сидела на цветастом диване под деревьями и беседовала с небольшой кучкой избранников, среди которых, по обыкновению, первенствовал государственный министр и философ Люций Анней Сенека, блиставший умом и остроумием. Возле него стоял начальник гвардии Бурр, впервые после выздоровления явившийся во дворец и наслаждавшийся лицезрением императрицы, подобно тому, как служитель Митры наслаждается сиянием солнца. Тут же находился и племянник Сенеки, юный поэт Лукан, язвительные эпиграммы которого на римских аристократов послужили ему у императрицы лучшей рекомендацией, чем самые усердные похвалы дяди.
Пока Агриппина, окруженная своим двором, очаровывала тех, кто не находил эту вполне расцветшую, гордую женщину чересчур повелительной и мужественной, Нерон, позабыв серьезные увещевания своего ученого воспитателя, потихоньку исчез.
В молодом императоре, противореча утонченно воспитанному и проникнутому ученостью Нерону, пробуждался иногда и другой, менее выспренный человек, который, под влиянием веселого поверенного, Софония Тигеллина, по временам брал верх над первым и делал робкие попытки практического ознакомления с жизнью и ее разнообразными наслаждениями. Софоний Тигеллин из Агригента сделался известен императору в Circus Maximus, как обладатель лучших, всегда побеждавших рысистых лошадей. Нерон пригласил его в императорский пульвинарий, поздравил, и был так восхищен пленительной любезностью блестящего наездника, что между ними скоро завязалась искренняя дружба. Так как Тигеллин прежде уже занимал место сверхштатного военного трибуна, то Нерон сделал его офицером преторианской гвардии и назначил состоять при своей особе. Сенека хотел было воспротивиться этому, потому что тридцатилетний Тигеллин слыл самым отчаянным покорителем сердец во всей столице, да и вообще внушал к себе очень мало доверия. Но Нерон так напирал на его светские и артистические таланты, что Сенека уступил и только решил с удвоенной бдительностью присматривать за императором.
Софоний Тигеллин впервые пробудил в Нероне склонность к приключениям и, благодаря своей неистощимой изобретательности сумел заставить его перейти от желания к действиям. Императора разбирало иногда страстное желание затеряться в толпе, не будучи узнанным, делать занятные наблюдения, подмечать различные сцены и случаи и отыскивать настоящее, неиспорченное человечество. Сначала выходки императора были крайне невинного свойства, и Софоний Тигеллин опасался слишком откровенно играть роль соблазнителя. Он дорого заплатил бы за это, если бы какие-нибудь слухи дошли до Сенеки. Но он твердо надеялся, что со временем все устроится само собой. То, что теперь казалось почти мальчишеством и ребячеством, должно было, несмотря на предостережения Сенеки, постепенно переродиться в безумную жажду удовольствий и наслаждений, а тогда Софоний Тигеллин становился господином положения. Стоя, вытесненная учением жизнерадостного Эпикура; философская мудрость Сенеки, превратившаяся в тяжкое бремя; он, Тигеллин, приветствуемый как желанный избавитель из этого моря принуждения и скуки: вот план, после осуществления которого до высшей власти оставался только один шаг!
Само собой разумеется, что лукавый агригентец держал про себя все свои соображения. Он притворялся слугой юношеских желаний императора, он, Тигеллин, вкусивший всего и еще мальчиком предававшийся необузданному разгулу! Нерон не понимал разницы между ходом своего развития и развитием агригентца, и верил ему. Он считал избалованного, чувственного кутилу таким же свежим, каким был сам. Он позабыл ту безотрадную жизнь, что он вел после смерти своего отца Домиция Аэнобарба до тех пор, пока второй брак Агриппины, на этот раз – с самим императором Клавдием, не сделал его известным всему Вечному Городу. Кроме того, артистической натуре Нерона казалось вполне естественным влечение взора к картине, ума к мысли, а пламенному воображению к приключениям.
Солнце стояло еще высоко над пологой горой Яникула, когда Нерон и Тигеллин, окутанные легкими плащами, вступили на многолюдное Марсово поле.
Десять германцев из гвардии, для избежания всякого подозрения взятые из Палатинума, уже сидели в одной из больших таверн близ Капитолия и пили за здоровье императора и его веселого поверенного красное сигнинское вино.
День был чудный. Складчатое покрывало, накинутое на головы Нерона и Тигеллина, как бы для защиты от солнечных лучей, скрывало их от прохожих, хотя в Риме, где каждый знатный гражданин выходил на улицу не иначе как с более или менее многочисленной свитой, ни одна душа не заподозрила бы в двух одиноких пешеходах таких высоких особ.
Император полной грудью вдыхал теплый, но при этом освежающий воздух. Над гигантскими деревьями, уже покрытыми осенними красками, сияло темно-голубое небо. Ухоженные дерновые лужайки блестели зеленью. Мраморные статуи, бесчисленные роскошные лавки, колоннады и памятники казались залитыми необычайно ясным светом. По главной аллее двигался нескончаемый ряд носилок и пешеходов. Справа и слева, по проезжим путям неслись горячие кони из Каппадокии, узкокопытные скакуны из равнины Гиспалиса и храпящие пони. Кругом на хитро переплетенных дорожках, между лавровыми и миртовыми изгородями, теснилась пестрая толпа всевозможных сословий: тут были сенаторы в тогах с пурпуровой оторочкой, окруженные многочисленными клиентами и друзьями; знатные малоазийцы в вышитых золотом химатионах; черноволосые персы в высоких тиарах и искусно расшитых шальварах; цветущие гречанки в желтых диплоидионах; эфиопы и галлы, свободные и рабы, сборщики податей и щеголи, педагоги с их питомцами, торговцы горохом и украшениями, одинаково крикливо предлагавшие свои товары, предсказатели, матросы, солдаты городской когорты и инвалиды.
– Сознаешь ли ты, дорогой цезарь, – начал Тигеллин, – все благоразумие моего совета – жить, следуя влечениям твоего духа, предоставив тяжелые государственные дела этой превосходной чете Диоскуров, Сенеке и Афранию Бурру? Ты молод, цезарь! Ты должен сначала изучить многоголовое человечество, которым будешь управлять во всех его бесчисленных формах!
– Ты прав, Тигеллин, – отвечал император. – В самом деле, что стал бы я делать без Бурра и Сенеки? А главное: что стал бы я делать без тебя? Клянусь Геркулесом, тебе удается хоть на несколько часов освобождать меня из-под ярма моих императорских обязанностей. Я – цезарь, но прежде всего я – человек и повторяю с поэтом: для всего человеческого во мне бьется пламенное сердце!
Они достигли сверкающего мрамором пространства, где помещалась постоянная ярмарка. Всевозможные лавки и панорамы манили народ во все стороны. Площадки для метания дисков и игры в мяч сменялись харчевнями, кабачками с душистыми горами плодов. Дальше, на берегу Тибра, возвышались деревянные помосты, с которых пловцы, побившись об заклад, бросались в подернутую рябью реку. Повсюду разбросаны были тенистые деревья, высокие кустарники, яркие цветочные клумбы и статуи богов.
Цезарь и его спутник остановились перед полотняной, переплетенной серебряными шнурами палаткой египетского кудесника.
Кир – так, судя по надписи на верху палатки, звали кудесника, – только что прибыл из Александрии и уже сделался центром народного интереса.
Небрежно прислонившись ко входу, сидел длиннобородый человек, с равнодушной усмешкой смотря на массу толпившегося вокруг него народа.
Вдруг, точно озаренный внезапной мыслью, он поставил шести– или семилетнего ребенка на так называемый магический треножник, покрыл его большой, в рост человека, остроконечной персидской шапкой из бумаги, дотронулся до разукрашенной разными изображениями поверхности шапки своим жезлом из слоновой кости и затем приподнял ее.
К неописанному изумлению зрителей, ребенок бесследно исчез.
Затем египтянин вошел в палатку, куда двое курчавых эфиопских рабов, со смешными кривляньями внесли вслед за ним треножник с бумажной шапкой.
Народ громко выражал свое одобрение. Нерон также с большим воодушевлением хлопал в ладоши.
– Славный фокус, – тихо сказал он Тигеллину. – Благовоспитанному светскому человеку удивление неприлично; но спрашиваю тебя: имеешь ли ты хоть малейшее понятие, каким образом он делает это чудо?
Тигеллин пожал плечами.
– Если земля не состоит в союзе с этим египтянином, – отвечал он, – и если она втихомолку не раскрывает свои недра, чтобы поглотить ребенка, как некогда отважного Курция, – то я не могу найти объяснения.
На сколоченный помост вышел глашатай в желтой и красной одежде и три раза громко протрубил в свою звучную трубу.
Затем он пригласил благородных квиритов и квиритянок не медлить.
– Три сестерция! – оглушительно кричал он. – С вас берут по три сестерция для того, чтобы на целые полтора часа превратить вас в богов. Кир, мой увенчанный славой повелитель, звезда Востока, знаменитость Вавилона, Сузы и Александрии, друг азиатских царей, любимец всех народов от востока до запада приветствует вас и желает знать, предлагал ли вам кто-нибудь что-нибудь подобное за три сестерция? «Нет! – ответите вы. – Это возможно только для несравненного Кира!» Поэтому, опустите руку в складки вашей туники и добудьте жетон из слоновой кости, дающий вам право в течении полутора часов дышать воздухом Олимпа! Когда вторично зазвучит моя труба, бессмертный Кир начнет представление.
Пестрыми группами устремились зрители направо к столам, где трое рослых фризов, также в фантастических костюмах, продавали жетоны из слоновой кости. Нерон и Тигеллин последовали примеру толпы.
Давка была такая, что император скоро был оттеснен от Тигеллина.
– Друг, – по-гречески закричал Нерон через головы спешивших к столу молодых девушек, – если мы разойдемся во время представления, то по окончании встретимся около клена Агриппы.
– Хорошо! – кивнул Тигеллин.
Палатка египтянина была необыкновенно вместительна. Сквозь продольное отверстие сверху в ширину триклиниума сильный свет падал на великолепно убранное помещение. Пол устлан был дроковыми циновками. С перевитых серебром шнуров спускались ковры, которые издалека можно было принять за сирийские. Посредине возвышения, отделенного от публики бронзовыми цепями, стоял большой алтарь. Висевший позади него тяжелый занавес из тарентинской голубой шерсти медленно приподнялся, и из-за широких складок торжественно показался маг, между тем как снаружи снова затрубил глашатай.
Нерон – теперь уже намеренно – все дальше отходил от Тигеллина. Он встал впереди, довольно близко к бронзовым цепям и с ожиданием смотрел в блестящие глаза гордого египтянина.
Первое, что маг показал своей публике, был фокус, уже прославившийся в Александрии и называемый «Черная Эвридика». Он дал это имя из известного греческого предания черной голубице, которую он убивал и снова возвращал к жизни.
Пока он на глазах толпы разрывал на части испуганно бившуюся птицу, около императора раздалось тихое восклицание.
Он обернулся.
Позади него стояла та самая белокурая красавица, которая просила его за Артемидора. Странно взволнованному юноше показалось, что он только сейчас увидал всю прелесть этого розового личика. Чудные, полуоткрытые губы, за которыми соблазнительно блестели белые зубки, дышали невинностью, страстью и вместе с тем радостью; выражение изумления и жалость смешивались в ее прелестных детских чертах.
А ее голос!..
В ушах Нерона еще звучало ее восклицание, и им овладело страстное желание заставить ее говорить, несмотря на все чудеса Египта и Вавилона. Тихонько и незаметно подался он назад. Место его было тотчас же занято другим. Он стоял теперь рядом с девушкой и с трепетом прошептал:
– Ты меня знаешь?
– Да, повелитель! – так же тихо отвечала она.
– Не выдавай же меня!
– Как повелишь.
– Ты одна?
Мгновение она колебалась.
– Одна, повелитель, – робко шепнула она.
– Как тебя зовут? – спросил цезарь.
– Мое имя Актэ.
– Родители твои живы? К какому сословию принадлежишь ты?
– Мои родители умерли. Отец был уроженец Медиолана, мать была гречанка. Оба были несвободные по рождению.
– Невозможно! Ты – рабыня?
– Отпущенница Никодима…
– Того, что иногда занимается философией с Сенекой?
– Того самого.
Среди зрителей раздался оглушительный шум.
– Отлично! Превосходно! – ликовала воодушевленная толпа. – Да здравствует Кир, любимец богов!
Удивительный фокус «Эвридика» окончился, но Нерон не видел его. Он стоял неподвижно, как очарованный, в немом созерцании поразительной красоты девушки. Какая из всех знатных римлянок могла сравниться с ней? Ни одна, ни даже сама Поппея Сабина, молодая жена Ото, по которой весь Рим сходил с ума! А Октавия, будущая императрица! Да, с точки зрения греческого скульптора, Октавия была, быть может, совершеннее, она обладала царственной размеренностью движений, но как холодно, напыщенно и безжизненно было все это в сравнении с распускающейся, благоухающей красотой этой рабыни по рождению!
– Невозможно! – повторил цезарь. – Как называешь ты себя, Актэ?
– Отпущенницей.
– Богиня, – прошептал Нерон, страстно сжимая ее руку. – Дитя, ты не знаешь, как ты бессмертно хороша!
– Повелитель, ты смущаешь меня… Я знаю, что сильные мира любят издеваться над бедными и беззащитными. Но я не могу и не смею думать, чтобы ты, благородный освободитель Артемидора, хотел насмеяться надо мной…
– Насмеяться над тобой? Я хотел бы на руках понести тебя, как сестру. Я завидую Артемидору, как мертвый живущему! Если тебе угодно, милое создание, отойдем отсюда в сторону. Там, у входа, на нас не будут смотреть, а мне нужно так много сказать тебе!
Она молча последовала за ним.
– Право, эта мысль не покидает меня, – душевно продолжал он. – Артемидор! Если бы можно было поменяться с ним!
– Я все-таки думаю, что ты смеешься надо мной! Ты, всемогущий повелитель, и Артемидор! Какая непреодолимая бездна!
– Конечно, но только счастье на его стороне! Артемидор имеет чудное право целовать твой лоб, заключать тебя в объятия… Как доволен и счастлив должен он быть, когда твои розовые уста прикасаются к его губам!
– Я не целуюсь с Артемидором, – твердо сказала девушка.
– Как? Не целуешь брата?
– Он не брат мне, с твоего позволения. Клавдий Нерон упустил из вида, что Артемидор уроженец далекого Дамаска, а отец Актэ – италиец.
– Но ты просила помилования брату…
– Да, повелитель – в смысле назарянского учения. По этому учению, все люди – мои братья.
– Так ты схитрила со мной!
– Право, нет! Спроси одного из наших, обманываю ли я тебя! Мы, назаряне, и в ежедневных сношениях называем друг друга братьями и сестрами, так как мы не признаем никаких различий, в глазах народа разделяющих нас. Мы даем это имя одинаково рабу и благородному, ибо мы все люди по рождению, рабами же, благородными и сенаторами делает нас или случай, или же насилие и несправедливость прежних поколений…
Цезарь блестящими глазами смотрел в ее прелестное лицо.
– Девушка, – произнес он, одурманенный ее обворожительной женственностью, – ты весенний цветок, а говоришь с мудростью пифагорейца. То, что ты сказала, не больше и не меньше, как самая суть философии, внушенной мне Сенекой. Ты глубоко пристыжаешь меня. Я считаю себя со своими воззрениями стоящим выше избраннейших, и вдруг нахожу едва расцветающую девушку, чувствующую то же самое, что и я, но выражающую эти чувства яснее и совершеннее, чем мой уважаемый учитель! Или это все сон? Или Платон с Сократом и Зеноном слились воедино, чтобы снова воплотиться в этом юном существе?
При последних вдохновенных словах императора лицо его озарилось внутренним огнем, облагородившим его черты и движения. Большие глаза его впились в темно-голубые глаза Актэ. Полные, едва покрытые молодым пушком губы задрожали так красноречиво, что сама неопытность поняла бы волновавшее его чувство. Это было бурное, пламенное признание первой безумной любви. Но глаза, следившие за императором из толпы, конечно, нельзя было назвать неопытными; лукавый Софоний Тигеллин следил за сценой между императором и краснеющей девушкой с удовольствием учителя, видящего, как всходят посеянные им семена. Клавдий Нерон был теперь близок к тому, чтобы признать ослом заносчивого философа Сенеку и принять за правила жизни то, что доселе составляло лишь исключение.
Малютка с волнистыми белокурыми волосами и созданным для поцелуев ротиком была прелестна. Если бы Нерон так неожиданно не попался на удочку, быть может, сам Софоний Тигеллин не отказался бы… Теперь, конечно, об этом нечего и думать, но, в сущности, это все равно, так как Софоний Тигеллин мог выбирать среди красивейших и знатнейших, ему стоило лишь протянуть руку, и даже сама Поппея Сабина готова была поднести некое украшение своему супругу… Да, да, в этом блестящий Тигеллин не сомневался, и намерен был вскоре заняться этим. Теперь же он был доволен, весьма доволен походом на Марсово поле; против всякого ожидания, Нерон отлично играл ему на руку.
Другая пара глаз, незаметно следивших за императором и его молодой собеседницей, принадлежала Никодиму. Его шпионы и лазутчики донесли ему, каким образом Тигеллин и Нерон намеревались провести время между завтраком и обедом. Он тотчас же поспешил с Актэ на Марсово поле и, увидев императора, быстро отошел в сторону, предоставляя все остальное сметливости молодой девушки. Актэ, прибывшая в Рим лишь несколько недель тому назад (до этих пор, она ходила за больной родственницей Никодима в Остии) в кругу назарян стала уже почти знаменита чудесной силой убеждения и успешностью своих попыток в обращении язычников; обращенные ею последователи Христа считались десятками. И неутомимый, пламенный Никодим решил достигнуть намеченной им великой цели уже не только через посредство Сенеки, но гораздо более прямым путем, сведя императора с увлекательно красноречивой проповедницей нового учения. Никодим, бывший глава крупного торгового дома, познакомился с религией назарян во время одного из своих путешествий на Восток. Смерть любимого сына укрепила в его жаждавшем утешения сердце убеждение в божественной истине христианства и когда эта вера победоносно извлекла его из бездны отчаяния после тяжелой потери, он начал всем сердцем стремиться к тому, чтобы спасительное учение восторжествовало над заблуждениями государственной религии Рима. Хорошо знакомый с философией Сенеки, которому в былые времена он оказывал значительные денежные услуги, Никодим с радостью видел внутреннюю связь между учением Иисуса и полным презрения к миру стоицизмом; на этом-то и основывалась его безумно смелая надежда обратить питомца Сенеки в последователя Сына назаретского плотника.
Актэ казалась ему созданной для того, чтобы быть его орудием, не только по ее горячему, сердечному красноречию, но и потому, что она – хотя он сам себе не хотел сознаться в этом, – была воплощением безукоризненной красоты и женственности. Она повлияет на ум Нерона, быть может, даже на его сердце, но что за беда, если на этот раз, в виде исключения всеспасительная вера проникнет на крыльях земной, скоропреходящей любви? Актэ ведь знает свой долг… В последнюю минуту она найдет в себе силу спасти свою добродетель от бурного потока страсти.
Так рассуждал Никодим…
В глубине же сердца и почти безотчетно для него самого шевелилась мысль: «А если бы и погибла одна эта овца, то погибель ее послужит во спасение всему стаду».
Безумец забывал, что из худа и позора никогда не выходит добра; он был не в состоянии беспристрастно оценивать ситуацию.
С почти демонической радостью смотрел он теперь на быстро возраставшую приязнь между его отпущенницей и Клавдием Нероном. Все это выходило удачнее, чем он смел когда-либо надеяться. На лице императора не было и следа легкомысленной шутливости, обыкновенно отражающей завязку известных отношений с красавицами низшего сословия; напротив, черты его скорее выражали почтительное сочувствие и почти робкое обожание. Если Актэ сумеет умно повести дело, то сердце этого богато одаренного природой юноши в ее руках уподобится мягкому воску.
Беседа между императором и отпущенницей продолжалась. Вдруг Нерон, не в силах преодолеть своих чувств, схватил за руки девушку и страстно прижал их к груди.
– Актэ, – сказал он, – ты уничтожила меня сладкой музыкой твоих речей, божественной прелестью и умом твоих синих глаз… То, что ты очертила лишь несколькими словами, пробуждает во мне могучие, необъятные образы! Будем друзьями, Актэ, настоящими, сердечными друзьями! Теперь только понял я стих юного Лукана, где он говорит, что всякое откровение исходит от женщины. Ты, Актэ, обладаешь чистотой и силой воли, у меня же есть власть. Мне стоит лишь поднять руку и все в мире изменится, подобно тому, как изменяются эти игрушки под волшебным жезлом Кира. Если мы мужественно будем поддерживать друг друга… О, как ты прекрасна, как божественна и очаровательна!
И он со страстной нежностью поцеловал кончики пальцев краснеющей Актэ.
Она старалась высвободить свои руки, и он выпустил их, уступая ее молящему взору скорее, чем ее усилиям.
– Приди ко мне в Палатинум, – продолжал Нерон. – Вот этот перстень откроет перед тобой все двери ко мне во всякое время. Сенека должен узнать тебя. Мне кажется, что ты глубже постигаешь великие цели назарянства, нежели Никодим. Согласна ты, Актэ?
Осторожно сняв перстень с печатью, он подал его девушке, как жених подает розу невесте.
– Благодарю, повелитель, – смущенно произнесла Актэ, – но внутренний голос говорит мне, что я не должна принимать твой перстень и также что мне неприлично переступать порог дворца.
– Пустяки! Если этого требует сам цезарь! А, ты боишься за твое доброе имя? Конечно, коварная злоба тем скорее бросается на свою жертву, чем она милее и прекраснее. Так приходи в сопровождении Никодима…
– Может быть, повелитель!
– Отчего ты не скажешь просто: да? Разве это не похоже на предопределение, что мы снова встретились здесь после того, как я впервые увидел тебя несколько дней тому назад, когда ты уже возбудила симпатию в моей душе?
Актэ сильно покраснела и как бы со стыдом, молча опустила глаза.
– Так ты придешь? – повторил император.
– Я посмотрю, могу ли я это сделать.
– Как ты пылаешь, Актэ! Или ты думаешь, что я хочу обидеть тебя? Ты будешь моей сестрой, моей любимой сестрой, иначе я умру от тоски. Понимаешь ли ты? Нерон протягивает тебе братскую руку, Нерон, чьей благосклонности униженно заискивают цари!
– О, я знаю цену этой благосклонности! – звучным, сильным и убежденно-радостным голосом отвечала девушка.
Нерон был в опьянении.
– Так решено, дорогая, прелестная! Как удачно придумал Тигеллин привести меня на Марсово поле как раз теперь! Это стоит всех сокровищ империи! Ведь он, глупец, человек минуты, враг мысли, но тем не менее он дал мне больше, чем Сенека со всей его мировой мудростью!
Оглушительные возгласы одобрения и вслед за тем громкий звук труб возвестили конец представления.
– Повелитель, – шепнула Актэ, заметив что Нерон собирается следовать за ней к выходу, – если ты желаешь мне добра, то оставь меня. Меня могут заметить, и ты не подозреваешь, какое жестокое и бессердечное осуждение может пасть на меня.
– Хорошо, Актэ! Видишь, я уже покорен тебе почти как раб. Но ты возьмешь перстень? Я прошу тебя от всего сердца!
– Хорошо… – с волнением отвечала она.
Тяжелый золотой перстень скользнул на ее средний палец и пришелся впору, точно был сделан нарочно для нее. Странное чувство овладело ею: это было наполовину радость, наполовину грусть и предчувствие грядущей беды. Ей казалось, что на нее надета цепь, которую уже не разорвет никакая земная сила.
Глава IV
Поспешно протиснувшись сквозь толпу, Актэ вышла из палатки, незамеченная Никодимом. Ее влекло непреодолимое стремление остаться в одиночестве под впечатлением удивительной встречи.
При мысли о том, как ее господин будет расспрашивать ее, как начнет со всех сторон истолковывать каждое слово, сказанное императором, ею овладевал несказанный страх. Ей казалось, что чужая, бесчувственная рука будет рыться в ее драгоценнейших сокровищах. Прежде чем это случится, она хотела хоть короткое время быть их единственной обладательницей, хотела без помехи насладиться только что пережитым и собраться с мыслями.
Почти полчаса ходила она по отдаленным окраинам Марсова поля, с сомнением поглядывая на перстень, надетый на ее палец. Все это казалось ей сном.
На ее руке перстень с императорской печатью, данный ей самим всемогущим цезарем! Не походило ли это на сказку древних пелазгов? В те далекие времена, облеченные эфирным светом Уранионы спускались к дщерям человеческим и приносили небесные громовые стрелы к ногам пастушек Эты. Но здесь, в этой действительности шумного Рима, где повсюду раздавалось вовсе не сказочное бряцанье преторианского оружия, здесь, на берегу Тибра, где все дышало такой новой, полнокровной жизнью – это было непостижимо!
Взор ее устремился в сторону Вечного города…
Несмотря на прозрачность октябрьского дня, южный горизонт подернут был красноватой дымкой. Вдали виднелись залитые солнцем храмы Капитолия; справа от него высились башни Палатинума, резиденция цветущего юноши, властителя всего этого необозримого моря построек, всей Италии, всего мира, – властителя, так горячо, любовно, безгранично доверчиво говорившего с ней, рожденной рабыней!..
Она вздохнула.
– Если бы он был одним из этих жалких рабов, таскающих камни для строительства! – печально думала она. – Я отдала бы все, что имею, за его выкуп; я работала бы целые годы, если бы имущества моего было мало для этого, а потом…
Она закрыла глаза.
Тихий голос внезапно произнес ее имя.
Перед ней стоял человек лет около сорока, в одежде вельможи, с видимым усилием старавшийся придать ласковое и приветливое выражение своим сверкающим серым глазам.
– Актэ, – сказал он, – ты бродишь одна, подобно тоскующей Деметре. Смеет ли новый друг предложить тебе свое сопровождение?
– Господин, я не знаю тебя.
– Этому легко помочь. Мое имя, полагаю, окажется тебе менее чуждым, чем мое лицо. Я Паллас, доверенный императрицы.
– Паллас! – вскричала она с испугом, точно совесть ее была не совсем чиста. – Имя это всем известно и… страшно.
– Оно должно быть страшно только тем, кто не оказывает моей повелительнице должного почтения, не признает мудрости ее действий, противится ее славным целям, или каким-нибудь иным способом грешит против божественной императрицы. Я возвысился милостью Агриппины; благодаря ей я достиг своего настоящего положения, но признательность и верность я все-таки считаю высшими добродетелями!
В глубокой задумчивости смотревшая на перстень императора, Актэ внезапно откинула со лба свои чудные волосы и почти смело спросила:
– Откуда знаешь ты меня и что нужно тебе?
– Я видел тебя недавно, когда цезарь помиловал отпущенника Флавия Сцевина. Я был во главе императорской свиты.
– Да? Я не заметила тебя.
– Это не очень лестно. Но ты была так поглощена своими мыслями, что я прощаю твою невнимательность. Быть может, мне понравилось именно твое увлечение. Ты показалась мне олицетворением сладкого спокойствия посреди вечно мятущейся столицы. Короче: ты очаровала меня…
– К чему говоришь ты мне это?
– Странный вопрос! К чему амфоре говорят о жажде? Я люблю тебя, Актэ, и молю богов, чтобы они расположили ко мне твое сердце.
– Мольбы твои напрасны, – отвечала девушка. – Я не могу любить. На такой вздор у меня нет ни склонности, ни уменья.
– Ты называешь вздором блаженнейшую и единственную отраду жизни? Актэ, Актэ, что говоришь ты? Ты не можешь любить с твоими мечтательно-страстными глазами и прелестными устами, созданными для сладких поцелуев? Обманывай кого-нибудь поглупее меня!
– Я не могу любить, – печально повторила она. – А если бы и могла, то неужели ты думаешь, что я согласилась бы опозорить себя?
– Опозорить? Разве любовь Палласа позорна?
– Для тысячи других, наверное, нет. Поверь, несмотря на мою молодость, я знаю свет и его порочность. Я знаю, как думают римляне о девушках-отпущенницах, знаю, что имя это почти равнозначно разврату и легкомыслию… Многие, очень многие почли бы себя счастливыми разделить свой грех с тобой; ты могуществен и богат, и на возлюбленной Палласа должен отразиться блеск правящего миром добра. Я же презираю подобное возвышение, которое в действительности есть только позор, презираю потому, что прежде всего отвращение к таким поступкам лежит у меня в крови, а к тому же Иисус Христос Назарянин, которому я предана всем сердцем, завещал нам добродетель и чистоту мыслей в жизни.
Паллас помолчал.
– Ты не сказала мне ничего нового, Актэ, – медленно произнес он наконец. – Можно было сразу догадаться, что девушка, просящая помилования назарянину, сама назарянка. Никодим подтвердил мне это. Мне известно также твое отношение к нему; его я знал, встречаясь с ним иногда у Сенеки… Итак, твое гордое возражение меня нисколько не удивляет, но в то же время и не убеждает.
– Почему?
– Потому что ты отвергаешь то, чего не испытала, Актэ! Я вижу тебя в третий раз. Третьего дня, в доме Никодима, я имел полную возможность наблюдать за тобой… Невидимый тобой, я стоял в таблинуме с седоволосым чудаком. Подобно молодой лани двигалась ты по каменным плитам; ты говорила с рабами и для каждого находила приветливое слово; ты поливала осенние розы, кормила голубей зерном и хлебными крошками; один луч присущего твоей душе света ты уделила даже на долю старой больной собаки, лежавшей у бассейна и при виде тебя завилявшей хвостом. Тогда я решился при первом же случае сказать тебе, как я завидую животному, находящемуся в блаженной близости от тебя; сказать тебе… Но что с тобой?
– Ничего, ничего! – с трудом произнесла Актэ. – Пустая мысль… воспоминание… – Она закрыла глаза рукой. Теперь, когда она поняла, что Паллас говорил ей об истинной, настоящей любви, вдруг с поразительной ясностью и живостью перед ней возник образ цезаря в ту минуту, когда он в первый раз восхищался ее красотой; и вместе с этим образом в душе ее поднялась такая сладко-мучительная боль, что она едва удержалась на ногах. Она скоро оправилась, и Паллас с возрастающим жаром продолжал:
– Надеюсь, не мои слова испугали тебя? Или я слишком увлекся? Но в моем возрасте уже не тратят на ухаживанье недели и месяцы. Говорю прямо: Паллас, доверенный императрицы, страшный Паллас, как ты сама назвала его, – хочет иметь тебя своей женой. Слышишь, Актэ? Законной женой, а не любовницей! Что ты ответишь ему?
– Что я благодарю его, – опустив глаза, прошептала она, – и прошу простить меня, если я все-таки отвечу – нет.
– Ты говоришь в лихорадочном жару!
– Нисколько, господин! Именно ясность моих мыслей и придает мне мужество отказаться от этой чести. Такая девушка, как я, не подходит знатному вельможе…
Он покачал головой и положил правую руку на плечо Актэ, устремив сверкающий взор на ее дрожавшую от волнения стройную фигуру.
– Должен ли я сказать тебе, что ты несомненно подходишь мне? Должен ли я унизиться перед тобой? Разве тебе не известно, что я сам рожден несвободным? Антония, мать императора Клавдия, много лет тому назад подарила мне свободу и собственными усилиями я занял положение, которому теперь завидует весь Рим: поверенного божественной Агриппины.
– Да, я знаю, – возразила девушка. – Тем не менее нас разделяет бездна. Какую жалкую роль стала бы я играть в блестящем обществе Палатинума? При одной этой мысли у меня кружится голова.
– Ты не можешь бояться сравнения ни с кем.
– Нет, нет, мне страшно подумать об этом. И к тому же, господин, ведь я уже сказала тебе, что у меня есть душа и нет сердца. Я тебя не люблю, а сделаться твоей женой без любви – значило бы обмануть тебя.
Паллас нахмурился. Он не ожидал такого прямого отказа, и гордость его была уязвлена.
– Девушка, – сказал он, помолчав, – ты поступаешь, как безумная. Я держал в моих объятиях дочерей сенаторов, не особенно церемонясь, а ты отказываешься разделить мою жизнь и положение как моя законная жена? Твое ребяческое упорство так же безумно, как моя неслыханная решимость жениться на тебе. Но я не могу изменить этого: ты очаровала меня с первого взгляда и теперь, когда вместо того, чтобы отдаться мне со слезами благодарности, ты отвергаешь меня, я еще яснее чувствую, что не в силах отказаться от тебя. Подумай, Актэ! Поверенный императрицы ведь не первый встречный, и тот, кто не умеет схватить свое счастье, когда оно само дается в руки и, быть может, всю жизнь будет оплакивать это легкомысленно пропущенное мгновение. Итак, пока прощай! На большой дороге меня ждет моя свита.
И многозначительно склонив голову, он исчез за миртовой изгородью. Между тем уже вечерело. Час ужина давно миновал. Массы оживленно двигавшихся по широким аллеям носилок и пешеходов исчезли, и наступившая тишина, заменившая этот шум, ощущалась еще явсвтвеннее при горячем, красно-золотистом вечернем освещении.
Акта незаметно дошла до Элийского моста; пройдя по выложенному мрамором боковому настилу, она достигла средины моста и остановилась, опершись о перила. Отсюда, с вершины главной арки, ежегодно бросались в воду сотни людей, которым наскучила жизнь, потерявшая для них всякий смысл или изнемогших в непрерывной борьбе с судьбой… Внизу со страшно-заманчивым рокотом шумели и пенились желтоватые волны, вздымались и падали, подобно мерному дыханию живого существа. Одна за другой вырывались они из-под квадратных опор моста и, постепенно успокаиваясь, катились дальше, сливаясь наконец в однообразной глади широкой реки.
– Как это утешает! – прошептала Актэ, подпирая лоб ладонью. – Волны приходят и уходят, и даже самые бурные из них все-таки сглаживаются и мирно текут в море!
Долго в раздумье смотрела она на одно место, где около устоев выше всего взлетали пенистые, крутящиеся струи, пока наконец ей почудилось, что она и мост бесшумно и гладко поплыли назад. Это было невыразимо сладкое, дремотное ощущение, так же благодатно освежившее ее потрясенную недавними событиями душу, как глубокий сон освежает утомленное тело. Солнце уже зашло, когда Актэ вспомнила о своих обязанностях и направилась домой.
Повернув в юго-восточном направлении, минут через сорок она достигла Vicus Longus, «Длинной улицы», отделявшей виминальский холм от квиринальского.
На едва приметном косогоре первого из этих холмов возвышались красивые постройки дома Люция Никодима, который нисходя в четвертом поколении от лакедемонян, по своим нравам и обычаям был чистокровным римлянином.
Актэ боялась, что пылкий патрон встретит ее укорами за продолжительное отсутствие, так как еще недавно, верный священной суровости назарян, Никодим выговаривал ей за то, что она в сумерки стояла со служанкой в остиуме. К тому же нетерпеливое ожидание могло также раздражить его.
Но вместо этого при виде ее Никодим просиял. Он дожидался ее в атриуме и, встретив на пороге, провел мимо таблинума в перистиль. В столовой горели масляные лампы. Уже часа два тому назад окончился обед семьи, состоявшей из хозяина дома, его жены, дочери и семи бывших рабов и рабынь, освобожденных своим господином: учение Спасителя так резко противоречило идее рабства, что даже человек такого устойчивого характера, как Никодим, не осмеливался защищать учрежденного государством невольничества. К тому же все домочадцы были обращены и крещены им самим и уже поэтому он не мог оставить на них цепи, духовно разбитые таинством.
– Ты должна быть голодна, – с почти нежной заботливостью сказал он. – Вот идет Лесбия с блюдами. Она оставила для тебя горячее кушанье, Актэ. Ешь, пей, а потом рассказывай.
Актэ опустилась на край застольной софы, на которой Никодим всегда возлежал за обедом.
– Ешь, ешь! – ласково повторял он. – Ты, наверное, совсем измождена. И руки твои холодны, как лед. Вот чудесное везувианское вино… Я нарочно для тебя достал его из погреба… Оно оживит тебя, Актэ. У тебя такой утомленный вид.
– Действительно, я утомлена, – сказала она, поспешно поднося кубок к губам. – Прости, что я не тотчас вернулась с тобой из палатки египтянина…
– Напротив, – усмехнулся Никодим, – я благодарен тебе за то, что ты усердно и решительно принялась за предстоящее тебе святое дело. Я видел, как цезарь относился к тебе. Если ты будешь благоразумна, то Никодим и вместе с ним Божественный Галилеянин победят раньше, чем наступит второе полнолуние.
Все еще с трудом владевшая собой, Актэ печально покачала головой.
– Нет, господин! – глухо произнесла она. – Не сердись на меня, ради Господа Иисуса, но это невозможно…
– Что невозможно?
– Чтобы я… Чтобы я обратила императора Нерона.
– Ты уже обратила его, если только умело воспользуешься тем, что судьба дает тебе в руки. Он был олицетворением доброты и милости…
– Именно поэтому. Он даже пожал мне руки и предложил быть его дорогой сестрой…
– Что такое?
– Да, это были его собственные слова. Он также приглашал меня в Палатинский дворец и то, что я ему говорила, кажется ему точным отголоском его задушевных мыслей…
– Но ведь это поразительное торжество, Актэ! Это значит покорение Рима, водружение креста Господня на стенах Капитолия…
– Это конец наших радостных надежд, – прошептала Актэ. – Господин, я должна рассеять твое последнее сомнение: я не увижу больше императора!
– Ты помешалась, девушка?
– Слава Богу, нет! Давно уже я не находила в душе моей такой ясности, как теперь. Я буду откровенна и прямодушна, так как я многим обязана тебе. Ты не должен думать, что Актэ из одного лишь упрямства разрушает то, что ты задумал так умно и так благородно. Я… я…
Она запнулась. Лицо ее вспыхнуло жгучим румянцем стыда, между тем как Никодим смотрел на нее бледный и с раскрытым ртом.
– Я чувствую, – сказала она наконец, – что не могу выполнить назначенной мне тобой роли, не потеряв себя. Вы все утверждаете, что я умею убеждать лучше, чем наши красноречивейшие пресвитеры… Не знаю, ошибаетесь вы или нет, но мне ясно одно, что цезарь смотрел на меня иными глазами, чем кто-либо из всех обращенных мной в христианство…
– Ну что же следует из этого?
– Просто то, что он… Что он полюбил бы меня…
– Тем лучше!
– Нет, не лучше, потому что и я полюбила бы его. Да я его уже люблю, господин!
– Скоро же это сладилось! – злобно засмеялся тощий Никодим. – Но к чему мне твои глупые признания? Люби его сколько угодно, но исполняй свой долг распространения нашей божественной веры!
– На это у меня не хватает силы.
– Презренная! – вскричал Никодим. – Не завещал ли нам Христос отречься от всего мирского ради вечного спасения? Не повелевает ли Он умерщвлять нашу плоть и обуздывать греховные побуждения, отвращающие нас от стези праведности и добродетели?
– К этому-то я и стремлюсь, – возразила Актэ. – Если бы я хотела повиноваться моим желаниям, то теперь же пошла бы к нему… Быть с ним, в его объятиях, на его груди, полной таких возвышенных, прекрасных и благородных чувств, – вот к чему влечет меня моя греховная, попирающая всякие обязанности, воля. Но, так как последовав этому влечению, я погрузилась бы в бездну позора и унижения, то решение мое непоколебимо. Никакая земная сила не заставит меня вновь увидеться с человеком, близость которого грозит мне погибелью.
– Но если он сам прикажет тебе прийти?
– Скорее я умру, чем послушаюсь его. Цезарь властен над многим, но он не может помешать умереть тому, у кого на это хватит мужества.
Никодим сидел ошеломленный. Потом, внезапно протянув дрожавшие руки, он с рыданием воскликнул:
– Актэ! Во имя Спасителя, пролившего за нас Свою кровь, не упорствуй! Не разрушай идеи, величайшей со времени смерти Христа! Не разбивай будущности назарянства и его дивной, божественной, спасительной деятельности!
– Мир не может спастись грехом!
– Актэ! Могилой твоей матери, умершей в блаженном веровании в милость Господню…
– Могилой моей матери! – воскликнула тронутая девушка. – Твое упоминание об этой святой превращает мою твердость в непоколебимость!
– Так ты не хочешь? Несмотря на мои просьбы и на мои слезы?
– Нет, тысячу раз нет!
Лицо Никодима исказилось. С губ его готово было сорваться ужасное проклятье… Тонкие пальцы его сжимались, как когти хищной птицы, в груди клокотало, покрасневшие глаза метали полные демонической ненависти взгляды.
Но он мгновенно овладел собой и, еще дрожа, налил в чашу вино и выпил его сразу, как человек, умирающий от жажды.
– Ты не хочешь, – беззвучно сказал он, – но цезарь хочет… и Никодим также… пусть же мелкий камешек попробует задержать низвергающийся в долину великий обвал. Ты знаешь меня. Ступай спать, бедная дурочка! Завтра, быть может, к тебе вернется рассудок!
Он вышел из триклиниума; шаги его звучно отдались в колоннаде; дверь тихо скрипнула, и все замолкло.
Удрученная Актэ осталась одна в наполненной ароматом вина столовой. Угрозы ее господина с убийственной ясностью звучали в ее мозгу. Да, она его знала. Несмотря на всю его доброту и справедливость, он был способен на всякое насилие, если встречал противодействие тому, что он считал целесообразным и необходимым. Она сидела и думала. Все тяжелее и тяжелее давило ее предчувствие близкой беды.
Вдруг ей почудилось, что из глубины тускло освещенной столовой какой-то голос говорил ей: «Беги, беги, или ты погибла!»
Безумный страх овладел ею. Цезарь хочет… Никодим хочет… Но она не хочет и потому должна бежать… Одно только бегство могло спасти ее от греха, от борьбы с собственной слабостью и от злобы Никодима.
Тихо, как преступница, прокралась она в свою спальню. Дрожа всем телом и торопясь, точно спасение ее зависело от каждой тающей минуты, начала она собирать самые необходимые вещи. Золотую цепь, наследие матери, она надела на шею как талисман, накинула на себя плотную верхнюю одежду, затушила лампу и выскользнула из дома.
На утро испуганные домашние тщетно повсюду искали и звали Актэ. Постель ее оказалась несмятой; На двери была приколота полоска пергамента с короткой надписью: «Прощайте все!» Ни по малейшему следу невозможно было угадать, куда скрылась девушка. Никодим, терзаемый сомнением и угрызениями совести, молчал о происшествиях последних дней, и ничего не подозревавшая семья его терялась в догадках, отыскивая причины этого неожиданного бегства. Потеря общей любимицы была для всех большим горем. Ее невинная веселость радовала и веселила домочадцев Никодима; блестящие белокурые волосы ее как бы озаряли весь дом небесным сиянием; ее цветущая наружность, голос, звонкое пение – все это оставило за собой пустоту и сокрушение, подобное сокрушению внезапно ослепшего человека, для которого навеки угасло солнце… Никодим утешал горько плакавшую жену, говоря что-то сквозь зубы о «девичьих капризах», «экзальтации» и о том, что «она скоро возьмется за ум», а затем отправился в префектуру заявить о происшествии. Оказалось, что в отделении префектуры, куда он обратился с этой целью, по случаю оказался и Фаракс, начальник конвоя, который неделю тому назад вел на казнь осужденного Артемидора.
Они узнали друг друга. Услыхав в чем дело, Фаракс воспламенился. Он провел Никодима прямо к префекту и, говоря о милости, лично оказанной молодой девушке Клавдием Нероном, многозначительно заметил, что цезарь, наверное, огорчится, если беглянку постигнет какая-нибудь неприятность.
Префект протянул руку Никодиму.
– Мои военные и гражданские когорты обучены недурно, – сказал он. – Мы разыщем девочку, будь в этом уверен! Впрочем, я готов поставить на заклад моего лучшего скакуна, что раньше чем мы начнем серьезно выслеживать ее, она вернется сама!
Однако она сама не вернулась и когортам префекта также не удалось выследить ее.
Две недели разыскивали Актэ, прибегнув даже к помощи настоящих охотников за рабами, но все напрасно.
Нерон, снедаемый тайной тоской, как бы из участия к безутешному Никодиму назначил значительную награду за розыск девушки и приказал своим преторианцам оказывать всевозможную помощь городским когортам. Но наконец и он должен был примириться с мыслью, что прелестная, очаровательная Актэ, наполнившая его сердце такой божественной музыкой, исчезла навеки и бесследно.
Глава V
Зима прошла, и снова наступила весна.
Яркое апрельское солнце обливало землю живительными лучами божественных небес, лучами, превратившими аристократические кварталы Рима в один цветущий сад. Источники Aqua Claudia и Marcia пенились изобилием вод. Форум и Священная дорога казались покрытыми снегом, столько по ним двигалось гуляющих в белых одеждах. Народные поэты вдохновлялись новыми фантазиями; юноши убирали своих избранниц пурпуровыми розами; девушки мечтали о будущем счастье.
В противоположность своим счастливым подданным, суровый и мрачный цезарь Клавдий Нерон прогуливался в колоннаде в сопровождении своего советника и бывшего наставника Сенеки.
Разговор их часто прерывался продолжительными паузами, и тогда министр украдкой старался заглянуть под опущенные ресницы императора, чтобы разгадать поглощавшие его мысли…
Как изменился молодой цезарь после посещения им палатки египетского кудесника! Бледность его лица говорила о тайной, никому не ведомой внутренней борьбе, о вечной работе пытливой мысли, хотя стремившейся к творчеству, но до сих пор еще не проявившейся ни в какой определенной форме. Действия рождаются лишь из божественной надежды, из веры в их необходимость и мужественного убеждения. Быть может, и сердечная тоска также подсекала крылья молодого императора.
Искусство, доселе бывшее для него радостью жизни, внезапно сделалось ему ненавистно. Творения его любимых авторов лежали в библиотеке неразвернутыми; ни эпос, ни лирика не привлекали его; позабытая арфа печально пряталась под лавровыми венками, поднесенными ему истинными и притворными почитателями его таланта, и давно уже замолкли его веселые песни.
Со времени исчезновения Актэ он всецело посвятил себя философии и добросовестному обсуждению того, что Никодим вместе с Сенекой представляли ему как высшую задачу истинно великого духом правителя.
В этом направлении уже были приняты некоторые меры…
Воспоминание об Актэ, подобно ободряющему гению, повсюду сопровождало мятущуюся душу цезаря. Ведь и она исповедовала религию назарян: смел ли Нерон сомневаться в ней?
Однако он сомневался; сомневался менее, быть может, в спасительности великого переворота, которого от него ожидали, чем в возможности его выполнения.
Да, если бы его сердцу говорила Актэ, живая Актэ, с ее сладким, вкрадчивым голосом, все его колебания растаяли бы, как вешний снег. Но этого не могло сделать одно только воспоминание о ней и хотя оно наполняло его ум священным уважением, которое мы чувствуем к дорогим мертвецам, но вместе с тем, порождало в нем глухую, подавлявшую и угнетавшую его тоску. Роковая загадка!
Какой злобный демон похитил у него звезду его жизни? Как и зачем? На эти вопросы он не находил ответа, а Никодим, знавший о причине бегства Актэ, считал за благоразумнейшее молчать.
Шаги императора и его ближайшего советника зловещими звуками отдавались в пустынной колоннаде. Сюда не показывался ни один раб, ни один преторианец: все чувствовали, что перед наступлением бури благоразумнее держаться в стороне.
– Ты кажешься очень расстроенным, повелитель, – заметил Сенека, приметив, что Нерон с каждой минутой становился все мрачнее.
– Может быть, – отвечал он.
– Так последуй совету опытного друга, который тебя любит и безмерно гордится тобой!
Нерон вздохнул. Написанное на его юношеском лице утомление составляло разительную противоположность ясному спокойствию и довольству, разлитым в старческих чертах его спутника, верившего в свою силу и цель.
– Если ты хочешь победить твое мрачное настроение, – продолжал Сенека, – то принудь себя обратить мысли на то, что далеко от предмета твоей заботы!
– Это легко сказать, – возразил цезарь. – Вздернутый на колесо Иксион, вопреки всей философии, не будет в состоянии думать ни о чем, кроме своих страданий!
– Так ты страдаешь, цезарь? Я думал, что тебе не так трудно будет сдержать данное мне обещание. Неужели ты так скучаешь по беседам с Тигеллином, по уличным приключениям и ночным попойкам?..
– Может быть. Тигеллин был моим верным товарищем, преданным другом. Несправедливо, что я начал так пренебрегать им.
– И теперь, как прежде, ты можешь доказать ему твою благосклонность; но конечно, он не годится в товарищи цезарю, задумавшему столь великое и славное дело… Дорогой сын! Я понимаю, что у юности есть свои права… Но все-таки: величие императора, как бы молод и цветущ он ни был, основано на умеренности. Несомненно, что строго придерживаясь начертанных мной и одобренных тобой основ правления, ты приносишь жертву; но жертва эта необходима, если ты желаешь достигнуть намеченной тобой цели: освобождения человечества. Никто не поверит твоему сочувствию народным страданиям, если ты сам будешь жить в пучине безумных наслаждений.
– Жил ли я так когда-нибудь? – с горечью спросил цезарь.
– Поистине, нет! Ты предоставил это сенаторам и выскочкам, утопающим в золоте, в то время как бедняки и несчастные не имеют одежды, чтобы прикрыть свою наготу.
– Ну так в чем же обвиняешь ты меня?
– Я только хотел сказать: решившись на великое дело, ты не должен отступать перед связанными с ним неприятностями и огорчениями: ни простота твоей частной жизни, ни изумление прежних друзей, ни упреки твоей супруги Октавии, ни даже постоянное неудовольствие Агриппины…
– Разве я выказал слабость в этом отношении?
– Ты исполняешь свой долг насколько это тебе возможно. Но все-таки раздаются голоса, утверждающие, что было бы лучше для общего блага и приличнее для достоинства римского императора, если бы он немного отстранил императрицу-мать от занятий государственными делами.
– Так говорит Сенека, совместно с Агриппиной воспитавший Клавдия Нерона?
– Прости за смелость; но я должен сказать это. Благороднейшие люди Рима разделяют мое мнение. До сих пор все еще шло сносно, но я опасаюсь, что наступит время, когда Агриппина станет на нашей дороге. Она есть совершеннейшее воплощение именно того нефилософского мировоззрения, против которого мы восстаем. Мы стремимся к равенству и справедливости, она же вырывает непроходимую бездну между богатым и бедным, знатным и простым, свободным и рабом. Хотя незнакомая с назарянским учением, она его пламенная противница…
Император остановился.
– Сенека, – странно сдержанным голосом спросил он, – ты действительно веришь, что век наш созрел для гигантских планов Никодима?
– Созрел ли? Разве заурядная толпа когда-нибудь созревает для великих исторических переворотов? Только мыслящее меньшинство трудится над осуществлением новых идей, большинство же, естественно, оказывает им сопротивление. Но разве спрашивают больного ребенка, кажется ли ему целебное лекарство сладким медом? Так и ты, не смотри на эгоизм сенаторов, не хотящих ничего знать о своем человеческом сродстве с рабами и мещанами! Насильно влей им в рот жгучее лекарство, и пусть они ревут, как Филоктет!
– Да, да, это одно уже было бы торжеством, – задумчиво сказал император. – Я ненавижу сенаторов…
– С некоторыми исключениями, конечно; например, Флавий Сцевин…
– И Тразеа Пэт, – докончил цезарь. – Это истинные люди и мыслители, которых я почитаю столько же, сколько тебя, мой дорогой Анней.
– Не почитай меня, а люби! – отвечал старик.
Нерон молча пожал ему руку.
– Эти немногие, – продолжал Сенека, – поддержат нас в борьбе, а их влияние имеет больше значения, чем общее противодействие их неспособных товарищей. Философия на престоле – это величайшая из когда-либо существовавших идей. Я не верю в благочестивые, мечтательно-трогательные вымыслы Востока, которые нам рассказывает Никодим, но смысл их верен и, при настоящем положении вещей, они составляют единственно возможный путь к тому, чтобы сделать доступными и понятными народу самые возвышенные истины стоиков, вместе с основами и нашего нового учения.
Нерон опять остановился.
– В этом-то я и сомневаюсь, – сказал он.
– Как? После того, что вчера только сообщил нам Никодим о палестинских христианах, о их презрении к пыткам, спокойствии и готовности к смерти, которые они проявляют в борьбе с их иудейскими преследователями?
– Да, дорогой Анней! Я не остался бесчувственен к этому красноречивому описанию, но в то же время духом моим овладело тяжкое угнетение. Как мне выразить это? Меня пугает до глубины души мировоззрение, совершенно пренебрегающее земной жизнью, отрицающее все прекрасное и приятное, из одной лишь боязни, чтобы искушения эти не отвратили душу от вечности и от заботы о загробной жизни. Что нам – тебе и мне – в этом бесцветном назарянстве, если мы не верим в их небо?
Сенека закусил было губы, но вдруг величаво выпрямился и медленно произнес:
– Я верю в него, повелитель! Конечно, иначе, чем робкие женщины, скрывающиеся в глубине катакомб от ненависти наших жрецов и презрения высокомерной черни, но все-таки я верю в него. Бытие наше вечно; мы составляем частицу бессмертного божества; осужденные здесь на единичное воплощение, после смерти мы теряем индивидуальность нашу и вновь соединяемся с изначальным источником света.
– После смерти! Но ведь мы живем пока! Неужели мимолетная жизнь эта должна пройти в печали для того, чтобы сделалось возможным воссоединение наше с вечностью? Неужели необходимо мне здесь утратить все, чтобы по ту сторону моего погребального костра найти лишь продолжение безличного бытия?
– Что? Что утратил ты? Говори, сын мой! Давно уже я примечаю, что тебя пожирает печаль, посторонняя нашему делу…
Нерон принужденно улыбнулся.
– Ты ошибаешься, – с достаточной правдивостью отвечал он. – Со мной не случилось ничего нового. То, чего мы достигли, даже радует меня. В особенности же наш эдикт о чужестранных религиях… это твое создание, дорогой Анней…
– Твое, – возразил министр. – Я лишь поднял вопрос, ты же осуществил его. И как осуществил! Вопреки твоей матери, которая, подстрекаемая своим пажом Палласом, объявила все это плебейским вздором; вопреки верховному жрецу и жрецу Юпитера, горячо восставшим против возрастающей смелости восточной и египетской ересей; вопреки твоей супруге, ежечасно ожидавшей, что над нами разразятся страшные юпитеровы громы; наконец, вопреки глупости, вооружившейся на тебя со всех сторон. Ни один обитатель, ни один раб семихолмного города не будет больше преследуем за свою религию! Никакие римские предрассудки не принудят его приносить жертвы государственным богам! Это ли не славное торжество философии?.. А ты все-таки печален?..
Лицо императора прояснилось.
– Да, ты прав, – сказал он, протягивая руку советнику. – Я мог бы быть доволен. Мы уже кое-что совершили; конечно, это только одни приготовления, но тем не менее они славны и возвышенны. Владычество долга – самое слово это звучит подобно божественной трубе, оно вливает в меня силу воздержания и самоотречения. Но я ведь смертный, часто и легко поддающийся своей слабости… Наяву и во сне меня томит страстная, неутолимая жажда счастья…
– Счастье заключается в исполнении нравственных законов, – сказал министр.
– Я исполняю их, но счастье все-таки не рассеивает мрака моей жизни.
– Но чего же тебе недостает? Ты – цезарь, философ, супруг прекрасной, любящей Октавии, готовой умереть за тебя… Хотя она по-своему и противодействует тебе…
– Если бы дело было только в этом! Противодействует! Не думаешь ли ты, что я так нетерпим? Как императрица и супруга, она имеет право выражать свое мнение. Конечно, признаюсь, меня дрожь пробирает, когда по вечерам мне толкуют о гневе всемогущего Юпитера… Но если бы и было иначе, если бы и она была сторонницей свободы, все-таки я не нашел бы успокоения. Не постигаю, что отталкивает меня от нее. Часто мной овладевает почти жалость, и я сам себе кажусь преступником, бесчувственным к ее бесконечной доброте; но все-таки… Вот в чем мое несчастье!
– Ты не любишь ее, – с огорчением сказал министр.
Нерон вздохнул.
– Любовь… любовь! Мне кажется, она увлекает человека как ураган… Она ошеломляет, наполняет сердце смертельно-томительным желанием и в то же время разливает в жилах огонь… В разрывающейся груди нет места для иных мыслей, кроме мыслей о ней! Все, все можно отдать за обладание ею… Даже престол и благодетельную, мировую мудрость Стой…
Страстное воодушевление цезаря росло с каждым словом, и он крепко прижал руку к сердцу, как бы для того, чтобы обуздать бушевавшую в нем бурю.
– Ты так любил! – прошептал Сенека, пораженный внезапным откровением.
– Да! Я должен высказаться хоть раз! Я любил! Любил белокурую, прелестную, божественную девушку, Актэ, отпущенницу Никодима! Горе мне! Счастье мое разбилось прежде, чем я успел вкусить его! Эта очаровательная, обожаемая Актэ, клянусь могилой моего незабвенного отца Домиция – сделалась бы императрицей, если бы нас не разлучила глупая, непостижимая судьба!
– Как? Отпущенница на престоле Палатинского дворца?
– Твое изумление противоречит главному основанию твоей философии, – отвечал цезарь. – Повторяю: я отказался бы от выполнения завещания императора Клавдия; Октавия скоро утешилась бы, а единственная и несравненная Актэ стала бы моей женой. Рукоплещи же, Сенека! Назарянка на престоле – это был бы самый отважный шаг к осуществлению твоего общественного переворота!
– Правда, – пробормотал Сенека, – но я опасаюсь…
– К несчастью, тебе решительно нечего опасаться, – прервал его цезарь. – Императрицу Рима зовут Октавией… Актэ исчезла, как потухший метеор, и Нерон научился обуздывать свои мечты. Но прекратим этот роковой разговор! На сегодня я хочу забыть все заботы и превратиться в эпикурейца. Приглашая императора к себе в гости, Флавий Сцевин, естественно, ожидает найти в нем приятного собеседника.
– Как повелишь. Я спешу переодеться.
Глава VI
Полтора часа спустя густая толпа теснилась перед входом в императорский дворец. Часовые, стоявшие здесь с копьями в руках, едва могли сдерживать напор любопытной массы. Ступени и цоколь соседнего храма были сплошь усеяны народом; на позолоченные статуи карабкались подростки и даже между высокими колоннами палатинского подъезда мелькали любопытные зрители.
– Идут! – раздался вдруг восторженный детский голос.
В возбужденной толпе пробежал ропот как перед началом нетерпеливо ожидаемого представления.
После своего союза с молодой Октавией, император показывался теперь впервые на городских улицах в торжественной процессии, направляясь в дом сенатора Флавия Сцевина, дававшего блестящий пир в честь высокой четы. Впереди медленно ехали два военных трибуна в серебряном вооружении. За ними следовал небольшой отряд преторианцев с огненно-красными перьями на блестящих шлемах; позади них тридцать рабов в вышитых золотом одеждах несли каждый по два незажженных факела. Копья преторианцев, также как факелы рабов, увиты были розами.
– Императрица-мать! – раздались в народе изумленные голоса.
– Как? И в этом даже Агриппина хочет принимать участие?
– Невероятно!
– Это было простительно, пока цезарь не был еще женат.
– Это оскорбление для светлейшей Октавии!
– Берегись, Кай! А в особенности ты, дерзкий Семпроний! Кругом кишат шпионы.
– Шпионы? Что нам до них? Мы защищаем права императора.
– И римские обычаи.
– Покойный Август никогда не потерпел бы этого.
– Нерон любит свою мать.
– Клянусь Геркулесом, если бы он знал…
– Молчи! Или тебе не дорога голова?
Такие и подобные разговоры слышались при появлении роскошных носилок, с достоинством и ловкостью несомых всем известными сигамбрами.
На мягких подушках вместе с императрицей восседала ее фрейлина, испанка Ацеррония.
Двадцатилетняя странная девушка эта, казалось, соединяла в себе опытность матроны с невинной беспечностью ребенка. Иногда в ее сине-зеленых глазах сверкало самое тонкое лукавство; иногда же ее большой, чувственный рот принимал такое детски-наивное выражение, что даже скептик поверил бы в ее простосердечие. В обращении с Агриппиной она совершенно внезапно переходила из тона подруги в тон покорной рабыни, причем в обоих случаях была одинаково неискренна. Ее главную красоту составляли густые, ярко-рыжие волосы, белоснежная кожа и блестящие зубы, при смехе придававшие ее лицу выражение красивой пантеры. Императрица-мать очень дорожила ее обществом, и Ацеррония была единственным лицом, не слыхавшим от своей госпожи ни одного немилостивого слова.
Откинувшись на подушки и подперши рукой свою украшенную жемчугами голову, Агриппина смотрела высокомернее, повелительнее и самоувереннее, чем обычно. Порывы независимости Нерона, несколько месяцев тому назад так неприятно проявившиеся в обнародовании эдикта, о веротерпимости, теперь постепенно слабели. Давно уже он не предпринимал ничего важного без ее совета, принимая ее мнение почти за приказ. Очевидно, эдикт был лишь мимолетной прихотью; она не намерена была затрагивать этот вопрос, так как подобная попытка с ее стороны могла бы снова пробудить почти уже исчезнувший в сыне дух противоречия. Собственно говоря, она имела все поводы быть довольной настоящим положением вещей. Уважение Нерона перед ее высоким умом было едва ли поколеблено… Даже сам Сенека, по-видимому, снова пришел к убеждению, что благоразумная политика невозможна без неограниченного верховенства императрицы-матери, а главное, на ее стороне был начальник преторианцев, честный Бурр, который в случае надобности оказал бы ей энергичное содействие. В последнее время Бурр еще больше запутался в сети своей повелительницы, и она была уверена, что он окончательно, до безумия влюблен в нее, несмотря на то, что она была очень скупа на явные проявления благосклонности.
Непосредственно позади носилок Агриппины шел ее управляющий и частный секретарь Паллас, окруженный толпой рабов.
На шее у него надета была драгоценная цепь, недавний подарок императрицы.
Каких бы упреков ни заслуживала высокомерная женщина, ее нельзя было упрекнуть в неблагодарности, отсутствовавшей среди ее пороков и недостатков.
Овдовевший император Клавдий женился на Агриппине по совету Далласа.
Император, напуганный и опозоренный неслыханным развратом своей казненной наконец супруги Мессалины, сначала противился изо всех сил, но Даллас не унимался. Агриппина, в то время надевшая на себя личину строгой нравственности, действительно казалась ему самой подходящей супругой слабому императору, и, кроме того, она посулила ему такую чудесную награду, что он не только устроил брак, но убедил императора усыновить тогда еще маленького Нерона, сына Агриппины от первого брака.
Она никогда не забывала его услуг. Тайно презираемый аристократами за низкое происхождение, несимпатичный Нерону, Паллас, тем не менее играл весьма значительную роль благодаря милостям императрицы-матери. Негодующие сенаторы не раз бывали вынуждены оказывать любимцу Агриппины блестящие почести и официально выражать благодарность за его услуги государству; а однажды, когда он заболел, они даже воссылали публичные молитвы о его выздоровлении.
Агриппина вполне осчастливила его высшим доказательством своего благоволения. Она дарила ему поместья, виллы, дворцы, рабов, драгоценности, и сверкавшая теперь на его мускулистой шее цепь, быть может, была самым лестным и нежным из всех ее подарков, ибо на каждом звене цепи находились изображения могущественной правительницы.
При дворе Паллас считался одним из немногих, кто вел довольно безукоризненную жизнь.
Отношения его к императрице не носили ни малейшего отпечатка той любезности, которую всегда проявлял в обращении с ней Афраний Бурр.
Много лет назад Паллас был женат, но скоро потерял свою жену, кроткую, покорную гречанку, умершую ужасной смертью. С той поры он исключительно посвятил себя служению разносторонним интересам императрицы-матери.
Попытка ее соединить верного Палласа с фрейлиной Ацерронией потерпела неудачу, скорее благодаря спокойному отказу рассудительного секретаря, чем горячему отвращению рыжей пантеры, которая как дочь кордубанского аристократа, с презрением смотрела на отпущенника и с большой смелостью в присутствии Агриппины говорила ему самые бесцеремонные истины.
Вообще поверенный императрицы не прельщался никем, хотя далеко не все благородные девушки разделяли взгляд на него Ацерронии. Но Паллас вовсе не жаждал нового союза. Его кроткая Андромеда слишком резко отличалась от расчетливых римлянок.
Так думал он до встречи с белокурой, цветущей Актэ.
Тогда внезапно он понял, что она может заменить его потерю. В сердце сорокатрехлетнего человека вспыхнул тот же огонь, который загорелся в нем, когда впервые он увидал на берегу Стабии прелестную фигуру молодой гречанки.
– Теперь или никогда! – подумал он, вспомнив этрусскую песню о колючем кустарнике, давно уже отчаявшемся в себе, а между тем производившем розы… И он улыбнулся не поэтическому образу, но тому, что только теперь вполне постиг смысл этой песни.
Незамеченный Актэ, он второй раз в жизни увидал ее в доме Никодима, а затем между лавровыми изгородями Марсова поля, где он открыл ей свои чувства. Потом она вдруг исчезла, подобно Прозерпине, внезапно похищенной подземным божеством…
Отказ ее был достаточно ясен. Паллас мог только предположить, что причиной ее бегства был он. Поступок этот действительно доказывал ее безрассудный ужас к нему, которого она с самого начала назвала «страшным».
Невыразимая горечь овладела его сердцем. Покоренный ее жертвенным благородством, он, могущественный Паллас, предложил этой безумной свою руку и сердце для прочного союза, вместо того чтобы, как она сама предположила, только добиться ее взаимности; но этот честный поступок возбудил в ней одно лишь отвращение, побудившее ее бежать от него, как от зачумленного!
И она бежала, бросив все, из боязни чтобы он не прибегнул к насилию!
Жалкое разочарование! Мучительное, невыразимое унижение!
Мысль об этом уже несколько недель грызла его. Потерять светозарную Актэ и потерять ее так – это превосходило всякую меру терпеливости!
О действительных побуждениях Актэ он не имел ни малейшего понятия. Усердные розыски цезаря он приписывал его участию к Никодиму, почти другу Сенеки. Знай Паллас истину, он безумствовал бы подобно Аяксу, чей рассудок был помрачен богами.
Теперь, идя за носилками своей повелительницы, окруженный блестящей толпой палатинских рабов, предмет тайной и явной зависти стольких тысяч людей, Паллас примирился со своим разочарованием и, высоко подняв выразительную, энергичную голову, вполне наслаждался своей ролью создателя агриппино-нероновой династии. Тем не менее он казался очень постаревшим.
На сильном человеке, в течении многих лет испытывавшем одно лишь удовлетворение успешностью своей деятельности, а затем внезапно охваченном непреодолимой любовью и тотчас же пораженном горестью разрушенных надежд, события эти оставляют более глубокие следы, чем самые страстные бури в юности.
Свита императрицы-матери шла за золотой лектикой императора и его супруги Октавии.
За этими носилками также следовали тридцать факелоносцев и небольшой отряд гвардии под начальством агригентца Софония Тигеллина.
Блестящий всадник на своем великолепном каппадокийском скакуне ехал рядом с носилками молодой императрицы. По временам конь его пугался шума толпы, что давало агригентцу желанную возможность не только выказать свою наездническую ловкость, но также бросать из-под черных ресниц взгляды на Октавию, с легкой краской на щеках отвечавшую наклоном головы на восторженные приветствия народа.
«Она прекрасна, – думал агригентский сердцеед, – прекрасна, как Диана, но боюсь, что она так же сурова… И он не любит ее, мой всемогущий Нерон! Непостижимо! Просто нелепо! Мне кажется, что если бы в начале моего жизненного пути мне встретилась девушка, подобная Октавии, я никогда не сделался бы неисправимым грешником, так ловко управляющим своим конем. Образ жизни достойного Тигеллина – очень глупая и, в сущности, однообразная история! В каждой цветущей женщине искать небесную Афродиту и всегда находить лишь жалкий обломок, слабое эхо божественной мелодии – это в конце концов становится утомительным. Клянусь Эпоной, иногда мне думается, что в этой комедии мы играем очень смешную роль! Теперь же, впервые… Дерзкий безумец, или ты позабыл Гомера? Конечно, царь Иксион немножко неловко принялся за дело… и… право, она настоящая вавилонская роза, несравнимая с сорванными мной доселе цветами и цветочками… А для героя заманчиво ведь одно лишь героическое!»
Действительно, наружность юной императрицы могла обворожить пламенного агригентца. Прежде живая и веселая, теперь она отличалась необычайной серьезностью и сдержанностью, составлявшими странный контраст с ее кроткими, мягкими чертами. На почти всегда опущенных, длинных, темных ресницах лежало облако печали. Молча сидела она возле своего молодого супруга, бледно-мраморное лицо которого казалось точным отражением ее собственных тайных дум.
Холодное спокойствие этой четы и их видимая отчужденность невольно производили тягостное впечатление на внимательного наблюдателя. Очевидно, что судьба соединила здесь два благородных, но в своих стремлениях и чувствах не соответствовавших одно другому сердца. Как мог Нерон, с его увлекающейся страстной натурой, порывы которой обуздывались лишь искусственными средствами, Нерон отступник, вечно терзаемый внутренними бурями и борьбой, подойти к ясно-непоколебимой, благочестивой Октавии, блаженно веровавшей в унаследованную ею религию предков и отвечавшей на все сомнения своего супруга вздохом сострадания или улыбкой уверенности и надежды?
Если же Клавдию Нерону случалось принять тяжелое решение, выказать великодушие или одержать какую-нибудь иную победу над самим собой – Октавия находила все это только естественным.
Зачем сомнения там, где все так ясно и понятно? Благородный человек и впотьмах видел здесь свой путь…
При таких речах супруги Нероном овладевала странная смесь самых противоположных ощущений: в нем закипали гнев, изумление, стыд, а сильнее всего – упрямое недовольство, по временам походившее на ненависть.
– Да здравствует император! – кричала восторженная толпа. – Да здравствует императрица, кроткая Октавия!
Нерон с глубоким вздохом посмотрел на свою юную подругу и принужденно улыбнулся…
Она на секунду подняла глаза и также со вздохом снова опустила задумчиво-усталый взор.
Действительно, она казалась ужасающе холодной.
«И такой она была всегда», – подумал император.
Даже в день свадьбы она не выказала сладкого волнения, на брачном пороге озаряющего красотой даже некрасивых девушек. Она оставалась немой и холодной, подобно пигмалионовой статуе до одушевления ее Афродитой.
Какая разница – Нерон! Зевс свидетель, что он никогда не любил ее; но все-таки, когда за ними тихо затворилась дверь спальни и он увидел перед собой свою цветущую жену, облитую волшебным, пурпуровым светом лампы, тогда прежнее его равнодушие показалось ему безумием, и в нем вспыхнула такая страсть, какую едва ли чувствовал к Елене нежный Александр. Опустившись на золотую скамью, он бурно привлек ее к себе и с искренним увлечением прошептал:
– Будем счастливы, прекрасная Октавия, счастливы целую долгую жизнь!
Пламенными поцелуями осыпал он ее прелестное лицо, душистые волосы и белоснежные плечи…
Она же – та, о страстной к нему любви которой так часто толковала ему отпущенница Рабония, ее поверенная, – она, «нежная невеста с светлым взором лани», слушала его восторженные речи, как безжизненная мраморная статуя.
Если бы она еще сопротивлялась ему! Но и этого не было; она не разыгрывала стыдливую, но принимала его ласки без сочувствия и без малейшего волнения любви.
С этой минуты Нерон перестал верить в ее любовь. Ему казалось, что она питает к нему только расположение сестры. Сам же он не умел достаточно лицемерить, чтобы долго скрывать свой недостаток чувства к ней. Разрыв был непоправим, и они старались лишь соблюдать наружные приличия.
Позади свиты императорской четы следовал главный доверенный раб императора, тридцатишестилетний Фаон. Правильный, симпатичный, смелый рот придавал нечто юношеское красивому лицу этого стройного человека. По-видимому, Фаон не слишком мрачно относился к великим жизненным вопросам. Философия его подходила под мировоззрение Горация: «Наслаждайся настоящим и не рассчитывай на будущее!»
Возле главного раба шло еще пять или шесть служителей, несших украшенные жемчугом шкатулки из лимонного дерева, полные всевозможных драгоценностей, предназначенных супруге и дочерям Флавия Сцевина в подарок от императора.
Процессию завершали носилки Сенеки, окруженные многочисленными придворными и преторианцами. В носилках рядом с министром сидел начальник гвардии Афраний Бурр.
Громко приветствовал народ своих любимцев.
– Да здравствуют Диоскуры государства! – гремели тысячи голосов.
– Сенека улыбается! – заметил один старый клиент. – Пн доволен, как триумфатор! Наверное, с границы получены благоприятные вести! Его государственный талант покорил самих хаттов, которых не мог покорить меч.
– Не верь этому! – возразил ему богатырь со светлыми, как лен волосами. – Хатты так же умны, как отважны. Но они хотели поддерживать дружбу и мир с Римом, и поэтому скоро мы пришлем наших знатнейших вельмож для приветствий цезарю и заключения с ним договора от имени всего народа.
– И это триумф, – отвечал римлянин. – Я знал это: Сенека улыбается. О, цветущий век философии! Право, тога все-таки еще могущественнее меча!
– Ты думаешь? – возразил германец. – Судя по взгляду Бурра я скорее убеждаюсь в противоположном.
Действительно, эти две характерные головы – глубокого мыслителя и сурового, решительного воина, для серьезного наблюдателя представляли настоящую загадку. Лицо Сенеки было бледно, спокойно, изборождено морщинами; лицо Бурра, красное, как после двадцатого кубка, было мускулисто и почти грубо; который из этих двух людей держал в своих руках судьбу империи? Сенека ли, задумавший ниспровержение тысячелетнего прошлого, или Бурр, в качестве союзника Агриппины, долженствовавший выступить его защитником?
Быть может также, в книге судеб написано было, что ни один из них не повлияет на ход грядущих событий? В таком случае самонадеянная уверенность, написанная в чертах этой столь противоположной пары, могла быть только бесконечно смешной.
Так, медленно и торжественно двигался императорский поезд по Via Sacra, направляясь к кверкетуланским воротам. Напоенный благоуханием и светом воздух уподоблялся дыханию самой весны, и казалось, что сам Юпитер ласково приветствует земное воплощение своего бесконечного могущества.
Глава VII
Флавий Сцевин встретил императорскую фамилию со свитой при входе в дом.
Пока императрица-мать, опираясь на руку Ацерронии, величаво выходила из носилок, рослые преторианцы медленно проходили под украшенной живописью аркой ворот. Не будь розовых гирлянд, обвивавших их шлемы и копья, шествие их походило бы на занятие неприятельской крепости.
Старый сенатор Флавий Сцевин невольно выразил удивление при таком неожиданном зрелище и заметившая это Агриппина, смеясь, сказала ему:
– Наши воины будут служить, кстати, и украшением твоего пира. Я люблю бряцание оружия под весенними цветами. Прошу тебя распорядиться людьми по твоему усмотрению. Смешай их с рабами; собери вместе при играх; приставь их в виде почетного караула к наиболее достойным из твоих гостей; ты долен распоряжаться ими. Они будут повиноваться беспрекословно.
Наполовину обманутый искусным притворством Агриппины, Флавий Сцевин старался убедить себя, что это была действительно лишь милостивая учтивость.
Скоро, однако, ему пришлось разочароваться. На роскошно округленном подбородке императрицы мелькнуло едва приметное насмешливое подергиванье, и выражение злобы убедило Флавия в том, о чем он должен был бы догадаться с самого начала.
Через своих многочисленных шпионов Агриппина знала, что Флавий Сцевин был отъявленным врагом ее властительных стремлений и что вместе с другими значительнейшими сенаторами, как Бареа Соран, Пизо и Тразеа Пэт, он даже неоднократно измышлял средства и способы к низвержению ее первенствующего влияния.
Не отступившая бы ни перед каким преступлением в защиту своего положения, – за что ручалось ее прошлое, остававшееся тайной лишь для Нерона и его супруги – Агриппина от своих противников ожидала такой же решительности и, вступая в логовище льва Флавия, она желала обеспечить себе благополучное из него возвращение.
Пока она, со свойственной ей величественной благосклонностью обратившись к супруге Флавия Метелле, осведомлялась о ее здоровье, хозяин дома приветствовал императора и юную Октавию. Обычай требовал, чтобы в подобных случаях римский цезарь целовал сенаторов. В эту пустую церемонию Нерон вложил такое теплое чувство, которое ясно доказало присутствующим его сыновнее уважение к Флавию. У кроткой Октавии Флавий Сцевин поцеловал руку и глаза его засияли при ласковом привете краснеющей императрицы. Октавия всегда была его любимицей. Он не подозревал ее страданий и считал ее союз с Нероном воплощением тихого счастья.
С горьким ожесточением Агриппина видела, что Флавий Сцевин и не думал отходить от молодой четы, когда Метелла обратилась к ней с приглашением войти в дом.
– Повелительница Агриппина, – сказала она, – если тебе угодно, войдем!
Несмотря на известное ей нерасположение Флавия, Агриппина тем не менее ожидала, что ее введет хозяин дома, а не Метелла, эта ширококостная, преждевременно состарившаяся дочь лавочника (в действительности же Метелла происходила из семьи одного из значительнейших судостроителей и судовладельцев Остии), плебейка, ребенком чинившая старые паруса, а теперь задиравшая нос, точно ей еще в колыбели была обещана обшитая пурпуром тога ее будущего супруга.
Подавив свой гнев, Агриппина заставила себя улыбнуться и величаво прошла в двери.
Обширный коринфский атриум Флавия Сцевина был уже полон блестящей толпой именитых гостей. Сенаторы с женами и дочерьми; всадники, отличившиеся на государственной службе; верховный жрец; жрец трех высших божеств, городской префект; несколько южно-италийских крупных землевладельцев; клиенты, занимавшие видное положение, – все они пестрыми группами двигались по наполовину покрытому навесом помещению.
В нескольких шагах от остиума стоял человек среднего роста, необычайно энергичной и резкой наружности. Сверкавшие умом глаза напоминали Сенеку, но в лице и в осанке выражалось гораздо более непреклонной воли, чем у государственного советника. Эта выдающаяся личность был Тразеа Пэт, суровый судья Агриппины, пламенный патриот, возлагавший все свои надежды и упования на Нерона и вынужденный видеть, как честолюбивая императрица-мать, вопреки явному и тайному противодействию, все-таки распоряжалась существеннейшими государственными делами, поощряла продажность и разврат, раздавала влиятельные должности своим жалким креатурам и даже государственного советника терпела только потому, что односторонность его философии делала молодого императора неспособным к проявлению каких бы то ни было практических способностей. При входе императрицы-матери Тразеа Пэт едва приметно наклонил голову, но на встречу молодой четы он поспешил с еще большей живостью, чем это сделал Флавий. Заключив в объятия стройную фигуру Нерона, он с благоговением трижды поцеловал его в лоб.
При виде этого благороднейшего из римлян Октавией овладело сильное волнение, грудь ее бурно вздымалась и, казалось, самообладание покинуло ее. Ее задумчиво-печальный взор скользнул по лицу супруга. Никогда еще он не был так несравненно прекрасен, и она готова была воскликнуть: «Я отдала бы все радости земные за то, чтобы в пятьдесят лет ты мог обернуться назад на такую же жизнь, какова жизнь этого Тразеа!»
После того как высокие посетители обменялись несколькими словами с избраннейшими из гостей, веселые звуки труб возвестили начало пира. Приглашенные потянулись парами в каведиум, где под темно-синим весенним небом были расставлены два длинных стола.
Вокруг дорической колоннады, на чугунных подставках горели факелы в рост человека и облака благовонного дыма мягкими волнами поднимались к уже темневшему небосклону. Наверху, на карнизе крыши, сверкали огни меньших размеров. При этом ярком освещении незачем было зажигать бронзовые лампы на роскошно убранных цветами столах. Серебряные чаши, драгоценные сосуды и изящные блюда были увиты душистыми гирляндами из роз и фиалок. Триста роскошных венков предназначались для увенчания пирующих. Лепестки роз и нарциссов усеивали пол, а колонны исчезали под зеленью плюща и аканта. Гости были размещены по местам весьма быстро благодаря проворству и ловкости главных рабов и их помощников. Из сада раздалась нежная южно-испанская мелодия, и в то же время рабы и рабыни начали разливать из этрусских кружек в матовые кубки золотое везувианское вино.
На почетном месте, во главе левого от атриума стола, восседала императрица-мать.
Справа от нее находился Афраний Бурр, слева – хозяин дома Флавий Сцевин.
Во главе второго стола сидел император между Октавией и супругой хозяина дома. Обычного, поперечного соединительного стола, на этот раз не было.
Так как одни лишь внешние стороны столов уставлены были скамьями, внутренние же, по римскому обычаю, оставались незанятыми, то Флавий и жена его Метелла не имели соседей. Ряд гостей с одной стороны заканчивался Бурром, с другой – супругой императора.
Соседом Октавии был стоик Тразеа Пэт; возле него сидела богатая египтянка по имени Эпихарис; потом Анней Сенека, а слева от него сорокалетняя жена одного из сенаторов.
С самого начала обеда, когда подали лукринские устрицы и азиатские морские тюльпаны, Пэт вступил в беседу с молодой императрицей.
Октавия обратилась к нему с пустым, вежливым вопросом о недавних играх в цирке, приведших весь Рим в лихорадочное волнение, так как до сих пор еще не выяснилось, кто победил: Фульгур ли Тигеллина или Флава Аницета. Для решения этого мирового вопроса назначен был комитет, где выслушивались свидетели, точно дело шло об уголовном процессе. Пока все шансы были на стороне Аницета, и это тем более сердило сторонников Тигеллина, что Аницет был морским офицером. Незадолго перед этим он командовал флотом при Мизенском мысе и по особому случаю проживал теперь в Риме, где немедленно начал оспаривать всеми признанное первенство агригентца…
Тразеа Пэт улыбнулся на вопрос Октавии, точно не веря в искренность ее любопытства и отвечал таким же тоном, каким сказал бы: «Да, повелительница, погода превосходная».
Октавия рассеянно кивнула и задала второй вопрос; после нескольких уклонений разговор коснулся неистощимого предмета: императора Августа и его изумительных деяний для развития мировой империи.
В разговоре этом приняли участие Нерон и соседка Тразеа – египтянка Эпихарис. Даже сам государственный советник Анней Сенека скоро прервал пустую болтовню своей соседки слева, чтобы при случае вставлять меткие эпиграммы и замечания.
Серьезное направление беседы заставило Нерона почти забыться и вообразить себя в рабочем кабинете дворца, где в течение последних недель философ непрерывно толковал ему о том, что жизнь состоит в отречении, обуздании страстей и исполнении долга.
При этом воспоминании, среди празднично-веселого общества, на молодого императора внезапно напало тоскливое ощущение безграничной пустоты.
В самом деле, поразительные противоречия, открывшиеся его глазам, должны были взволновать художественно-отзывчивую душу Нерона.
Здесь, на верхнем конце стола, произносили чуть ли не целые поучения из области сумрачной Стой, а там дальше раздавались шутки и смех, подобно журчанью болтливого ключа в тибурских садах.
Красивые юноши предупредительно склонялись к своим цветущим соседкам, и между этими молодыми, веселыми парочками невидимо точил свои стрелы крылатый божок.
Пожилые гости оживленно толковали о прошлом, рассказывали забавные эпизоды из их службы в Сицилии или Малой Азии, осушали кубок за кубком и, как бы в извинение себе, цитировали слова греческой застольной песни: «Nyn chre methyskein…»
А вот сидит влюбленный, вечно ревнующий Ото, буквально беспрестанно поглядывающий на свою очаровательную жену Поппею Сабину!
Она была довольно далеко от него, за столом императрицы-матери, и рядом с ней сидел опасный Тигеллин! Поппея Сабина была действительно очаровательна с ее томными глазами и милой манерой склонять набок увенчанную цветами головку. В обладании ею Ото должен был найти полное счастье, и ревность его объяснялась именно этим счастьем: чем дороже сокровище, тем больше забота о его сохранности.
Софоний Тигеллин только что сделал какое-то, должно быть, очень приятное замечание, потому что Поппея, бросив из-под ресниц взгляд лукавого сатира, после мгновенного колебания обнажила свои жемчужные зубки и разразилась таким задушевным смехом, что у ее обуреваемого опасениями супруга Сальвия Ото вся кровь бросилась в голову.
До сих пор Нерон полурассеянно смотрел на смеющуюся красавицу; теперь же взор его остановился на ней с большим вниманием.
Через двадцать лет цветущий ротик этой самой Поппеи Сабины будет обрамлен отвратительными морщинами, лучезарные глаза покраснеют, розовые щечки иссохнут… Лицо ее станет похожим на лицо облысевшего философа – советника Сенеки…
Но тогда она по праву скажет себе: «Я насладилась всем, что мне дала эта преходящая жизнь! Я выпила чашу до дна, прежде чем безжалостная судьба вырвала ее из моих рук! Я не знала страданий из-за того, что называется идеей!»
Мысли императора, казалось, нашли себе таинственный отголосок в душе Поппеи. Доселе всецело предававшаяся обаянию Тигеллина, она вдруг взглянула на Клавдия Нерона и встретила его печально-задумчивый взор.
Яркая краска вспыхнула на ее лице; голова, шея, даже плечи покрылись румянцем, а при мысли, что Нерон должен это заметить, она пришла в неописуемое смущение, изумившее Тигеллина, который шепнул:
– Госпожа, что случилось? Или прекрасная Поппея нездорова?
Она быстро овладела собой.
– Вечный смех бросился мне в голову, – шутливо отвечала она.
– О, я понимаю упрек, – возразил Тигеллин. – Но видишь ли, благородная Поппея, моя должность становится такой серьезной, торжественной и возвышенной, что по временам я должен давать волю моим порывам. Смех сделался нынче редкостью в обиходе у цезаря. Если это еще продлится, то я буду поглощен бездной меланхолии или же примкну к стоикам.
– Это звучит крайне смешно.
– Ты думаешь? Но я говорю правду. Я примечаю свое духовное окостенение. Поэтому я и пользуюсь всякой возможностью и случаем, как например сегодня, чтобы помочь такой прелестной эпикуреанке, как Поппея, в применении на практике ее житейской мудрости.
– Я эпикуреанка? Впрочем, пожалуй… Почему бы мне не быть ею? Разве жизнь наша не достаточно мимолетна? Стоит ли печалиться? Стоит ли еще сгущать ее мрак? Как жаль цезаря, которого Сенека втянул в эту пустыню! Нерон так молод и создан для счастья! Посмотри на его глубокие черные глаза! Они божественны!
– Какое воодушевление! Если бы ты думала обо мне хоть наполовину так благосклонно, клянусь Зевсом, я совсем обезумел бы от счастья и блаженства!
– Не притворяйся! – отвечала Поппея. – Ты, общий любимец, в одном этом каведиуме насчитывающий целые дюжины приятных воспоминаний! Ты, чьи заманчивые приключения известны даже в далекой Испании и Лузитании… Но оставим этот опасный предмет! Лучше последуй дружескому совету, – потому что я тебе друг, несмотря ни на что…
– Весьма обязан! И ты советуешь мне?..
– Основательно противодействовать влиянию Сенеки и его философской бессмыслицы.
– Но как же сделать это?
– Смешно! Убеди императора, что можно быть великим правителем, замечательным мыслителем и благодетелем своего народа, оставаясь в то же время рассудительным человеком! Смотри, вот опять черты его подергиваются дымкой печали, которую я замечаю уже не впервые. Право, если бы меня не удерживали обычаи и глупые общественные приличия, я встала бы без всяких околичностей, положила бы ему руки на плечи, и… и… утешила бы его.
– Да? А что сказала бы ты ему?
– Цезарь, сказала бы я, отчего болит твое сердце? Отчего ты не смеешься? Отчего нахмуриваешь лоб? Оглянись вокруг себя! Ты окружен молодостью, веселостью и красотой! Наслаждайся вместе с нами тем, что нам приносит крылатый час! Будь человеком среди людей! Вот что я сказала бы ему, вкрадчиво и искренно, и, внимая мне, быть может, он сообразил бы, что ведущую к вечному мраку дорогу разумнее усыпать розами, чем слушать глубокомысленные размышления своего министра и при этой чудной музыке сидеть с видом осужденного.
Тигеллин усмехнулся.
– Это была бы действительно гениальная выходка, достойная нашей прелестной Поппеи! Так презри же общество и его глупые толки! Ступай и попытайся!
– Но легче сказать, чем сделать. Ты не принимаешь в расчет гнева моего мужа. Ото распял бы меня за это… Вообще прошу тебя, золотой Софоний, не склоняй ко мне так усердно твою умащенную благовониями голову! Я вижу, Сальвий Ото уже бросил на меня свой взгляд балеарского бойца… Ты ведь понимаешь? Взгляд, равносильный балеарскому свинцовому шару! Уже на днях, в доме Пизо, он нашел, что ты слишком глубоко заглядываешь мне в глаза. А ведь ты знаешь, я позволила тебе быть только моим братом и другом…
Тигеллин нахмурился.
– Я позабыл, – насмешливо отвечал он. – Прости за минутную забывчивость. Ты была так… оживлена, говоря о Клавдии Нероне. Императору-философу, которого тебе хочется обратить на путь истины, ты, конечно, позволила бы больше, чем ничтожному агригентцу. Это я прекрасно понимаю! Каждому по чину и достоинству!
– Что такое? Что дает тебе право на эти злые замечания? Обуздай свой язык, бесстыдный человек! Хотя все привыкли многое прощать тебе, но нельзя же прощать все!
И снова устремив на Нерона полустыдливый взор, она вздохнула и мечтательно, как бы говоря сама с собой, продолжала:
– Вот разница между чистотой и испорченностью. Цезарь говорил со мной всего лишь три или четыре раза в жизни: но будь он в десять раз ближе ко мне, чем этот ужасный Тигеллин, все-таки я уверена, никогда он не принял бы такого нахального тона. Он уважает, он чувствует, он понимает. Он бог там, где вы все только бренные, рожденные из праха люди!
Между тем Нерон с каждой минутой становился все молчаливее и мрачнее. Он уже не слушал возвышенную беседу Октавии с Тразеа Пэтом. В ушах его шумели лишь волны звуков без смысла и значения, глухих и далеких, словно доносившихся из бесконечного пространства. Мысли его опять перенеслись к тому дню, когда он помиловал отпущенника Артемидора. Он снова видел очаровательную девушку с чудными белокурыми волосами и сияющими голубыми глазами. Он слышал ее сердечный голос, моливший о сострадании. Да, это была она, единственная, несравненная.
Она упала на колени перед императорскими носилками, простирая свои белоснежные руки, – он видел все это, как на картине! Вдруг прекрасный образ исчез и его заменил еще прекраснейший… О! Этот час истинного счастья! Он стоял в палатке египетского кудесника рядом с Актэ, и тот же голос звучал еще глубже и обворожительнее в его трепетавшем страстью сердце.
Актэ! Невыразимо любимая Актэ! Зачем ты исчезла так же, как появилась, подобно однодневному весеннему цветку или мимолетному дыханию эфира, умчавшемуся, едва коснувшись пылающего лба?
Странно! В это мгновение ему показалось, что наконец он нашел разгадку: она бежала от него, от любви к нему, а не к кому-нибудь другому. Она поняла его обожание и хотела избежать предстоявшей неминуемой страшной борьбы.
Он взглянул на горделивую Агриппину.
Да, неумолимая мать осудила бы его любовь!
Отпущенница, бывшая рабыня!
Она едва позволила бы ему сделать ее только своей возлюбленной, а женой – никогда. Конечно, Актэ не могла знать, на что он дерзнул бы ради нее; она не подозревала, что он не остановился бы ни перед какой жертвой, ни перед каким разрывом, только чтобы завоевать ее для себя. Безумная! Зачем скрылась она с этим загадочным «Прощайте все!» Одна строка; одно откровенное слово – и все могло бы еще устроиться.
Он думал и думал, пока им вновь не овладели сомнения. Наза-рянин-мыслитель Никодим утверждал, что бегство Актэ для него совершенно необъяснимо. Даже он не мог понять эту девушку, которую он однако знал уже давно.
Загадка так и оставалась загадкой для печального императора. Он сознавал только одно: что равнодушен ко всему миру, в котором для него существовало только одно счастливое и вместе с тем горестное воспоминание. Какая грустная, безутешная участь! Будь Актэ его женой вместо женщины, совершенно его не понимавшей и при всей своей сердечной доброте оскорблявшей его заветнейшие чувства, как благодатно расцвело бы божественное создание его царствования! Счастье и любовь были бы его вдохновенными руководителями в том, что он совершал теперь с таким трудом и усилиями, движимый лишь холодным учением своего советника и фантастическими намеками Никодима.
Да, он победил бы! Он сделался бы бессмертным творцом славной эры свободы и братства людей! Назарянское небо с его кротко-ясным примирением ведь было действительностью в глазах белокурой Актэ!
Нерон сжал рукой лоб.
Он, первый между римлянами, повелитель обширного, могучего государства, простирающегося от столпов Геркулеса до отдаленной Месопотамии, обожаемый своим народом, богатствами превосходящий царя Лидии, молодой, полный бурных жизненных сил в стремлении к всему доброму, благородному и прекрасному – каким бедным и одиноким был он на своем лучезарном престоле!
Внезапно наступившая тишина заставила его очнуться.
Веселый шум, наполнявший украшенный цветами каведиум, мгновенно замолк.
Флавий Сцевин, высоко подняв правой рукой увитый розами кубок, провозгласил тост за всеобожаемого, августейшего, счастливого Нерона.
Ловким оборотом вплетя в этот тост Октавию и императрицу-мать, он снова обратился исключительно к высокой особе императора, призывая всевозможные благоговения богов на его дорогую, лучезарную, юношескую главу. Буря восторженных кликов последовала за мастерской речью, в которой особенно ярко вырезалось то место, где оратор произнес: «Нерон, Октавия, а за ними благородная мать, воспитавшая образец таких превосходных качеств».
Приверженцам Сцевина, враждебным императрице-матери, это за «за ними» показалось верхом ораторского искусства. В этих словах чувствовалось весьма прозрачное напоминание гостям и вообще всему Риму о необходимости деятельной поддержки противников Агриппины для освобождения Нерона от чрезмерного влияния честолюбивой и тиранической женщины.
В то же время это был первый после долгого промежутка ясный намек по адресу Агриппины, приглашавший ее к добровольному отречению от того, что римляне находили невыносимым игом. Теперь же этот намек имел еще другую цель.
В начале следующей недели в сенате назначено было важное политическое совещание.
Дело шло о раздоре с соседним германским племенем хаттов и легко могло привести к объявлению войны, несмотря на старания римского коменданта крепости Могунтии по возможности удовлетворить справедливым требованиям германцев.
Все надеялись, что из прямодушной речи Флавия императрица поймет общее желание видеть в сенате императора одного и освобожденного от ее опеки.
Оглушительные клики смолкли. Призвав на помощь все свое самообладание, Агриппина принудила себя улыбнуться, в то время как глаза ее метали пламя страшной ненависти. Каждый из гостей вылил в жертву богам по несколько капель ароматного вина, после чего с новой силой раздались возгласы:
– Да здравствует цезарь! Да здравствует всеобожаемый, счастливый!
Медленно встав, Нерон молча благодарил гостей движением руки; искренность этих проявлений тронула его до слез, и он не мог овладеть своим волнением. Но слезы его были вызваны чем-то иным, неизмеримо далеким от шумного праздника: то было воспоминание о светлом образе цветущей девушки, горячо любимой и потерянной навеки.
Глава VIII
Пир кончился. Гости во главе с Метеллой, сопровождавшей императорскую чету, направились в парк через широко раскрытые внутренние покои.
На просторной площадке, как раз позади дома горели бесчисленные канделябры под красноватыми стеклами. Дальше, вверх по холму, в волшебном полусвете мерцали аллеи громадных деревьев, обсаженные лаврами, анемонами и акантом.
Гости разделились на оживленные группы, приветствуя еще не примеченных друзей и подставляя разгоревшиеся лица приятному ветерку, приносившему с цветочных клумб волны благоуханий. Всем было приятно освобождение от обеденного церемониала, и всякий спешил отдохнуть и собраться с новыми силами для наслаждения тем, что еще было впереди.
Прекрасная супруга Ото, Поппея Сабина, опершись роскошной рукой на плечо своей компаньонки, финикианки Хаздры, медленными шагами направилась к парку.
– Уж пора было нашему амфитриону отпустить нас, – глубоко вдыхая прохладный воздух, сказала она. – Какая чудная ночь!
– Чудная, как сновидение! – прошептала страстная Хаздра.
– Что с тобой, дитя? Ты дрожишь?
– Я видела его…
– Кого? Твоего преторианца?
– Моего божественного Фаракса! Пока мы сидели за столом, он два раза прошел по каведиуму.
Поппея засмеялась.
– Неужели же это правда? – с изумлением спросила она. – Моя хорошенькая куколка, маленькая, гибкая финикианка действительно влюбилась в солдата? И еще в такого колосса? Клянусь Эросом, я предполагала в тебе лучший вкус, Хаздра!
– А я, госпожа, клянусь тебе Мелькартом, богом моих отцов, что никакой смертный не может сравниться в благородстве с очаровательным Фараксом.
– Ты влюблена и потому безумно было бы осуждать твоего Фаракса. И я также вполне уверена, что ты вышла бы за него замуж, будь он хоть раб или палач. Если уж ты себе заберешь что-нибудь в голову…
– Да, госпожа, это так. Я безрассудное создание, и меня изумляет то, что ты еще терпишь меня, несмотря на мои ошибки и глупости.
– Я достаточно зорко смотрю, чтобы маленькая варварка исподтишка не перещеголяла меня, вообще же мне нравится твоя бурная натура, при случае прикрывающаяся оболочкой кротости и добродушия. Я ведь знаю, что ты любишь меня и что в нужде я могла бы смело положиться на тебя.
– Моя жизнь принадлежит тебе! – воскликнула Хаздра.
– Благодарю. Но скажи, имеешь ли ты доказательства взаимности божественного Фаракса?
– Да, госпожа. Недавно, когда я случайно встретилась с ним…
– Он посмотрел на тебя, как британец на Капитолий. Это я уже знаю. Но по-моему этого мало.
– По-моему, также. Сегодня, однако, он бросал на меня такие взоры…
– Как по крайней мере три британца! – засмеялась Поппея.
– Даже больше того. Он велел одному из слуг передать мне полоску папируса…
– Дерзкий!
– Истинная любовь всегда смела, – возразила финикианка. – Вот, благороднейшая Поппея, прочти и скажи мне твое откровенное мнение!
Поппея взяла записку и при мерцающем сиянии светильника разобрала следующее:
«Фаракс, преторианец, с глубочайшим уважением приветствует финикианку Хаздру.
Надеюсь, что финикианка Хаздра будет благосклонна к преторианцу императрицы-матери, так как он все-таки оказывает ей большую честь. Мы, преторианцы, не то что простые солдаты, стоящие в нарбонензийской Галлии или в Азии. Мы особые избранники, как это утверждает и начальник наш, Афраний Бурр. Поэтому, если я решаюсь, о, очаровательная Хаздра, говорить тебе о моей любви, то это не то, что искательство простого солдата, а совсем наоборот. Я тебя очень люблю. Пять раз видел я тебя. Ты мила, как роза, и мне этого довольно. Объявляю еще, что, говоря без бахвальства, я в большой милости у императрицы Агриппины. Позавчера светлейшая намекнула мне, что если я буду так продолжать, то мне не долго придется ждать до повышения в центурионы. А центурион ведь уже почти что военный трибун. Я хотел сегодня выразить тебе мои любовь и уважение, чтобы спросить тебя, нравлюсь ли я тебе. Сердце девушек часто бывает так прихотливо. Ответь мне поскорее. Я люблю тебя горячо и посылаю привет в радостной надежде».
– Ну что ты скажешь? – прошептала Хаздра.
– Он делает тебе предложение, – равнодушно отвечала Поппея.
– Ты думаешь, его намерения честны?
– Несомненно. Если ты этого желаешь, тебе стоит только сказать да. Но все-таки я полагаю, что хорошенькая Хаздра, подруга Поппеи, размыслит, прежде чем выйдет замуж за такого плебея.
– Ничуть! – вскричала финикианка, пряча записку. – Лучше сегодня, чем завтра! Плебей! Что мне до его происхождения, когда он сам волнует мое сердце?
Первобытная пылкость девушки тронула холодную натуру Поппеи.
– Мечтательная дурочка! – насмешливо сказала она.
– Какая я есть, такая я и есть, – возразила Хаздра. – И я не понимаю, как может говорить так Поппея, сама знакомая с любовью. Конечно…
– Ну, кончай же!
– Я боюсь, ты сердишься на меня…
– Могла ли ты когда-нибудь упрекнуть меня в мелочности? Говори!
– Хорошо. Я хотела сказать, что я, Хаздра, понимаю любовь иначе, чем Поппея Сабина. Ты любишь твоего супруга Ото, но ты также слушаешь любезности Тигеллина, Кая и Люция, Тита и Тация… Вот это, светлейшая Поппея, для меня было бы невозможно; я могу любить только одного, а другие для меня не существуют.
– Ты можешь любить только одного, – глухо прошептала Поппея. – Хаздра, дитя, клянусь богами, я не знаю, жалеть ли мне тебя или завидовать тебе. Я не люблю никого, никого, даже цезаря, которого хочу покорить…
– Как понимать твои слова?
– Ты должна узнать все, так как ты можешь мне понадобиться раньше, чем ты ожидаешь. Видишь, Хаздра, во мне живет только одно желание: первенствовать. Сначала над женщинами. Я хочу быть прекраснейшей между ними и возбуждать общую зависть. Этого я уже достигла. Весь Рим у моих ног. Я не пренебрегаю никакими стараниями для того, чтобы сохранить и еще возвысить дарованную мне природой красоту…
– Это я знаю. Ты употребляешь драгоценные притирания, маски из теста, молочные ванны… И я знаю также, что ты прекраснейшая из прекрасных. Одна только императрица Октавия, быть может, могла бы поспорить с тобой, если бы не ее вечная бледность, сдержанность и молчаливость.
– Октавия! Не произноси этого имени! Знаешь ли ты, почему я вышла за Сальвия Ото? Из любви? О, младенческая простота! Я рассчитывала приблизиться через него к его другу-императору и овладеть его сердцем, отодвинув на задний план бледный призрак Октавии… Тише! Вот идет Софоний Тигеллин с Ацерронией. Завтра ты узнаешь больше. Мне незачем предписывать строжайшее молчание моей умной Хаздре.
Они повернули к дому, между тем как агригентец с Ацерронией прошли в парк в стороне от них.
– Скажешь ли ты наконец в чем дело? – нетерпеливо спрашивала фрейлина императрицы-матери. – Что? Идти с тобой в вязовую аллею? Ни за какие сокровища Лидии! Агриппина и то будет удивляться…
– Агриппина занята горячей беседой с Сенекой, а уж кого он захватил в свои философские когти…
– Философские когти лучше когтей хищника. Ты коршун, Софоний. Я тебе ни на волос не доверяю. Признайся, что удивительная тайна, которую ты хотел сообщить мне, была пустым предлогом!
– Выслушай и суди сама! Даллас, твой прежний Паллас…
– Мой Паллас? Советую тебе припрятать такие выражения для тех, кому они могут нравиться; например для Поппеи Сабины…
– Ага! Ты ревнуешь…
– Я? Да разразит Юпитер свои громовые стрелы над твоей пустой головой! Я ревную? Уж не к тебе ли, всесветному глупцу, бегающему за каждой юбкой? Для меня ты такой же чурбан, как Макк в ателланских играх! Ну, так что же этот Паллас, до которого мне так же мало дела, как тебе…
– Да? Краснокудрой Ацерронии нет дела до Палласа? О, ты невинность! Как будто вся Италия, со всеми ее островами, не знает о вашей тайной помолвке!
– Это бессовестная ложь! Кто это говорит? Назови мне сплетника, чтобы я могла привлечь его к суду!
– Но ведь ты не будешь опровергать…
– Назови мне негодяя! – яростно повторяла она.
– Это он сам…
– Как он сам? – прервала она его в волнении, не замечая, что без всяких лидийских сокровищ уже вошла за хитрым агригентцем в темную аллею.
– Он сам, – продолжал Тигеллин, неожиданно с непреодолимой силой привлекая ее к себе, – он сам хотя еще не испытал, как целуют губы рыжей пантеры, но твой превосходный друг Тигеллин желал бы наконец лично сделать этот опыт… Не сопротивляйся, прекрасное дитя! Ведь я знаю, что Ацеррония смертельно влюблена в меня.
– Войдем по крайней мере в кусты, – покорно сказала она. – Так вот смысл твоих речей! А история про Палласа…
– Была только предлогом, – прошептал Тигеллин. – Пойдем и не шуми! Еще один поцелуй, моя голубка. Вот так, прелестно! Скажи теперь, что ты хочешь быть счастливой со мной хотя бы один блаженный, мимолетный день. Говори же, очаровательная пантера! Я люблю тебя безгранично!
– Да, – прошептала Ацеррония.
– Какое счастье даешь ты мне! – восторженно воскликнул агригентец.
Приподняв обеими руками ее пылавшую голову, он сразу после банальных нежностей опытного соблазнителя вдруг получил полновеснейшую из пощечин, когда-либо достававшихся на долю этого нахального волокиты.
В то же мгновение вырвавшись от него, Ацеррония с проворством хорька бросилась бежать в освещенную часть парка.
– Маленькая бестия! – усмехнулся агригентец. – Такой же понятный мимический язык, быть может, избавил бы бедную Лукрецию от самоубийства. Отвратительно! Я не получал такой затрещины с тех самых пор как вышел из школы. Но все равно. Я ей дам себя знать! Как раз теперь она меня и манит, а ее поцелуи, даже если и принужденные, все-таки удивительно походили на искренние…
Напевая греческую застольную песню, он медленно последовал за своей удивительной собеседницей.
Между тем Ацеррония присоединилась к первой попавшейся ей группе, центром которой был начальник мизейского флота Аницет. Разговор, естественно, шел о спорной скачке между Фульгуром Тигеллина и превосходной чистокровной кобылой моряка.
«Аницет, – хотела было вскричать разъяренная Ацеррония, – я дала богам великий обет, если они решат спор в пользу твоей прекрасной Флавы!» Но слова замерли на ее губах, она произнесла только имя Аницета и, когда он вопросительно взглянул на нее, прибавила тихо:
– Разве судьи уже вынесли приговор?
Все улыбнулись, даже отпущенник Артемидор, скромно стоявший тут же рядом с рабом Милихом. Внезапное вмешательство рыжеволосой испанки действительно вышло очень неловко; всем было понятно, что произнося эти слова, она хотела сказать что-то совершенно другое.
Спорное состязание между Фульгуром Тигеллина и Флавой Аницета было известно во всех подробностях последнему рабу семихолмного города и все с таким лихорадочным нетерпением ожидали решения знатоков, что быстроглазая Ацеррония тотчас смекнула свой промах. Вопрос ее должен был быть принят или за недостаток такта, или же присутствующие вывели коварные заключения из ее видимого замешательства.
Но никто не знал, что же так внезапно напугало ее…
Странное, загадочное видение пробудило ужас в сердце обыкновенно столь смелой пантеры.
Аницет стоял, прислонившись к статуе Помоны. Когда Ацеррония произнесла его имя, ей почудилось, что глаза его закрыты, как у мертвого, из густых волос струится зеленоватая вода, а широкий нос и полуоткрытый рот как бы застыли в предсмертной судороге. Помона же, величественно возвышавшаяся позади него, приняла черты лица Агриппины.
Ацеррония поспешно отступила; через мгновение страшное видение исчезло, оставив дикий ужас в сердце девушки, тотчас же решившейся обратиться за истолкованием и советом к египтянке Эпихарис, известной своим искусством во всевозможных предсказаниях.
– Я не вижу в этом ничего дурного, – улыбнулась Эпихарис. – В течении года, ты с твоей царственной повелительницей Агриппиной совершишь особенно блестящее морское путешествие, в котором начальник флота Аницет будет играть роль Посейдона, охраняющего и благополучно приводящего вас в гавань. Быть может, вас застигнет буря, но ты ведь видела сама, что ярость ее была все-таки не в силах свергнуть гордую Помону, императрицу-мать, освежающую всех нас своими плодами.
– Благодарю тебя! – вежливо сказала Ацеррония. – Но все-таки тайное смущение не совсем покинуло меня. Этот страшный Аницет…
– Человек в высшей степени образованный, – прервала ее Эпихарис. – Кто знает, Ацеррония, чем было вызвано твое видение? Любовь порождает иногда странные призраки.
– Любовь?
– Ну да! Сейчас шла речь о его горячей, страстной любви к тебе, а нынче ведь мужчины начинают любить, только когда они достаточно уверены во взаимности.
– Помогите мне, боги Лациума! Я, я… Нет, это неслыханно! Вот попалась между Сциллой и Харибдой! Здесь Тигеллин, там Аницет! Один – легкомысленный вдовец, другой – женатый человек! Один дерзок, как нищий возле цирка, другой – пронырлив и хитер, с широким как у эфиопа носом! Так это-то ваша знать, ваше несравненное римское общество? Ну, право, я предпочитаю солдата из преторианской гвардии! Например, вот этого, что разговаривает теперь с противной Хаздрой…
– Неужели?.. – улыбнувшись, спросила египтянка.
– А почему бы нет? Во всяком случае, он наполовину меньше изолгался, чем любой знатный римлянин и, конечно, в тысячу раз интереснее этого последнего!
– Разве ты знаешь его?
– Да, узнала случайно. Его зовут Фаракс, и он явный любимец императрицы.
– Октавии?
– Что за вздор! Говоря об императрице, я всегда подразумеваю одну Агриппину.
Тонкая ироническая улыбка пробежала по губам Эпихарис.
Громкие звуки рогов, к которым присоединился веселый сицилианский плясовой мотив, прервал их беседу.
– Пойдем на наши места! – сказала египтянка.
В сопровождении приблизившегося к ней государственного советника, она направилась к овальной, усыпанной песком арене.
Пиршество в перистиле было не особенно продолжительно. Так называемый конвивиум, коммиссацио, – веселое продолжение его, сопровождаемое оживленной беседой, должно было происходить здесь, в более непринужденной, но зато изысканнейшей форме. Сцевин приказал воздвигнуть под своим знаменитым столетним кленом особую трибуну, с перил которой свешивались голубые индийские ковры с золотыми шнурами и кистями.
Направо и налево от этой роскошной ложи, подобной императорской ложе в цирке, правильными полукругами шли обитые мягкими подушками седалища для остальных зрителей. Вне этой, почти замкнутой, круглой площадки, недалеко от средней аллеи сада, для тех из гостей, которые предпочитали бродить по благоухавшим весной дорожкам парка и заглядывать на арену лишь во время исполнения особенно великолепных номеров, были расставлены красивые бронзовые стулья с ярко-красными кожаными подушками, полукруглые диваны и мягкие софы.
Перед каждым местом, на драгоценном моноподиуме с подставкой из слоновой кости, стояли чаши с золотыми ободками, свежие венки, по корзиночке с пицентинским печеньем и по дроковой плетенке, полной ионийских фиг и кампанского миндаля.
Рабы в цветных одеждах беззвучно скользили между гостей, наполняя их кубки и с услужливой поспешностью предупреждая их малейшие желания. По обе стороны императорской трибуны почетным караулом выстроился отряд преторианцев и в числе их Фаракс, умное лицо которого выгодно выделялось среди заурядных физиономий его товарищей. Остальные гвардейцы скромно и, по-видимому, без всякой задней мысли разместились где попало, или еще оставались в обширном триклиниуме, где Милих, главный раб Флавия Сцевина, угощал их номентинским вином.
Спустя пять-шесть минут из палатки вблизи постикума на арену вышла прекрасная арфистка Хлорис и, звучно ударив по струнам, запела греческий гимн. Гости слушали ее не слишком внимательно; только небольшая часть их успела занять свои места, и между ними, конечно, были императрица-мать и серьезная Октавия.
Но и они казались рассеянными. Молодая императрица вопросительно смотрела на своего супруга; он стоял с агригентцем далеко в стороне, прислонившись к стволу пинии и не выказывал ни малейшего желания занять приличествовавшее ему место между матерью и супругой.
Бедная Октавия теперь приметила, что в последние дни Нерон казался более обыкновенного расстроенным, печальным и как бы обуреваемым внутренней борьбой…
Если бы он только захотел открыть свое сердце ей, так много его любившей! Но он не допускал в ней проявления участия к его печали и когда, не подозревая о ее причине, она благочестиво советовала ему прибегнуть к богам, чело императора омрачалось еще больше, а на лице мелькало выражение уничтожающего презрения или мрачной ненависти.
Неужели он действительно враг богов? Или ей суждено было вызывать его неудовольствие каждым своим словом, хотя бы произнесенным с самыми благими намерениями? Неужели она была тяжелым бременем, препятствовавшим юному мощному орлу взлететь в ясную высь довольства и счастья? Слезы навернулись на ее глаза. Занятая своими мыслями, она не видела, что все еще смертельно бледная Агриппина сидела, подперши голову рукой и тихо шевеля губами. Тост Флавия Сцевина, подобно разъяренному скорпиону, язвил ее честолюбивое сердце, и, смертельно оскорбленная, она уже измышляла отмщение. Ее по временам улыбавшийся рот и трепетно раздувавшиеся ноздри уже выражали отвратительное торжество. Но когда к ней подошел Бурр, лицо этой бесподобной актрисы просияло. Начальник преторианцев не должен догадываться о поглощавших ее мыслях.
– Ты прав, Бурр, – милостиво сказала она. – Эта девушка – большой талант. Я была совершенно увлечена потоком ее мелодии… Но вот она уже кончила!
Кругом раздались рукоплескания; арфистка вежливо поклонилась, но не ушла в палатку.
Теперь площадка была полна зрителей; только человек сорок еще гуляли в одиночку и парами по аллеям, или, беседуя, сидели в отдалении от общего круга.
К этим последним принадлежал и Ото, нежно, но ревниво сжимавший руки своей жены Поппеи и упрекавший ее в чрезмерной благосклонности к человеку с такой дурной славой, как Софоний Тигеллин.
– Ты знаешь, я доверяю тебе, хотя, быть может, это и безумно, ибо сердце женщины подобно облачку, гонимому южным ветром. Оно меняется каждую минуту. Но ты, сладчайшая Поппея, умеешь смотреть так кротко, так обворожительно, что я совершенно теряю рассудок и, вопреки благоразумию, считаю тебя непоколебимо верной мне.
– Вопреки благоразумию, говорит мой обожаемый Ото! – лукаво произнесла она, бросив на него такой волшебный, лучезарный взгляд, что он едва мог удержаться от страстного желания заключить ее в свои объятия.
– Дивная, роскошная роза, – с горячей любовью прошептал он, – не безрассудно ли проводить этот божественный вечер в шумной толпе, вместо того чтобы наслаждаться счастьем в сладкой тиши нашего дома? О, Поппея, глядя на твой улыбающийся ротик, на твою стройную фигуру, я всегда вспоминаю Елену, повсюду возбуждавшую бури страстей…
– Неудачное сравнение! Елена была потерянное создание…
– Ты права. Сравнение неудачно. Я должен был бы сказать: ты прекрасна, как Елена, и верна, как Пенелопа. Но именно поэтому, дорогая, я избегаю даже малейшего повода сомневаться в тебе. Я не могу переносить, когда ты так многозначительно смотришь на такого известного негодяя, как агригентец. Я знаю, он любезен, умеет льстить и в то же время казаться почтительным, а это так нравится женщинам. Неправда ли, из любви ко мне, ты обещаешь избегать его впредь? Уж лучше старайся произвести впечатление на императора Нерона.
– Ты говоришь серьезно? – спросила пораженная Прппея.
– Совершенно серьезно. Постарайся развеселить его! Заставь его полюбить жизнь! Оттесни от него ужасного Сенеку! Вот это можно было бы назвать заслугой!
Вся вспыхнув, молодая женщина покачала головой и задумчиво опустила свои светло-серые глаза.
– Поппея не навязывается, – проговорила она. – Если бы мое общество нравилось цезарю хоть на половину столько, сколько твое, я высоко оценила бы это преимущество. Но увиваться около него, как мотылек около огня, – нет, дорогой Ото, для этого я слишком горда и… равнодушна…
– Ты забываешь, что я всегда считался его другом и знаю его с детства…
Серебристо-звучные струны арфистки Хлорис зазвучали снова и на этот раз к ним присоединился ее мягкий голос. Все разговоры смолкли.
Чудно пела эта гречанка в светло-желтой одежде, прозванная золотой молодежью Рима «родосским соловьем». И с какой благородной осанкой стояла она, держа в правой руке плектрум, а в левой подвязанную бледно-желтыми лентами девятиструнную арфу, с желтыми розами в черных, как ночь, волнистых волосах! Это была фигура гомеровских времен!
В противоположность торжественному, громкому гимну, она пела теперь меланхолическую, жалобную песнь, в звуках которой слышались рыдания об утраченном счастье.
Мелодия эта произвела потрясающее впечатление; испорченное, развращенное до мозга костей, за минуту перед этим весело смеявшееся, шутившее и с увлечением предававшееся любовным интрижкам, общество мгновенно смолкло.
Пьяный сенатор с уродливым лицом фавна, в собраниях на капитолийском холме при каждом удобном случае напоминавший об уважении и страхе к бессмертным богам, а теперь только что шептавший фривольные намеки своей, сидевшей подле него, четырнадцатилетней племяннице, внезапно оборвал грязный разговор и со стоном откинулся на подушки, как будто услыхав страшное предостережение с высот Олимпа.
Нарумяненная кокетка, назначавшая сегодня уже четвертое свидание, тщетно старалась оставаться глухой и равнодушной к мягкому и в то же время звучному голосу, певшему о самом заветном и священном чувстве человеческого сердца. Бесстыдные, пресыщенные юноши, среди плебейских гетер чувствовавшие себя гораздо более уместно, чем в своем семейном кругу, никогда не заглядывавшие в зал суда, но не пропускавшие ни одной пантомимы, ни одной оргии у модных львиц полусвета, – невольно смягчили свой нахальный взгляд и прекратили язвительное перешептывание, которым дерзко встретили появление молодой арфистки.
Короче, ее торжество было полным. С тех пор как она ступила на почву Италии, она никогда еще не пела так вдохновенно; и когда по окончании ее чарующей песни отпущенник Артемидор, по приказанию своего господина Флавия Сцевина встав на колени, подал ей золотой венок, присутствующие разразились восторженными рукоплесканиями и громкими возгласами одобрения.
– Сладчайшая Хлорис, – шепнул Артемидор так тихо, что его слышала лишь одна прелестно зарумянившаяся девушка, – возьми и скажи, что тебе дороже – этот драгоценный венок или мое страстно бьющееся сердце?
– Твое сердце, ты ведь это знаешь! – прошептала певица.
И принимая роскошный дар, она тихонько пожала руку затрепетавшего от восторга Артемидора.
– Какое неизмеримое счастье быть так любимым! – тихо произнес он, изящным движением поднимаясь с колен. – Прежде чем кончится год, она будет моей! А я думал, что мне суждено умереть вдали от нее! Вдали от нее! Эта мысль была ужаснее самой смерти.
– Какой красавец этот Артемидор! – шепнула восемнадцатилетняя жена сенатора своей ровеснице-соседке. – Жаль, что он не свободный по рождению!
– Почему же?
– Кажется, понятно почему…
– Что касается меня, то если бы мне пришлось выбирать между ним и прославленным Софонием Тигеллином, конечно, я предпочла бы Артемидора…
– В самом деле?
– Без всякого сомнения. Ты ведь понимаешь меня? В качестве мужа или даже постоянного… друга, Тигеллин был бы мне приятнее. Но при случае, как мимолетная прихоть… И к тому же, сознайся сама, ведь всякие предрассудки бессильны перед увлечением. А если супруг и поймал бы нас, то, в сущности, ведь ему все равно, благородный наш возлюбленный или нет.
Бесстыдные женщины засмеялись циничным смехом, исказившим их красивые, молодые лица.
Хлорис же, счастливая сознанием своего артистического триумфа и еще более – любви Артемидора, трижды поклонилась на все стороны и, обратившись к оживленно рукоплескавшей ей императрице-матери, воскликнула по-гречески:
– Да сохранит Зевс мать отечества! – после чего скрылась в палатку, уступив свое место двум гордым бойцам-атлетам.
Прежде еще чем раздались оглушительные звуки духовых инструментов, которые должны были сопровождать борьбу, Нерон отошел от Тигеллина. Песня гречанки жестоко растравила рану его изболевшейся души.
Нетерпеливым движением руки остановил он двух своих молодых друзей, намеревавшихся следовать за ним.
– Невероятно! – сказал один другому. – Даже здесь, в празднично разукрашенном саду Флавия Сцевина, он не может стряхнуть свою мрачность. Клянусь Эпоной, право, пора уже подставить ногу отвратительному Сенеке. В двадцать лет обладать рассудительностью и холодностью Зенона – это ни на что не похоже! Какую метафизическую задачу решает теперь этот мечтатель, если даже мы, самые воздержанные из его друзей, в тягость ему?
Да, цезарь решал метафизическую задачу и решал ее не в теории, а на практике: задачу настоящей, искренней любви, не способной дать ответа рассудку на вопрос: почему ты прилепился всеми силами души к девушке, едва мелькнувшей пред тобой и навеки исчезнувшей, между тем как вокруг тебя, подобно ожидающим садовника розам, цветут женщины такие же прекрасные, а быть может, и прекраснее ее? Почему всеми желаниями твоими владеет бывшая рабыня, в то время как у тебя есть подруга – Октавия, благородные черты которой все скульпторы Рима признают божественными?
Сама арфистка Хлорис, так глубоко потрясшая сердце Нерона, несомненно была красивее Актэ.
И все-таки цезарь оставался нечувствителен к ее красоте. Волшебные чары ее искусства вызвали в нем с удесятеренной силой одно лишь мучительно-сладкое воспоминание со всеми его подробностями. Нерон не владел собой. Он должен был бежать от этого блестящего и оглушительно-шумного собрания, он должен был усмирить бурю, весь день непрерывно бушевавшую в его груди.
Гости, наверное, приметили бы его волнение, его слезы, теперь свободно катившиеся по его щекам, – а этого не должно быть. Он – цезарь, он должен уметь обуздывать не только парфян или хаттов, но и свое собственное я, со всеми его страстными, безумными порывами.
Ветер тихо и успокоительно шелестел верхушками деревьев, словно напевая колыбельную песню. Здесь скоро уляжется бурная страсть, ураганом кипевшая в его груди. Приди, священная, мирная ночь! Накинь твой темный плащ на страдания твоего любимца! Дай ему спокойствие, если уж счастье недоступно ему!
Глава IX
Незаметно для самого себя Клавдий Нерон углубился в темные аллеи.
Луна в своей первой четверти матово-серебристым светом обливала посыпанные песком дорожки, обсаженные здесь более молодыми и низкими деревьями.
Вдруг император вздрогнул. Позади лавров, мимо которых он шел, погруженный в свои думы, что-то зашевелилось, и, когда, прислушиваясь, он остановился, в кустарниках раздались человеческие шаги.
Клавдий Нерон был безоружен, а у монарха, даже самого лучшего, всегда есть тайные враги, ненавидящие его до глубины души и не пренебрегающие никакими средствами для его уничтожения. Но царственный юноша, в сознании всеобщего к себе доброжелательства, а еще более, быть может, благодаря врожденному мужеству, не ощутил ни малейшего смущения.
– Стой! – крикнул он тоном сдержанной угрозы. – Кто бы ты ни был, я, твой император, повелеваю тебе выйти сюда!
В кустах затихло.
– Ты слышал? – повторил цезарь. – Не упорствуй! Одно мое повеление – и ты будешь окружен, как зверь на облаве!
– Всемогущий цезарь, – прошептал трепещущий женский голос, – не гневайся на мою медлительность!..
– Актэ! Ты! Ты! – в безумном восторге воскликнул император. – Ты здесь? Во плоти? Живая?
Стройная фигурка осторожно высвободилась из кустарников. В следующий момент она уже была в объятиях цезаря, осыпавшего страстными поцелуями ее блаженно улыбавшиеся губы, словно одной этой минутой он хотел вознаградить ее за все прошлые муки.
– Актэ! – повторял он. – Божественная Актэ, неужели это действительно ты?
Он говорил словно в забытьи и недоверчиво, как будто считая все это одним лишь мимолетным сновидением.
Сначала она в сладком молчаливом оцепенении отдавалась его ласкам, не находя в себе силы к сопротивлению.
Наконец, стыдливо зардевшись, она оторвалась от его уст, но совсем освободиться из его объятий не хотела и не могла. Пылающая голова ее склонилась на плечо бесконечно любимого человека, чей образ она все эти месяцы носила в своем сердце с такой мучительной тоской.
Его жаркие губы прильнули к ее волнистым белокурым волосам, отливавшими золотом и серебром при свете луны.
Ему казалось, что после долгого отчаянного скитания по пустыне наконец он нашел цветок, благоухание которого должно было возвратить ему здоровье и жизнь.
Вдруг она отстранила его.
– Повелитель, ты бесчестишь себя! – почти безумно шепнула она. – Знаешь ли, что ты сделал? Ты, владыка мира, поцеловал рабыню!
– Да, да, я поцеловал Актэ! Я хотел бы крикнуть это всему свету с вершины Капитолия. Я был счастлив впервые с тех пор, как дышу!
– Счастлив, – правда ли это? – с лучезарным взором спросила она. – О, как чудно звучат эти слова! Но все равно! Если это и счастье, то оно позорно и греховно. Позорно – ибо я отпущенница и недостойна тебя. Греховно – ибо у Клавдия Нерона есть благородная, великодушная супруга, чье сердце разбилось бы, если бы она узнала о его вероломной измене!
– Октавия! – с невыразимой горечью воскликнул Нерон. – Я не выбирал ее: я принес безрассудную жертву государственному благу и желаниям моих советников. Но клянусь тебе, никогда не уступил бы я им, даже если бы сама Агриппина, моя светлейшая мать, на коленях молила меня, если бы только я мог угадать, где я встречу единственную обожаемую мной девушку! Актэ, как упорно разыскивал я тебя! Мои люди обшарили весь Рим! Сколько раз я лично расспрашивал о тебе твоего друга Артемидора! Все напрасно! Скажи, где же была ты? Зачем допустила ты любящего тебя человека потерять всякую надежду и тупо отдаться участи, которую едва ли теперь возможно изменить?
– Цезарь, я повиновалась голосу моей совести. При первом взгляде на тебя я почувствовала, что ты овладел всем моим сердцем и душой! Но в то же время я знала, что это безумие: простому полевому цветку стремиться к солнцу, сияющему в недосягаемой эфирной высоте. Я полюбила тебя страшно, сильнее всяких слов…
Она снова на мгновение приникла к его плечу.
– Ты знаешь, повелитель, я христианка, – с достоинством выпрямляясь, продолжала она. – Наша религия и возлагаемые ею на нас обязанности тебе знакомы уже через Никодима и твоего советника Сенеку. Как христианка, я должна была бежать, ибо мы ежедневно просим Господа: «Не введи нас во искушение». В деле обращения, задуманном моими единоверцами, Никодим предназначил мне слишком опасную роль. Он говорил, что братья и сестры любили меня больше, чем других, за мое красноречие и уменье убеждать людей. И я должна была найти доступ к сердцу сомневавшегося цезаря. Он, быть может, остался бы глух к серьезным увещаниям мужчин, и надо было приготовить его к принятию спасительной веры. О, повелитель! С самого начала я сознавала всю ложность этого пути, и все противоречие поступков Никодима с учением кроткого Искупителя, воспрещавшего смешивать мирские дела с делом религии. Окончательно убедившись в твоем опьяняющем, неотразимом очаровании, я твердо решила бежать, хотя бы это стоило мне жизни. Один блаженный час в палатке египтянина ясно доказал мне, что я стою на краю погибели, и я бежала далеко от твоего пленительного образа, на север, в Фалерию, где сделалась служанкой у честных арендаторов.
Клавдий Нерон задумчиво смотрел на ее освещенное луной лицо.
– Но как явилась ты сюда? – после короткого молчания спросил он.
Актэ опустила глаза.
– Повелитель, ты заставляешь меня стыдиться; но я могу признаться и в этом. Уже целую неделю живу я в Риме. Одна знатная дама, случайно увидавшая меня проездом через Фалерию, возымела ко мне симпатию, и так как мне давно уже наскучило однообразие моей жизни, то я с благодарностью приняла предложение богатой сицилианки сделаться ее спутницей и чтицей. С ней приехала я сюда, а завтра ранним утром мы отправляемся в Капую по Аппианской дороге.
– Все это не объясняет мне нашей встречи в парке Флавия Сцевина.
– Ты не догадываешься? – застенчиво прошептала Актэ. – Я знаю через Артемидора, что ты, повелитель, будешь сегодня в гостях у Флавия Сцевина. Артемидор отворил мне калитку, ведущую сюда с вершины холма, и уже целый час я брожу по парку. Я хотела еще раз увидать черты моего повелителя, прежде чем навеки обречь себя на безутешное одиночество.
– Так Артемидор знал, где ты? – с изумлением спросил император.
– Да, повелитель! Я давно дружу с ним; его господин, Флавий Сцевин, провел два лета на берегу Остии, где и у Никодима был дом. Я знала, что Артемидор встревожится об исчезнувшей Актэ гораздо больше, чем все другие. Поэтому я написала ему, что устроилась хорошо, и однажды, когда господин послал его по делу в Куру, он сделал крюк и навестил меня в Фалерии.
– Так вот его благодарность мне за спасение от смерти! – с горечью воскликнул Нерон. – Десять раз спрашивал я его: «Где Актэ?» и десять раз он уверял меня, что это ему совершенно неизвестно!
– Он поклялся мне молчать и знал о моих причинах!
– Он плут. Он обязан быть честным перед своим императором, спасшим ему жизнь. Когда я подумаю, что я потерял благодаря ему и его лжи, я готов собственноручно задушить его!
Молодой цезарь выпрямился, его уста грозно трепетали. Все муки последних недель, печаль о разбитой любви, грызущее душу недовольство выпавшей ему участью – играть роль властителя под вечным давлением людей и нравственных правил и втайне покровительствовать религии, которая теперь, воплощенная в образе Никодима, казалась ему почти ненавистной, – все эти чувства волновались, бушевали и боролись в его тяжело вздымавшейся груди.
Что это за благочестивая община, бремя за бременем нагромождавшая на его плечи и делавшая из Актэ орудие коварной интриги?
Ему неизвестны были кроткие, смиренные христиане, набожно собиравшиеся вокруг своих старшин, чтобы слушать предания о словах и деяниях Спасителя, исцелявшего слепых, утешавшего печальных, поучавшего народ с горы или мальчиком опровергавшего в храме ученых законников… Цезарь знал только хитрого фанатика, проповедовавшего, казалось, лишь одно – то, что всякие, даже самые низкие, средства годятся для достижения возвышенной цели.
Глубоко возмущенный император с равным ожесточением упрекал теперь и Артемидора за его братское покровительство Актэ, и Никодима за то, что он так бессовестно рисковал молодой девушкой. Резким движением откинув свои густые волосы, он сбросил с головы розовый венок, упавший к его ногам на росистую траву, и с внезапной нежностью взял Актэ за красивую, белую руку.
– Позабудем пережитые страдания! – сказал он с глубоким вздохом. – Ты пришла сюда для того, чтобы еще раз увидать меня; ты меня любишь, сегодня, как и прежде, и, клянусь всем священным, судьба накажет меня, если я когда-нибудь снова отпущу тебя! Разве ты не видишь, Актэ, что нас свел Рок или, по-твоему, Провидение, именно теперь, перед самым часом разлуки, которую ты считала неизбежной? Дай обнять тебя, единственная, способная внести мир в мою душу! Актэ, вечно любимая Актэ, хочешь ли ты быть вполне моей, принадлежать мне телом и душой? Если ты согласна, то я клянусь тебе в верности до гроба. С тобой я буду жить и с тобой же умру. Возле тебя я воздену мои руки к твоему Богу. Я поверю, насколько могу, что Христос умер для искупления человечества. Я воздвигну символ этой религии повсюду, где рука цезаря властна ниспровергнуть алтари Юпитера и всех других богов. После меня мир будет принадлежать Галилеянину, ты же, избранница императора, будешь царить над твоей многочисленной общиной, прекрасная и вознесенная, как ни одна женщина на земле, ни до, ни после тебя!
Актэ печально покачала головой.
– Нет, повелитель, – трепеща отвечала она, – из зла еще никогда не выходило добра. Церковь всемогущего Бога зиждется не на преступлениях, но на незыблемой верности ее приверженцев. Она победит и без меня и без поддержки императора, одной лишь силой своей истины.
– Это ли язык любви? Дорогая, божественная Актэ…
– Подумай об Октавии!
– Я думаю о ней без малейшего укора совести. Октавия не может потерять то, чем она никогда не обладала. Я был твой задолго перед тем, как меня склонили к союзу с ней коварство окружающих, власть по-детски почитаемой матери и безграничная пустота моего собственного сердца. Актэ, если ты опять покинешь меня, я умру. Если ты повелишь, мой кумир, я сегодня же переговорю с Октавией и потребую развода…
– Никогда!
– Ты не хочешь быть моей перед лицом всего мира? Ты опасаешься бури, которую неминуемо возбудит развод императора с его супругой? Хорошо. Твоя воля для меня закон. Пусть долг приковывает цезаря к его жалкой жизни во дворце! Но как человеку, дай мне счастье твоей любви! Да, ты права, отвергая все мои обеты тебе, как христианке! Я должен был бы воззвать только к твоей любви. Я не хочу купить божественную Актэ ценой императорских милостей, но хочу получить ее сердце, как добровольный дар, из ее собственных нежных рук!
Голос его звучал такой безмерной страстью, что объятая блаженным трепетом Актэ затрепетала всем телом.
Неподалеку, под развесистыми ветвями старых платанов, стояла скамья, покрытая тарентинскими коврами.
Клавдий Нерон посадил рядом с собой слабо сопротивлявшуюся девушку и осыпал ее страстными поцелуями. Крепко прижавшись к нему, она плакала несказанно счастливыми слезами…
Когда настала минута разлуки, Актэ со сладостным смущением взглянула на обожаемого ею императора. Но во взоре ее не было раскаяния: в нем выражалась одна лишь безграничная любовь, бесконечная преданность.
– Так ты остаешься? Да? Обещаешь? – прошептал Нерон, снова нежно и горячо обнимая ее. – Актэ! Актэ! Как мне благодарить тебя за твою любовь и доброту? Прощай, моя возлюбленная, моя единственная настоящая, любимая супруга! Я должен спешить к гостям! Боюсь, мое продолжительное отсутствие уже замечено всеми. Я вижу, ты еще носишь мой перстень. Покажи его привратнику Тигеллина. Тебе будет оказано такое же уважение, как императрице, и укажут тебе ложе, где ты можешь спокойно заснуть в сознании нашего, достигнутого наконец счастья. Артемидор же уведомит твою госпожу, чтобы она отыскала себе другую спутницу. Актэ рождена не для того, чтобы прислуживать стареющим провинциалкам. Пожалуйста, напиши что следует вот на этой дощечке: я позабочусь, чтобы записка была доставлена по адресу завтра рано утром. Где остановилась твоя сицилианка?
– В доме ее подруги, египтянки Эпихарис.
– Приглашенной сегодня сюда?
– Той самой. Артемидор сказал мне об этом. Если бы не назначенный на завтра отъезд моей госпожи, и она была бы здесь между гостями.
– Так Эпихарис может передать ей сегодня же твой отказ, – сказал император.
Актэ написала.
– Хорошо, – сказал Нерон, пряча восковую дощечку под тунику. – Теперь иди, моя дорогая, моя обожаемая! О, каким неописуемым блаженством даришь ты меня! В груди моей радость бьет ключом, я хотел бы обнять весь мир. Ступай и прими еще один огненный поцелуй, который скажет тебе, как всецело ты владеешь моим сердцем!
Он приник к ее губам в последний раз. Поднявшись, она направилась к маленькой калитке парка, между тем как Нерон, закинув за плечо тогу, поспешил к средоточию праздника, откуда все громче и яснее долетал до него шум и веселый говор.
Глава Х
Когда Клавдий Нерон подходил к арене, там только что окончилась борьба гладиаторов, за которой возбужденные вином зрители следили с горячим воодушевлением.
Один из борцов, раненый, истекая кровью, упал на колени, а его сломанный меч валялся в стороне на песке арены.
Победитель, вопросительно осмотревшись кругом, остановил свой взор на императорской ложе, ожидая услыхать из уст императрицы-матери решение судьбы обезоруженного противника. Несмотря на нашептывания рыжей испанки Ацерронии, Агриппина, будучи здесь только гостьей наравне с другими, отклонила от себя это право и величаво равнодушным жестом указала борцу на ряды остальных зрителей. Изнеженные юноши и бессердечные кокетки пожелали насладиться кровавым зрелищем до конца, – и все опустили большой палец, что означало: «Избавь Флавия Сцевина от расхода на лечение! Не медли! Наноси смертельный удар!»
После мгновенного колебания, гладиатор глубоко вонзил клинок в грудь своей жертвы. Темная струя крови со свистом и паром брызнула вверх.
Тогда-то среди оглушительных рукоплесканий появился цезарь. Прекрасно-величавый, как Аполлон, вошел он на ступени трибуны и сел между Октавией и Агриппиной.
– Ты не должна была бы допускать этого, – обратился к матери Нерон, – или по крайней мере ты, благородная Октавия, прозванная Кроткой. Конечно, будучи римлянкой с ног до головы, ты привычна к ужасам смерти. Я это понимаю и уступаю. Но только сегодня… сегодня… праздник был так прекрасен, так полон гармонии… не следовало осквернять убийством этот счастливый день.
– Убийством? – изумленно повторила Агриппина.
– Да, убийством, – подтвердил цезарь, – хотя и законным, но тем не менее отвратительным убийством. Разве ты не знаешь, что говорит об этом Сенека? Да и сам благородный Флавий Сцевин, потворствуя жестокому требованию современного вкуса, повинуется единственно лишь обязанности амфитриона, а не собственному чувству. В душе он совершенно согласен с моим бессмертным учителем.
– Битвы гладиаторов – наследие предков, – возразила Октавия. – Сам Цицерон, философ не хуже Сенеки, считал их лучшей школой мужской отваги. Как мне могло прийти в голову противиться воле и обычаям римского народа?
– Так думаю и я! – многозначительно присовокупила императ-рица-мать. Она была рассержена. Смелый тост Флавия Сцевина, которого ее сын теперь открыто хвалил как образец этического направления, с удвоенной дерзостью зазвучал в ее ушах.
– Мать, – обратился к ней Нерон, между тем как двое рабов выносили умиравшего фракийца, – скажи, что с тобой? Ты раздосадована моими словами к Октавии? Но я говорил по глубокому убеждению. У тебя такой суровый, недовольный вид… Я же так радостен, так счастлив, так полон праздничного веселья и жажды жизни, что хотел бы одержать победу и над самой смертью! Мать, я знаю, ты оскорблена тостом Флавия. Хотя искусно скрытая, но все-таки острая отрава его слов уязвила тебя. Видишь ли, мать, многие сенаторы и большинство римлян желают, чтобы я единолично держал скипетр римского императора, но Нерон отлично знает, кому он обязан престолом. Ты останешься правительницей империи, если правление твое будет кротко и не оскорбительно для законов государства. Ты будешь уступать мне в мелочах, только в шутку; во всем же важном тебе предоставляется неограниченная власть. Я не честолюбив, мать. Меня не соблазняют дерзостные речи твоих врагов.
Прежде чем Агриппина успела ответить, из аллеи, усаженной громадными пиниями и находившейся как раз позади арены, раздался отчаянный крик о помощи. Все вскочили со своих мест.
С преторианцами впереди, гости бросились в аллею, по которой медленно, шатаясь, шел Флавий Сцевин, поддерживаемый прекрасной Поппеей Сабиной.
– Убийство! – закричала она своим звучным голосом. – Какой век! Амфитрион не безопасен даже в собственном доме!
В одно мгновение Нерон очутился возле сенатора и бережно обхватил его рукой, коснувшись при этом руки Поппеи, которая вздрогнула, несмотря на все смятение этой минуты, как бы желая дать понять императору, какое сильное впечатление он производит на нее.
– Скажи, что случилось? – заботливо спросил Нерон. – Но прежде всего: как ты себя чувствуешь?
– На этот раз я отделался довольно счастливо, – усмехнулся Флавий Сцевин. – Я гулял с супругой Ото и, очарованный ее остроумной беседой, забыл о моих обязанностях хозяина дома. Вдруг в кустарниках что-то зашумело. Я полагал, что это ночная птица, но едва успел подумать, как меня ударило по правому плечу. «Ото!» – крикнул я и обернулся. Но враг уже исчез, и я почувствовал лишь теплую кровь, струившуюся по моей спине!
– Преторианцы! Оцепите парк и дом! – повелительно воскликнула Агриппина.
– Стена высока, все входы заперты. Жалкий преступник не может ускользнуть от нас!
– Факелы сюда! – приказал Тигеллин, между тем как прекрасная Поппея и Нерон вели в дом окровавленного Сцевина.
– Тщетный труд! – сказал он, бросив странный взгляд на императрицу-мать. – Такие убийцы чрезвычайно хитры и обыкновенно случается, что их преследуют по ложному следу.
Войдя в спальню Флавия, Нерон обратился к стоявшему там испуганному Артемидору.
– Помоги мне уложить твоего господина! – сказал он.
– Пресветлейший император, – возразил отпущенник, – смотри, тут довольно людей и между ними есть врачи. Благородный Сцевин никогда не простил бы мне, если бы я допустил…
– Молчи! – резко прервал его Сцевин. – Слушайся императора Нерона! Он единственный властитель, которому вы обязаны повиноваться, даже если бы он приказал вам… арестовать свою собственную мать!
Клавдий Нерон обменялся удивленным взглядом с прекрасной Поппеей, которая, впрочем, тотчас же приняла обычно томный вид.
Император легко приподнял стан широкоплечего сенатора, которого Артемидор в то же время обхватил за ноги, и они положили его на железную кровать: так повелитель мира и раб вместе исполнили обязанность больничных служителей.