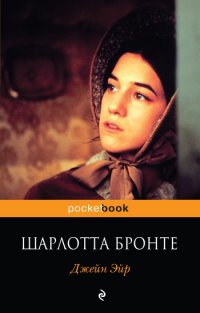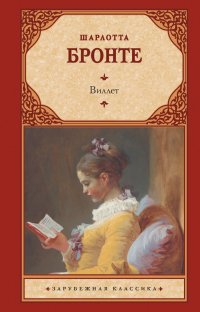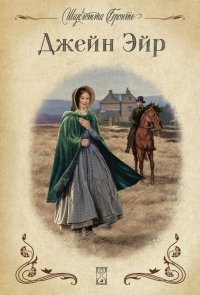Читать онлайн Джейн Эйр. Грозовой перевал бесплатно
- Все книги автора: Шарлотта Бронте, Эмили Бронте
© Грызунова А., перевод на русский язык, 2018
© Станевич В., перевод на русский язык. Наследники, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
Шарлотта Бронте
Джейн Эйр
Глава I
В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада, но после обеда (когда не было гостей, миссис Рид кушала рано) холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз.
Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унизительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джорджианы Рид.
Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы: она полулежала на диване перед камином, окруженная своими дорогими детками (в данную минуту они не ссорились и не ревели), и, очевидно, была безмятежно счастлива.
Я была освобождена от участия в этой семейной группе; как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное; а тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток.
– А что Бесси сказала? Что я сделала?
– Джейн, я не выношу придирок и допросов; это просто возмутительно, когда ребенок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь и, пока не научишься быть вежливой, молчи.
Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали. Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф; я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась таким образом отгороженной с двух сторон от окружающего мира.
Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа; слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса туч и тумана; на переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами, их непрерывно хлестали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетавший сильными порывами и жалобно стенавший.
Затем я снова начинала просматривать книгу – это была «Жизнь английских птиц» Бьюика. Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня, однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной: там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими; о берегах Норвегии, от южной оконечности которой – мыса Линденеса – до Нордкапа разбросано множество островов:
- …Где ледяного океана ширь
- Кипит у островов, нагих и диких,
- На дальнем севере; и низвергает волны
- Атлантика на мрачные Гебриды.
Не могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, «всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, извечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледенелым Альпам; окружая полюс, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода». У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертвенно-белых мирах, – правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о Вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.
Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища: одинокий могильный камень с надписью, ворота, два дерева, низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера.
Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками.
Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула: она вызывала во мне ужас.
С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы.
Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса – такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывала в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плоя щипцами оборки ее ночного чепчика, утоляла наше жадное любопытство рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад или же, как я обнаружила в более поздние годы, из «Памелы» и «Генриха, герцога Морландского».
И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива; по-своему, но счастлива. Я боялась только одного – что мне помешают, и это, к сожалению, случилось очень скоро.
Дверь в маленькую столовую отворилась.
– Эй, ты, нюня! – раздался голос Джона Рида; он замолчал: комната казалась пустой.
– Куда, к чертям, она запропастилась? – продолжал он. – Лиззи! Джорджи! – позвал он сестер. – Джоаны нет здесь. Скажите мамочке, что она убежала под дождик… Экая гадина!
«Хорошо, что я задернула занавесы», – подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто, впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил, но Элиза, едва просунув голову в дверь, сразу же заявила:
– Она на подоконнике, ручаюсь, Джон.
Я тотчас вышла из своего уголка; больше всего я боялась, как бы меня оттуда не вытащил Джон.
– Что тебе нужно? – спросила я с плохо разыгранным смирением.
– Скажи: «Что вам угодно, мистер Рид?» – последовал ответ. – Мне угодно, чтобы ты подошла ко мне, – и, усевшись в кресло, он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним.
Джону Риду исполнилось четырнадцать лет, он был четырьмя годами старше меня, так как мне едва минуло десять. Это был необычайно рослый для своих лет увалень с прыщеватой кожей и нездоровым цветом лица; поражали его крупные нескладные черты и большие ноги и руки. За столом он постоянно объедался, и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц-другой домой «по причине слабого здоровья». Мистер Майлс, его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости, – пусть ему только поменьше присылают из дому пирожков и пряников; но материнское сердце возмущалось столь грубым объяснением и склонялось к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а может быть, и тоске по родному дому.
Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам, меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил; и это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев; слуги не захотели бы рассердить молодого барина, став на мою сторону, а миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха: она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а впрочем, чаще за ее спиной.
Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел; минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и, с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и пребольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или два.
– Вот тебе за то, что ты надерзила маме, – сказал он, – и за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас, ты, крыса!
Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор; я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым.
– Что ты делала за шторой? – спросил он.
– Я читала.
– Покажи книжку.
Я взяла с окна книгу и принесла ему.
– Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты живешь у нас из милости; ты нищенка, твой отец тебе ничего не оставил; тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена, есть то, что мы едим, и носить платья, за которые платит наша мама. Я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги! Я здесь хозяин! Или буду хозяином через несколько лет. Пойди встань у дверей, подальше от окон и от зеркала.
Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях; но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ею в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро: толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшибла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам.
– Противный, злой мальчишка! – крикнула я. – Ты – как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты – как римский император!
Я прочла «Историю Рима» Голдсмита[1] и составила себе собственное представление о Нероне, Калигуле и других тиранах. Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух.
– Что? Что? – закричал он. – Кого ты так называешь?.. Вы слышали, девочки? Я скажу маме! Но раньше…
Джон ринулся на меня; я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови, я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх, и я встретила Джона с яростью. Я не вполне сознавала, что делают мои руки, но он крикнул: «Крыса! Крыса!» – и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана побежали за миссис Рид, которая ушла наверх; она явилась, за ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова:
– Ай-ай! Вот негодница, как она набросилась на мистера Джона!
– Этакая злоба у девочки!
И наконец приговор миссис Рид:
– Уведите ее в красную комнату и заприте там.
Четыре руки подхватили меня и понесли наверх.
Глава II
Я сопротивлялась изо всех сил, и эта неслыханная дерзость еще ухудшила и без того дурное мнение, которое сложилось обо мне у Бесси и мисс Эббот. Я была прямо-таки не в себе, или, вернее, вне себя, как сказали бы французы: я понимала, что мгновенная вспышка уже навлекла на меня всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своем отчаянии была готова на все.
– Держите ее за руки, мисс Эббот, она точно бешеная…
– Какой срам! Какой стыд! – кричала камеристка. – Разве можно так недостойно вести себя, мисс Эйр? Бить молодого барина, сына вашей благодетельницы! Ведь это же ваш молодой хозяин!
– Хозяин? Почему это он мой хозяин? Разве я прислуга?
– Нет, вы хуже прислуги, вы не работаете, вы дармоедка! Вот посидите здесь и подумайте хорошенько о своем поведении.
Тем временем они втащили меня в комнату, указанную миссис Рид, и с размаху опустили на софу. Я тотчас взвилась, как пружина, но две пары рук схватили меня и приковали к месту.
– Если вы не будете сидеть смирно, вас придется привязать, – сказала Бесси. – Мисс Эббот, дайте-ка мне ваши подвязки, мои она сейчас же разорвет.
Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с дебелой ноги подвязку. Эти приготовления и ожидавшее меня новое бесчестие несколько охладили мой пыл.
– Не снимайте, я буду сидеть смирно! – воскликнула я и в доказательство вцепилась руками в софу, на которой сидела.
– Ну, смотрите!.. – сказала Бесси.
Убедившись, что я действительно покорилась, она отпустила меня; а затем обе стали передо мной, сложив руки на животе и глядя на меня подозрительно и недоверчиво, словно сомневались в моем рассудке.
– С ней никогда еще этого не было, – произнесла наконец Бесси, обращаясь к мисс Эббот.
– Ну, это все равно сидело в ней. Сколько раз я высказывала миссис Рид свое мнение об этом ребенке, и миссис всегда соглашалась со мной. Нет ничего хуже такой тихони! Я никогда не видела, чтобы ребенок ее лет был настолько скрытен.
Бесси не ответила; но немного спустя она сказала, обратясь ко мне:
– Вы же должны понимать, мисс, чем вы обязаны миссис Рид: ведь она кормит вас; выгони она вас отсюда, вам пришлось бы идти в работный дом.
Мне нечего было возразить ей: мысль о моей зависимости была для меня не нова, – с тех пор как я помню себя, мне намекали на нее, укор в дармоедстве стал для меня как бы постоянным припевом, мучительным и гнетущим, но лишь наполовину понятным. Мисс Эббот поспешно добавила:
– И не воображайте, что вы родня барышням и мистеру Риду, если даже миссис Рид так добра, что воспитывает вас вместе с ними. Они будут богатые, а у вас никогда ничего не будет. Поэтому вы должны смириться и угождать им.
– Мы ведь говорим все это ради вашей же пользы, – добавила Бесси уже мягче. – Старайтесь быть услужливой, ласковой девочкой. Тогда, может быть, этот дом и станет для вас родным домом; а если вы будете злиться и грубить, миссис наверняка выгонит вас отсюда.
– Кроме того, – добавила мисс Эббот, – Бог непременно накажет такую дурную девочку. Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходок, и что тогда будет с ней? Пойдем, Бесси, пусть посидит одна. Ни за что на свете не хотела бы я иметь такой характер. Молитесь, мисс Эйр, а если вы не раскаетесь, как бы кто не спустился по трубе и не утащил вас…
Они вышли, затворив за собой дверь, и заперли меня на ключ.
Красная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко, вернее – никогда, разве только наплыв гостей в Гейтсхэд-холле вынуждал хозяев вспомнить о ней; вместе с тем это была одна из самых больших и роскошных комнат дома. В центре, точно алтарь, высилась кровать с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцовым пологом; два высоких окна с всегда опущенными шторами были наполовину скрыты ламбрекенами из той же материи, спускавшимися фестонами и пышными складками; ковер был красный, стол в ногах кровати покрыт алым сукном. Стены обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком; гардероб, туалетный стол и кресла – из полированного красного дерева. На фоне этих глубоких темных тонов резко белела гора пуховиков и подушек на постели, застланной белоснежным пикейным покрывалом. Почти так же резко выделялось и мягкое кресло в белом чехле у изголовья кровати, со скамеечкой для ног перед ним; это кресло казалось мне каким-то фантастическим белым троном.
В комнате стоял промозглый холод, оттого что ее редко топили; в ней царило безмолвие, оттого что она была удалена от детской и кухни; в ней было жутко, оттого что в нее, как я уже говорила, редко заглядывали люди. Одна только горничная являлась сюда по субботам, чтобы смахнуть с мебели и зеркал осевшую за неделю пыль, да еще сама миссис Рид приходила изредка, чтобы проверить содержимое некоего потайного ящика в комоде, где хранился фамильный архив, шкатулка с драгоценностями и миниатюра, изображавшая ее умершего мужа; в последнем обстоятельстве, а именно в смерти мистера Рида, и таилась загадка красной комнаты, того заклятия, которое лежало на ней, несмотря на все ее великолепие.
С тех пор как умер мистер Рид, прошло девять лет; именно в этой комнате он испустил свой последний вздох; здесь он лежал мертвый; отсюда факельщики вынесли его гроб, – и с этого дня чувство какого-то мрачного благоговения удерживало обитателей дома от частых посещений красной комнаты.
Я все еще сидела на том месте, к которому меня как бы приковали Бесси и злючка мисс Эббот. Это была низенькая софа, стоявшая неподалеку от мраморного камина; передо мной высилась кровать; справа находился высокий темный гардероб, на лакированных дверцах которого смутно отражались бледные световые блики; слева – занавешенные окна. Огромное зеркало в простенке между ними повторяло пустынную торжественность комнаты и кровати. Я не была вполне уверена в том, что меня заперли, и поэтому, когда наконец решилась сдвинуться с места, встала и подошла к двери. Увы! Я была узницей, не хуже чем в тюрьме. Возвращаться мне пришлось мимо зеркала, и я невольно заглянула в его глубину. Все в этой призрачной глубине предстало мне темнее и холоднее, чем в действительности, а странная маленькая фигурка, смотревшая на меня оттуда, ее бледное лицо и руки, белеющие среди сумрака, ее горящие страхом глаза, которые одни казались живыми в этом мертвом царстве, действительно напоминали призрак: что-то вроде тех крошечных духов, не то фей, не то эльфов, которые, по рассказам Бесси, выходили из пустынных, заросших папоротником болот и внезапно появлялись перед запоздалым путником.
Я вернулась на свое место. Я уже была во власти суеверного страха, но час его полной победы еще не настал. Кровь моя все еще была горяча, и ярость восставшего раба жгла меня своим живительным огнем. На меня снова хлынул поток воспоминаний о прошлом, и я отдалась ему, прежде чем покориться мрачной власти настоящего.
Грубость и жестокость Джона Рида, надменное равнодушие его сестер, неприязнь их матери, несправедливость слуг – все это встало в моем расстроенном воображении, точно поднявшийся со дна колодца мутный осадок. Но почему я должна вечно страдать, почему меня все презирают, не любят, клянут? Почему я не умею никому угодить и все мои попытки заслужить чью-либо благосклонность так напрасны? Почему, например, к Элизе, которая упряма и эгоистична, или к Джорджиане, у которой отвратительный характер, капризный, раздражительный и заносчивый, все относятся снисходительно? Красота и розовые щеки Джорджианы, ее золотые кудри, видимо, пленяют каждого, кто смотрит на нее, и за них ей прощают любую шалость. Джону также никто не противоречит, его никогда не наказывают, хотя он душит голубей, убивает цыплят, травит овец собаками, крадет в оранжереях незрелый виноград и срывает бутоны самых редких цветов; он даже называет свою мать «старушкой», смеется над ее цветом лица – желтоватым, как у него, не подчиняется ее приказаниям и нередко рвет и пачкает ее шелковые платья. И все-таки он ее «ненаглядный сыночек». Мне же не прощают ни малейшего промаха. Я стараюсь ни на шаг не отступать от своих обязанностей, а меня называют непослушной, упрямой и лгуньей, и так с утра и до ночи.
Голова у меня все еще болела от ушиба, из ранки сочилась кровь. Однако никто не упрекнул Джона за то, что он без причины ударил меня; а я, восставшая против него, чтобы избежать дальнейшего грубого насилия, – я вызвала всеобщее негодование.
«Ведь это же несправедливо, несправедливо!» – твердил мне мой разум с той недетской ясностью, которая рождается пережитыми испытаниями, а проснувшаяся энергия заставляла меня искать какого-нибудь способа избавиться от этого нестерпимого гнета: например, убежать из дома или, если бы это оказалось невозможным, никогда больше не пить и не есть, уморить себя голодом.
Как была ожесточена моя душа в этот тоскливый вечер! Как были взбудоражены мои мысли, как бунтовало сердце! И все же в каком мраке, в каком неведении протекала эта внутренняя борьба! Ведь я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе: отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой.
Я совершенно не подходила к Гейтсхэд-холлу. Я была там как бельмо на глазу, у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными. Если они не любили меня, то ведь и я не любила их. С какой же стати они должны были относиться тепло к существу, которое не чувствовало симпатии ни к кому из них; к существу, так сказать, инородному для них, противоположному им по натуре и стремлениям; существу во всех смыслах бесполезному, от которого им нечего было ждать; существу зловредному, носившему в себе зачатки мятежа, восставшему против их обращения с ним, презиравшему их взгляды? Будь я натурой жизнерадостной, беспечным, своевольным, красивым и пылким ребенком – пусть даже одиноким и зависимым, – миссис Рид отнеслась бы к моему присутствию в своей семье гораздо снисходительнее; ее дети испытывали бы ко мне более товарищеские дружелюбные чувства; слуги не стремились бы вечно делать из меня козла отпущения.
В красной комнате начинало темнеть; был пятый час, и свет тусклого облачного дня переходил в печальные сумерки. Дождь все так же неустанно барабанил по стеклам окон на лестнице, и ветер шумел в аллее за домом. Постепенно я вся закоченела, и мужество стало покидать меня. Обычное чувство приниженности, неуверенности в себе, растерянности и уныния опустилось, как сырой туман, на уже перегоревшие угли моего гнева. Все уверяют, что я дурная… Может быть, так оно и есть; разве я сейчас не обдумывала, как уморить себя голодом? Ведь это же грех! А разве я готова к смерти? И разве склеп под плитами гейтсхэдской церкви уж такое привлекательное убежище? Мне говорили, что там похоронен мистер Рид… Это дало невольный толчок моим мыслям, и я начала думать о нем со все возрастающим ужасом. Я не помнила его, но знала, что он мой единственный родственник – брат моей матери, что, когда я осталась сиротой, он взял меня к себе и в свои последние минуты потребовал от миссис Рид обещания, что она будет растить и воспитывать меня как собственного ребенка. Миссис Рид, вероятно, считала, что сдержала свое обещание; она его и сдержала – в тех пределах, в каких ей позволяла ее натура. Но могла ли она действительно любить навязанную ей девочку, существо, совершенно чуждое ей и ее семье, ничем после смерти мужа с ней не связанное? Скорее миссис Рид тяготилась необходимостью соблюдать данное в такую минуту обещание: быть матерью чужому ребенку, которого она не могла полюбить, с постоянным присутствием которого в семье не могла примириться.
Мною овладела странная мысль: я не сомневалась в том, что, будь мистер Рид жив, он относился бы ко мне хорошо. И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени тревожный взгляд в тускло блестевшее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие, чья предсмертная воля не выполнена и чей покой в могиле нарушен, иногда посещают землю, чтобы покарать виновных и отомстить за угнетенных; и мне пришло в голову: а что, если дух мистера Рида, терзаемый обидами, которые терпит дочь его сестры, вдруг покинет свою гробницу под сводами церковного склепа или неведомый мир усопших и явится мне в этой комнате? Я отерла слезы и постаралась сдержать свои всхлипывания, опасаясь, как бы в ответ на бурное проявление моего горя не зазвучал потусторонний голос, пожелавший утешить меня; как бы из сумрака не выступило озаренное фосфорическим блеском лицо, которое склонится надо мной с неземной кротостью. Появление этой тени, казалось бы столь утешительное, вызвало бы во мне – я это чувствовала – безграничный ужас. Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие на лоб волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала себя, не лунный ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе? Нет, лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался; пока я смотрела, он скользнул по потолку и затрепетал над моей головой. Теперь я охотно готова допустить, что это была полоска света от фонаря, с которым кто-то шел через лужайку перед домом. Но в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувства потрясены всем пережитым, я решила, что неверный трепетный луч – вестник гостя из другого мира. Мое сердце судорожно забилось, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев; я ощущала чье-то присутствие, что-то давило меня, я задыхалась; всякое самообладание покинуло меня. Я бросилась к двери и с отчаянием начала дергать ручку. По коридору раздались поспешные шаги; ключ в замке повернулся, вошли Бесси и Эббот.
– Мисс Эйр, вы заболели? – спросила Бесси.
– Какой ужасный шум! Я до смерти испугалась! – воскликнула Эббот.
– Возьмите меня отсюда! Пустите меня в детскую! – закричала я.
– Отчего? Разве вы ушиблись? Или вам что-нибудь привиделось? – снова спросила Бесси.
– О!.. Тут мелькнул какой-то свет, и мне показалось, что сейчас появится привидение! – Я вцепилась в руку Бесси, и она не вырвала ее у меня.
– Она нарочно подняла крик, – сказала Эббот презрительно, – и какой крик! Как будто ее режут. Верно, она просто хотела заманить нас сюда. Знаю я ее гадкие штуки!
– Что тут происходит? – властно спросил чей-то голос; по коридору шла миссис Рид, ленты на ее чепце развевались, платье угрожающе шуршало. – Эббот, Бесси! Я, кажется, приказала оставить Джейн Эйр в красной комнате, пока сама не приду за ней!
– Мисс Джейн так громко кричала, сударыня, – просительно сказала Бесси.
– Пустите ее, – был единственный ответ. – Не держись за руки Бесси, – обратилась она ко мне. – Этим способом ты ничего не добьешься, можешь быть уверена. Я ненавижу притворство, особенно в детях; мой долг доказать тебе, что подобными фокусами ты ничего не достигнешь. Теперь ты останешься здесь еще на лишний час, да и тогда я выпущу тебя только при условии полного послушания и спокойствия.
– О тетя! Сжальтесь! Простите! Я не могу выдержать этого… Накажите меня еще как-нибудь! Я умру, если…
– Молчи! Такая несдержанность отвратительна!
Я и в самом деле была ей отвратительна. Она считала меня уже сейчас опытной комедианткой; она искренне видела во мне существо, в котором неумеренные страсти сочетались с низостью души и опасной лживостью.
Тем временем Бесси и Эббот удалились, и миссис Рид, которой надоели и мой непреодолимый страх, и мои рыдания, решительно втолкнула меня обратно в красную комнату и без дальнейших разговоров заперла там. Я слышала, как она быстро удалилась. А вскоре после этого со мной, видимо, сделался припадок, и я потеряла сознание.
Глава III
Помню одно: очнулась я как после страшного кошмара; передо мною рдело жуткое багряное сияние, перечеркнутое широкими черными полосами. Я слышала голоса, но они едва доносились до меня, словно заглушаемые шумом ветра или воды; волнение, неизвестность и всепоглощающий страх как бы сковали все мои ощущения. Вскоре, однако, я почувствовала, как кто-то прикасается ко мне, приподнимает и поддерживает меня в сидячем положении, – так бережно еще никто ко мне не прикасался. Я прислонилась головой к подушке или к чьему-то плечу, и мне стало так хорошо…
Еще пять минут, и туман забытья окончательно рассеялся. Теперь я отлично понимала, что нахожусь в детской, в своей собственной кровати, и что зловещий блеск передо мной – всего-навсего яркий огонь в камине. Была ночь; на столе горела свеча; Бесси стояла в ногах кровати, держа таз, а рядом в кресле сидел, склонившись надо мной, какой-то господин.
Я испытала невыразимое облегчение, благотворное чувство покоя и безопасности, как только поняла, что в комнате находится посторонний человек, не принадлежащий ни к обитателям Гейтсхэда, ни к родственникам миссис Рид. Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было мне гораздо менее неприятно, чем было бы, например, присутствие Эббот), я стала рассматривать лицо сидевшего возле кровати господина; я знала его, это был мистер Ллойд, аптекарь, которого миссис Рид вызывала, когда заболевал кто-нибудь из слуг. Для себя и для своих детей она приглашала врача.
– Ну-ка, кто я? – спросил он.
Я назвала его и протянула ему руку; он взял ее, улыбаясь, и сказал:
– Ну, теперь мы будем понемножку поправляться.
Затем он снова уложил меня и, обратившись к Бесси, поручил ей особенно следить за тем, чтобы ночью меня никто не беспокоил. Дав ей еще несколько указаний и предупредив, что завтра опять зайдет, он удалился, к моему глубокому огорчению: я чувствовала себя в такой безопасности, так спокойно, пока он сидел возле моей кровати; но едва за ним закрылась дверь, как в комнате словно потемнело и сердце у меня упало, невыразимая печаль легла на него тяжелым камнем.
– Может быть, вы теперь заснете, мисс? – спросила Бесси с необычайной мягкостью.
Я едва осмелилась ей ответить, опасаясь, как бы за этими словами не последовали более грубые.
– Постараюсь.
– Может быть, вы хотите пить или скушаете что-нибудь?
– Нет, спасибо, Бесси.
– Тогда я, пожалуй, лягу, уже первый час; но вы меня кликните, если вам ночью что понадобится.
Какое небывалое внимание! Оно придало мне мужества, и я спросила:
– Бесси, что со мной случилось? Я больна?
– Вам стало нехорошо в красной комнате, наверно от плача; но теперь вы скоро поправитесь.
Затем Бесси ушла в каморку для горничных, находившуюся по соседству с детской. И я слышала, как она сказала:
– Сара, приходи ко мне спать в детскую; ни за что на свете я не останусь одна с бедной девочкой. А вдруг она умрет!.. Как странно, что с ней случился этот припадок… Хотела бы я знать, видела она что-нибудь или нет? Все-таки барыня была на этот раз чересчур строга к ней.
Она вернулась вместе с Сарой; они легли, но по крайней мере с полчаса еще шептались, прежде чем заснуть. Я уловила обрывки их разговора, из которых слишком хорошо поняла, о чем шла речь:
– Что-то в белом пронеслось мимо нее и исчезло… А за ним – громадная черная собака… Три громких удара в дверь… На кладбище горел свет, как раз над его могилой… – и так далее.
Наконец обе они заснули; свеча и камин погасли. Для меня часы этой бесконечной ночи проходили в томительной бессоннице. Ужас держал в одинаковом напряжении мой слух, зрение и мысль, – ужас, который ведом только детям.
Происшествие в красной комнате прошло для меня сравнительно благополучно, не вызвав никакой серьезной или продолжительной болезни, оно сопровождалось лишь потрясением нервной системы, следы которого остались до сих пор. Да, миссис Рид, сколькими душевными муками я обязана вам! Но мой долг простить вас, ибо вы не ведали, что творили: терзая все струны моего сердца, вы воображали, что только искореняете мои дурные наклонности.
На другой день, около полудня, я встала с постели, оделась и, закутанная в теплый платок, села у камина, чувствуя страшную слабость и разбитость, но гораздо мучительнее была невыразимая сердечная тоска, непрерывно вызывавшая на мои глаза тихие слезы; не успевала я стереть со щеки одну соленую каплю, как ее нагоняла другая. Мои слезы лились, хотя я должна была бы чувствовать себя счастливой, ибо никого из Ридов не было дома. Все они уехали кататься в коляске со своей мамой. Эббот тоже не показывалась – она шила в соседней комнате, и только Бесси ходила туда и сюда, расставляла игрушки и прибирала в ящиках комода, время от времени обращаясь ко мне с непривычно ласковыми словами. Все это должно было бы казаться мне сущим раем, ведь я привыкла жить под угрозой вечных выговоров и понуканий. Однако мои нервы были сейчас в таком расстройстве, что никакая тишина не могла их успокоить, никакие удовольствия не могли приятно возбудить.
Бесси спустилась в кухню и принесла мне сладкий пирожок, он лежал на ярко расписанной фарфоровой тарелке с райской птицей в венке из незабудок и полураспустившихся роз; эта тарелка обычно вызывала во мне восхищение, я не раз просила, чтобы мне позволили подержать ее в руках и рассмотреть подробнее, но до сих пор меня не удостаивали такой милости. И вот драгоценная тарелка очутилась у меня на коленях, и Бесси ласково уговаривала меня скушать лежавшее на ней лакомство. Тщетное великодушие! Оно пришло слишком поздно, как и многие дары, которых мы жаждем и в которых нам долго отказывают! Есть пирожок я не стала, а яркое оперение птицы и окраска цветов показались мне странно поблекшими; я отодвинула от себя тарелку. Бесси спросила, не дать ли мне какую-нибудь книжку. Слово «книга» вызвало во мне мимолетное оживление, и я попросила принести из библиотеки «Путешествия Гулливера». Эту книгу я перечитывала вновь и вновь с восхищением. Я была уверена, что там рассказывается о действительных происшествиях, и это повествование вызывало во мне более глубокий интерес, чем обычные волшебные сказки. Убедившись в том, что ни под листьями наперстянки и колокольчиков, ни под шляпками грибов, ни в тени старых, обвитых плющом ветхих стен мне эльфов не найти, я пришла к печальному выводу, что все они перекочевали из Англии в какую-нибудь дикую, неведомую страну, где кругом только густой девственный лес и где почти нет людей, – тогда как лилипуты и великаны действительно живут на земле; и я нисколько не сомневалась, что некогда мне удастся совершить дальнее путешествие и я увижу собственными глазами миниатюрные пашни, долины и деревья, крошечных человечков, коров, овец и птиц одного из этих царств, а также высокие, как лес, колосья, гигантских догов, чудовищных кошек и подобных башням мужчин и женщин другого царства. Но когда я теперь держала в руках любимую книгу и, перелистывая страницу за страницей, искала в ее удивительных картинках того очарования, которое раньше неизменно в них находила, – все казалось мне пугающе-мрачным. Великаны представлялись долговязыми чудищами, лилипуты – злыми и безобразными гномами, а сам Гулливер – унылым странником в неведомых и диких краях. Я захлопнула книгу, не решаясь читать дальше, и положила ее на стол рядом с нетронутым пирожком.
Бесси кончила вытирать пыль и прибирать комнату, вымыла руки и, открыв в комоде ящичек, полный красивых шелковых и атласных лоскутков, принялась мастерить новую шляпку для куклы Джорджианы. При этом она запела:
- В те дни, когда мы бродили
- С тобою, давным-давно…
Я часто слышала и раньше эту песню, и всегда она доставляла мне живейшее удовольствие; у Бесси был очень приятный голос – или так, по крайней мере, мне казалось. Но сейчас, хотя ее голос звучал так же приятно, мне чудилось в этой мелодии что-то невыразимо печальное. Временами, поглощенная своей работой, она повторяла припев очень тихо, очень протяжно, и слова «давным-давно» звучали как заключительные слова погребального хорала. Потом она запела другую песню, еще более печальную:
- Стерты до крови ноги, и плечи изныли,
- Долго шла я одна среди скал и болот.
- Белый месяц не светит, темно, как в могиле,
- На тропинке, где ночью сиротка бредет.
- Ах, зачем в эту даль меня люди послали,
- Где седые утесы, где тяжко идти!
- Люди злы, и лишь ангелы в кроткой печали
- Сироту берегут в одиноком пути.
- Тихо веет в лицо мне ночная прохлада,
- Нет ни облачка в небе, в звездах небосвод.
- Милосердие Бога – мой щит и ограда,
- Он надежду сиротке в пути подает.
- Если в глушь заведет огонек на трясине
- Или вдруг оступлюсь я на ветхом мосту, —
- И тогда мой Отец сироты не покинет,
- На груди у себя приютит сироту[2].
– Перестаньте, мисс Джейн, не плачьте, – сказала Бесси, допев песню до конца. Она с таким же успехом могла бы сказать огню «не гори», но разве могла она догадаться о том, какие страдания терзали мое сердце?
В то утро опять зашел мистер Ллойд.
– Уже встала? – воскликнул он, входя в детскую. – Ну, няня, как она себя чувствует?
Бесси ответила, что очень хорошо.
– Тогда ей следовало бы быть повеселее. Подите-ка сюда, мисс Джейн. Вас ведь зовут Джейн? Верно?
– Да, сэр, Джейн Эйр.
– Я вижу, что вы плакали, мисс Джейн Эйр. Не скажете ли вы мне – отчего? У вас что-нибудь болит?
– Нет, сэр.
– Она, верно, плакала оттого, что не могла поехать кататься с миссис Рид, – вмешалась Бесси.
– Ну уж нет! Она слишком большая для таких глупостей.
Я была того же мнения, и так как это несправедливое обвинение задело мою гордость, с живостью ответила:
– Я за всю мою жизнь ни разу еще не плакала о таких глупостях. Я терпеть не могу кататься! А плачу оттого, что я несчастна.
– Фу, какой стыд! – сказала Бесси.
Добрый аптекарь был, видимо, озадачен. Я стояла перед ним; он пристально смотрел на меня. У него были маленькие серые глазки, не очень блестящие, но я думаю, что теперь они показались бы мне весьма проницательными; лицо у него было грубоватое, но добродушное. Он долго и обстоятельно рассматривал меня, затем сказал:
– Отчего ты вчера заболела?
– Она упала, – снова поспешила вмешаться Бесси.
– Упала! Ну вот, опять точно маленькая! Разве такие большие девочки падают? Ей ведь, должно быть, лет восемь или девять?
– Меня нарочно сшибли с ног, – резко сказала я, снова поддавшись чувству оскорбленной гордости, – но я не от этого заболела, – добавила я.
Мистер Ллойд взял понюшку табаку. Когда он снова стал засовывать в карман пиджака свою табакерку, громко зазвонил колокол, сзывающий слуг обедать; аптекарю было известно значение этого звона.
– Няня, это вас зовут, – сказал он, – можете идти вниз. А я тут сделаю мисс Джейн маленькое наставление, пока вы вернетесь.
Бесси охотно осталась бы, но ей пришлось уйти, так как слуги в Гейтсхэд-холле должны были точнейшим образом соблюдать время обеда и ужина.
– Значит, ты заболела не оттого, что упала? Так отчего же? – продолжал мистер Ллойд, когда Бесси ушла.
– Меня заперли в комнате, где живет привидение, а было уже темно.
Мистер Ллойд улыбнулся и вместе с тем нахмурился.
– Что? Привидение? Ну, ты, видно, еще совсем ребенок! Ты боишься привидений?
– Да, привидения мистера Рида я боюсь; он ведь умер в той комнате и там лежал… Ни Бесси и никто другой не войдут туда ночью без надобности. И это было жестоко – запереть меня там одну, в темноте! Так жестоко, что я этого, наверно, никогда не забуду.
– Глупости! И ты поэтому так огорчаешься? Разве ты и днем боишься?
– Нет, но ведь скоро опять наступит ночь. И потом, я несчастна, очень несчастна, еще и по другим причинам.
– По каким же? Ты не можешь сказать мне хотя бы некоторые?
Как хотелось мне ответить на этот вопрос возможно полнее и откровеннее! Но мне трудно было найти подходящие слова, – дети способны испытывать сильные чувства, но не способны разбираться в них. А если даже частично и разбираются, то не умеют рассказать об этом. Однако я слишком боялась упустить этот первый и единственный случай облегчить свою печаль, поделившись ею, и после смущенного молчания наконец выдавила из себя пусть и неполный, но правдивый ответ:
– Во-первых, у меня нет ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер.
– Но у тебя есть добрая тетя, кузен и кузины.
Снова последовало молчание; затем я уже совсем по-ребячьи выпалила:
– Но ведь это Джон Рид швырнул меня на пол, а тетя заперла меня в красной комнате!
Мистер Ллойд снова извлек свою табакерку.
– Разве тебе не нравится в Гейтсхэд-холле? – спросил он. – Разве ты не благодарна, что живешь в таком прекрасном доме?
– Это не мой родной дом, сэр, а Эббот говорит, что у прислуги больше прав жить здесь, чем у меня.
– Эх ты, дурочка! Неужели ты так глупа, что хотела бы уехать из такой великолепной усадьбы?
– Если бы было куда, я бы с радостью убежала отсюда, но мне ни за что не уехать из Гейтсхэда, пока я не стану совсем взрослой.
– А может быть, и придется – кто знает! У тебя нет никакой родни, кроме миссис Рид?
– По-моему, нет, сэр.
– А со стороны отца?
– Не знаю. Я как-то спросила тетю Рид, и она сказала, что, может быть, у меня есть какие-нибудь бедные родственники по фамилии Эйр, но ей ничего о них не известно.
– А если бы такие оказались, ты бы хотела жить у них?
Я задумалась: бедность пугает даже взрослых – тем более страшит она детей. Они не могут представить себе бедность трудовую, деятельную и честную; это слово вызывает в них лишь представление о лохмотьях, о скудной пище и потухшем очаге, о грубости и низких пороках; в моем представлении бедность была равна унижению.
– Нет, мне бы не хотелось жить у бедных, – ответила я.
– Даже если бы они были добры к тебе?
Я покачала головой. Я не могла понять, откуда у бедных возьмется доброта; и потом – усвоить их жаргон, перенять манеры, стать невоспитанной – словом, похожей на тех женщин, которых я часто видела возле их хибарок в деревне, когда они нянчили ребят или стирали белье, – нет, я была не способна на подобный героизм, чтобы купить свободу такой дорогой ценой.
– Но разве твои родственники так уж бедны? Они рабочие?
– Этого я не знаю. Тетя Рид говорит, что если у меня есть родственники, то, наверное, какие-нибудь попрошайки; а я не могу просить милостыню.
– А тебе хотелось бы поступить в школу?
Я снова задумалась; едва ли у меня было ясное представление о том, что такое школа. Бесси иногда говорила, что это такое место, где молодых барышень муштруют и где от них требуют особенно хороших манер и воспитанности. Джон Рид ненавидел школу и бранил своего учителя; но вкусы Джона Рида не были для меня законом, и если сведения Бесси о школьной дисциплине (она почерпнула их у молодых барышень, в семье которых жила до поступления в Гейтсхэд) несколько отпугивали меня, то ее рассказы о различных познаниях, приобретенных там теми же молодыми особами, казались мне, с другой стороны, весьма заманчивыми. Она восхищалась тем, как хорошо они рисовали всякие красивые пейзажи и цветы, как пели и играли на фортепиано, какие прелестные кошельки они вязали и как бойко читали французские книжки. Под влиянием ее рассказов во мне пробуждался дух соревнования. Кроме того, школа означала коренную перемену: с ней было связано далекое путешествие, полный разрыв с Гейтсхэдом, переход к новой жизни.
– В школу мне действительно хотелось бы поступить, – сказала я вслух.
– Ну, ну, кто знает, что может случиться, – сказал мистер Ллойд, вставая. – Девочке нужна перемена воздуха и места, – добавил он, обращаясь к самому себе, – нервы никуда не годятся.
Бесси вернулась; и в ту же минуту до нас донесся шум подъезжающего экипажа.
– Ваша барыня приехала, няня? – спросил мистер Ллойд. – Я хотел бы поговорить с ней перед уходом.
Бесси предложила ему пройти в маленькую столовую и показала дорогу. На основании того, что последовало затем, я заключаю, что аптекарь отважился посоветовать миссис Рид отправить меня в школу; и этот совет был, без сомнения, принят очень охотно, ибо когда я в один из ближайших вечеров лежала в постели, а Бесси и Эббот сидели тут же в детской и шили, Эббот, полагая, что я уже сплю, сказала Бесси, с которой они обсуждали этот вопрос:
– Миссис Рид, наверно, рада-радешенька отделаться от этой несносной, противной девчонки. И в самом деле, у нее вечно такой вид, точно она за всеми подсматривает и что-то замышляет.
Очевидно, Эббот действительно считала меня чем-то вроде маленького Гая Фокса[3].
Тут же я впервые узнала из уст мисс Эббот, сообщившей об этом Бесси, что мой отец был бедным пастором; что мать моя вышла за него против воли родителей, считавших этот брак мезальянсом, и мой дедушка Рид настолько разгневался, что не завещал ей ни гроша; что через год после свадьбы отец заболел тифом, заразившись при посещении им бедняков в большом фабричном городе, где находился его приход; что моя мать, в свою очередь, заразилась от него и через месяц после его кончины последовала за ним в могилу.
Бесси, услышав этот рассказ, вздохнула и заметила:
– А ведь мисс Джейн тоже пожалеть надо, Эббот.
– Конечно, – ответила Эббот, – будь она милой, красивой девочкой, ее можно было бы и пожалеть за то, что у ней никого нет на белом свете. Но кто станет жалеть этакую противную маленькую жабу!
– Верно, немногие, – согласилась и Бесси. – Понятно, что красавица вроде мисс Джорджианы, попади она в такое же положение, гораздо больше располагала бы к себе.
– Да, да, я обожаю мисс Джорджиану! – воскликнула восторженная Эббот. – Душка! Такие длинные кудри и голубые глаза, такой прелестный румянец – будто накрасилась… А знаете, Бесси, я с удовольствием съела бы на ужин гренок с сыром.
– Я тоже, и с поджаренным луком. Пойдем-ка вниз.
И они ушли.
Глава IV
Из разговора с мистером Ллойдом и только что пересказанной беседы между Эббот и Бесси я почерпнула новую надежду; этого было достаточно, чтобы мне захотелось выздороветь; казалось, близится какая-то перемена; я хотела ее и молча выжидала. Однако дело затянулось; проходили дни и месяцы. Мое здоровье восстановилось, но я больше не слышала ни одного намека на то, что меня так занимало. Миссис Рид по временам окидывала меня суровым взглядом, но лишь изредка обращалась ко мне. Со времени моей болезни она еще решительнее провела границу между мной и собственными детьми: мне была отведена отдельная каморка, где я спала одна, обедала и завтракала я тоже в одиночестве и весь день проводила в детской, тогда как ее дети постоянно торчали в гостиной. Миссис Рид ни разу не обмолвилась ни единым словом относительно моего поступления в школу, и все-таки я была уверена, что она не станет долго терпеть меня под своей крышей: когда на меня падал ее взгляд, он больше, чем когда-либо, выражал глубокое и непреодолимое отвращение.
Элиза и Джорджиана, следуя полученному приказанию, старались разговаривать со мной как можно меньше; Джон, едва завидев меня, показывал мне язык и однажды сделал попытку снова помуштровать меня; но так как я мгновенно накинулась на него, охваченная тем же чувством неудержимого гнева и негодования, с которыми ему уже пришлось столкнуться, он счел за лучшее отступить и убежал, бормоча проклятия и крича, что я разбила ему нос. Я действительно ударила Джона кулаком по этой выступающей части лица со всей силой, на какую только была способна, и когда увидела, что этот удар, а может быть, мой взбешенный вид, произвел на него впечатление, – почувствовала сильнейшее желание воспользоваться и дальше достигнутым преимуществом; но он удрал под крылышко своей матери, и я услышала, как он плаксиво сочиняет ей какую-то историю относительно того, что эта гадкая Джейн Эйр набросилась на него, точно бешеная кошка. Мать строго прервала его:
– Не говори мне о ней, Джон; я запретила тебе связываться с ней. Она не заслуживает внимания. Я не хочу, чтобы ты или твои сестры разговаривали с этой девчонкой.
Но тут я, перегнувшись через перила лестницы, вдруг неожиданно для себя крикнула:
– Это они недостойны разговаривать со мной!
Миссис Рид была женщиной довольно тучной, но, услышав это странное и дерзкое заявление, она вихрем взлетела по лестнице, втащила меня в детскую и, швырнув меня на кроватку, весьма решительно приказала мне весь день не сходить с места и не раскрывать рта.
– А что бы сказал дядя Рид, если бы он был жив! – вырвалось у меня почти невольно. Во мне заговорило что-то, над чем я не имела власти.
– Что? – беззвучно прошептала миссис Рид, и в ее обычно столь холодных и спокойных серых глазах появился даже какой-то страх.
Она выпустила мое плечо и уставилась на меня, словно вопрошая, кто перед ней – ребенок или дьявол? Тогда я осмелела:
– Мой дядя Рид на небе, он видит все и знает, что вы думаете и делаете; и папа и мама – тоже: они знают, что вы меня запираете на целые дни и хотите моей смерти.
Миссис Рид быстро овладела собой; она изо всех сил принялась меня трясти, затем надавала пощечин и ушла, не промолвив ни слова. Это упущение наверстала Бесси, – она в течение целого часа отчитывала меня, доказывая с полной очевидностью, что я самое злое и неблагодарное дитя, какое когда-либо росло под чьей-нибудь крышей. Я готова была поверить ей, ибо понимала сама, что в моей груди бушуют только злые чувства.
Миновали ноябрь, декабрь, а также половина января. В Гейтсхэде, как всегда, весело отпраздновали Рождество и Новый год; на всех щедро сыпались подарки, миссис Рид давала обеды и вечера. Я была, разумеется, лишена всех этих развлечений: мое участие в них ограничивалось тем, что я ежедневно наблюдала, как наряжались Элиза и Джорджиана и как они затем отправлялись в гостиную, разодетые в кисейные платья с пунцовыми кушаками, распустив по плечам тщательно завитые локоны, а затем прислушивалась к звукам рояля и арфы, доносившимся снизу, к беготне буфетчика и слуг, подававших угощение, к звону хрусталя и фарфора, к гулу голосов, вырывавшемуся из гостиной, когда открывались и закрывались двери. Устав от этого занятия, я покидала площадку лестницы и возвращалась в тихую и пустую детскую. Там мне хоть и бывало грустно, но я не чувствовала себя несчастной.
Говоря по правде, у меня не было ни малейшего желания очутиться среди гостей, так как эти гости редко обращали на меня внимание; и будь Бесси хоть немного приветливее и общительнее, я бы предпочла спокойно проводить вечера с нею, вместо того чтобы непрерывно находиться под грозным оком миссис Рид в комнате, полной незнакомых дам и мужчин. Но Бесси, одев своих барышень, обычно удалялась в более оживленную часть дома – в кухню или в комнату экономки – и прихватывала с собой свечу. А я сидела с куклой на коленях до тех пор, пока не угасал огонь в камине, и испуганно озиралась, так как мне чудилось, что в полутемной комнате находится какой-то страшный призрак; и когда в камине оставалась только кучка рдеющей золы, я торопливо раздевалась, дергая изо всех сил шнурки и тесемки, и искала защиты от холода и мрака в своей кроватке. Я всегда клала с собой куклу: каждое человеческое существо должно что-нибудь любить, и, за неимением более достойных предметов для этого чувства, я находила радость в привязанности к облезлой, дешевой кукле, скорее похожей на маленькое огородное пугало. Теперь мне уже непонятна та нелепая нежность, которую я питала к этой игрушке, видя в ней чуть ли не живое существо, способное на человеческие чувства. Я не могла уснуть, не завернув ее в широкие складки моей ночной сорочки; и когда она лежала рядом со мной, в тепле и под моей защитой, я была почти счастлива, считая, что должна быть счастлива и она.
Какими долгими казались мне часы, когда я ожидала разъезда гостей и шагов Бесси в коридоре; иногда она забегала в течение вечера – взять наперсток или ножницы или принести мне что-нибудь на ужин – булочку, пирожок с сыром, – и тогда она усаживалась на краю постели, пока я ела, а затем подтыкала под матрац края одеяла, а два раза даже поцеловала меня, говоря: «Спокойной ночи, мисс Джейн». Когда Бесси была так кротко настроена, она казалась мне лучшим, красивейшим и добрейшим созданием на свете; и я страстно желала, чтобы она всегда была приветливой и внимательной и никогда бы не толкала меня, не дразнила, не обвиняла в том, в чем я была неповинна, как это с ней часто случалось. Теперь мне кажется, что Бесси Ли была очень одарена от природы: она делала все живо и ловко и к тому же обладала замечательным талантом рассказывать сказки, которые производили на меня огромное впечатление. Она была прехорошенькой, – если мои воспоминания о ее лице и фигуре не обманывают меня. В моей памяти встает стройная молодая женщина, черноволосая и темноглазая, с правильными чертами, со свежим, здоровым румянцем; но вся беда в том, что у нее был резкий и неуравновешенный характер и весьма смутные представления о беспристрастии и справедливости; но даже и такой я предпочитала ее всем остальным обитателям Гейтсхэд-холла.
Это произошло пятнадцатого января, около девяти часов утра. Бесси ушла вниз завтракать; моих кузин еще не позвали к столу. Элиза надевала шляпку и старое теплое пальто, собираясь идти кормить своих кур, – занятие, доставлявшее ей большое удовольствие. Когда они неслись, она с не меньшим удовольствием продавала яйца экономке и копила вырученные деньги. Элиза была страшная скареда и прирожденная коммерсантка. Это сказывалось не только в том, что она продавала яйца и цыплят, но и в том, как она торговалась с садовником из-за рассады и семян, – ибо миссис Рид приказала ему покупать у этой юной леди все, что произрастало на ее грядках и что она пожелала бы продать. Элиза же ничего бы не пожалела, лишь бы это сулило ей прибыль. Что касается денег, то она прятала их по всем углам, завертывая в тряпочки или бумажки; но когда часть ее сокровищ была случайно обнаружена горничной, Элиза, боясь, что пропадет все ее достояние, согласилась отдавать их на хранение матери, но притом, как настоящий ростовщик, – из пятидесяти-шестидесяти процентов. Эти проценты она взимала каждые три месяца и аккуратно заносила свои расчеты в особую тетрадку.
Джорджиана сидела перед зеркалом на высоком стуле и причесывалась, вплетая в свои кудри искусственные цветы и сломанные перья, – она нашла на чердаке полный ящик этих украшений. Я убирала свою постель, так как Бесси строжайше приказала мне сделать это до ее возвращения (она теперь нередко пользовалась мной как второй горничной: поручала мести пол, стирать пыль со стульев и тому подобное). Накрыв постель одеялом и сложив ночную сорочку, я подошла к подоконнику, чтобы прибрать разбросанные на нем книжки с картинками и кукольную мебель, но краткое приказание Джорджианы оставить в покое ее игрушки (ибо крошечные стульчики и зеркальце, очаровательные тарелочки и чашечки принадлежали именно ей) остановило меня; и тогда от нечего делать я стала дышать на морозные цветы, которыми было разукрашено окно, и, очистив таким образом маленькое местечко, заглянула в скованный суровым морозом сад, где все казалось недвижным и мертвым.
Из окна был виден домик привратника и усыпанная гравием дорога; и как раз тогда, когда мне удалось расчистить достаточно широкий кружок среди затянувшей стекло серебристо-белой листвы, ворота распахнулись и во двор въехал экипаж. Я равнодушно следила за тем, как он приближался к подъезду: в Гейтсхэд часто приезжали экипажи, но ни один не привозил гостей, которые представляли бы интерес для меня. Экипаж остановился перед домом, раздался резкий звук колокольчика, гостя впустили. Все это меня совершенно не касалось, и мое праздное внимание вскоре было привлечено голодным снегирем, который, чирикая, уселся на ветку голой шпалерной вишни у самой стены дома, неподалеку от окна. Остатки моего завтрака, состоявшие из хлеба и молока, еще были на столе, и, раскрошив булку, я принялась дергать форточку, чтобы высыпать крошки на карниз; но тут в детскую вбежала Бесси.
– Мисс Джейн, скорей снимайте передник! Что это вы делаете? Мыли вы руки и лицо сегодня?
Прежде чем ответить, я принялась дергать оконную раму, так как мне хотелось обеспечить птичке ее завтрак; наконец рама поддалась, я высыпала крошки – они упали частью на каменный карниз, частью на вишневую ветку – и, закрыв окно, ответила:
– Нет, Бесси, я только что кончила обметать пыль.
– Несносная девчонка! Неряха! А что вы сейчас делали? Зачем открывали окно?
Однако ответить мне не пришлось, ибо Бесси, видимо, слишком торопилась и, не слушая моих объяснений, потащила меня к умывальнику, беспощадно, хотя, к счастью, быстро, обработала мое лицо и руки водой, мылом и жестким полотенцем, пригладила волосы щеткой, сорвала с меня передник, вытолкала на площадку лестницы и приказала сойти вниз, так как меня ждут в столовой.
Мне очень хотелось спросить, кто ждет меня и там ли миссис Рид, но Бесси уже исчезла, захлопнув дверь. Я стала медленно спускаться. Вот уже почти три месяца, как миссис Рид не приглашала меня вниз; моя жизнь протекала только в детской, поэтому столовая, зал и гостиная сделались для меня недосягаемыми, и я не решалась в них вступить.
И вот я очутилась одна в пустом холле; я стояла перед дверью в гостиную, дрожа и робея. Какую жалкую трусишку сделал из меня в те дни страх перед незаслуженным наказанием! Я и в детскую боялась вернуться, и в гостиную не решалась войти; минут десять простояла я так, терзаясь сомнениями; резкий звонок к завтраку заставил меня решиться.
«Кто это мог вызвать меня, – недоумевала я, нажимая обеими руками на тугую ручку двери, не поддававшуюся моим усилиям. – Кого я сейчас увижу, кроме тети Рид? Мужчину или женщину?» Ручка наконец повернулась, дверь открылась, я вошла, низко присела и, подняв глаза, увидела черный столб: по крайней мере такое впечатление на меня произвела в первую минуту узкая, одетая в черное, прямая, как палка, фигура, стоявшая на ковре перед камином; угрюмое лицо напоминало высеченную из камня маску; она венчала эту колонну подобно капители.
Миссис Рид сидела на своем обычном месте у камина; она сделала мне знак. Я подошла, и она представила меня каменному незнакомцу, сказав:
– Вот девочка, по поводу которой я обратилась к вам.
Он – ибо это был мужчина – медленно повернул голову в мою сторону, его серые глаза, поблескивавшие из-под щетинистых бровей, вонзились в меня, и он строго сказал густым басом:
– Ростом она мала; сколько же ей лет?
– Десять лет.
– Так много? – недоверчиво отозвался он и продолжал еще несколько мгновений рассматривать меня, затем спросил: – Как тебя зовут, девочка?
– Джейн Эйр, сэр.
Пробормотав эти слова, я посмотрела на незнакомца; он показался мне очень высоким, – но ведь я сама была очень мала; черты лица у него были крупные и, так же как весь его облик, суровые и резкие.
– Ну, Джейн Эйр, ты хорошая девочка?
Невозможно было ответить на этот вопрос утвердительно: все в маленьком мирке, в котором я жила, были обратного мнения. Я молчала. Миссис Рид ответила за меня выразительным покачиванием головы и добавила:
– Может быть, чем меньше об этом говорить, мистер Брокльхерст, тем лучше…
– Очень жаль. В таком случае нам с ней придется побеседовать. – Фигура его сломилась под прямым углом, он сел в кресло против миссис Рид.
– Поди сюда, – сказал он.
Я ступила на ковер перед камином; мистер Брокльхерст поставил меня прямо перед собой. Что за лицо у него было! Теперь, когда оно находилось почти на одном уровне с моим, я хорошо видела его. Какой огромный нос! Какой рот! Какие длинные, торчащие вперед зубы!
– Нет более прискорбного зрелища, чем непослушное дитя, – особенно непослушная девочка. А ты знаешь, куда пойдут грешники после смерти?
– Они пойдут в ад, – последовал мой быстрый, давно затверженный ответ.
– А что такое ад? Ты можешь объяснить мне?
– Это яма, полная огня.
– А ты разве хотела бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней?
– Нет, сэр.
– А что ты должна делать, чтобы избежать этого?
Ответ последовал не сразу; когда же он наконец прозвучал, против него можно было, конечно, возразить очень многое.
– Я лучше постараюсь быть здоровою и не умереть.
– А как можно стараться не умереть? Дети моложе тебя умирают ежедневно. Всего два-три дня назад я похоронил девочку пяти лет, хорошую девочку; ее душа теперь на небе. Боюсь, что этого нельзя будет сказать про тебя, если Господь тебя призовет.
Не смея возражать ему, я уставилась на его огромные ноги, протянутые на ковре, и вздохнула, – мне хотелось бежать от него за тридевять земель.
– Я надеюсь, это вздох из глубины сердца и ты раскаиваешься, что была источником стольких неприятностей для твоей дорогой благодетельницы?
«Благодетельница! Благодетельница! – повторяла я про себя. – Все называют миссис Рид моей благодетельницей. Если так, то благодетельница – это что-то очень нехорошее».
– Ты молишься утром и вечером? – продолжал допрашивать меня мой мучитель.
– Да, сэр.
– Читаешь ты Библию?
– Иногда.
– С радостью? Ты любишь Библию?
– Я люблю Откровение, и Книгу пророка Даниила, Книгу Бытия, и Книгу пророка Самуила, и про Иова, и про Иону…
– А псалмы? Я надеюсь, их ты любишь?
– Нет, сэр.
– Нет? О, какой ужас! У меня есть маленький мальчик, он моложе тебя, но выучил наизусть шесть псалмов; и когда спросишь его, что он предпочитает – скушать пряник или выучить стих из псалма, он отвечает: «Ну конечно, стих из псалма! Ведь псалмы поют ангелы! А я хочу уже здесь, на земле, быть маленьким ангелом». Тогда он получает два пряника за свое благочестие.
– Псалмы не интересные, – заметила я.
– Это показывает, что у тебя злое сердце, и ты должна молить Бога, чтобы он изменил его, дал тебе новое, чистое сердце. Он возьмет у тебя сердце каменное и даст тебе человеческое.
Я только что собралась спросить, каким образом может быть произведена эта операция, когда миссис Рид прервала меня, приказав сесть, и уже сама продолжала беседу:
– Мне кажется, мистер Брокльхерст, в письме, которое я написала вам три недели назад, я подчеркнула, что эта девочка обладает не совсем теми чертами характера и наклонностями, которых я могла бы желать. И если вы примете ее в Ловудскую школу, я бы очень просила вас, пусть директриса и наставницы как можно строже следят за нею и борются с ее главным грехом – наклонностью к притворству и лжи. Я нарочно говорю об этом при тебе, Джейн, чтобы ты не вздумала вводить в заблуждение мистера Брокльхерста.
Недаром я боялась, недаром ненавидела миссис Рид! В ней жила постоянная потребность задевать мою гордость как можно чувствительнее! Никогда я не была счастлива в ее присутствии, – с какой бы точностью я ни выполняла ее приказания, как бы ни стремилась угодить ей, она отвергала все мои усилия и отвечала на них заявлениями, вроде только что ею сделанного. И сейчас это обвинение, брошенное мне в лицо перед посторонним, ранило меня до глубины души. Я смутно догадывалась, что она заранее хочет лишить меня и проблеска надежды, отравить и ту новую жизнь, которую она мне готовила; я ощущала, хотя, быть может, и не могла бы выразить это словами, что она сеет неприязнь и недоверие ко мне и на моей будущей жизненной тропе; я видела, что мистер Брокльхерст уже считает меня лживым, упрямым ребенком. Но как я могла бороться против этой несправедливости?!
«Конечно, никак», – решила я, стараясь сдержать невольное рыдание и поспешно отирая несколько слезинок, говоривших о моем бессильном горе.
– Притворство – поистине весьма прискорбная черта в ребенке, – заявил мистер Брокльхерст. – Оно сродни лживости, а все лжецы будут ввергнуты в озеро, горящее пламенем и серой. Во всяком случае, миссис Рид, за ней установят надзор. Я поговорю с мисс Темпль и с наставницами.
– Я хотела бы, чтобы она была воспитана в соответствии со своим будущим положением, – продолжала моя благодетельница. – Пусть научится смиряться и быть полезной. Что касается каникул, то она, с вашего позволения, будет проводить их в Ловуде.
– Ваши решения, сударыня, в высшей степени разумны, – отозвался мистер Брокльхерст. – Смирение – это высшая христианская добродетель, она как нельзя лучше пристала воспитанницам Ловуда; поэтому я требую, чтобы ее развитию в детях уделялось особое внимание; я специально изучал вопрос, как успешнее смирять в них суетное чувство гордости, и совсем на днях мне пришлось получить приятное подтверждение достигнутых мною успехов: моя вторая дочь Августа посетила со своей мамой школу и, вернувшись домой, воскликнула: «Папочка, какие все девочки в Ловуде простые и смирные – волосы зачесаны за уши, фартуки длинные-предлинные; а эти холщовые сумки поверх платья… совсем как дети бедняков. Они смотрели на нас с мамой во все глаза, – добавила моя дочка, – будто никогда не видели шелковых платьев».
– Мне очень приятно это слышать, – отозвалась миссис Рид. – Обыщи я всю Англию, я едва ли нашла бы более подходящую систему воспитания для такой девочки, как Джейн Эйр. Строгость, мой дорогой мистер Брокльхерст, – я стою за строгость решительно во всем!
– Непоколебимая строгость, сударыня, первая обязанность христианина. Что касается Ловуда, этому принципу подчинено все: неприхотливая пища, скромная одежда, строгий распорядок дня, закаляющий характер и приучающий к трудолюбию, – таков строй жизни этого дома и его обитателей.
– И это совершенно правильно, сэр. Значит, я могу быть спокойна, что девочку примут в Ловуд и там воспитают в соответствии с ее положением и видами на будущее?
– Конечно, сударыня! Мы поместим ее в этот вертоград избранных душ. И я надеюсь, что она будет благодарна за столь высокую привилегию.
– Итак, я пришлю ее возможно скорее, мистер Брокльхерст, потому что, уверяю вас, я жажду освободиться от ответственности, которая стала для меня в конце концов слишком обременительной.
– Конечно, конечно, сударыня! А теперь пожелаю вам доброго здоровья. Я возвращусь в Брокльхерст в течение ближайших двух недель: викарий, мой друг и благодетель, раньше ни за что не отпустит меня. Но я извещу мисс Темпль, чтобы она ожидала новую девочку. Таким образом, с приемом не будет никаких затруднений. До свидания!
– До свидания, мистер Брокльхерст! Передайте мой привет миссис Августе, и Теодоре, и мистеру Брокльхерсту, Броутону Брокльхерсту.
– Не премину, сударыня! Девочка, вот тебе книжка «Спутник ребенка»; прочти ее с молитвой, особенно «Описание ужасной и внезапной смерти Марты Дж., дурной девочки, предавшейся пороку лжи и обмана».
С этими словами мистер Брокльхерст вручил мне тощую брошюрку, аккуратно вшитую в папку, и, позвонив, чтоб ему подали экипаж, уехал. Миссис Рид и я остались одни. Несколько минут прошло в молчании; она шила, а я наблюдала за ней. Ей могло быть тогда лет тридцать шесть, тридцать семь. Это была женщина крепкого сложения, с крутыми плечами и широкой костью, невысокая, полная, но не расплывшаяся: у нее было крупное лицо с тяжелой и сильно развитой нижней челюстью; лоб низкий, подбородок массивный и выступающий вперед, рот и нос довольно правильные; под светлыми бровями поблескивали глаза, в которых не отражалось сердечной доброты. Кожа у нее была смуглая и матовая; волосы почти льняные; сложение прочное и здоровье отличное, – она не ведала, что такое хворь. Миссис Рид была аккуратной и строгой хозяйкой; она крепко забрала в руки хозяйство и арендаторов, и только ее дети иногда выходили из повиновения и смеялись над ней. Она одевалась со вкусом и умела носить красивые туалеты с достоинством.
Сидя на низенькой скамеечке, в нескольких шагах от ее кресла, я внимательно рассматривала ее фигуру и черты лица. В руке я держала трактат о внезапной смерти лгуньи, – эта история особенно рекомендовалась моему вниманию как весьма уместное для меня предостережение. То, что здесь сейчас произошло, – слова, сказанные миссис Рид мистеру Брокльхерсту, весь тон этого разговора, грубого и оскорбительного для меня, еще болезненно отдавалось в моей душе. Я вспоминала каждое слово с той же болью, с какой я слушала их, и во мне пробуждалось горячее желание отомстить.
Миссис Рид подняла голову; ее взгляд встретился с моим, пальцы перестали прилежно работать.
– Выйди из комнаты, возвращайся в детскую, – последовал приказ.
Вероятно, мой взгляд или что-нибудь во мне показалось ей вызывающим, так как в ее словах звучало крайнее, хотя и затаенное раздражение. Я встала, сделала несколько шагов к двери, затем вернулась, прошла через всю комнату и приблизилась к ней вплотную.
Я должна была говорить: меня слишком безжалостно попирали, я должна была возмутиться. Но как? Чем я могла отплатить моему врагу, какими располагала средствами? Я собралась с духом и бросила ей в лицо:
– Я не лгунья! Будь я лгуньей, я бы сказала, что люблю вас; но я заявляю, что не люблю; я ненавижу вас больше всех на свете, даже больше, чем Джона Рида! А эту книгу о лгунье можете отдать своей дочке Джорджиане, – это она лжет, а не я!
Руки миссис Рид все еще праздно лежали на ее работе, она остановила на мне свой ледяной взор, замораживая меня.
– Надеюсь, ты кончила? – спросила она тоном, каким говорят со взрослым противником и каким не обращаются к ребенку.
Эти глаза, этот голос растравили во мне всю ту неприязнь, которую я к ней питала. Дрожа с головы до ног, охваченная неудержимым волнением, я продолжала:
– Я рада, что вы мне не родная тетя! Никогда больше, во всю мою жизнь, я не назову вас тетей! Я ни за что не приеду повидать вас, когда вырасту; и если кто-нибудь спросит меня, любила ли я вас и как вы обращались со мной, я скажу, что при одной мысли о вас все во мне переворачивается и что вы обращались со мной жестоко и несправедливо!
– Как ты смеешь это говорить, Джейн Эйр?
– Как я смею, миссис Рид? Как смею? Оттого, что это правда. Вы думаете, у меня никаких чувств нет и мне не нужна хоть капелька любви и ласки, – но вы ошибаетесь. Я не могу так жить; а вы не знаете, что такое жалость. Я никогда не забуду, как вы втолкнули меня, втолкнули грубо и жестоко, в красную комнату и заперли там, – до самой смерти этого не забуду! А я чуть не умерла от ужаса, я задыхалась от слез, молила: «Сжальтесь, сжальтесь, тетя Рид! Сжальтесь!» И вы меня наказали так жестоко только потому, что ваш злой сын ударил меня ни за что, швырнул на пол. А теперь я всем, кто спросит о вас, буду рассказывать про это. Люди думают, что вы добрая женщина, но вы дурная, у вас злое сердце. Это вы лгунья!
Я еще не кончила, как моей душой начало овладевать странное, никогда не испытанное мною чувство освобождения и торжества. Словно распались незримые оковы и я наконец вырвалась на свободу. И это чувство появилось у меня не без основания: миссис Рид, видимо, испугалась, рукоделие соскользнуло с ее колен; она воздела руки, заерзала на стуле, и даже лицо ее исказилось, словно она вот-вот расплачется.
– Ты ошибаешься, Джейн! Что с тобой? Отчего ты так дрожишь? Хочешь выпить воды?
– Нет, миссис Рид.
– Может быть, ты еще чего-нибудь хочешь, Джейн? Уверяю тебя, я готова быть твоим другом.
– Нет, неправда. Вы сказали мистеру Брокльхерсту, что у меня скверный характер и что я лгунья; а я решительно всем в Ловуде расскажу, какая вы и как вы со мной поступили!
– Джейн, ты не понимаешь: недостатки детей нужно искоренять.
– Я не лгунья! – закричала я громко и исступленно.
– Но ты несдержанна, Джейн, согласись! А теперь возвращайся-ка в детскую, будь моей хорошей девочкой и приляг, отдохни…
– Я не ваша хорошая девочка; я не хочу прилечь. Отправьте меня в школу как можно скорее, миссис Рид, я здесь ни за что не останусь.
– Действительно, надо поскорее отослать ее в школу, – пробормотала миссис Рид; и, собрав рукоделие, она поспешно вышла из комнаты.
Я осталась одна на поле боя. Это была моя первая яростная битва и первая победа. Несколько мгновений я стояла неподвижно, наслаждаясь одиночеством победителя. Сначала я улыбалась, испытывая необычайный подъем, но эта жестокая радость угасла так же быстро, как и учащенное биение моего пульса. Ребенок не может вести борьбу со взрослыми, как вела я, не может дать волю своим безудержным порывам и не испытать после этого укоров совести и леденящего холода неизбежных сожалений. Степной курган, охваченный бушующим, всепожирающим пламенем, мог бы служить эмблемой моей души, когда я обвиняла миссис Рид и угрожала ей: та же степь, но черная, испепеленная, – вот образ моего душевного состояния, когда, после получасового размышления в тишине, я поняла, насколько безрассудно было мое поведение и как тяжело быть ненавидимой и ненавидеть.
Впервые я испытала сладость мести; пряным вином показалась она мне, согревающим и сладким, пока его пьешь, – но оставшийся после него терпкий металлический привкус вызывал во мне ощущение отравы. С какой охотой я бы попросила прощения у миссис Рид; но я знала – отчасти по опыту, отчасти инстинктивно, – что она оттолкнула бы меня с удвоенным презрением и вновь пробудила бы в моем сердце бурные порывы гнева.
Мне хотелось бы отдаться чему-нибудь более благородному, чем яростные обличения, пробудить в своей душе более мягкие чувства, чем мрачное негодование. Я взяла книгу – это были арабские сказки, – уселась и сделала попытку углубиться в нее. Но я не понимала того, что читаю, мои мысли уносились далеко, далеко, и страницы, которые я обычно находила такими захватывающими, ничего не говорили моей душе. Тогда я открыла стеклянную дверь столовой. Кусты стояли совершенно неподвижно: угрюмый мороз, без солнца, без ветра, сковал весь сад. Набросив на голову и плечи подол платья, я решила пройтись в уединенной части парка; но меня не радовали ни тихие деревья, ни сосновые шишки, падавшие на дорогу, ни мертвые останки осени – бурые, блеклые листья, которые ветром смело в кучи и сковало морозом. Я прислонилась к калитке и взглянула на пустую луговину, где уже не паслись овцы и где невысокую траву побил мороз и выбелил иней. День был хмурый, тусклое серое небо нависло снеговыми тучами; падали редкие хлопья снега и ложились, не тая, на обледеневшую тропинку, на деревья и кусты. И вот я, несчастное дитя, глядела на все это и повторяла шепотом все вновь и вновь: «Что же мне делать? Что же мне делать?»
И вдруг я услышала звонкий голос:
– Мисс Джейн! Где вы? Идите завтракать!
Я отлично знала, что это Бесси, но не тронулась с места; ее легкие шаги послышались на дорожке.
– Нехорошая девочка! – сказала она. – Отчего вы не идете, когда вас зовут?
После тех мыслей, которым я предавалась, присутствие Бесси обрадовало меня, хотя она, как обычно, была не в духе. Но после моего столкновения с миссис Рид и победы над ней мимолетный гнев моей няни мало меня трогал, и мне захотелось погреться в лучах ее молодой жизнерадостности. Я обвила ее шею руками и сказала:
– Не надо, Бесси, не браните меня.
Никогда еще я не позволяла себе такого простого и естественного порыва. Бесси сразу же растрогалась.
– Странная вы девочка, мисс Джейн, – сказала она, глядя на меня сверху вниз, – какой-то странный и дикий ребенок. Правда, что вас отдадут в школу?
Я кивнула.
– И вам не жалко будет расстаться с бедной Бесси?
– А какое Бесси до меня дело? Она вечно бранит меня.
– Потому что вы такая чудная, пугливая и застенчивая. Надо быть смелее.
– Зачем? Ведь тогда меня будут еще больше обижать.
– Глупости! Хотя вам и достается, это верно. Когда моя мать приходила на той неделе проведать меня, она сказала мне: «Вот уж не хотела бы, чтобы кто-нибудь из моих ребят очутился на месте этой девочки!» А теперь идем-ка домой, у меня для вас приятная новость.
– Уж будто, Бесси?
– Дитя! Что вы хотите сказать? Как печально вы смотрите на меня! Так слушайте же: миссис, молодые барышни и молодой барин уезжают после обеда в гости, так что вы будете пить чай со мной. Я скажу кухарке, чтобы она вам испекла сладкий пирожок, а потом вы поможете мне пересмотреть ваши вещи: скоро ведь придется укладывать ваш чемодан. Миссис хочет отправить вас из Гейтсхэда через день-два, и вы можете отобрать себе какие угодно игрушки – все, что вам понравится.
– Бесси, обещайте мне больше не бранить меня до моего отъезда!
– Да уж ладно! Но только будьте и вы славной девочкой и больше не бойтесь меня! Не вздрагивайте, как только я что-нибудь порезче скажу; это ужасно раздражает.
– Нет, я не буду бояться вас, Бесси, я к вам привыкла; скоро мне придется бояться совсем других людей.
– Если вы будете их бояться, они не станут любить вас.
– Как и вы, Бесси?
– Разве я не люблю вас, мисс? Мне кажется, я привязана к вам больше, чем к остальным детям!
– Что-то незаметно.
– Ведь вот вы какая хитрая! Вы совсем по-другому разговаривать стали, откуда у вас взялась такая смелость и задор?
– Что ж, мне скоро придется уехать отсюда, и, кроме того… – я чуть было не рассказала ей, что произошло между мною и миссис Рид, но, поразмыслив, предпочла умолчать об этом.
– Значит, вы рады уехать от меня?
– Ничуть, Бесси; сейчас мне, пожалуй, даже грустно.
– «Сейчас»! Да еще «пожалуй»! Как спокойно моя барышня это говорит! А если я попрошу, чтобы вы меня поцеловали, вы не захотите? Вы скажете: «Пожалуй – нет»?!
– Я охотно поцелую вас, Бесси, наклоните голову.
Бесси наклонилась; мы обнялись, и я с облегченным сердцем последовала за ней в дом. Конец этого дня прошел в мире и согласии, а вечером Бесси рассказывала мне свои самые чудесные сказки и пела самые красивые песни. Даже и мою жизнь озарял иногда луч солнца.
Глава V
В это утро, девятнадцатого января, едва пробило пять часов, Бесси вошла со свечой ко мне в комнату; она застала меня уже на ногах и почти одетой. Я поднялась за полчаса до ее прихода, умылась и стала одеваться при свете заходившей ущербной луны, лучи которой лились в узенькое замерзшее окно рядом с моей кроваткой. Мне предстояло отбыть из Гейтсхэда с дилижансом, проезжавшим мимо ворот в шесть часов утра. Встала пока только одна Бесси; она затопила в детской камин и теперь готовила мне завтрак. Не многие дети способны есть, когда они взволнованы предстоящим путешествием; не могла и я. Бесси тщетно уговаривала меня проглотить несколько ложек горячего молока и съесть кусочек хлеба. Убедившись, что ее усилия ни к чему не приводят, она завернула в бумагу несколько домашних печений и сунула их в мой саквояж, затем помогла мне надеть пальто и капор, закуталась в большой платок, и мы вдвоем вышли из детской. Когда мы проходили мимо спальни миссис Рид, она спросила:
– А вы не зайдете попрощаться с миссис?
– Нет, Бесси, когда вы вчера вечером ужинали, она подошла к моей кровати и сказала, что не стоит утром беспокоить ни ее, ни детей и что она всегда была моим лучшим другом, поэтому я должна хорошо отзываться о ней и вспоминать с благодарностью.
– А вы что ответили, мисс?
– Ничего; я натянула одеяло и отвернулась к стене.
– Нехорошо вы сделали, мисс Джейн.
– Нет, хорошо, Бесси. Миссис Рид никогда не была мне другом, она всегда была моим врагом.
– О, перестаньте, мисс Джейн!
– Прощай, Гейтсхэд! – воскликнула я, когда мы миновали холл и вышли на крыльцо.
Луна зашла, было очень темно; Бесси несла фонарь, его лучи скользнули по мокрым ступеням и размягченному внезапной оттепелью гравию дороги. Каким сырым и холодным было это зимнее утро! Когда мы шли по двору, зубы у меня стучали. В сторожке привратника был свет. Мы вошли. Жена привратника еще только разводила в печке огонь, мой чемодан, который был доставлен сюда с вечера, стоял, перевязанный веревками, у двери. До шести оставалось всего несколько минут, затем часы пробили, и тут же донесся отдаленный стук колес. Я подошла к двери и стала смотреть, как фонари почтового дилижанса быстро приближаются во мраке.
– Она едет одна? – спросила жена привратника.
– Да.
– А далеко?
– За пятьдесят миль.
– Путь не близкий! Неужели миссис не побоялась отпустить ее одну так далеко?
Дилижанс подъехал. Вот он уже у ворот; он запряжен четверкой лошадей, на империале множество пассажиров. Кучер и кондуктор принялись торопить нас; мой чемодан был погружен; меня оторвали от Бесси, к которой я прижалась, осыпая ее поцелуями.
– Смотрите, хорошенько берегите ее! – крикнула она кондуктору, когда он поднял меня, чтобы посадить в дилижанс.
– Ладно, ладно! – последовал ответ; дверь захлопнулась, чей-то голос крикнул: «Трогай!» – и мы тронулись.
Так я рассталась с Бесси и Гейтсхэдом, так меня умчало в неведомые и, как мне тогда казалось, далекие и таинственные края.
Я мало что помню из этого путешествия; знаю только, что день казался неестественно долгим и мне чудилось, будто мы проехали многие сотни миль. Мы миновали несколько городов, а в одном, очень большом, дилижанс остановился; лошадей выпрягли, пассажиры вышли, чтобы пообедать. Меня отвели в гостиницу, и кондуктор предложил мне поесть. Но так как у меня не было аппетита, он оставил меня одну в огромной комнате; в обоих концах ее топились камины, с потолка свешивалась люстра, а вдоль одной из стен, очень высоко, тянулись хоры, где поблескивали музыкальные инструменты. Я долго ходила взад и вперед по этой комнате, испытывая какое-то необъяснимое чувство: я смертельно боялась, что вот-вот кто-то войдет и похитит меня, – ибо я верила в существование похитителей детей, они слишком часто фигурировали в рассказах Бесси. Наконец кондуктор вернулся; меня еще раз сунули в дилижанс, мой ангел-хранитель уселся на свое место, затрубил в рожок, и мы покатили по мостовой города Л.
Сырой и туманный день клонился к вечеру. Когда надвинулись сумерки, я почувствовала, что мы, должно быть, действительно далеко от Гейтсхэда: мы уже не проезжали через города, ландшафт менялся; на горизонте вздымались высокие серые холмы. Но вот сумерки стали гуще, дилижанс спустился в долину, поросшую лесом, и когда вся окрестность потонула во мраке, я еще долго слышала, как ветер шумит в деревьях.
Убаюканная этим шумом, я наконец задремала. Я проспала недолго и проснулась оттого, что движение вдруг прекратилось; дверь дилижанса была открыта, возле нее стояла женщина – видимо, служанка. При свете фонарей я разглядела ее лицо и платье.
– Есть здесь девочка, которую зовут Джейн Эйр? – спросила она. Я ответила «да», меня вынесли из дилижанса, поставили наземь мой чемодан, и карета тут же отъехала.
Ноги у меня затекли от долгого сидения, и я была оглушена непрерывным шумом и дорожной тряской. Придя в себя, я посмотрела вокруг: дождь, ветер, мрак. Все же я смутно различила перед собой какую-то стену, а в ней открытую дверь; в эту дверь мы и вошли с моей незнакомой спутницей, она закрыла ее за собой и заперла. Затем я увидела дом, или несколько домов, – строение оказалось очень длинным, со множеством окон, некоторые были освещены. Мы пошли по широкой, усыпанной галькой и залитой водой дороге и очутились перед входом. Моя спутница ввела меня в коридор, а затем в комнату с пылавшим камином, где и оставила одну.
Я стояла, согревая онемевшие пальцы у огня, и оглядывала комнату; свечи в ней не было, но при трепетном свете камина я увидела оклеенные обоями стены, ковер, занавески и мебель красного дерева; это была приемная – правда, не такая большая и роскошная, как гостиная в Гейтсхэде, но все же довольно уютная. Я была занята рассматриванием висевшей на стене картины, когда дверь открылась и вошла какая-то женщина со свечой; за ней следовала другая.
Первой из вошедших была стройная дама, черноглазая, черноволосая, с высоким белым лбом; она куталась в большой платок и держалась строго и прямо.
– Девочка слишком мала для такого путешествия, – сказала она, ставя свечу на стол. С минуту она внимательно разглядывала меня, затем добавила: – Надо поскорее уложить ее в постель. Она, видимо, устала. Ты устала? – спросила она, положив мне руку на плечо.
– Немножко, сударыня.
– И голодна, конечно. Дайте ей поужинать, перед тем как она ляжет, мисс Миллер. Ты впервые рассталась со своими родителями, детка, чтобы поступить в школу?
Я объяснила ей, что у меня нет родителей. Она спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, как мое имя, умею ли я читать, писать и хоть немного шить. Затем, ласково коснувшись моей щеки указательным пальцем, выразила надежду, что я буду хорошей девочкой, и отослала меня с мисс Миллер.
Даме, с которой я рассталась, могло быть около тридцати лет; та, которая шла теперь рядом со мной, казалась на несколько лет моложе. Первая произвела на меня сильное впечатление всем своим обликом, голосом, взглядом. Мисс Миллер выглядела заурядной; на лице ее с румянцем во всю щеку лежал отпечаток тревог и забот, а в походке и движениях была та торопливость, какая бывает у людей, поглощенных разнообразными и неотложными делами. Я сразу же решила, что это, должно быть, помощница учительницы; так оно впоследствии и оказалось. Она повела меня из комнаты в комнату, из коридора в коридор по всему огромному, лишенному всякой симметрии зданию; наконец мы вышли из той части дома, где царила глубокая, гнетущая тишина, и вступили в большую длинную комнату, откуда доносился шум многих голосов. В обоих концах ее стояло по два больших сосновых стола, на них горело несколько свечей, а вокруг, на скамьях, сидело множество девочек и девушек всех возрастов, начиная от девяти-десяти и до двадцати лет. При тусклом свете сальных свечей мне показалось, что девочек очень много, хотя на самом деле их было не больше восьмидесяти. На всех были одинаковые коричневые шерстяные платья старомодного покроя и длинные холщовые передники. Это было время, отведенное для самостоятельных занятий, и поразивший меня гул стоял в классной оттого, что воспитанницы заучивали вслух уроки.
Мисс Миллер показала мне знаком, чтобы я села на скамью возле дверей, затем, встав у порога комнаты, громко крикнула:
– Старшие, соберите учебники и положите их на место.
Четыре рослые девушки встали из-за своих столов и, обойдя остальных, стали собирать книги. Затем мисс Миллер отдала новое приказание:
– Старшие, принесите подносы с ужином.
Те же четыре девушки вышли и сейчас же вернулись, каждая несла поднос с порциями какого-то кушанья, посредине подноса стоял кувшин с водой и кружка.
Девочки передавали друг другу тарелки, а если кто хотел пить, то наливал себе в кружку, которая была общей. Когда очередь дошла до меня, я выпила воды, так как чувствовала жажду, но к пище не прикоснулась, – усталость и волнение совершенно лишили меня аппетита; однако я разглядела, что это была нарезанная ломтями запеканка из овсяной крупы.
Когда ужин был съеден, мисс Миллер прочла молитву, и девочки парами поднялись наверх. Усталость настолько овладела мною, что я даже не заметила, какова наша спальня. Я видела только, что она, как и класс, очень длинна. Сегодня мне предстояло спать в одной кровати с мисс Миллер; она помогла мне раздеться. Когда я легла, я рассмотрела длинные ряды кроватей, на каждую из которых быстро укладывалось по две девочки; через десять минут единственная свеча была погашена, и среди полной тишины и мрака я быстро заснула.
Ночь промелькнула незаметно; я настолько устала, что не видела снов. Лишь один раз я проснулась, услышала, как ветер проносится за стеной бешеными порывами, как льет потоками дождь, и почувствовала, что мисс Миллер уже лежит рядом со мною. Когда я снова открыла глаза, до меня донесся громкий звон колокола; девочки уже встали и одевались; еще не рассвело, и в спальне горело две-три свечи. Я поднялась с неохотой; было ужасно холодно, у меня дрожали руки; я с трудом оделась, а затем и умылась, когда освободился таз, что произошло, впрочем, не скоро, так как на шестерых полагался только один; тазы стояли на умывальниках посреди комнаты. Снова прозвонил колокол; все построились парами, спустились по лестнице и вошли в холодный, скупо освещенный класс; мисс Миллер опять прочла молитву.
– Стать по классам!
В течение нескольких минут происходила какая-то суматоха; мисс Миллер то и дело повторяла: «Тише! Соблюдайте порядок!» Когда порядок был наконец водворен, я увидела, что девочки построились четырьмя полукружиями перед четырьмя столами; все держали в руках книги, а на каждом столе перед пустым стулом лежало по огромной книге вроде Библии. Последовала пауза, длившаяся несколько секунд, во время которой раздавалось непрерывное приглушенное бормотание множества голосов; мисс Миллер переходила от класса к классу и шикала, стараясь водворить тишину.
Вдали опять зазвенел колокол, и тут вошли три дамы; каждая заняла свое место у стола, а мисс Миллер села на четвертый стул у самой двери, вокруг которого собрались самые маленькие девочки; в этот младший класс включили и меня и поставили в конце полукруга.
Приступили к занятиям. Была прочитана краткая молитва, затем тексты из Нового Завета, затем отдельные главы из Библии, и это продолжалось целый час. Тем временем окончательно рассвело. Неутомимый звонок прозвонил в четвертый раз; девочки построились и проследовали в другую комнату – завтракать. Как радовалась я возможности наконец-то поесть! Я чувствовала себя совсем больной от голода, так как накануне почти ничего не ела.
Столовая была большая, низкая, угрюмая комната. На двух длинных столах стояли, дымясь паром, мисочки с чем-то горячим, издававшим, к моему разочарованию, отнюдь не соблазнительный запах. Я заметила общее недовольство, когда аромат этой пищи коснулся обоняния тех, для кого она была предназначена. В первых рядах, где были большие девочки из старшего класса, раздался шепот:
– Какая гадость! Овсянка опять пригорела!
– Молчать! – раздался чей-то голос: это была не мисс Миллер, а кто-то из старших преподавательниц – маленькая смуглая особа, элегантно одетая, но несимпатичная; она торжественно села на почетное место за одним из столов, тогда как более полная дама председательствовала за другим. Тщетно искала я ту, которую видела накануне; она не показывалась. Мисс Миллер заняла место в конце того же стола, за которым поместили и меня, а пожилая дама иностранного вида – преподавательница французского языка, как я потом узнала, – уселась за другим столом. Прочли длинную молитву, спели хорал. Затем служанка принесла чай для учительниц, и трапеза началась.
Совершенно изголодавшаяся и обессилевшая, я проглотила несколько ложек овсянки, не обращая внимания на ее вкус, но едва первый острый голод был утолен, как я почувствовала, что ем ужасную мерзость: пригоревшая овсянка почти так же отвратительна, как гнилая картошка; даже голод отступает перед ней. Медленно двигались ложки; я видела, как девочки пробовали похлебку и делали попытки ее есть, но в большинстве случаев отодвигали тарелки. Завтрак кончился, однако никто не позавтракал. Мы прочитали благодарственную молитву за то, чего не получили, и снова пропели хорал, затем направились из столовой в класс. Я выходила последней и видела, как одна из учительниц взяла миску с овсянкой и попробовала; она переглянулась с остальными; на их лицах отразилось негодование, и полная дама прошептала:
– Вот гадость! Как не стыдно!
Уроки начались лишь через пятнадцать минут. В классе стоял оглушительный шум, – в это время, видимо, разрешалось говорить громко и непринужденно, и девочки широко пользовались этим правом. Разговор вертелся исключительно вокруг завтрака, причем все бранили овсянку. Бедняжки! Это было их единственное утешение. Из учительниц в комнате находилась только мисс Миллер; вокруг нее столпилось несколько взрослых учениц, у них были серьезные лица, и они что-то с гневом говорили ей. Я слышала, как некоторые называли имя мистера Брокльхерста; в ответ мисс Миллер неодобрительно качала головой, однако не делала особых усилий, чтобы смирить всеобщее негодование: она, без сомнения, разделяла его.
Часы, висевшие в классной комнате, пробили девять; мисс Миллер отошла от группы взрослых девушек и, выйдя на середину комнаты, крикнула:
– Тихо! По местам!
Привычка к дисциплине сразу же сказалась: не прошло и пяти минут, как среди воспитанниц воцарился порядок и после вавилонского столпотворения наступила относительная тишина. Старшие учительницы заняли свои места; однако все как будто чего-то ждали. На скамьях, тянувшихся по обеим сторонам комнаты, восемьдесят девочек сидели неподвижно, выпрямившись; странное это было зрелище: все с зачесанными назад, прилизанными волосами, ни одного завитка; все в коричневых платьях с глухим высоким воротом, обшитым узеньким рюшем, с маленькими холщовыми сумками (напоминающими сумки шотландских горцев), висящими на боку и предназначенными для того, чтобы держать в них рукоделие; в дополнение ко всему этому – шерстяные чулки и грубые башмаки с жестяными пряжками. Среди одетых таким образом воспитанниц я насчитала до двадцати взрослых девушек. Это были уже настоящие барышни. Такая одежда была им совершенно не к лицу и придавала нелепый вид даже самым хорошеньким.
Я продолжала рассматривать их, а по временам переводила взгляд на учительниц, причем ни одна из них мне не понравилась; в полной было что-то грубоватое, чернявая казалась весьма сердитой особой, иностранка – несдержанной и резкой, а мисс Миллер, бедняжка, с ее красновато-лиловыми щечками, производила впечатление существа совершенно задерганного. И вдруг, в то время как мои глаза еще перебегали с одного лица на другое, все девочки, словно подкинутые пружиной, поднялись как один человек.
Что было тому причиной? Я не слышала никакого приказания и потому недоумевала. Но так как все глаза устремились в одну точку, посмотрела туда же и увидела ту самую особу, которая встретила меня накануне. Она стояла возле камина, – оба камина сейчас топились, – спокойно и серьезно оглядывая воспитанниц, выстроившихся двумя рядами. Мисс Миллер подошла к ней и о чем-то спросила; получив ответ, она вернулась на свое место и громко сказала:
– Старшая из первого класса, принесите глобусы.
Пока приказание выполнялось, упомянутая дама медленно двинулась вдоль рядов. У меня сильно развита шишка почитания, и я до сих пор помню тот благоговейный восторг, с каким я следила за ней. Теперь, при ярком дневном свете, я увидела, что она высока, стройна и красива; карие глаза с тонкой каймою длинных ресниц, полные ясности и благожелательности, оттеняли белизну высокого крутого лба; тогда не были в моде ни гладкие бандо, ни длинные локоны, и ее очень темные волосы лежали на висках крупными завитками; платье, тоже по моде того времени, было суконное лиловое, с отделкой из черного бархата. На поясе висели золотые часы. (Часы тогда еще не были так распространены, как теперь.) Пусть читатель прибавит к этому тонкие благородные черты, мраморную бледность, статную фигуру и движения, полные достоинства, и вы получите, насколько его можно передать словами, точный портрет мисс Темпль – Марии Темпль, как я прочла позднее на ее молитвеннике, когда мне было однажды поручено нести его в церковь.
Директриса Ловуда (ибо таково было звание этой дамы), сев перед двумя глобусами, стоявшими на столе, собрала первый класс и начала урок географии; остальные классы собрались вокруг других учительниц; последовали занятия по истории, грамматике и так далее; затем письмо и арифметика, а также музыка, которой мисс Темпль занималась с некоторыми старшими девочками. Уроки шли по часам, и когда наконец пробило двенадцать, мисс Темпль поднялась.
– Мне нужно сказать воспитанницам несколько слов, – заявила она.
При звуках ее голоса поднявшийся было после уроков шум сейчас же стих. Она продолжала:
– Сегодня вы получили плохой завтрак, который не могли есть, и вы, наверно, голодны. Я распорядилась, чтобы всем вам дали хлеба с сыром.
Учительницы удивленно взглянули на нее.
– Я беру это на свою ответственность, – добавила она в виде объяснения и тотчас вышла из класса.
Сыр и хлеб были тут же принесены и розданы, и все с радостью подкрепились. Затем последовало приказание: «В сад!» Каждая ученица надела шляпку из грубой соломки с цветными коленкоровыми завязками и серый фризовый плащ. Меня нарядили так же, и я, следуя общему течению, вышла на воздух.
Сад был обнесен настолько высокой оградой, что не было никакой возможности заглянуть поверх нее; с одной стороны тянулась веранда; середину сада, поделенную на бесчисленные клумбочки, окружали широкие аллеи. Клумбочки предназначались для воспитанниц, которые должны были поливать их, причем у каждой девочки была своя. Летом, покрытые цветами, эти клумбочки были, вероятно, очень красивы, но сейчас, в конце января, на всем лежала печать заброшенности и уныния. Мне стало тоскливо, когда я оглянулась вокруг. День отнюдь не благоприятствовал прогулке; правда, дождя не было, но в воздухе стоял сырой желтый туман, а под ногами все еще хлюпала вода после вчерашнего ливня. Наиболее здоровые девочки принялись бегать и играть, но бледные и слабенькие столпились в кучу, ища защиты от холода под крышей веранды; и когда мглистая сырость начала пробирать их до костей, до меня стал то и дело доноситься глухой кашель.
Пока я еще ни с кем не говорила, и никто, по-видимому, не обращал на меня внимания; я стояла одна в стороне, но я привыкла к чувству одиночества, и оно не слишком угнетало меня. Я прислонилась к одному из столбов веранды, плотнее закуталась в свой серый плащ и, забывая о холодном ветре, пробиравшем меня до костей, и о мучительном голоде, предалась наблюдениям и раздумью. Мои мысли были смутны и отрывочны; я еще не осознала, где нахожусь. Гейтсхэд и моя прошлая жизнь, казалось, отступили в неизмеримую даль; настоящее было неопределенно и туманно, а картину будущего я и вовсе не могла себе представить. Я обвела взором этот по-монастырски уединенный сад, затем взглянула на дом, одна часть которого казалась одряхлевшей и ветхой, другая – совершенно новой. В этой новой части, где находились классная и дортуар, были стрельчатые решетчатые окна, как в церкви; на каменной доске над входом я прочла надпись: «Ловудский приют. Эта часть здания восстановлена в таком-то году миссис Наоми Брокльхерст из Брокльхерст-холла, графство такое-то». «Да светит ваш свет перед людьми, дабы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного (Ев. от Матфея, глава V, стих 16)».
Я перечитывала эти слова все вновь и вновь, чувствуя, что не в силах понять их смысла. Я все еще размышляла над словом «приют», пытаясь найти связь между начальными словами надписи и стихом из Священного Писания, когда кашель за моей спиною заставил меня обернуться. Поблизости, на каменной скамье, сидела девочка; она склонилась над книжкой и была, видимо, целиком поглощена ею. Со своего места я прочла заглавие книги – «Расселас»[4], показавшееся мне странным и оттого более завлекательным. Перевертывая страницу, она случайно подняла глаза, и я сейчас же спросила:
– Интересная книжка?
Я уже решила попросить ее дать мне почитать эту книгу.
– Мне нравится, – ответила она после небольшой паузы, во время которой рассматривала меня.
– А о чем там написано? – продолжала я.
Не знаю, каким образом у меня хватило смелости заговорить первой с совершенно незнакомой мне девочкой. Это противоречило и моей природе, и моим привычкам. Вероятно, ее увлечение книгой затронуло во мне какую-то созвучную струну: ведь я тоже любила читать, хотя и чисто по-детски, – серьезное и сложное я плохо усваивала и плохо понимала.
– Если хочешь, посмотри, – сказала девочка, протягивая мне книгу.
Я так и сделала; полистав книгу, я убедилась, что ее содержание менее заманчиво, чем заглавие. Книга, на мой детский вкус, показалась мне скучной, там не было ничего ни про фей, ни про эльфов, а страницы сплошного убористого текста не сулили ничего занимательного. Я вернула книгу ее владелице, и та спокойно взяла ее и уже намеревалась снова погрузиться в чтение, когда я опять решила обратиться к ней.
– Ты можешь мне объяснить, что это за надпись над входом, что такое «Ловудский приют»?
– Это та самая школа, где ты будешь учиться.
– Отчего она называется «приютом»? Разве она отличается от других школ?
– Это вроде убежища для бедных сирот: и ты, и я, и все остальные девочки живут здесь из милости. Ты, вероятно, сирота? У тебя умерли отец и мать?
– Оба умерли давно.
– Так вот, здесь у каждой девочки умер отец или мать, а некоторые совсем не помнят ни отца, ни матери. Это приют, где воспитываются сироты.
– Разве мы не платим денег? Разве нас держат даром?
– Наши друзья или близкие платят за нас пятнадцать фунтов в год.
– А отчего же ты говоришь «из милости»?
– Оттого, что пятнадцать фунтов – это очень мало за обучение и содержание; недостающую сумму собирают подпиской.
– А кто же дает деньги?
– Разные добрые леди и джентльмены – здесь, в окрестностях, и в Лондоне.
– Кто это Наоми Брокльхерст?
– Это дама, построившая новую часть дома, как написано на доске; ее сын здесь всем управляет.
– Почему?
– Потому что он казначей и директор.
– Значит, этот дом принадлежит не той высокой даме с часами, которая приказала дать нам хлеб и сыр?
– Мисс Темпль? О нет! Если бы он принадлежал ей! А так она должна за каждый свой шаг отвечать перед мистером Брокльхерстом. Мистер Брокльхерст сам покупает нам провизию и одежду.
– Он тоже живет здесь?
– Нет, в двух милях отсюда, в большом доме.
– Он хороший человек?
– Он духовное лицо и, как говорят, делает много добра.
– Так высокую даму зовут мисс Темпль?
– Да.
– А как зовут других учительниц?
– Ту, с румяными щеками, зовут мисс Смит; она учит нас рукоделию и кройке, – ведь мы сами себе шьем платья, юбки и все остальное; низенькая брюнетка – это мисс Скетчерд, она преподает историю, грамматику и репетирует второй класс; а та, что носит шаль и носовой платок сбоку на желтой ленте, – мадам Пьеро, она из Лилля, из Франции, и преподает французский язык.
– А тебе нравятся эти учительницы?
– Да, ничего.
– Тебе нравится маленькая черная и эта мадам?.. Я не могу произнести ее фамилию правильно, как ты.
– Мисс Скетчерд очень вспыльчивая, – смотри, не раздражай ее; мадам Пьеро в общем неплохая…
– Но мисс Темпль лучше всех, правда?
– Мисс Темпль очень добра и очень умна; она на голову выше остальных, она гораздо образованнее их.
– Ты здесь давно?
– Два года.
– Ты сирота?
– У меня умерла мать.
– А тебе хорошо здесь?
– Ты задаешь слишком много вопросов. Пока я тебе ответила достаточно, теперь я хочу почитать.
Но в эту минуту зазвонили к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую, едва ли был аппетитнее, чем тот, который щекотал наше обоняние за завтраком. Обед подали в двух огромных жестяных котлах, откуда поднимался пар с резким запахом прогорклого сала. Это месиво состояло из безвкусного картофеля и обрезков тухлого мяса. Каждая воспитанница получила довольно большую порцию. Стараясь есть через силу, я спрашивала себя: неужели нас будут так кормить каждый день?
После обеда мы немедленно вернулись в класс. Уроки возобновились и продолжались до пяти часов. Единственным достойным внимания событием этого вечера было то, что девочку, с которой я разговаривала на веранде, мисс Скетчерд прогнала с урока истории и приказала ей стать посреди комнаты. Кара эта показалась мне чрезвычайно позорной, особенно в отношении такой большой девочки, – на вид ей можно было дать не меньше тринадцати лет. Я ожидала, что она будет проливать слезы стыда и отчаяния, но, к моему удивлению, она не заплакала и даже не покраснела. Спокойная и серьезная, стояла она посреди класса, под устремленными на нее взглядами всей школы. «Откуда у нее такое спокойствие и твердость духа? – спрашивала я себя. – Будь я на ее месте, я, кажется, пожелала бы, чтобы земля разверзлась подо мною и поглотила меня. А у нее такой вид, словно она размышляет о чем-то, не имеющем ничего общего с наказанием, которому она подверглась, о чем-то, далеком от того, что вокруг нее и перед ней. Я слышала о снах наяву, – может быть, ей снится такой сон? Ее взор прикован к полу, но я уверена, что она ничего не видит, – этот взор словно обращен внутрь, в глубину души; она как будто поглощена своими воспоминаниями и не замечает, что перед ней в действительности. Хотела бы я знать, хорошая ли она девочка или дурная?»
После пяти часов нас опять покормили, – каждая получила по маленькой кружке кофе и по ломтику серого хлеба. Я с жадностью проглотила хлеб и кофе, но могла бы съесть еще столько же, – мой голод нисколько не был утолен. Последовал получасовой отдых, и снова начались занятия. Затем нам дали по стакану воды с кусочком овсяной запеканки, была прочтена молитва, и мы стали укладываться спать. Так прошел мой первый день в Ловуде.
Глава VI
Следующий день начался, как и предыдущий, – мы встали и оделись при свечах; однако в это утро пришлось обойтись без церемонии умывания: вода в кувшинах замерзла. Накануне вечером погода изменилась, и всю ночь через щели окон в нашей спальне свистал такой резкий норд-ост, что мы дрожали от холода в своих постелях и вода в кувшинах превратилась в лед.
Не успел еще окончиться бесконечно тянувшийся час, посвященный молитве и чтению Библии, как я уже буквально одеревенела от холода. Наконец наступило время завтрака, и на этот раз овсяная каша не пригорела; по качеству она была съедобна, но количество ее было очень недостаточно. Какой маленькой показалась мне моя порция! Я, кажется, могла бы съесть вдвое больше.
С этого дня меня включили в число учениц четвертого класса, и я должна была отныне подчиняться твердому распорядку уроков и занятий. До сих пор я была только зрительницей всего происходившего в Ловуде; теперь мне предстояло стать участницей. Так как я не привыкла учить наизусть, то сначала уроки казались мне бесконечно длинными и трудными; частая смена предметов также сбивала меня с толку, и я была рада, когда наконец, около трех часов, мисс Смит дала мне полоску кисеи в два ряда длиной, иголку, наперсток и сказала, чтобы я села в уголке классной комнаты и подрубила кисею. В этот час большинство девочек занималось рукоделием, лишь один класс стоял вокруг мисс Скетчерд; девочки читали, в комнате царила тишина. Я с интересом прислушивалась к чтению, замечая про себя, как отвечает та или другая девочка и что говорит ей мисс Скетчерд – бранит или хвалит ее. Это был урок английской истории; среди читавших я заметила и мою знакомую: в начале урока она занимала среди учениц первое место, но за какую-то ошибку в произношении или за невнимание ее вдруг отправили на последнее место.
Однако даже и тут мисс Скетчерд не оставляла ее в покое, она то и дело обращалась к ней с замечаниями!
– Бернс (видимо, это была ее фамилия; здесь всех девочек звали по фамилии, как принято звать мальчиков-школьников), Бернс, опять ты ставишь ноги боком; выверни носки наружу немедленно! – Бернс, опять ты выставляешь вперед подбородок! – Бернс, я требую, чтобы ты держала голову прямо. Я не позволю тебе стоять передо мной в такой позе! – и так далее, и так далее.
После того как глава была дважды прочитана, учительница приказала закрыть книги и начала спрашивать. Речь шла о царствовании Карла I, и то и дело возникали вопросы о тоннаже, о пошлине, о так называемых таможенных правилах, о «корабельных деньгах», причем большинство учениц затруднялось с ответом; однако когда учительница обращалась к Бернс, для той будто не существовало никаких трудностей: ее память, видимо, легко удерживала самую суть урока, и у нее был готов ответ на каждый вопрос. Я ждала, что мисс Скетчерд похвалит ее за внимание, но вместо этого учительница вдруг крикнула:
– Грязная, противная девчонка! Ты сегодня утром даже ногтей не вычистила!
Бернс, к моему удивлению, ничего не ответила.
«Отчего, – думала я, – она не объяснит, что не могла ни умыться, ни вычистить ногти, так как вода замерзла?»
Однако мое внимание было отвлечено мисс Смит, которая попросила меня подержать ей моток ниток. Разматывая их, она время от времени задавала мне вопросы: училась ли я до этого в школе, умею ли я метить, вышивать, вязать и так далее. Пока она не отпускала меня, я была лишена возможности наблюдать за мисс Скетчерд; когда же я наконец вернулась на свое место, учительница только что отдала какое-то приказание, смысла которого я не уловила, – и Бернс немедленно вышла из класса и направилась в чуланчик, где хранились книги и откуда она вышла через полминуты, держа в руках пучок розог. Это орудие наказания она с почтительным книксеном протянула мисс Скетчерд, затем спокойно, не ожидая приказаний, сняла фартук, и учительница несколько раз пребольно ударила ее розгами по обнаженной шее. На глазах Бернс не появилось ни одной слезинки, и хотя я при виде этого зрелища вынуждена была отложить шитье, так как пальцы у меня дрожали от чувства беспомощного и горького гнева, ее лицо сохраняло обычное выражение кроткой задумчивости.
– Упрямая девчонка! – воскликнула мисс Скетчерд. – Видно, тебя ничем не исправишь! Неряха! Унеси розги!
Бернс послушно выполнила приказание. Когда она снова вышла из чулана, я пристально посмотрела на нее: она прятала в карман носовой платок, и на ее худой щечке виднелся след стертой слезы.
Под вечер наступил час игр. Впоследствии он казался мне самым приятным временем в Ловуде. Кусочек хлеба и кружка кофе, которые мы получали в пять часов, если не насыщали нас, то все же подкрепляли наши силы; напряжение длинного учебного дня ослабевало; в школьной комнате было теплее, чем утром, – камины горели немного ярче, так как должны были заменять еще не зажженные свечи; отблески багрового пламени, непринужденная резвость и смешанный гул многих голосов давали ощущение желанной свободы.
Вечером того дня, когда мисс Скетчерд наказала розгами свою ученицу Бернс, я бродила между партами, столами и группами смеющихся девушек, как обычно, без подруги, но не чувствуя одиночества. Проходя мимо окон, я время от времени приподнимала шторы и выглядывала наружу: падал густой снег, и на нижних звеньях окон уже намело целые сугробы; прижав ухо к стеклу, я могла различить сквозь веселый шум в комнате безутешные завывания ветра в саду.
Если бы я оставила позади уютный семейный очаг и ласковых родителей, я, вероятно, в этот час особенно остро ощущала бы разлуку; вероятно, ветер родил бы печаль в моем сердце, а хаотический шум смущал бы мой душевный мир. Теперь же мною овладело лихорадочное возбуждение: мне хотелось, чтобы ветер выл еще громче, чтобы сумерки скорее превратились в густой мрак, а окружающий беспорядок – в открытое неповиновение.
Перепрыгивая через скамьи и проползая под столами, я добралась до одного из каминов; там я увидела Бернс, она стояла на коленях возле высокой каминной решетки, молча, не замечая ничего, что происходит вокруг, погруженная в книгу, которую она читала при тусклом свете углей.
– Это все еще «Расселас»? – спросила я, остановившись подле нее.
– Да, – сказала она, – я сейчас заканчиваю.
Через пять минут она захлопнула книгу. Я обрадовалась.
«Теперь, – подумала я, – мне, может быть, удастся вызвать ее на разговор»; и я опустилась рядом с ней на пол.
– Как тебя зовут?
– Элен.
– Ты издалека сюда приехала?
– Я приехала с севера, это почти на границе Шотландии.
– Ты когда-нибудь вернешься туда?
– Надеюсь, хотя трудно загадывать вперед.
– Тебе, наверно, хочется уехать из Ловуда?
– Нет! Отчего же? Меня прислали в Ловуд, чтобы здесь я могла получить образование; какой смысл уезжать, не добившись этой цели?
– Но ведь эта учительница – мисс Скетчерд – так несправедлива к тебе.
– Несправедлива? Нисколько. Она просто строгая: она указывает мне на мои недостатки.
– А я бы на твоем месте ее возненавидела; я бы ни за что не покорилась. Посмела бы она только тронуть меня! Я бы вырвала розги у нее из рук, я бы изломала их у нее перед носом.
– А по-моему, ничего бы ты не сделала, а если бы и сделала – мистер Брокльхерст тебя живо исключил бы из школы. А сколько горя это доставило бы твоим родным! Так не лучше ли терпеливо снести обиду, от которой никто не страдает, кроме тебя самой, чем совершить необдуманный поступок, который будет ударом для твоих близких? Да и Библия учит нас отвечать добром за зло.
– Но ведь это унизительно, когда тебя секут или ставят посреди комнаты, где столько народу. И ведь ты уже большая девочка! Я гораздо моложе тебя, а я бы этого не вынесла.
– И все-таки твой долг – все вынести, раз это неизбежно; только глупые и безвольные говорят: «Я не могу вынести», если это их крест, предназначенный им судьбой.
Я слушала ее с изумлением: я не могла понять этой философии безропотности, и еще меньше могла понять или одобрить ту снисходительность, с какой Элен относилась к своей мучительнице. И все же я догадывалась, что Элен Бернс видит вещи в каком-то особом свете, для меня недоступном. Я подозревала, что, может быть, права она, а я ошибаюсь, но не собиралась в это углубляться и отложила свои размышления до более подходящего случая.
– Ты говоришь, у тебя есть недостатки, Элен, какие же? Мне ты кажешься очень хорошей.
– Вот тебе доказательство, что нельзя судить по первому впечатлению: мисс Скетчерд говорит, что я неряшлива, – и действительно, мне никак не удается держать свои вещи в порядке. Я очень беззаботна, не выполняю правил, читаю, когда нужно учить уроки, ничего не умею делать методически и иногда говорю, как и ты, что я просто не могу выносить никакой системы и порядка. Все это очень раздражает мисс Скетчерд, которая по природе аккуратна, точна и требовательна.
– И к тому же раздражительна и жестока, – добавила я. Но Элен Бернс не соглашалась со мной; она молчала.
– А что, мисс Темпль так же строга, как и мисс Скетчерд?
Когда я произнесла имя мисс Темпль, по серьезному лицу девочки скользнула мягкая улыбка.
– Мисс Темпль очень добрая, ей трудно быть строгой даже с самой дурной девочкой из нашей школы. Она видит мои недостатки и ласково указывает мне на них, а если я делаю что-нибудь достойное похвалы, никогда не скупится на поощрения. И вот тебе доказательство моей испорченности: даже ее замечания, такие кроткие, такие разумные, не могут излечить меня от моих недостатков; и даже ее похвала, которую я так высоко ценю, не в силах заставить меня всегда быть аккуратной и внимательной.
– Как странно, – сказала я, – неужели это так трудно?
– Тебе легко, без сомнения. Я наблюдала за тобой сегодня утром в классе и видела, как ты внимательна: ты, кажется, ни на минуту не отвлекалась от объяснений мисс Миллер. А мои мысли постоянно где-то бродят. Мне нужно слушать мисс Скетчерд и запомнить, что она говорит, – а я иногда даже не слышу ее голоса; я точно грежу наяву. Порой мне кажется, что я на родине, в Нортумберленде, и звуки, которые я слышу, – это журчание ручейка, который протекает мимо нашего дома в Дипдине, и если приходится отвечать на вопрос, мне надо сперва проснуться; но так как я ничего не слышала, занятая своим ручейком, я не знаю, что отвечать.
– А как ты хорошо отвечала сегодня!
– Это чистая случайность; то, о чем мы читали, заинтересовало меня. Сегодня, вместо того чтобы думать о Дипдине, я размышляла, как может человек, желающий добра, поступать так несправедливо и опрометчиво, как поступал Карл Первый. И я думала: жаль, что он, такой хороший и честный, ничего и знать не хотел, кроме своих королевских прав; что, если бы он был более справедлив и дальновиден и прислушивался к духу времени! И все же мне нравится Карл, я уважаю и жалею его, бедного короля, сложившего голову на плахе. Да, его враги хуже его: они пролили кровь, которую были не вправе проливать. Как они смели убить его!
Казалось, Элен говорит сама с собой. Она забыла, что я с трудом могу понять ее, – ведь я ничего, или почти ничего, не знала о предмете, который навел ее на эти размышления. Я постаралась вернуть ее к интересовавшему меня вопросу.
– А когда урок дает мисс Темпль, твои мысли тоже где-то бродят?
– Конечно, нет, разве только изредка. Ведь мисс Темпль всегда скажет что-нибудь новое, что гораздо интереснее моих собственных мыслей; ее приятно слушать, а часто она рассказывает о том, что мне давно хотелось бы знать.
– Значит, на уроках мисс Темпль ты хорошо ведешь себя?
– Да, но это выходит само собой: я не делаю для этого никаких усилий, а только следую своим склонностям, и значит – это не моя заслуга.
– Нет, это большая заслуга. Ты хороша с теми, кто хорош с тобой. А по-моему, так и надо. Если бы люди всегда слушались тех, кто жесток и несправедлив, злые так бы все и делали по-своему: они бы ничего не боялись и становились бы все хуже и хуже. Когда нас бьют без причины, мы должны отвечать ударом на удар – я уверена в этом, – и притом с такой силой, чтобы навсегда отучить людей бить нас.
– Я надеюсь, ты изменишь свою точку зрения, когда подрастешь; пока ты только маленькая, несмышленая девочка.
– Но я так чувствую, Элен. Я должна ненавидеть тех, кто, несмотря на мои усилия угодить им, продолжает ненавидеть меня: это так же естественно, как любить того, кто к нам ласков, или подчиняться наказанию, когда оно заслужено.
– Не насилием можно победить ненависть и, уж конечно, не мщением загладить несправедливость.
– А чем же тогда?
– Почитай Новый Завет и обрати внимание на то, что говорит Христос и как он поступает.
– Что же он говорит?
– Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, творите добро ненавидящим и презирающим вас.
– Тогда, значит, я должна была бы любить миссис Рид, – а я не могу! Я должна была бы благословлять ее сына Джона, – а это совершенно невозможно!
Теперь Элен Бернс в свою очередь попросила меня рассказать о себе, и я рассказала ей всю повесть моих страданий и обид. Я говорила так, как чувствовала, страстно и с горечью, ни о чем не умалчивая и ничего не смягчая.
Элен терпеливо дослушала меня до конца. Я ждала от нее какого-нибудь замечания, но она молчала.
– Ну что ж, – спросила я нетерпеливо, – разве миссис Рид не жестокосердечная, дурная женщина?
– Она была жестокой к тебе, без сомнения, но, видимо, ей не нравился твой характер, как мисс Скетчерд не нравится мой. Удивительно, что ты помнишь до мелочей все ее слова, все обиды. Как странно, что ее несправедливое отношение так глубоко запало тебе в душу! На меня несправедливость не производит такого неизгладимого впечатления. Разве ты не чувствовала бы себя счастливее, если бы постаралась забыть и ее суровость, и то негодование, которое она в тебе вызвала?
Элен сказала это, и ее голова, и без того всегда слегка склоненная, опустилась еще ниже. Я видела, что ей не хочется продолжать разговор и что она предпочитает остаться наедине со своими мыслями. Однако ей не дали времени на размышление: к ней подошла одна из старших, рослая грубоватая девушка, и заявила с резким кемберлендским акцентом:
– Элен Бернс, если ты сейчас же не приведешь в порядок свой ящик в комоде и не сложишь рукоделие, я позову мисс Скетчерд и покажу ей, что у тебя делается!
Элен очнулась от грез, она вздохнула, встала и пошла выполнять приказание старшей, не медля и не прекословя.
Глава VII
Первые три месяца в Ловуде показались мне веком, и отнюдь не золотым. Я с трудом привыкала к новым правилам и обязанностям. Страх, что я не справлюсь, мучил меня больше, чем выпавшие на мою долю физические лишения, хотя переносить их было тоже нелегко.
В течение января, февраля и части марта – сначала из-за глубоких снегов, а затем, после их таяния, из-за весенней распутицы – наши прогулки ограничивались садом; исключением являлось лишь путешествие в церковь, но в саду мы должны были проводить ежедневно час, чтобы дышать свежим воздухом. Убогая одежда не могла защитить нас от резкого холода; у нас не было подходящей обуви, снег набивался в башмаки и таял там; руки без перчаток вечно зябли и покрывались цыпками. Я помню, как нестерпимо зудели по вечерам мои опухшие ноги и те муки, которые я испытывала утром, всовывая их, израненные и онемевшие, в башмаки. Доводила нас до отчаяния и крайняя скудость пищи; у нас был здоровый аппетит растущих детей, а получали мы едва ли достаточно, чтобы поддержать жизнь больного, дышащего на ладан. Особенно страдали от недостатка пищи младшие воспитанницы. Взрослые девушки, изголодавшись, пользовались каждым случаем, чтобы лаской или угрозой выманить у младших их порцию. Сколько раз приходилось мне делить между двумя претендентками драгоценный кусочек серого хлеба, который мы получали в пять часов! Отдав третьей претендентке по крайней мере половину моего кофе, я проглатывала остаток вместе с тайными слезами, вызванными мучительным голодом.
В эти зимние месяцы особенно унылы бывали воскресенья. Нам приходилось плестись за две мили в брокльбриджскую церковь, где служил наш патрон. Выходили мы уже озябшие, а до места добирались совершенно окоченевшие: во время утренней службы руки и ноги у нас немели от стужи. Возвращаться домой обедать было слишком далеко, и мы получали между двумя службами такую же крошечную порцию мяса и хлеба, какая нам полагалась за обедом.
По окончании вечерней службы мы возвращались домой открытой холмистой дорогой; резкий ветер дул с севера, с заснеженных холмов, и буквально обжигал нам лицо.
Я вспоминаю, как мисс Темпль быстро и легко шагала вдоль нашей унылой вереницы, плотно завернувшись в свой шотландский плащ, полы которого трепал ветер, и ободряла нас словом и примером, призывая идти вперед, подобно «храбрым солдатам». Другие учительницы, бедняжки, были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас.
Как мечтали мы, возвращаясь, о свете и тепле яркого камина! Но малышам и в этом было отказано: перед обоими каминами немедленно выстраивался двойной ряд взрослых девушек, а позади них, присев на корточки, жались друг к другу малыши, пряча иззябшие руки под передники.
Небольшим утешением являлся чай, во время которого полагалась двойная порция хлеба – то есть целый ломоть вместо половины – и, кроме того, восхитительная добавка в виде тончайшего слоя масла. Мы мечтали об этом удовольствии от воскресенья до воскресенья. Обычно мне удавалось сохранить для себя лишь половину этого роскошного угощения, остальное я неизменно должна была отдавать.
В воскресенье вечером мы обычно читали наизусть отрывки из Катехизиса, а также V, VI и VII главы от Матфея и слушали длинную проповедь, которую нам читала мисс Миллер; она судорожно зевала, не скрывая утомления. Сон настолько овладевал младшими девочками, что они валились со своих скамеек и их поднимали полумертвыми от усталости. Помогало одно: бедняжек выталкивали на середину комнаты и заставляли стоя дослушать проповедь до конца. Иногда ноги у них подкашивались, и они, обессилев, опускались на пол; тогда старшие девочки подпирали их высокими стульями.
Я еще ни разу не упомянула о посещениях мистера Брокльхерста. Надо сказать, что этот джентльмен отсутствовал почти весь первый месяц моего пребывания в Ловуде; может быть, он продолжал гостить у своего друга викария. Во всяком случае, в его отсутствие я была спокойна. Мне незачем говорить о том, почему я так боялась его. Но в конце концов он явился.
Однажды, после обеда (я находилась в Ловуде уже свыше трех недель), я сидела, держа в руках аспидную доску, и размышляла над трудным примером на деление, как вдруг, рассеянно подняв глаза, я увидела, что мимо окна прошла какая-то фигура. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт; и когда две минуты спустя вся школа, включая и преподавательниц, поднялась en masse[5], мне незачем было искать глазами того, кого так приветствовали. Кто-то большими шагами прошел через классную комнату, и возле мисс Темпль – она тоже поднялась – вырос тот самый черный столб, который так грозно взирал на меня, стоя на предкаминном коврике в Гейтсхэде. Я пугливо покосилась на него. Да, я не ошиблась: это был мистер Брокльхерст, в застегнутом на все пуговицы пальто, еще больше подчеркивавшем его рост и худобу.
У меня были свои причины опасаться его приезда: я слишком хорошо помнила ехидные намеки, которые ему делала миссис Рид по поводу моего характера, а также обещание мистера Брокльхерста поставить мисс Темпль и других учительниц в известность относительно порочности моей натуры. Все это время я с ужасом вспоминала его угрозу и каждый день с трепетом ждала этого человека, сообщение которого о моей прошлой жизни должно было навеки заклеймить меня как дурную девочку. И вот теперь он был здесь.
Он стоял возле мисс Темпль и что-то тихонько говорил ей на ухо. Я нисколько не сомневалась, что он рассказывает ей, какая я испорченная, и с мукой следила за ее взглядом, ожидая каждую минуту, что ее черные глаза обратятся на меня с отвращением и гневом. Я старалась вслушаться в его шепот, и так как сидела тут же неподалеку, то мне удалось разобрать большую часть того, что он говорил. То, что я услышала, на несколько мгновений вернуло мне спокойствие.
– Я полагаю, мисс Темпль, что нитки, которые я закупил в Лоутоне, можно пустить в дело, они пригодятся для коленкоровых рубашек, и я подобрал к ним иголки. Пожалуйста, не забудьте сказать мисс Смит, что я не записал штопальные иголки, но ей на той неделе пришлют несколько пачек; и, пожалуйста, чтобы она ни в каком случае не выдавала каждой ученице больше чем по одной: если давать им по нескольку, они будут небрежничать и растеряют все. И потом, сударыня, я хотел бы, чтобы с шерстяными чулками обращались поаккуратнее. Когда я здесь был в последний раз, я пошел на огород и осмотрел белье, висевшее на веревках; там было много очень худо заштопанных чулок: дыры на них доказывают, что они чинятся редко и небрежно.
Он замолчал.
– Ваши указания будут исполнены, сэр, – ответила мисс Темпль.
– И потом, сударыня, – продолжал он, – прачка доложила мне, что вы разрешили некоторым воспитанницам переменить за неделю два раза рюшки на воротниках. Это слишком часто, – согласно правилам, они могут менять их только однажды.
– Случай был вполне законный, сэр. Агнес и Катарина Джонстон в тот четверг получили приглашение на чашку чая к своим друзьям в Лоутон, и, когда они уходили, я разрешила им переменить рюшки.
Мистер Брокльхерст кивнул.
– Ну, один раз – куда ни шло! Но, пожалуйста, чтобы это не повторялось слишком часто. И потом, есть еще одно обстоятельство, крайне меня удивившее: принимая отчет от экономки, я обнаружил, что за две недели воспитанницам был дважды выдан второй завтрак, состоявший из хлеба и сыра. Как это могло произойти? Я еще раз пересмотрел устав и нашел, что там нет никакого упоминания о втором завтраке. Кто ввел это новшество, кто его разрешил?
– Это я распорядилась, сэр, – отозвалась мисс Темпль, – завтрак был так дурно приготовлен, что воспитанницы не могли его есть, а я не рискнула оставить их голодными до обеда.
– Разрешите мне, сударыня, заметить вам следующее: вы понимаете, что моя цель при воспитании этих девушек состоит в том, чтобы привить им выносливость, терпение и способность к самоотречению. Если их и постигло маленькое разочарование в виде испорченного завтрака – какого-нибудь пересоленного или недосоленного блюда, то это испытание отнюдь не следовало смягчать, предлагая им взамен более вкусное кушанье; поступая так, вы просто тешите их плоть, а значит – извращаете в корне основную цель данного благотворительного заведения; наоборот, всякий такой случай дает нам лишний повод для того, чтобы укрепить дух воспитанниц, научить их мужественно переносить земные лишения. Очень уместна была бы небольшая речь; опытный воспитатель воспользовался бы таким поводом для того, чтобы упомянуть о страданиях первых христиан, о пытках, которые переносили мученики, и, наконец, о призыве Господа нашего Иисуса Христа, предложившего своим ученикам взять свой крест и идти за Ним; о Его наставлениях, что не единым хлебом жив человек, но каждым словом, исходящим из уст Божьих; о Его божественном утешении: «Если вы жаждете или страждете во имя мое, благо вам будет». О сударыня, вложив хлеб и сыр вместо пригоревшей овсянки в уста этих детей, вы, может быть, и накормили их бренную плоть, но не подумали о том, какому голоду вы подвергли их бессмертные души!
Мистер Брокльхерст снова сделал паузу, видимо взволнованный собственным красноречием. Когда он заговорил, мисс Темпль опустила взор; теперь же она смотрела прямо перед собой, и ее лицо, и обычно-то бледное, постепенно становилось таким же холодным и неподвижным, как мрамор, и рот ее был сжат так, что, казалось, только резец скульптора может открыть его.
Тем временем мистер Брокльхерст, стоя возле камина с заложенными за спину руками, величественно рассматривал воспитанниц. Вдруг он заморгал, как будто ему что-то попало в глаз, и, обернувшись, сказал торопливее, чем говорил до сих пор:
– Мисс Темпль, мисс Темпль, что это за девочка с кудрявыми волосами? Рыжие волосы, сударыня, и кудрявые, вся голова кудрявая! – И, подняв трость, он указал на ужаснувшую его воспитанницу, причем его рука дрожала.
– Это Джулия Северн, – отозвалась мисс Темпль очень спокойно.
– Джулия Северн или кто другой, сударыня, но по какому праву она разрешает себе ходить растрепой? Как смеет она так дерзко нарушать все правила и предписания этого дома, этого благочестивого заведения? Да у нее на голове целая шапка кудрей!
– Волосы у Джулии вьются от природы, – ответила мисс Темпль еще спокойнее.
– От природы! Но мы не можем подчиняться природе, – я хочу, чтобы эти девочки стали детьми Милосердия; и потом, зачем такие космы? Я повторял без конца мое требование, чтобы волосы были зачесаны скромно и гладко. Мисс Темпль, эту девушку надо остричь наголо. Завтра же у вас будет парикмахер! Я вижу, что и у других девушек волосы длиннее, чем полагается, – вон у той высокой; скажите ей, пусть повернется затылком. Пусть весь первый класс встанет и обернется лицом к стене.
Мисс Темпль провела носовым платком по губам, словно стирая невольную улыбку. Однако она отдала приказание, и девушки, наконец поняв, что от них требуется, выполнили его. Я слегка откинулась назад, и мне были видны с моей парты взгляды и гримасы, которыми они сопровождали этот маневр. Жаль, что мистер Брокльхерст не видел их: возможно, он тогда понял бы, что, сколько бы он ни трудился над внешней оболочкой, внутренний мир девочек был от него бесконечно далек.
В течение пяти минут рассматривал он оборотную сторону этих живых медалей, затем изрек, – и слова его прозвучали как смертный приговор:
– А космы следует остричь!
Мисс Темпль, видимо, что-то ему возразила.
– Сударыня, – продолжал он, – я служу Владыке, царство которого не от мира сего. И моя миссия – умерщвлять в этих девушках вожделения плоти, научить их сохранять стыдливость и скромность, а не умащать свои волосы и рядиться в пышные одежды; каждая из этих молодых особ носит косы, и их, конечно, заплело тщеславие; всех их, повторяю я, нужно остричь… Вы только подумайте о том, сколько времени они теряют…
Здесь мистера Брокльхерста прервали: в комнату вошли гости, это были три дамы. Им следовало бы прийти несколько раньше и выслушать его проповедь об одежде, ибо они были пышно разряжены в бархат, шелк и меха. На двух молоденьких (красивых девушках лет шестнадцати-семнадцати) были входившие тогда в моду касторовые шляпки, украшенные страусовыми перьями, а из-под этих изящных головных уборов ниспадали на шею густые пряди тщательно завитых волос; пожилая дама куталась в дорогую бархатную шаль, обшитую горностаем, а на лбу у нее красовались фальшивые локоны.
Это были барышни Брокльхерст с матерью; мисс Темпль встретила их и проводила на почетные места. Они, видимо, приехали вместе с достоуважаемым мистером Брокльхерстом и производили в верхних комнатах самый тщательный обыск, пока он беседовал о делах с экономкой, выспрашивал прачку и поучал директрису. Теперь они обрушились со всевозможными упреками и замечаниями на мисс Смит, которой было поручено наблюдение за бельем и надзор за спальнями. Но у меня не было времени вслушиваться в то, что они говорят, – другое отвлекло и приковало мое внимание.
Прислушиваясь к речам мистера Брокльхерста и мисс Темпль, я не забыла принять меры для собственной безопасности. Решив, что самое лучшее – оставаться незамеченной, я притворилась чрезвычайно углубленной в свою задачу и держала доску так, чтобы заслонить ею лицо. Может быть, меня и не заметили бы, но моя доска вдруг выскользнула у меня из рук и упала на пол, – раздался ужасный предательский треск. Все взоры обратились ко мне; теперь я знала, что все погибло, и, наклонившись, чтобы подобрать осколки доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило разразиться.
– Какая неосторожная девочка! – сказал мистер Брокль- херст и сейчас же добавил: – Кстати – это новая воспитанница. – Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжал: – Я должен сказать по поводу нее несколько слов. – Затем, возвысив голос, – каким громким он показался мне! – заявил: – Пусть девочка, разбившая доску, выйдет вперед.
Своими силами я бы не могла подняться, все мои члены точно онемели; но две взрослые девушки, сидевшие по бокам, поставили меня на ноги и подтолкнули навстречу грозному судье, а мисс Темпль ласково подвела меня к нему и ободряюще шепнула:
– Не бойся, Джейн, я видела, что ты не нарочно; ты не будешь наказана.
Но этот ласковый шепот вонзился в мое сердце, как кинжал.
«Еще минута, и она будет считать меня низкой лицемеркой», – подумала я; и мое сердце забилось от приступа страшного гнева против таких людей, как господа Риды, Брокльхерсты и компания: я ведь не Элен Бернс.
– Принесите вон тот стул, – сказал мистер Брокльхерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек; стул был принесен. – Поставьте на него эту девочку.
Кто-то поставил меня на стул. Кто, не помню: я ничего не сознавала; я только видела, что стою на одном уровне с носом мистера Брокльхерста и что этот нос в двух шагах от меня, а подо мною волнуются оранжевые и лиловые шелка и целое облако серебристых перьев.
Мистер Брокльхерст пристально посмотрел на меня и откашлялся.
– Сударыни, – сказал он, обращаясь к своему семейству, – мисс Темпль, наставницы и дети! Вы видите эту девочку?
Конечно, они видели; я чувствовала, что все глаза устремлены на меня, и они, точно зажигательные стекла, обжигают мою кожу.
– Смотрите, она еще молода и кажется обычным ребенком. Бог, по своему милосердию, дал ей ту же оболочку, какую он дал всем нам; она не отмечена никаким уродством. Кто мог бы предположить, что отец зла уже нашел в ней слугу и помощника? Однако, к моему прискорбию, я должен сказать, что это так.
Наступила пауза, во время которой я почувствовала, что мне уже удается сдержать дрожь, сотрясавшую все мои члены: ведь так или иначе суда не избежать, а испытание нужно вынести с твердостью.
– Дорогие дети! – продолжал с пафосом проповедник. – Это печальный, это горестный случай! Но мой долг предупредить вас, ибо девочка, которая могла бы быть одной из смиренных овец Господних, на самом деле – отверженная, это не член верного стада, она втерлась в него. Она – враг. Берегитесь ее, остерегайтесь следовать ее примеру; если нужно – избегайте ее общества, исключите ее из ваших игр, держитесь от нее подальше. А вы, наставницы, следите за ней: наблюдайте за каждым ее движением, взвешивайте каждое слово, расследуйте каждый поступок, наказывайте плоть, чтобы спасти душу, – если только спасение возможно, ибо это дитя (мой язык едва мне повинуется), этот ребенок, родившийся в христианской стране, хуже любой маленькой язычницы, которая молится Браме и стоит на коленях перед Джаганатом… Эта девочка – лгунья!
Затем последовала десятиминутная пауза, в течение которой я, уже овладев собой, наблюдала, как вся женская половина семьи Брокльхерстов извлекла из карманов носовые платки и прижала их к глазам, причем мамаша качала головой, а обе барышни шептали: «Какой ужас!»
Мистер Брокльхерст продолжал:
– Все это я узнал от ее благодетельницы, той благочестивой и милосердной дамы, которая удочерила ее, сироту, воспитала как собственную дочь, и за чью доброту и великодушие этот злосчастный ребенок отплатил такой черной, такой жестокой неблагодарностью, что в конце концов ее добрейшая покровительница была вынуждена разлучить ее с собственными детьми, чтобы эта девочка своим порочным примером не осквернила их чистоту; она прислана сюда для исцеления, как в старину евреи посылали своих больных к озеру Вифезда. И вы, наставницы и директриса, прошу вас, – не давайте водам застаиваться и загнивать вокруг нее.
После этого риторического заключения мистер Брокльхерст застегнул верхние пуговицы пальто и пробормотал что-то, обращаясь к своему семейству; дамы встали, поклонились мисс Темпль, и вот знатные гости выплыли из комнаты. Дойдя до двери и обернувшись, мой обличитель сказал:
– Пусть она еще полчаса стоит на стуле. И пусть с ней сегодня никто не разговаривает.
И вот я стояла на этом возвышении; еще несколько минут назад мне казалось постыдным стоять посреди комнаты, а теперь я была как бы пригвождена к позорному столбу. Мои чувства трудно описать; но когда они нахлынули на меня, подступая к горлу и прерывая мое дыхание, одна из девочек встала и прошла мимо меня; на ходу она подняла на меня глаза. Какой странный свет был в них! Как пронизывал их лучистый взгляд! Сколько новых, высоких чувств пробудилось во мне! Как будто мученик или герой, пройдя мимо рабы или обреченной жертвы, передал ей часть своей силы. Я подавила подступавшие рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась. Элен Бернс, подойдя к мисс Смит, задала ей какой-то нелепый вопрос относительно своей работы, выслушала замечание по поводу неуместности этого вопроса и тут же вернулась на место; но, снова проходя мимо меня, она мне улыбнулась. Какая это была улыбка! Теперь-то я понимаю, что в этой улыбке отразился ее незаурядный ум и высокое мужество; улыбка преобразила ее резкие черты – худенькое личико, запавшие серые глаза, и на них лег отблеск какой-то ангельской доброты, хотя в это самое время на руке Элен Бернс красовалась «повязка неряхи» и всего лишь час тому назад я слышала, как мисс Скетчерд отчитывала ее, обещая посадить на хлеб и воду за то, что Элен, переписывая упражнение, закапала его чернилами. Таково несовершенство человеческой природы! Ведь и на солнце есть пятна, но глаза людей, подобных мисс Скетчерд, способны видеть только мелкие изъяны и слепы к яркому блеску небесных светил.
Глава VIII
Полчаса еще не успели истечь, как часы пробили пять; воспитанницы были отпущены и пошли в столовую пить чай. Тогда я осмелилась слезть со стула. В комнате царил глубокий сумрак. Я забилась в уголок и села на пол. Та волшебная сила, которая до сих пор поддерживала меня, стала иссякать, наступила реакция, и охватившая меня скорбь была так непреодолима, что я упала ниц и зарыдала. Элен Бернс уже не было подле меня, ничто меня не поддерживало; предоставленная самой себе, я дала волю слезам, и они оросили доски пола, на которых я лежала. Я так старалась быть послушной, я хотела так много сделать в Ловуде: найти друзей, заслужить уважение и любовь! И я уже достигла известных успехов: как раз в это утро я была переведена в число первых учениц; мисс Миллер похвалила меня; мисс Темпль одобрительно улыбнулась, она обещала заняться со мной рисованием и дать мне возможность изучать французский язык, если я в течение двух ближайших месяцев буду делать такие же успехи. Мои соученицы относились ко мне благожелательно, сверстницы обращались как с равной, и никто не оскорблял меня. И вот я лежала здесь, растоптанная и опозоренная! Удастся ли мне когда-нибудь подняться?
«Никогда!» – решила я и страстно пожелала себе смерти. В то время как я, рыдая, бормотала это пожелание, кто-то приблизился ко мне. Я подняла голову, – снова возле меня была Элен Бернс, в этой длинной пустой комнате угасающий свет камина смутно озарил ее фигурку. Она принесла мне кофе и хлеба.
– Ну-ка, поешь немного, – сказала она.
Но я отодвинула от себя и хлеб и кофе: мне казалось, что я подавлюсь первым же глотком и первой крошкой хлеба. Элен, вероятно, смотрела на меня с удивлением; я никак не могла овладеть собой, сколько ни старалась, и продолжала громко рыдать. Тогда она села рядом со мной на пол, охватила колени руками и положила на них голову. В таком положении она просидела долго, безмолвная, как изваяние. Я первая заговорила:
– Элен, Элен, как ты можешь сидеть с девочкой, которую все считают лгуньей?
– Неправда, Джейн! Только восемьдесят человек слышали, что тебя так назвали. А в мире сотни миллионов людей.
– Но какое мне дело до миллионов? Те восемьдесят, которых я знаю, презирают меня.
– Джейн, ты, право же, ошибаешься: наверно, никто в нашей школе не презирает и не ненавидит тебя; наоборот, я уверена, что многие тебя очень жалеют.
– Как они могут жалеть меня после того, что сказал мистер Брокльхерст?
– Мистер Брокльхерст не Бог; он даже не почтенный, всеми уважаемый человек. Здесь его не любят, да он ничего и не сделал, чтобы заслужить любовь. Вот если бы он обращался с тобой как со своей любимицей, тогда у тебя нашлось бы много врагов, и явных и тайных; но ведь это не так, и большинство девочек, наверно, охотно посочувствовали бы тебе, если бы только смели. Может быть, учительницы и старшие день-два будут к тебе холоднее, но в душе они расположены к тебе; старайся по-прежнему хорошо вести себя, и эти чувства проявятся тем сильнее, чем больше они были скрыты. Кроме того, Джейн… – Она остановилась.
– Ну что, Элен? – сказала я, взяв ее за руку. Она нежно стала растирать мои пальцы, чтобы согреть их, и продолжала:
– Если весь мир будет ненавидеть тебя и считать тебя дурной, но ты чиста перед собственной совестью, ты всегда найдешь друзей.
– Да, Элен! Я понимаю, главное – знать, что я не виновата; но этого недостаточно: если никто не будет любить меня, лучше мне умереть. Я не вынесу одиночества и ненависти, Элен. Чтобы заслужить любовь твою, или мисс Темпль, или еще кого-нибудь, кого я действительно люблю, я согласилась бы, чтобы мне сломали руку или бык забодал меня. Я охотно бы стала позади брыкающейся лошади, чтобы она ударила меня копытом в грудь…
– Успокойся, Джейн! Ты слишком заботишься о любви окружающих. Ты слишком горячо все принимаешь к сердцу. Творец, создавший твое тело и вдохнувший в него жизнь, дал тебе более твердую опору, чем твое слабое «я» или чем подобные тебе слабые создания. Кроме нашей земли, кроме человеческого рода, существует незримый мир, царство духов. Этот мир окружает нас, он повсюду; и духи оберегают нас, их дело – стоять на страже; и хотя бы мы умирали от стыда и горя, хотя бы нас окружало презрение и ненависть угнетала бы нас, – ангелы видят наши мучения, они скажут, что мы не виноваты (если это действительно так; а я знаю, что ты невиновна и что низкое обвинение мистера Брокльхерста исходит от миссис Рид; сразу же увидела по твоим горящим глазам, по твоему чистому лбу, что у тебя правдивая душа). А Бог только ждет, когда наш дух отделится от плоти, чтобы увенчать нас всей полнотою награды. Зачем же поддаваться отчаянию, если жизнь недолга, а смерть – верный путь к счастью и свету?
Я молчала. Элен успокоила меня, но в этом покое была какая-то неизъяснимая печаль. Я чувствовала веяние скорби в ее словах, но не могла понять, откуда эта скорбь. А когда она замолчала, ее дыхание стало учащенным и она закашлялась коротким, сухим кашлем, я мгновенно забыла о собственном горе, охваченная смутной тревогой за нее.
Положив голову на плечо Элен, я обняла ее; она привлекла меня к себе, и мы сидели молча. Но это продолжалось недолго, ибо в комнате появился кто-то третий. Ветер прогнал тяжелые тучи, и ярко засияла полная луна; ее луч, упав в одно из окон, осветил и нас, и приближавшуюся к нам фигуру, в которой мы узнали мисс Темпль.
– Я ищу тебя, Джейн Эйр, – сказала она, – я хочу, чтобы ты зашла ко мне в комнату; а раз здесь Элен Бернс, пусть зайдет и она.
Мы встали и, следуя за нашей наставницей, прошли по лабиринту коридоров и поднялись по лестнице.
В ее комнате ярко горел камин и было очень уютно. Мисс Темпль предложила Элен Бернс сесть в низенькое кресло у камина, а сама села в другое кресло и привлекла меня к себе.
– Ну что, все прошло? – спросила она, вглядываясь в мое лицо. – Ты утешилась наконец?
– Боюсь, что я никогда не утешусь.
– Отчего же?
– Оттого, что меня несправедливо обвинили; и вы, мисс Темпль, и все другие будут теперь считать, что я дурная.
– Мы будем считать тебя такой, какой ты себя покажешь, дитя мое. Продолжай вести себя хорошо, и мы будем довольны тобой.
– Правда, мисс Темпль?
– Ну конечно, – сказала она, обняв меня одной рукой. – А теперь расскажи мне, кто эта дама, которую мистер Брокльхерст назвал твоей благодетельницей?
– Это миссис Рид, жена моего дяди. Мой дядя умер и оставил меня на ее попечение.
– Значит, она удочерила тебя не по собственному желанию?
– Нет, мисс Темпль, она очень этого не хотела, но я часто слышала от слуг, будто дядя перед смертью взял с нее обещание, что она всегда будет заботиться обо мне.
– Ну, так вот, Джейн. Ты знаешь, или, во всяком случае, должна знать, что когда на суде в чем-нибудь обвиняют человека, ему дают право защищаться. Расскажи правдиво все, что ты помнишь; но ничего не прибавляй и не преувеличивай.
Я твердо решила, что буду как можно сдержанней, как можно справедливее, и, помолчав несколько минут, чтобы обдумать свои слова, рассказала ей печальную повесть моего детства. Обессиленная предшествующими волнениями, я была в своем рассказе гораздо сдержаннее, чем обычно, когда касалась этой печальной темы, и, крепко памятуя предостережения Элен не поддаваться безудержной мстительности, вложила в свой рассказ гораздо меньше запальчивости и раздражения, чем обычно. Будучи, таким образом, более сдержанным и простым, рассказ мой произвел более сильное впечатление: я чувствовала, что мисс Темпль верит мне до конца.
Во время своего рассказа я упомянула имя мистера Ллойда, посетившего меня после припадка; я, кажется, до самой смерти не могла бы забыть ужасный случай в красной комнате: боюсь, что при описании его мне не удалось сохранить хладнокровие, так как ничто не могло смягчить воспоминаний о том смертном страхе, который сжал мне сердце, когда миссис Рид отвергла мои горячие мольбы о прощении и вторично заперла меня в темной красной комнате наедине с призраком.
Я закончила. Мисс Темпль некоторое время смотрела на меня в молчании. Затем она сказала:
– Я немного знаю мистера Ллойда. Я напишу ему. Если он подтвердит то, что ты рассказала, с тебя при всех будет снято обвинение; что касается меня, Джейн, в моих глазах ты оправдана уже сейчас.
Она поцеловала меня и, все еще не отпуская от себя (мне было очень хорошо возле нее, я испытывала детскую радость, глядя на ее лицо, на ее платье, на скромные украшения, на белый лоб с густыми шелковистыми кудрями и лучистые темные глаза), продолжила, обращаясь к Элен Бернс:
– А ты как чувствуешь себя сегодня, Элен? Ты днем много кашляла?
– Не так много, сударыня.
– А боль в груди?
– Она теперь слабее.
Мисс Темпль встала, взяла ее за руку, сосчитала пульс; затем опять опустилась в свое кресло; при этом я услышала, как она тихонько вздохнула. Несколько минут она была погружена в задумчивость, потом, овладев собой, весело сказала:
– Ну, сегодня вы мои гости, и я должна принимать вас, как гостей.
Она позвонила.
– Барбара, – сказала она вошедшей горничной, – я еще не пила чаю. Принесите поднос и поставьте две чашки для этих двух молодых барышень.
Поднос был принесен. Какими красивыми казались мне фарфоровые чашки и ярко начищенный чайник, стоявший на маленьком круглом столике возле камина. Как благоухал горячий чай и поджаренный хлеб! Но, к сожалению (ибо я начинала испытывать голод), гренков оказалось очень мало. Мисс Темпль тоже обратила на это внимание.
– Барбара, – сказала она, – не можете ли вы принести нам побольше хлеба с маслом? Здесь на троих не хватит.
Барбара вышла, но вскоре вернулась.
– Сударыня, миссис Харден говорит, что она прислала обычную порцию.
К сведению читателей, миссис Харден была экономка; эта женщина, которой мистер Брокльхерст весьма доверял, вся состояла из китового уса и железа.
– Ну, хорошо, – отозвалась мисс Темпль, – мы как-нибудь обойдемся, Барбара. – И, когда девушка ушла, она пояснила улыбаясь: – К счастью, я могу добавить кое-что к этому скудному угощению.
Предложив мне и Элен сесть за стол, она поставила перед каждой из нас чашку чая с восхитительным, хотя и очень тоненьким кусочком поджаренного хлеба, а затем поднялась, отперла шкаф и вынула из него что-то завернутое в бумагу и оказавшееся большим сладким пирогом.
– Я хотела дать вам это с собою, когда вы уйдете, – сказала она, – но так как хлеба мало, то вы получите его сейчас, – и она нарезала пирог большими кусками.
Нам казалось в этот вечер, что мы питаемся нектаром и амброзией; немалую радость доставляло нам и присутствие ласковой хозяйки, которая с улыбкой смотрела на то, как мы утоляли свой голод, наслаждаясь столь изысканным и щедрым угощением. Когда мы кончили чай и поднос был убран, она снова подозвала нас к камину; мы сели по обе стороны от нее, и затем между мисс Темпль и Элен начался разговор, присутствовать при котором оказалось для меня действительно большой честью.
На всем облике мисс Темпль лежал отпечаток внутреннего покоя, ее черты выражали возвышенное благородство, она говорила неторопливо и с достоинством, исключавшим всякую несдержанность, порывистость, горячность; в ней было что-то, внушавшее тем, кто смотрел на нее и слушал ее, чистую радость и чувство благоговейного почитания; таковы и сейчас были мои ощущения. Что касается Элен Бернс, то я не могла надивиться на нее.
Быть может, вкусный чай, яркое пламя камина, присутствие и ласка ее обожаемой наставницы были тому причиной, а может быть, сказались еще неизвестные мне черты ее своеобразной натуры, но в ней точно пробудились какие-то новые силы. Ее всегда бледные и бескровные щеки окрасились ярким румянцем, а глаза засияли влажным блеском, что придало им вдруг необычайную красоту, и они казались теперь красивее, чем глаза мисс Темпль, но поражал не их яркий блеск, не длинные ресницы и словно нарисованные брови – красота этих глаз была вся в их выражении, живости, сиянии. И вот сердце заговорило ее устами, и ее речь полилась из неведомых мне глубин, – ибо как может четырнадцатилетняя девочка иметь душу, достаточно сильную, чтобы из нее бил родник чистого, всеобъемлющего и пламенного красноречия? А именно такими казались мне рассуждения Элен в тот знаменательный вечер; словно ее дух стремился пережить в несколько часов все то, что у многих растягивается на целую долгую жизнь.
Они беседовали о предметах, о которых я никогда не слышала: о канувших в вечность временах и народах, о дальних странах, об уже открытых или едва подслушанных тайнах природы; они говорили о книгах. И сколько же книг они успели прочесть! Какими сокровищами знаний они владели! И как хорошо они, видимо, знали Францию и французских писателей! Однако мое изумление достигло предела, когда мисс Темпль спросила Элен, не пытается ли она в свободную минуту вспомнить латынь, которой ее учил отец, и затем, взяв с полки книгу, предложила ей перевести страничку Вергилия; девочка выполнила ее просьбу, и мое благоговение росло с каждым прочитанным стихом. Едва она успела кончить, как прозвонил звонок, возвещая о том, что настало время ложиться спать. Медлить было нельзя. Мисс Темпль обняла нас обеих и, прижав к своему сердцу, сказала:
– Бог да благословит вас, дети!
Она задержала мою подругу в своих объятиях чуть дольше, чем меня, и отпустила ее с большой неохотой; за Элен, а не за мною следили ее глаза, когда мы шли к двери, о ней она второй раз тяжело вздохнула, из-за нее отерла слезу.
Едва войдя в спальню, мы услышали голос мисс Скетчерд. Она осматривала ящики комода и только что обнаружила беспорядок в вещах Элен Бернс. Встретив девочку резким замечанием, она тут же пригрозила, что завтра приколет к ее плечу с полдюжины неаккуратно сложенных предметов.
– Мои вещи действительно были в позорном беспорядке, – прошептала мне Элен. – Я хотела убрать их, но забыла.
На другой день мисс Скетчерд написала крупными буквами на куске картона слово «неряха» и украсила этой надписью широкий, умный и спокойный лоб девочки. Та ходила с ним до вечера, терпеливо и кротко, считая, что заслужила наказание. Едва мисс Скетчерд, закончив вечерние уроки, ушла, как я побежала к Элен, сорвала картон и швырнула его в камин. Ярость – чувство, совершенно ей незнакомое, – жгла меня весь день, и горячие, крупные слезы то и дело набегали на глаза, ибо зрелище этого смирения причиняло мне невыносимую боль.
Примерно неделю спустя после описанных событий мисс Темпль получила от мистера Ллойда ответ на свое письмо, видимо подтвердивший правоту моих слов. Собрав всю школу, мисс Темпль объявила, что в связи с обвинением, выдвинутым против Джейн Эйр, было произведено самое тщательное расследование, и она счастлива, что может заявить перед всеми о моем полном оправдании. Учительницы окружили меня. Все жали мне руки и целовали меня, а по рядам моих подруг пробежал шепот удовлетворения.
Таким образом, с меня была снята мучительная тяжесть, и я с новыми силами принялась за работу, твердо решив преодолеть все препятствия. Я упорно трудилась, и мои усилия увенчались успехом; постоянные занятия укрепляли мою память и развивали во мне ум и способности. Через две-три недели я была переведена в следующий класс, а меньше чем через два месяца мне было разрешено начать уроки французского языка и рисования. Помню, что в один день я выучила первые два времени глагола être[6] и нарисовала свой первый домик (его стены были так кривы, что могли поспорить с Пизанской башней). Вечером, ложась в постель, я даже забыла представить себе роскошный ужин из жареной картошки или же из булки и парного молока – мои излюбленные яства, которыми я обычно старалась в воображении утолить постоянно мучивший меня голод. Вместо этого я представляла себе в темноте прекрасные рисунки, и все они были сделаны мной: дома и деревья, живописные скалы и развалины, стада на пастбище во вкусе голландских живописцев, пестрые бабочки, трепещущие над полураскрытыми розами, птицы, клюющие зрелые вишни, или окруженное молодыми побегами плюща гнездо королька с похожими на жемчуг яйцами. Я старалась также прикинуть в уме, скоро ли я смогу переводить французские сказки, томик которых мне сегодня показывала мадам Пьеро; однако я не успела всего додумать, так как крепко уснула.
Прав был Соломон, сказав: «Угощение из зелени, но при любви, лучше, нежели откормленный бык, но при нем ненависть».
Теперь я уже не променяла бы Ловуд со всеми его лишениями на Гейтсхэд с его навязчивой роскошью.
Глава IX
Однако лишения, вернее – трудности жизни в Ловуде становились все менее ощутимы. Приближалась весна. Она пришла незаметно. Зимние морозы прекратились, снега растаяли, ледяные ветры потеплели. Мои несчастные ноги, обмороженные и распухавшие в дни резких январских холодов, начали заживать под действием мягкого апрельского тепла. Ночью и утром уже не было той чисто канадской температуры, от которой застывает кровь в жилах. Час, предназначенный для игр, мы теперь охотнее проводили в саду, а в солнечные дни пребывание там становилось просто удовольствием и радостью; зеленая поросль покрывала темно-бурые клумбы и с каждым днем становилась все гуще, словно ночами здесь проносилась легкокрылая надежда, оставляя наутро все более явственный след. Между листьев проглянули цветы – подснежники, крокусы, золотистые анютины глазки. По четвергам, когда занятия кончались, мы предпринимали далекие прогулки и находили еще более прелестные цветы по обочинам дороги и вдоль изгородей.
Я открыла также бесконечное удовольствие в созерцании вида – его ограничивал только горизонт, – открывавшегося поверх высокой, утыканной гвоздями ограды нашего сада: там тянулись величественные холмы, окружавшие венцом глубокую горную долину, полную яркой зелени и густой тени, а на каменистом темном ложе ее шумела веселая речушка, подернутая сверкающей рябью. Совсем иным казался этот пейзаж под свинцовым зимним небом, скованный морозом, засыпанный снегом! Тогда из-за фиолетовых вершин наплывали туманы, холодные, как смерть, их гнали восточные ветры, и они стлались по склонам и сливались с морозной мглой, стоявшей над речкой, и сама речка неслась тогда бурно и неудержимо. Она мчалась сквозь лес, наполняя окрестности своим ревом, к которому нередко примешивался шум проливного дождя или вой вьюги, а по берегам стояли рядами остовы мертвых деревьев.
Апрель сменился маем. Это был ясный и кроткий май. Каждый день ярко синело небо, грели мягкие солнечные лучи, и ласковые ветерки дули с запада или юга. Растительность мощно пробивалась повсюду. Ловуд встряхивал своими пышными кудрями, он весь зазеленел и расцвел. Его высокие тополя и дубы вновь ожили и облеклись в величественные зеленые мантии, кусты в лесу покрылись листьями, бесчисленные виды мхов затянули бархатом каждую ямку, а золотые первоцветы казались лучами солнца, светившими с земли. В тенистых местах их бледное сияние походило на брызги света. Всем этим я наслаждалась часто, долго, беспрепятственно и почти всегда в одиночестве, – эта неожиданная возможность пользоваться свободой имела свою особую причину, о которой пора теперь сказать.
Разве описанная мною восхитительная местность среди гор и лесов, в речной излучине не напоминала райский уголок? Да, она была прекрасна; но здорова ли – это другой вопрос.
Лесная долина, где находился Ловуд, была колыбелью ядовитых туманов и рождаемых туманами болезней. И сейчас началась эпидемия тифа; болезнь распространялась и росла по мере того, как расцветала весна; заползла она и в наш сиротский приют – многолюдная классная и дортуары оказались рассадником заразы; и не успел еще наступить май, как школа превратилась в больницу.
Полуголодное существование и застарелые простуды создали у большинства воспитанниц предрасположенность к заболеванию – из восьмидесяти девочек сорок пять слегли одновременно. Уроки были прерваны, правила распорядка соблюдались менее строго, и те немногие, что еще не заболели, пользовались неограниченной свободой. Врач настаивал на том, что им для сохранения здоровья необходимо как можно дольше находиться на открытом воздухе; но и без того ни у кого не было ни времени, ни охоты удерживать нас в комнатах. Все внимание мисс Темпль было поглощено больными: она все время находилась в лазарете и уходила только ночью на несколько часов, чтобы отдохнуть. Все остальные учителя были заняты сборами в дорогу тех немногих девочек, которые, по счастью, имели друзей или родственников, согласившихся взять их к себе. Однако многие были уже заражены и, вернувшись домой, вскоре умерли там. Другие умерли в школе, и их похоронили быстро и незаметно, так как опасность распространения эпидемии не допускала промедления.
В то время как жестокая болезнь стала постоянной обитательницей Ловуда, а смерть – его частой гостьей, в то время как в его стенах царили страх и уныние, а в коридорах и комнатах стояли больничные запахи, которые нельзя было заглушить ни ароматичными растворами, ни курениями, – над крутыми холмами и кудрявыми рощами сиял безмятежный май. В саду цвело множество мальв ростом чуть не с дерево, раскрывались лилии, разноцветные тюльпаны и розы, маленькие клумбы были окружены веселой темно-розовой каймой маргариток. По вечерам и по утрам благоухал шиповник, от него пахло яблоками и пряностями. Но в большинстве своем обитатели Ловуда не могли наслаждаться этими дарами природы, и только мы носили на могилы умерших девочек пучки трав и цветов.
Однако те дети, которые оставались здоровыми, полностью наслаждались красотой окрестностей и сияющей весной. Никто не обращал на нас внимания, и мы, как цыгане, с утра до ночи бродили по долинам и рощам. Мы делали все, что нам нравилось, и шли, куда нас влекло. Условия нашей жизни тоже стали лучше. Ни мистер Брокльхерст, ни его семейство не решались даже приблизиться к Ловуду. Никто не надзирал за хозяйством, злая экономка ушла, испугавшись эпидемии. Ее заместительница, которая раньше заведовала лоутонским лазаретом, еще не переняла ее обычаев и была щедрее, да и кормить приходилось гораздо меньше девочек: больные ели мало. Во время завтрака наши мисочки были налиты до краев. Когда кухарка не успевала приготовить настоящий обед, а это случалось довольно часто, нам давали по большому куску холодного пирога или ломоть хлеба с сыром, и мы уходили в лес, где у каждой из нас было свое излюбленное местечко, и там с удовольствием съедали принесенное.
Я больше всего любила гладкий широкий камень, сухой и белый, лежавший посредине ручья; к нему можно было пробраться только по воде, и я переходила ручей босиком. На камне хватало места для двоих, и мы располагались на нем с моей новой подругой. Это была некая Мери-Энн Вильсон, неглупая и наблюдательная девочка; ее общество мне нравилось – она была большая шутница и оригиналка, и я чувствовала себя с ней просто и легко. Мери-Энн была на несколько лет старше меня, больше знала жизнь, ее рассказы были для меня интересны, и она умела удовлетворить мое любопытство. Будучи снисходительна к моим недостаткам, она никогда не удерживала и не порицала меня. У нее был дар повествования, у меня – анализа; она любила поучать, я – спрашивать. Поэтому мы прекрасно ладили, и если это общение и не приносило нам особой пользы, оно было приятно.
А где же была Элен Бернс? Отчего я не с ней проводила эти сладостные дни свободы? Разве я забыла ее? Или я была так легкомысленна, что начала тяготиться ее благородной дружбой? Конечно, Мери-Энн Вильсон была несравнима с моей первой подругой: она рассказывала занятные истории и охотно болтала и шутила со мной, в то время как Элен всегда умела пробудить в тех, кто имел счастье общаться с ней, интерес к возвышенному.
Все это верно, читатель; и я это прекрасно знала и чувствовала. Хотя я и очень несовершенное создание, с многочисленными недостатками, которые вряд ли могут искупить мои слабые достоинства, я никогда бы не устала от общества Элен Бернс; в моей душе продолжало жить чувство привязанности к ней, такое сильное, нежное и благоговейное, какое я редко потом испытывала. Да и как могло быть иначе, ведь Элен всегда и при всех обстоятельствах дарила мне спокойную, верную дружбу, которую не могло смутить или ослабить ни раздражение, ни непонимание. Но Элен была больна: вот уже несколько недель, как мы с ней не виделись; я даже не знала, в какой комнате верхнего этажа она находится. Ее не положили, как я выяснила, в лазарет, где лежали тифозные больные, ибо у нее была чахотка, а не тиф. Мне же, по моему неведению, чахотка представлялась чем-то очень безобидным, такой болезнью, которую уход и время могут излечить.
Эту уверенность поддерживало во мне и то обстоятельство, что в солнечные дни ее иногда выносили в сад; но и тут мне не разрешалось приближаться к ней и разговаривать; я видела ее только из школьного окна и притом очень неясно: она была закутана в одеяло и сидела довольно далеко от меня, в саду возле веранды.
Однажды, в начале июля, мы с Мери-Энн очень поздно загулялись в лесу; отделившись, как обычно, от остальных, мы забрели в глушь так далеко, что начали плутать и вынуждены были, чтобы расспросить о дороге, зайти в уединенный домик, где жили мужчина и женщина, пасшие в этом лесу стадо полудиких свиней. Когда мы наконец вернулись домой, уже всходила луна. У ворот дома мы увидели лошадь, которая, как мы знали, принадлежала врачу. Мери-Энн высказала предположение, что, вероятно, кому-нибудь стало очень худо, если за мистером Бейтсом послали так поздно. Она вошла в дом, а я еще задержалась в саду, чтобы посадить несколько кустиков растений, принесенных из леса, так как боялась, что они завянут, если я это отложу до утра. Закончив посадку, я все еще медлила вернуться в комнаты: садилась роса, и цветы благоухали особенно нежно. Вечер был такой чудесный, спокойный, теплый; все еще алевший закат обещал и на завтра ясный день. Луна величественно всходила на потемневшем востоке. Я наслаждалась всем этим, как настоящее дитя, и вдруг во мне с небывалой остротой мелькнула мысль:
«Как грустно сейчас лежать в постели, зная, что тебе грозит смерть. Ведь этот мир прекрасен! Как тяжело быть из него отозванной, уйти неведомо куда!»
И тут я впервые попыталась осмыслить привитые мне представления о небе и аде и отступила растерянная; впервые, оглядевшись кругом, я увидела повсюду зияющую бездну. Незыблемой была только одна точка – настоящее; все остальное рисовалось мне в виде бесформенных облаков и зияющей пропасти; и я содрогнулась от ужаса перед возможностью сорваться и рухнуть в хаос. Погруженная в эти размышления, я вдруг услышала, как открылась парадная дверь: вышел мистер Бейтс, а с ним одна из нянек. Он сел на лошадь и уехал, и она уже собиралась запереть дверь, когда я подбежала к ней.
– Как чувствует себя Элен Бернс?
– Очень плохо, – ответила она.
– Это к ней приезжал мистер Бейтс?
– Да.
– А что он говорит?
– Он говорит, что ей уже недолго быть с нами.
Эта фраза, услышь я ее вчера, вызвала бы во мне только мысль, что Элен собираются отправить домой, в Нортумберленд. Я бы не заподозрила в этих словах намек на ее близкую смерть; но сейчас я поняла это сразу. Мне тут же стало ясно, что дни Элен Бернс сочтены и что она скоро уйдет в царство духов, – если это царство существует. Меня охватил ужас, затем я почувствовала приступ глубокой скорби, затем желание, просто потребность увидеть ее; и я спросила, в какой комнате она лежит.
– Она в комнате у мисс Темпль, – сказала няня.
– А можно мне пойти поговорить с ней?
– О нет, девочка. Едва ли это возможно. Да и тебе пора домой. Ты тоже заболеешь, если останешься в саду, когда выпала роса.
Няня заперла парадную дверь. Я направилась по коридору в классную комнату. Как раз пробило девять, и мисс Миллер звала воспитанниц в дортуар.
Прошло не больше двух часов. Было, вероятно, около одиннадцати. Чувствуя, что я не в силах заснуть, и убедившись по наступившей в спальне тишине, что мои подруги крепко спят, я неслышно поднялась, надела платье поверх ночной рубашки, босиком прокралась к двери и отправилась в ту часть здания, где была комната мисс Темпль. Мне надо было пройти в другой конец корпуса, но я знала дорогу, а лившийся в окна яркий свет сиявшей в чистом небе летней луны освещал мне путь. Резкий запах камфоры и древесного уксуса подсказал мне, что я прохожу мимо тифозной палаты, – и я миновала дверь как можно быстрее, опасаясь, как бы дежурная няня не заметила меня. Больше всего на свете я боялась, что кто-нибудь заставит меня вернуться. Я должна была увидеть Элен! Я должна была обнять ее перед смертью, поцеловать в последний раз, обменяться с ней последним словом!
Я спустилась по лестнице, прошла длинным коридором, бесшумно открыла и притворила две двери и наконец дошла до другой лестницы; поднявшись по ней, я оказалась прямо перед комнатой мисс Темпль. Сквозь замочную скважину и из-под двери просачивался свет. Царила глубокая тишина. Подойдя еще ближе, я увидела, что дверь слегка приоткрыта, – вероятно, для того, чтобы пропустить хоть немного свежего воздуха в эту обитель болезни. Полная решимости и нетерпения, взволнованная до глубины души, я с трепетом открыла дверь. Мои взоры искали Элен и опасались увидеть смерть.
Рядом с кроватью мисс Темпль, полускрытая белым пологом, стояла маленькая кровать. Я увидела под простыней очертания лежавшей Элен, но ее лицо заслонял полог. Няня, с которой я говорила в саду, спала в кресле, на столе тускло горела свеча. Мисс Темпль нигде не было видно. Впоследствии я узнала, что ее вызвали в тифозную палату к бредившей девочке. Я осторожно подошла к кровати и остановилась возле нее; рука моя уже коснулась полога, но я решила сначала заговорить, а потом уже отдернуть его. Мною все еще владел страх, что я увижу мертвое тело.
– Элен, – прошептала я тихо, – ты не спишь?
Она приподнялась, откинула полог, и я увидела ее лицо – бледное, изможденное, но совершенно спокойное. Она так мало изменилась, что мои опасения тотчас же рассеялись.
– Неужели это ты, Джейн? – спросила она своим обычным кротким голосом.
«О нет, – подумала я, – она не умирает, они ошибаются! У нее такое ясное лицо и такой спокойный голос; этого не может быть!»
Я села на кровать и поцеловала ее. Лоб у нее был холодный, лицо заметно похудело, а также пальцы и кисти рук; но она улыбалась по-старому.
– Как ты попала сюда, Джейн? Ведь уже двенадцатый час, я слышала, как пробило одиннадцать несколько минут назад.
– Я пришла повидать тебя, Элен: я узнала, что ты очень больна, и не могла уснуть, не поговорив с тобой.
– Значит, ты пришла проститься, и, вероятно, как раз вовремя.
– Ты разве уезжаешь куда-нибудь, Элен? Ты едешь домой?
– Да, я собираюсь в длинную дорогу, в мой последний дом.
– Нет, нет, Элен! – остановила я ее с отчаянием, стараясь сдержать слезы. В это время у Элен начался приступ кашля, однако няня не проснулась; когда приступ кончился, Элен пролежала несколько минут в полном изнеможении, затем шепнула:
– Джейн, у тебя ножки озябли. Ложись со мной и укройся моим одеялом.
Я так и сделала. Она охватила меня рукой, и я прижалась к ней. После долгого молчания она продолжала, все так же шепотом:
– Я очень счастлива, Джейн, и когда ты узнаешь, что я умерла, будь спокойна и не грусти, – грустить не о чем. Все мы когда-нибудь умрем, а моя болезнь не такая уж мучительная, она незаметно и мягко сводит меня в могилу. Моя душа спокойна. Я не оставляю никого, кто бы сильно горевал обо мне: у меня есть только отец, но он недавно женился и не очень будет скучать. Я умираю молодой и потому избегну многих страданий. У меня нет тех способностей и талантов, которые помогают пробить себе дорогу в жизни. Я вечно попадала бы впросак.
– Но куда же ты уходишь, Элен? Разве ты видишь, разве ты знаешь?
– Я верю и надеюсь: я иду к Богу.
– А где Бог? Что такое Бог?
– Мой Творец и твой, Он никогда не разрушит того, что создал. Я доверяюсь Его всемогуществу и Его доброте. Я считаю часы до той великой минуты, когда возвращусь к Нему.
– Значит, ты уверена, что есть такое место на небе и что наши души попадут туда, когда мы умрем?
– Я убеждена, что есть будущая жизнь, и я верю, что Бог добр.
– А я увижусь с тобой, Элен, когда умру?
– Ты достигнешь той же обители счастья; ты будешь принята тем же всемогущим и вездесущим Отцом, не сомневайся в этом, дорогая Джейн.
Снова я спросила, но на этот раз лишь мысленно: где же эта обитель и существует ли она? И я крепче обняла мою подругу, – она казалась мне дороже, чем когда-либо, я не в силах была расстаться с ней. Я лежала, прижавшись лицом к ее плечу. Вдруг она сказала с невыразимой нежностью:
– Как мне хорошо! Этот последний приступ кашля немного утомил меня; кажется, мне удастся заснуть. Но ты не уходи, Джейн; мне хочется, чтобы ты была со мной.
– Я останусь с тобой, моя дорогая Элен, никто не разлучит нас.
– Ты согрелась, детка?
– Да.
– Спокойной ночи, Джейн!
– Спокойной ночи, Элен!
Мы поцеловались и скоро обе задремали.
Когда я проснулась, был уже день. Меня разбудило ощущение, что я куда-то лечу; я открыла глаза и увидела, что кто-то несет меня на руках: это была няня, она несла меня по коридору в дортуар. Я не получила выговора за то, что ночью убежала к Элен, – окружающим было не до этого. Никто не отвечал на мои бесчисленные вопросы. Но день-два спустя я узнала, что мисс Темпль, вернувшись на рассвете в свою комнату, нашла меня в кроватке Элен. Моя голова покоилась на ее плече, мои руки обнимали ее шею. Я спала, – Элен же была мертва.
Ее могила – на брокльбриджском кладбище. В течение пятнадцати лет над этой могилой был только зеленый холмик, но теперь там лежит серая мраморная плита, на которой высечено ее имя и слово «Resurgam»[7].
Глава X
До сих пор я описывала события моего неприметного существования во всех подробностях: первым десяти годам моей жизни я посвятила почти столько же глав. Но я не собираюсь давать здесь настоящую автобиографию и обращаюсь к своим воспоминаниям только в тех случаях, когда они могут представить какой-то интерес. Поэтому я обхожу молчанием период жизни в целых восемь лет, ибо для связности моего повествования достаточно будет нескольких строк.
Когда тиф выполнил в Ловуде свою опустошительную миссию, эпидемия постепенно угасла, – но лишь после того, как число ее жертв привлекло к нашей школе внимание общества. Было произведено расследование и обнаружены факты, вызвавшие глубокое возмущение. Нездоровая местность, скверная пища, которой кормили детей, и ее недостаточность, гнилая стоячая вода, убогая одежда и тяжелые условия жизни – когда все эти обстоятельства были обнаружены, они послужили не к чести мистера Брокльхерста, но нашей школе это пошло на пользу.
Группа богатых и благожелательных лиц, проживавших в этом графстве, пожертвовала крупные суммы на постройку более удобного здания в более здоровой местности. Были установлены новые правила, введены улучшения в питании и одежде, фонды школы были переданы комитету из доверенных лиц. Конечно, мистер Брокльхерст благодаря своему богатству и связям не мог быть отстранен совсем и остался казначеем, но близкое участие в делах школы приняли теперь и другие люди, более широких и просвещенных взглядов; точно так же и свои обязанности инспектора он должен был делить с теми, кто умел сочетать бережливость с благожелательностью и душевную твердость с состраданием. Школа, в которую были введены все эти новшества, стала затем действительно полезным и уважаемым учреждением. После ее преобразования я пробыла в ней восемь лет: шесть – в качестве ученицы и два года в качестве учительницы; и я могу на основании этого двустороннего опыта свидетельствовать, что дело в ней было поставлено хорошо и она приносила несомненную пользу. В течение этих восьми лет жизнь моя протекала однообразно. Однако ее нельзя было назвать несчастливой, так как она была деятельна; мне были даны все возможности получить прекрасное образование. Я любила некоторые предметы, стремилась преуспевать во всех, а также находила большую радость в том, чтобы получать одобрение моих наставниц, особенно тех, кого я ценила; таким образом, я не пренебрегала ни одной из предоставленных мне возможностей. В старшем классе я стала первой ученицей; потом мне была доверена работа учительницы, и я выполняла ее с большим усердием в течение двух лет. Но затем во мне произошла перемена.
Все это время мисс Темпль продолжала оставаться директрисой. Ей я обязана лучшей частью моих познаний; ее дружба, беседы с ней доставляли мне неизменную радость; она заменяла мне мать, наставницу, а позднее и подругу. Однако в то время, которое я описываю, она вышла замуж и вместе со своим мужем (священником и превосходным человеком, достойным такой жены) уехала в отдаленное графство – и, таким образом, была для меня потеряна.
С того самого дня, как она уехала, я стала другой: с ней исчезли все привязанности, которые делали для меня Ловуд чем-то вроде родного дома. Я впитала в себя что-то от ее натуры, многое из ее особенностей – более серьезные мысли, более гармонические чувства. Я приучилась к выполнению своего долга и к порядку. И я была спокойна, веря, что удовлетворена своей жизнью. В глазах других, а зачастую и в моих собственных, я казалась человеком дисциплинированным и уравновешенным.
Однако судьба в образе достопочтенного мистера Нэсмита стала между мной и мисс Темпль. Мне суждено было увидеть, как она после совершения брачной церемонии, одетая по-дорожному, садится в почтовую карету. Я следила глазами, как эта карета поднимается на холм и затем исчезает за его хребтом. Затем я удалилась к себе и провела в одиночестве большую половину этого дня, так как в честь мисс Темпль уроки были частично отменены.
Я долго ходила взад и вперед по комнате. Мне казалось, что я предаюсь только сожалениям о своей утрате и стараюсь придумать, как бы ее возместить. Но когда, очнувшись от этих мыслей, я увидела, что день прошел и уже наступил вечер, мне открылось и другое: а именно, что за эти часы размышлений во мне самой произошла глубокая перемена, моя душа сбросила с себя все, что она позаимствовала у мисс Темпль, – вернее, моя дорогая наставница унесла с собой ту атмосферу мира и тишины, которой я дышала в ее присутствии, и теперь, оставшись наедине с собой, я вновь стала такой, какой была на самом деле, и во мне проснулись былые чувства. Не то чтобы я лишилась опоры, – но угас какой-то внутренний стимул; не спокойствие покинуло меня, но исчезли основания для этого спокойствия. В течение ряда лет мой мир был ограничен стенами Ловуда: я ничего не знала, кроме его правил и обычаев. Теперь же я вспомнила, что мир необъятен и что перед теми, кто отважится выйти на его простор, чтобы искать среди опасностей подлинного знания жизни, открывается широкое поле для надежд, страхов, радостей и волнений.
Я подошла к окну и открыла его. Вот они, оба крыла столь знакомого мне дома; вот и сад; вон границы Ловуда, а дальше – гористый горизонт… Мои глаза миновали все остальное и остановились на самом дальнем – на голубых вершинах: через них хотелось мне перебраться. Все заключенное в пределах этих скал и пустынных лесов показалось мне тюрьмой. Я следила взором за белой дорогой, извивавшейся вокруг подошвы одной из гор и исчезавшей в ущелье между двумя склонами: как хотелось мне уйти по этой дороге! Я вспомнила тот день, когда ехала по ней в дилижансе, вспомнила, как мы спускались по ней в сумерках. Целый век, казалось мне, прошел с того дня, когда я впервые очутилась в Ловуде, а с тех пор я его уже не покидала. Каникулы я проводила в школе: миссис Рид никогда не приглашала меня в Гейтсхэд; ни она и никто из членов ее семьи ни разу не навестили меня. Ни письма, ни весточки из внешнего мира. Школьные правила, школьные обязанности, школьные привычки и понятия, те же голоса, лица, слова, те же одежды, симпатии и предубеждения – вот и все, что я знала о жизни. А теперь я чувствовала, что всего этого недостаточно. В этот вечер я ощутила усталость от восьмилетней рутины. Я хотела свободы, я жаждала ее. И я стала молиться о том, чтобы мне была дарована свобода. Но, казалось, слабое дыхание ветерка унесло мою молитву. Затем я стала просить о более скромном даре – о новом стимуле, о перемене. Но и эту просьбу точно развеяло в пространстве. Тогда я воскликнула почти в отчаянии: «Пошли мне хотя бы новое место!»
В это время зазвонил колокол к ужину, и мне пришлось сойти вниз.
Я не могла возобновить прерванный ход моих мыслей до тех пор, пока не улеглась в постель; но даже и тогда учительница, жившая со мной в комнате, ежеминутно отвлекала меня своей болтовней от тех вопросов, в которые я жаждала углубиться. Как я желала, чтобы мисс Грайс поскорей заснула! Казалось, стоит мне вернуться к той мысли, которая пришла мне в голову последней, когда я стояла у окна, и мне непременно откроется какой-то выход.
Наконец мисс Грайс захрапела. Это была тучная валлийка, ее носовые рулады всегда досаждали мне. Сегодня же я обрадовалась этим басовым звукам: наконец-то меня оставят в покое! Мои недодуманные мысли сразу ожили.
«Новое место! Это выход, – рассуждала я (разумеется, про себя). – Это, несомненно, выход! Именно потому, что это звучит не слишком заманчиво. Не то что сладостные слова – свобода, восторг, радость… Для меня они только звук пустой; они настолько далеки и нереальны, что прислушиваться к ним – значит попусту терять время. А вот работа – это нечто реальное. Трудиться может всякий. Я здесь трудилась восемь лет, и все, чего я хочу теперь, – это работать где-нибудь в другом месте. Неужели я даже этого не смогу добиться? Разве мое желание невыполнимо? Нет, нет, это, в конце концов, вовсе не так трудно, надо только пораскинуть умом, как лучше взяться за дело».
И я села на кровати, чтобы хорошенько все обдумать. Ночь была холодная, я закуталась в платок и снова принялась усиленно размышлять.
«Чего я хочу? Нового места, жить в другом доме, среди новых лиц, в новых обстоятельствах. Я хочу этого потому, что желать другого бесполезно. Каким образом люди получают места? Они, видимо, обращаются к друзьям; у меня же нет никого. Но ведь немало людей, у которых тоже нет никого на свете; они все должны делать сами, сами себе помогать; как же они поступают?»
Я не знала, и ничто не подсказывало мне ответа. Напрасно я понукала свой мозг, чтобы он работал; я чувствовала, как кровь стучит у меня в висках. Примерно с час мысли мои были погружены в хаос, все путалось в голове, и я не могла прийти ни к какому выводу. Разгоряченная тщетными усилиями, я встала и начала ходить по комнате; отдернув занавеску, я увидела в небе несколько звезд и, наконец почувствовав, что окончательно продрогла, забралась под одеяло.
Однако в мое отсутствие добрая фея, видно, положила на мою подушку тот ответ, которого я так добивалась. Едва я опустила на нее голову, как в моем сознании спокойно и отчетливо прозвучали слова: «Те, кто ищет службы, дают объявление в «…ширском вестнике».
Но как? Я не знала, как даются объявления.
И снова последовал быстрый и точный ответ:
«Запечатай текст объявления и деньги в конверт и адресуй издателю «Вестника»; отнеси его при первой возможности на почту в Лоутон; адрес для ответа дай: «До востребования, Лоутонское почтовое отделение, на имя Дж. Э.». Ты можешь пойти туда справиться примерно через неделю после того, как пошлешь письмо. Если получишь ответ, в соответствии с ним и будешь действовать».
Я продумала этот план дважды, трижды, во всех деталях и, почувствовав удовлетворение, наконец заснула. Я проснулась очень рано; и еще не успел прозвонить звонок, как объявление было составлено, запечатано в конверт и надписан адрес. Оно гласило:
«Молодая особа, имеющая преподавательский опыт (разве я не была два года учительницей?), ищет место в частном доме к детям не старше четырнадцати лет. (Я решила, что, так как мне самой всего восемнадцать, было бы неразумно брать на себя руководство учениками почти моего возраста.) Кроме общих предметов, входящих в школьную программу, преподает также французский язык, рисование и музыку. (Теперь, читатель, этот список предметов обучения показался бы весьма ограниченным, но тогда он был обычен.)
Адрес: Лоутон, в …ширском графстве, до востребования Дж. Э.».
Объявление пролежало весь день в моем ящике; после чая я попросила у новой директрисы разрешения пойти в Лоутон, чтобы сделать кое-какие покупки для себя и для двух-трех учительниц; она охотно отпустила меня, и я пустилась в путь. До Лоутона было две мили; день стоял сырой, но темнело еще не слишком рано. Я зашла в несколько лавок, опустила письмо в почтовый ящик и возвратилась под проливным дождем, промокшая до нитки, но с облегченным сердцем.
Следующая неделя мне показалась очень длинной. Наконец она прошла, как и все под луной, и вот я на склоне ясного осеннего дня опять оказалась на дороге, ведущей в Лоутон. Дорога эта была очень живописна, она шла вдоль речки, послушно следуя прихотливым извивам ее русла; но в тот день я больше думала о письмах, которые, может быть, ждут меня в соседнем городке, чем о прелести лесов и вод.
Предлогом для моего путешествия послужила на этот раз примерка башмаков; я быстро покончила с этим делом, затем прошла маленькую тихую уличку, которая вела от лавки башмачника к почте. Почтой заведовала старушка в черных роговых очках и черных митенках.
– Скажите, пожалуйста, нет ли писем на имя Дж. Э.?
Она пристально посмотрела на меня поверх очков, открыла какой-то ящик, принялась шарить в нем и шарила так долго, что мои надежды начали уже угасать. Но вот она вынула оттуда конверт и в течение пяти минут изучала его самым внимательным образом. Затем она протянула мне письмо через стол, окинув меня пристальным и недоверчивым взглядом. Конверт был адресован на имя Дж. Э.
– Только одно? – спросила я.
– Больше нет, – отвечала она.
Я положила письмо в карман и направилась домой. У меня не было возможности вскрыть его сейчас же: правила школы требовали, чтобы я вернулась ровно в восемь, а было уже половина восьмого.
По моему возвращению меня ждали самые разнообразные обязанности: я должна была сидеть с воспитанницами во время приготовления ими уроков; затем была моя очередь читать молитву; затем я присутствовала при том, как они ложатся спать; затем ужинала вместе с остальными учительницами. И даже тогда, когда мы наконец разошлись по своим комнатам, мне еще предстояло выслушивать мисс Грайс. У нас был только огарок свечи, и я опасалась, что она проболтает до тех пор, пока от него ничего не останется. К счастью, плотный ужин оказал на мисс Грайс снотворное действие: не успела я раздеться, как она уже захрапела. В подсвечнике оставался еще кусочек свечи. И вот я наконец извлекла письмо; на печати была буква Ф. Я вскрыла его; письмо было очень кратким:
«Если Дж. Э., поместившая объявление в «…ширском вестнике» от последнего четверга, обладает всеми перечисленными ею данными и если она в состоянии представить удовлетворительные рекомендации относительно своего поведения и своих познаний, ей может быть предложено место воспитательницы к девятилетней девочке с вознаграждением в 30 фунтов за год. Просьба к Дж. Э. прислать указанные рекомендации, а также сообщить свое имя и фамилию, местожительство и другие необходимые сведения по адресу:
Миссис Фэйрфакс, Торнфильд, близ Милкота, в …ширском графстве».
Я долго рассматривала письмо; почерк был старомодный и довольно неуверенный, – так могла бы писать пожилая дама. Это обстоятельство меня обрадовало: я все время опасалась, как бы, действуя на свой страх и риск, не попасть в какую-нибудь неприятную историю, и больше всего на свете желала, чтобы мои поиски привели к чему-то достойному, приличному, en regle[8]. «Пожилая дама, – рассуждала я, – это уже недурно».
Миссис Фэйрфакс! Я видела ее перед собой в черном платье и вдовьем чепце; может быть, несколько суховатая, но вежливая, – образец старомодной английской респектабельности. Торнфильд! Так, очевидно, называлось ее имение; вероятно, чистенькая, красивая усадьба, хотя вообразить ее мне было очень трудно. Милкот, в …ширском графстве – я мысленно представила себе карту Англии. Да, вот они где – и графство, и город; на семьдесят миль ближе к Лондону, чем та отдаленная окраина, где я сейчас жила. Это обстоятельство привлекало меня. Мне хотелось видеть вокруг себя жизнь и движение; ведь Милкот – большой фабричный город, расположенный на берегах реки А.; там, наверно, суетливо и шумно, но тем лучше. Во всяком случае, это будет нечто совсем другое, чем здесь. Нельзя сказать, чтобы мое воображение было особенно пленено предстоящим зрелищем высоких фабричных труб и облаков черного дыма, но, размышляла я, Торнфильд, вероятно, находится далеко от города.
В эту минуту огарок догорел, и комната погрузилась во мрак.
На следующий день надо было предпринимать дальнейшие шаги. Я уже не могла больше таить свои планы: чтобы добиться их свершения, приходилось поделиться ими с окружающими.
Принятая директрисой во время полуденной перемены, я сказала ей, что собираюсь поступить на другое место, где жалованье будет вдвое больше того, которое мне платят здесь (в Ловуде я получала только пятнадцать фунтов в год); и я просила ее изложить мое дело мистеру Брокльхерсту или кому-нибудь другому из членов комитета, с тем чтобы заручиться для меня рекомендацией. Директриса любезно согласилась быть посредницей. На следующий день она рассказала обо всем мистеру Брокльхерсту, который ответил, что надо написать миссис Рид, так как она моя опекунша. Этой даме было отправлено соответствующее письмо, на которое она ответила, что я могу поступать, как хочу, ибо она уже давно отказалась от какого-либо вмешательства в мои дела. Письмо обошло всех членов комитета, это казалось мне ужасной проволочкой времени, – но я наконец все же получила официальное разрешение изменить к лучшему свою судьбу, если для этого представится случай; кроме того, мне обещали, что, поскольку я всегда вела себя хорошо и как учительница и как ученица, мне будет выдана соответствующая характеристика и свидетельство о моих познаниях за подписью инспектора нашего учреждения.
Этот документ я через месяц получила на руки и послала копию с него миссис Фэйрфакс, которая ответила мне, что она удовлетворена полученными сведениями и через две недели предлагает мне занять место гувернантки у нее в доме.
Я приступила к сборам, и две недели промелькнули незаметно. Мой гардероб был не особенно разнообразен, хотя вполне соответствовал моим потребностям, и я в один день успела уложить свой чемодан, тот самый, который восемь лет тому назад привезла из Гейтсхэда.
Чемодан затянули ремнями и наклеили на него ярлык. Через полчаса носильщик должен был отнести его в Лоутон, а я сама предполагала на следующее утро отправиться туда пешком, чтобы сесть в дилижанс. Я вычистила свое черное дорожное платье, приготовила шляпку, перчатки и муфту, осмотрела все ящики, чтобы убедиться, не забыто ли что-нибудь; и наконец, когда все дела были кончены, присела, чтобы хоть немного отдохнуть. Однако мне не сиделось на месте, хотя я и провела весь день на ногах. Я ни на минуту не могла успокоиться, волнение не покидало меня. Ведь сегодняшним днем заканчивался целый период моей жизни, а завтра начинался другой, и я уже приготовилась провести без сна эту разделявшую их ночь, лихорадочно наблюдая за тем, как совершается во мне переход от одного периода к другому.
– Мисс, – сказала горничная, встретив меня в вестибюле, где я металась, словно беспокойный дух, – вас внизу кто-то спрашивает.
«Наверно, носильщик», – решила я и тут же побежала в кухню. Я только что миновала маленькую гостиную, или учительскую, дверь которой была полуоткрыта, как оттуда кто-то выбежал.
– Она, она, я сразу узнала ее! Я бы ее везде узнала! – воскликнула какая-то особа, загораживая мне дорогу и хватая меня за руку.
Я взглянула на нее. Передо мною стояла женщина, одетая, как прислуга из богатого дома, полная, но еще молодая и красивая, черноволосая и черноглазая, с ярким цветом лица.
– Ну-ка, кто это, угадайте! – сказала она; ее голос и улыбка показались мне очень знакомыми. – Вы, наверно, не совсем забыли меня, мисс Джейн?
Через секунду я уже горячо обнимала и целовала ее.
– Бесси! Бесси! Бесси! – повторяла я; а она, смеясь и плача одновременно, тоже обнимала меня; мы обе вошли в гостиную.
Перед камином стоял маленький мальчик лет трех, в шотландской курточке и штанишках.
– А это мой сынок, – сразу же объяснила мне Бесси.
– Значит, вы вышли замуж, Бесси?
– Да, вот уже почти пять лет, как я замужем за Робертом Ливеном, нашим кучером; и у меня, кроме Бобби, есть еще маленькая девочка, я ее назвала Джейн.
– А вы что же, больше не живете в Гейтсхэде?
– Мы живем в домике привратника; тот, который был при вас, ушел.
– Ну, как они там все поживают? Расскажите мне все, все о них, Бесси! Но сначала сядьте. А ты, Бобби, не хочешь ли ко мне на коленки?
Но Бобби предпочел прижаться к матери.
– А вы нельзя сказать чтобы очень выросли, мисс Джейн, и не так уж пополнели, – продолжала миссис Ливен. – Видно, не очень-то вас сытно кормили в школе: вы на голову ниже старшей мисс Рид, да и в плечах она шире; а из мисс Джорджианы можно было бы выкроить двух таких, как вы.
– Джорджиана, верно, очень красивая, Бесси?
– Очень. В прошлую зиму она со своей мамой ездила в Лондон, и там все восхищались ею, а один молодой лорд влюбился в нее и хотел жениться, но его родные были против; и что же вы думаете, они сговорились с мисс Джорджианой убежать! Но их выследили и остановили. Мисс Рид выследила их; я думаю, это она из зависти; а теперь они с сестрой живут как кошка с собакой, вечно ругаются.
– Ну, а Джон Рид?
– О, дела у него не так хороши, как бы хотелось его маме. Он поступил было в университет, да его оттуда исключили – так, что ли, говорят? Потом его дяди хотели, чтобы он стал адвокатом и изучал право, но он такой беспутный молодой человек, никогда из него толку не выйдет, по-моему.
– А как он выглядит?
– Мистер Джон очень высокий. Некоторые считают, что он хорош собой, но у него ужасно толстые губы.
– А миссис Рид?
– Миссис располнела и с лица ничего, но только в душе она неспокойна: ее огорчает поведение мистера Джона. Он пропасть денег транжирит.
– Это она вас послала сюда, Бесси?
– Конечно, нет! Мне самой уже давно хотелось повидать вас; и когда я узнала, что от вас было письмо и что вы собираетесь уехать куда-то далеко, я решила – поеду и взгляну на нее, пока она еще близко.
– Боюсь, что вы разочаровались во мне, Бесси. – Я сказала это смеясь, ибо заметила, что взгляд Бесси, хотя и почтительный, не выражал никакого восхищения.
– Нет, мисс Джейн, не то чтобы… Вы очень элегантны, настоящая леди. А большего я от вас и не ожидала: вы и ребенком не были красавицей.
Я улыбнулась ее искренним словам. Я чувствовала, что она права, но, сознаюсь, меня немного огорчил этот отзыв: в восемнадцать лет всякая девушка хочет нравиться, и сознание, что у нее неблагодарная внешность, не может быть ей особенно приятно.
– Но я уверена, что вы очень умная, – продолжала Бесси, стараясь меня утешить. – Чему вы научились? Вы умеете играть на рояле?
– Немного.
В комнате стоял рояль. Бесси открыла его и попросила меня сесть и что-нибудь сыграть. Я исполнила один-два вальса, и она с энтузиазмом заявила:
– Нашим барышням так не сыграть! Я всегда была уверена, что вы способнее ко всякому учению, чем они! А рисовать вы умеете?
– Вот один из моих рисунков, над камином.
Это был пейзаж, сделанный акварелью. Я подарила его директрисе в благодарность за ее любезное посредничество; она вставила картину в рамку и под стекло.
– Но это же очень красиво, мисс Джейн! Лучше не нарисовал бы и наш учитель рисования, не говоря уже о самих барышнях, которым до этого далеко, как до неба. А по-французски вы тоже научились?
– Да, Бесси, я читаю и говорю по-французски.
– И умеете вышивать и шить?
– Умею.
– О, да вы стали действительно настоящей леди, мисс Джейн! Я всегда была уверена, что так будет. Вы сами пробьетесь в жизни, без всяких родственников. Вот о чем я хотела спросить вас: вы когда-нибудь слышали о родных вашего отца, мисс Эйр?
– Никогда.
– Вы знаете, миссис всегда говорила, что они бедные и простые. Может быть, они и бедные, но я уверена, что они такие же благородные, как и Риды. Один раз, лет семь тому назад, в Гейтсхэд приезжал какой-то мистер Эйр и хотел повидать вас; миссис сказала, что вы в школе, за пятьдесят миль от нашего дома. Он, видно, был очень огорчен, так как не мог дольше задерживаться. Мистер Эйр уезжал куда-то за границу, и судно должно было уйти из Лондона через день-два. На вид он настоящий джентльмен, и я думаю, что это был брат вашего отца.
– А куда же он ехал, Бесси?
– На какой-то остров, за тысячу миль, где вино делают. Мне буфетчик объяснил…
– На Мадейру? – догадалась я.
– Да, да, вот именно, – он так назвал.
– Значит, он уехал?
– Да, он и нескольких минут не пробыл у нас. Миссис держалась с ним очень гордо. Она потом называла его: «Этот паршивый торговец». Мой Роберт предполагает, что он торгует вином.
– Очень возможно, – ответила я, – а может быть, он агент или служащий винодельческой фирмы.
Мы с Бесси пробеседовали о старине больше часа, затем она ушла. Я виделась с нею в течение нескольких минут на другое утро в Лоутоне, когда дожидалась дилижанса. Мы окончательно простились перед дверью гостиницы «Герб Брокльхерстов» и разошлись в разные стороны: она направилась к вершине холма, чтобы там дождаться оказии для возвращения в Гейтсхэд; я села в дилижанс, которому предстояло отвезти меня в неведомые окрестности Милкота, где меня ждали другие обязанности и другая жизнь.
Глава XI
Новая глава романа похожа на новое действие в пьесе. И когда я на этот раз отдерну перед тобой занавес, читатель, вообрази себе комнату в милкотской гостинице «Георг», оклеенную безвкусными обоями, какие обычно бывают в гостиницах; вообрази ковер под стать обоям, обычную мебель, украшения над камином, олеографии на стенах и среди них обязательные портреты Георга III и принца Уэльского, а также картину, изображающую смерть генерала Вольфа. Все это освещает керосиновая лампа, висящая посередине потолка, и яркий огонь камина, возле которого я сижу в плаще и шляпке; моя муфта и зонтик лежат на столе, и я стараюсь распрямить свои иззябшие и онемевшие члены, скованные шестнадцатичасовым путешествием в холодный октябрьский день. Я выехала из Лоутона в четыре утра, а часы в Милкоте только что пробили восемь.
Но хотя тебе и покажется, читатель, что я чувствую себя в этой комнате очень уютно, на самом деле душа моя неспокойна. Я ожидала, что, когда приеду на место, здесь меня кто-нибудь встретит, и, спускаясь по деревянным ступенькам лестницы, которую служитель гостиницы приставил к дилижансу для моего удобства, надеялась, что услышу свою фамилию и увижу экипаж, готовый отвезти меня в Торнфильд. Однако ничего подобного не случилось, и когда я осведомилась у слуги, не спрашивал ли кто-нибудь мисс Эйр, я получила отрицательный ответ. Поэтому мне оставалось только попросить в гостинице отдельную комнату. И вот я ждала в тревоге, осаждаемая всевозможными сомнениями и страхами.
Какое мучительное ощущение для юного существа – почувствовать себя совершенно одиноким в мире, покинутым на произвол судьбы, терзаться сомнениями – удастся ли ему достичь той гавани, в которую оно направляется, сознавать, что возвращение, по многим причинам, уже невозможно. Правда, это ощущение смягчалось присущим каждому приключению очарованием, и меня согревало пламя гордости; но затем страх снова заслонял эти чувства; и когда по истечении получаса я все еще была одна, страх возобладал над всем. Наконец я заставила себя позвонить.
– Есть тут по соседству имение под названием Торнфильд? – спросила я слугу, который явился на мой звонок.
– Торнфильд? Не слыхал, сударыня. Я сейчас спрошу в ресторане. – Он исчез, но возвратился немедленно. – Ваша фамилия Эйр, мисс?
– Да.
– Там вас дожидаются.
Я вскочила, взяла свою муфту, зонтик и поспешила в коридор. Перед открытой дверью стоял какой-то человек, а на озаренной уличными фонарями мостовой я смутно различила очертания одноконного экипажа.
– Это, наверно, ваш багаж? – сказал человек отрывисто, увидев меня и указывая на мой чемодан, который стоял на полу коридора.
– Да.
Он погрузил мой чемодан в экипаж, нечто вроде небольшой кареты; я тоже села в нее. Когда кучер закрывал дверцу, я спросила, далеко ли до Торнфильда.
– Миль шесть будет.
– А сколько мы проедем?
– Примерно часа полтора.
Он захлопнул дверцу, взобрался на козлы, и мы тронулись в путь. Мы ехали не спеша, и у меня было достаточно времени для размышлений. Я радовалась, что приближается конец моему путешествию, и, откинувшись на спинку этого удобного, хотя и скромного экипажа, отдалась своим мечтам.
«Вероятно, – думала я, – судя по простоте экипажа и кучера, миссис Фэйрфакс не очень богатая женщина. Тем лучше; я уже жила среди богатых людей и была очень несчастна. Интересно, одна ли миссис Фэйрфакс в доме с этой девочкой? Если это так и она хоть сколько-нибудь приветлива, я уверена, что мы поладим: во всяком случае, я буду стараться. Как жаль, что такие старания не всегда приводят к цели. В Ловуде я приняла решение стараться, была ему верна и добилась хороших результатов; но я слишком живо помню, как все мои попытки угодить миссис Рид встречали с ее стороны только насмешки. Дай Бог, чтобы миссис Фэйрфакс не оказалась второй миссис Рид; впрочем, если это и случится, я не обязана оставаться у нее. В самом крайнем случае я снова поищу себе места. Интересно, далеко ли мы отъехали?»
Я опустила окно и выглянула наружу. Милкот был позади; судя по обилию огней, это был большой город, гораздо больше Лоутона. Сейчас, насколько я могла судить, мы проезжали обширный выгон, но кругом были разбросаны отдельные дома. Я видела, что мы находимся в совершенно иной местности, чем Ловуд, – более многолюдной, но менее живописной, более оживленной, но менее романтической.
Дороги были грязны, ночь туманна. Кучер почти все время ехал шагом, и полтора часа, наверно, растянулись до двух; наконец он обернулся ко мне и сказал:
– Ну, теперь недалеко и до Торнфильда.
Я снова выглянула в окно; мы проезжали мимо церкви: я увидела на фоне неба очертания приземистой колокольни, колокола которой как раз вызванивали четверть. Я увидела также на склоне холма узкую полоску огней, – это был, вероятно, поселок или деревенька. Минут десять спустя кучер слез и открыл ворота: мы въехали, и они захлопнулись за нами. Мы медленно поднялись по аллее и скоро очутились перед домом. В одном окне сквозь занавески пробивался свет, все остальные были темны. Лошадь остановилась у подъезда. Я вышла из экипажа и вступила в дом.
Дверь отперла горничная.
– Прошу вас следовать за мной, сударыня, – сказала она.
Через большой квадратный холл со множеством высоких дверей она проводила меня в комнату, ярко освещенную свечами и пламенем камина, и я в первую минуту была почти ослеплена, таким резким показался мне этот свет после темноты, окружавшей меня в течение двух часов; когда я к нему привыкла, моим глазам представилась приветливая картина.
Вообразите себе маленькую уютную комнату; у жаркого камина круглый стол; в старинном кресле с высокой спинкой сидит самая чистенькая и аккуратная старушка, какую только можно себе представить, в чепце, черном шелковом платье и белоснежном кисейном переднике, – в точности такая, какой я рисовала себе миссис Фэйрфакс, только менее представительная и более кроткая. Старушка вязала. У ее ног, мурлыча, сидела большая кошка. Словом, это был совершенный идеал домашнего уюта. Трудно было вообразить более успокаивающую встречу для вновь прибывшей молодой гувернантки; здесь вас не угнетало никакое великолепие, не смущала никакая пышность. Когда я вошла, старая дама торопливо и радушно поднялась мне навстречу.
– Ну, как вы себя чувствуете, моя дорогая? Боюсь, что вы очень устали с дороги. Джон ведь везет так медленно, и вы, наверное, озябли? Подойдите к огню.
– Миссис Фэйрфакс, вероятно? – спросила я.
– Да, вы угадали. Садитесь же.
Она проводила меня к самому креслу, затем начала разматывать мой шарф и развязывать ленты шляпки; я попросила ее не беспокоиться.
– О, какое же тут беспокойство; ваши руки, наверно, совсем онемели от холода. Ли, приготовьте поскорей горячий грог и несколько сандвичей; вот вам ключи от кладовой.
И она извлекла из кармана чрезвычайно внушительную связку ключей и вручила их горничной.
– Пододвигайтесь же к камину, – продолжала она. – Вы ведь привезли с собой ваш багаж, дорогая?
– Да, сударыня.
– Я сейчас прикажу отнести его к вам в комнату, – сказала она и суетливо вышла.
«Она обращается со мной как с гостьей, – подумала я. – Вот не ожидала такого приема! Я предполагала встретить холодность и чопорность! Что-то я не слышала, чтобы так обходились с гувернанткой; однако радоваться еще рано».
Она вернулась, сама убрала со стола свое вязанье и несколько книг, чтобы освободить место для подноса, который принесла Ли, и принялась меня угощать. Я была смущена тем, что оказалась предметом такого внимания, какого мне до сих пор никто не оказывал, и притом со стороны особы, в подчинении у которой я должна была находиться. Но так как она сама, видимо, не придавала этому никакого значения, я решила, что лучше спокойно принять ее любезность.
– Я буду иметь удовольствие видеть сегодня вечером мисс Фэйрфакс? – спросила я, подкрепившись.
– Что вы говорите, моя дорогая? Я глуховата… – отозвалась старая дама, приближая свое ухо к моим губам.
Я повторила свой вопрос несколько отчетливей.
– Мисс Фэйрфакс? О, вы, наверно, имеете в виду мисс Варанс? Фамилия вашей будущей ученицы – Варанс.
– Вот как! Значит, это не ваша дочь?
– Нет, я одинока.
Я охотно продолжила бы этот первый разговор, спросив, какая же связь между нею и мисс Варанс, но вспомнила, что невежливо задавать слишком много вопросов. Кроме того, я знала, что постепенно все выяснится само собой.
– Я так рада, – продолжала она, садясь против меня и беря кошку на колени, – я так рада, что вы наконец приехали; будет очень приятно жить не одной. Жизнь здесь имеет, конечно, свои прелести. Торнфильд – прекрасный старинный дом, но он уже давно запущен, хотя и сохранил прежнее величие; а все-таки в зимнее время тоскуешь и в самых пышных хоромах. Ли, конечно, хорошая девушка, а Джон и его жена вполне достойные люди, – но, видите ли, ведь это все-таки слуги, и с ними нельзя общаться, как с равными: нужно соблюдать расстояние, иначе потеряешь авторитет. В течение прошлой зимы (это была очень суровая зима, если помните, – то снег идет, то дождь и ветер), от ноября до февраля, мы здесь не видели никого, кроме мясника да почтальона, и я просто себе места не находила в одинокие долгие вечера. Правда, Ли мне иногда читала вслух, но, думаю, бедную девушку это только стесняло. Весной и летом здесь, конечно, лучше: совсем другое дело, когда светит солнце и дни такие длинные. А потом, в начале осени, приехала маленькая Адель Варанс с няней, ребенок сразу вносит в дом оживление; теперь еще вы приехали, и будет совсем весело.
Мне стало тепло на сердце от слов этой достойной старушки; я придвинула свое кресло поближе к ней и высказала искреннее пожелание, чтобы мое общество оказалось для нее таким приятным, как она надеялась.
– Но нынче я не дам вам сидеть поздно, – сказала она, – уже двенадцатый час, а вы были в пути весь день и, наверно, очень устали. Если ноги у вас согрелись, я провожу вас в вашу спальню. Я приказала приготовить вам комнату рядом с моей; правда, она небольшая, но, я думаю, вам там будет лучше, чем в одном из этих больших парадных покоев: в них только мебель красивая, но они такие пустые, унылые, я сама там никогда не сплю.
Я поблагодарила ее за внимание и, так как действительно чувствовала себя утомленной после длинного путешествия, выразила готовность уйти к себе. Она взяла свечу, и я последовала за ней. Проверив, заперта ли входная дверь, и вынув ключ из замка, она стала подниматься по лестнице. Ступени и перила были дубовые; окно над лестницей – высокое, с цветными стеклами; и это окно, и длинный коридор, в который выходили двери спален, напоминали скорее церковь, чем жилой дом. На лестнице и в коридоре было холодно, как в подвале, и веяло пустотой и одиночеством; поэтому я была рада, когда наконец очутилась в своей комнате – небольшой и обставленной в самом обычном современном стиле.
Миссис Фэйрфакс пожелала мне спокойной ночи, я заперла дверь и осмотрелась; приветливый вид этой маленькой комнаты сгладил впечатление от пустого унылого холла, огромной неосвещенной лестницы и длинного холодного коридора. И я поняла, что после целого дня физической усталости и душевного напряжения я наконец достигла безопасной пристани. Сердце мое исполнилось радости, и я опустилась на колени возле кровати, вознося горячую благодарность тому, кого надлежало благодарить, и не позабыла, перед тем как подняться с колен, попросить, чтобы он ниспослал мне свою помощь и на моем дальнейшем пути и чтобы я оказалась достойной дарованной мне милости, которой еще ничем не заслужила. В эту ночь мне представлялось, что мое ложе не имеет шипов и что в моей комнате не таится никаких страхов. Усталая и довольная, я быстро и крепко заснула. Когда я проснулась, был уже день.
Солнце светило сквозь голубые ситцевые занавески, и моя комната показалась мне особенно веселой и приветливой с ее оклеенными обоями стенами и ковром на полу; все это было так мало похоже на захватанные оштукатуренные стены Ловуда и голые доски его полов, что я сразу почувствовала прилив бодрости. Ведь юность очень чувствительна к внешним впечатлениям. Я подумала, что новая жизнь для меня уже началась и что в ней будут не только огорчения и трудности, но также удовольствия и радости. Мне казалось, что перемена обстановки и появление новых надежд оживляют во мне все мои силы и способности. Я не могу сказать в точности, чего я ожидала, но чего-то приятного: может быть, не сегодня и не через месяц, но когда-нибудь, в неопределенном будущем.
Я встала и тщательно оделась. Несмотря на вынужденную скромность – все мои туалеты отличались крайней простотой, – я от природы любила изящество, не в моих привычках было пренебрегать своим внешним видом и тем впечатлением, которое я произвожу: напротив, я всегда старалась выглядеть как можно лучше, чтобы хоть в какой-то мере удовлетворить свое стремление к красоте. Иногда я сожалела о том, что недостаточно красива. Мне хотелось, чтобы у меня были румяные щеки, точеный нос и маленький алый ротик, хотелось быть высокой, стройной и хорошо сложенной; мне казалось большим несчастьем, что я такая маленькая, бледная, что черты у меня неправильные и резкие. Откуда взялись эти желания и сожаления? Трудно сказать, я и сама не знала, откуда они. И вот я причесалась как можно тщательнее, надела свое черное платье – увы, оно имело квакерский вид, но зато сидело прекрасно, – пришила новую белую манишку и решила, что у меня достаточно респектабельная внешность, чтобы предстать перед миссис Фэйрфакс, и что моя ученица, по крайней мере, не испугается меня. Раскрыв окно и проверив, все ли в порядке на моем туалетном столике, я вышла.
Я миновала длинный, застланный дорожкой коридор и спустилась по гладким и скользким дубовым ступеням, затем вошла в холл. Здесь я задержалась на несколько минут и занялась осмотром картин на стенах (на одной, как я помню, был изображен угрюмый мужчина в кирасе, а на другой – дама с напудренными волосами и жемчужным ожерельем вокруг шеи), бронзовой лампы, свисавшей с потолка, и больших стенных часов, потемневших от времени, в футляре с причудливой резьбой. Все казалось мне здесь чрезвычайно торжественным и внушительным, – но ведь я еще так мало видела в жизни. Дверь холла, до половины застекленная, оказалась открытой; я переступила ее порог. Было чудесное осеннее утро. Солнце ласково освещало разноцветную листву рощ и все еще зеленые поля. Выйдя на лужайку, я обернулась, чтобы взглянуть на фасад дома. Дом был трехэтажный, не слишком большой, но внушительный: не замок вельможи, а усадьба джентльмена. Зубчатые стены придавали ему особенно живописный вид. Каменный серый фасад четко выделялся на фоне деревьев парка, унизанных черными грачиными гнездами, обитатели которых носились вокруг. Они летали над лужайкой и деревьями и опускались на большую поляну, отделенную от парка только разрушенной оградой. Вдоль нее стоял ряд огромных, мощных деревьев – ветвистых, узловатых и величественных, точно дубы; это был особый вид боярышника, и я сразу поняла, почему Торнфильд[9] назван так. Дальше тянулись холмы, они были не так высоки и круты, как в Ловуде, и не казались барьером, отделяющим усадьбу от остального мира; все же их склоны были тихи и пустынны, и цепь этих холмов, окружая Торнфильд, придавала ему ту уединенность, которой нельзя было ожидать в местности, столь близкой к оживленному Милкоту. По склону одного из холмов карабкалась деревенька, крыши которой были осенены большими деревьями. Церковь стояла ближе к усадьбе. Ее старинная колокольня выглядывала из-за небольшого пригорка между домом и воротами.
Я все еще наслаждалась этим мирным видом и приятной свежестью утреннего воздуха, все еще прислушивалась к крику грачей и любовалась старинным фасадом дома, размышляя о том, как должна была чувствовать себя здесь одинокая скромная старушка, какой была миссис Фэйрфакс, когда она сама появилась на пороге.
– Вы уже встали? – сказала она. – Да вы, я вижу, ранняя птичка.
Я подошла к ней, она приветливо поздоровалась со мной и поцеловала меня в щеку.
– Ну, как вам нравится Торнфильд? – спросила она.
Я сказала, что очень нравится.
– Да, – продолжала она, – красивое место; но я боюсь, что если мистер Рочестер не надумает окончательно здесь поселиться или хотя бы чаще наезжать сюда, все придет в упадок: такие дома и парки требуют постоянного присутствия хозяина.
– Мистер Рочестер? – воскликнула я. – Кто же это?
– Владелец Торнфильда, – спокойно отозвалась она. – Разве вы не знали, что его зовут Рочестер?
Конечно, не знала, я никогда о нем не слышала. Но старая дама, видимо, считала, что это должно быть известно всем и каждому.
– А я думала, что Торнфильд принадлежит вам.
– Мне? Господь с вами, дитя мое! Что это вам вздумалось! Мне! Да я только экономка, домоправительница. Правда, я в родстве с Рочестерами по женской линии, или, вернее, муж был с ними в родстве; он был священником в Хэе – вон в той маленькой деревушке на холме – и служил в церкви, что возле ворот. Мать мистера Рочестера была урожденная Фэйрфакс и троюродная сестра моего мужа. Но я никогда не злоупотребляла этим родством, – для меня это не имеет никакого значения, я считаю себя обыкновенной домоправительницей. Мой хозяин всегда вежлив, а больше мне ничего не нужно.
– А девочка, моя ученица?
– Мистер Рочестер ее опекун; он поручил мне найти для нее гувернантку. Он, видимо, хочет, чтобы девочка воспитывалась здесь. Да вон и она со своей bonne, как она называет няню.
Итак, вот решение загадки: приветливая и добрая вдова вовсе не важная дама, а такая же подчиненная, как и я. От этого она не стала мне менее мила. Наоборот, я ощутила еще большую радость. Равенство между нами было подлинным равенством, а не только результатом ее снисходительности; тем лучше – я могла чувствовать себя еще свободнее.
В то время как я размышляла об этом открытии, на лужайке показалась маленькая девочка, за ней спешила ее няня. Я стала рассматривать свою воспитанницу, которая сначала, видимо, не заметила меня; она была совсем дитя, хрупкая, не старше семи-восьми лет; бледное, с мелкими чертами личико и необыкновенно густые локоны, спадающие до пояса.
– С добрым утром, мисс Адель, – сказала миссис Фэйрфакс. – Подойдите сюда и познакомьтесь с мисс Эйр; она будет учить вас, чтобы вы стали со временем образованной молодой особой.
Девочка приблизилась.
– Это моя гувернантка? – спросила она по-французски, указывая на меня и обращаясь к своей няне, которая ответила:
– Ну да, конечно.
– Они иностранки? – спросила я с изумлением, услышав французскую речь.
– Няня француженка, а Адель родилась во Франции и, насколько я знаю, впервые уехала оттуда шесть месяцев назад. Когда девочка появилась здесь, она совсем не умела говорить по-английски, но теперь уже немного научилась. Я-то плохо понимаю ее, она слишком путает французский с английским, но вы ее, наверно, поймете.
К счастью, я имела возможность учиться французскому языку у настоящей француженки, – я никогда не упускала случая поболтать с мадам Пьеро, – кроме того, все последние семь лет каждый день учила наизусть французские стихи и всячески трудилась над приобретением правильного произношения, так что мне удалось достичь известных успехов. Все это давало мне основание надеяться, что я смогу свободно беседовать с мадемуазель Аделью. Узнав, что я ее новая гувернантка, девочка подошла и подала мне руку. Когда мы шли завтракать, я обратилась к Адели с несколькими фразами на ее родном языке. Она отвечала неохотно, но после того, как мы уселись за стол и девочка по крайней мере минут пять внимательно рассматривала меня своими большими светло-карими глазами, вдруг принялась оживленно болтать.
– А, – воскликнула Адель по-французски, – вы говорите на моем родном языке не хуже мистера Рочестера; я могу разговаривать с вами, как с ним и с Софи. То-то она обрадуется! Ведь никто ее здесь не понимает, мадам Фэйрфакс знает только свой английский. Софи – это моя няня, она приехала со мною на большом корабле с трубой, которая дымила, – ну уж и дымила! Меня все тошнило, и Софи тоже, и мистера Рочестера… Мистер Рочестер лежал на диване в красивой комнате, которая называется салон, а мы с Софи лежали на таких чудных кроватках в каюте. Я чуть не вывалилась из своей: она как полочка. Мадемуазель… а как вас зовут?
– Эйр. Джейн Эйр.
– Эйр? Ну, я не выговорю. Так вот, наш корабль остановился один раз утром – еще даже не рассвело – в большом городе. Огромный город! Дома там были темные и такие закоптелые; он ни капельки не похож на красивый чистенький город, откуда я приехала. Мистер Рочестер на руках перенес меня на берег. А сзади шла Софи, и все мы сели в карету, которая отвезла нас в замечательный огромный дом, еще лучше этого и красивей. Называется отель. Там мы прожили почти целую неделю. Мы с Софи ходили каждый день в большущий зеленый сад, где много деревьев, называется сквер; там было очень много детей и пруд, где плавали красивые птицы, и я кормила их хлебными крошками.
– Неужели вы понимаете что-нибудь, когда она вот так болтает? – спросила меня миссис Фэйрфакс.
Я понимала ее прекрасно, так как привыкла к быстрой речи мадам Пьеро.
– Мне хотелось бы, – продолжала добрая старушка, – чтобы вы задали ей несколько вопросов относительно ее родителей: интересно, помнит она их?
– Адель, – сказала я, – а с кем же вы жили в этом красивом чистеньком городе, про который ты говоришь?
– Раньше, давно, я жила там с мамой; но она ушла к Святой Деве. Мама учила меня танцевать, петь и декламировать стихи. К маме приходили гости, очень много дам и мужчин, и я танцевала перед ними или садилась к ним на колени и пела. Мне это очень нравилось. Хотите я вам спою?
Так как она кончила завтрак, я позволила ей блеснуть своими талантами. Она слезла со стула, подошла и взобралась ко мне на колени; затем благоговейно сложила ручки и, откинув кудри, подняла глаза к потолку и начала петь арию из какой-то оперы. В этой арии женщина, покинутая коварным любовником, изливает свою тоску и призывает на помощь гордость; она велит служанке надеть на нее самые великолепные, сверкающие драгоценности и самое нарядное платье, решив появиться вечером на балу, где будет обманщик, и доказать ему своим весельем, как мало ее трогает его вероломство.
Странно было слышать это из уст ребенка; но я поняла, что, вероятно, весь комизм исполнения и заключался в том, что слова любви и ревности произносились маленькой девочкой; и это было, на мой взгляд, признаком очень дурного вкуса.
Адель спела канцонетту вполне верно и с наивностью, присущей ее возрасту. Кончив, она соскочила с моих колен и сказала:
– А теперь, мадемуазель, я вам прочту стихи!
Встав в позу, она начала читать басню Лафонтена «Союз крыс». Она читала с таким точным соблюдением пауз и оттенков, с такими выразительными интонациями и верными жестами, каких было трудно ожидать от ребенка ее возраста; видимо, кто-то тщательно занимался с ней, показывал ей.
– Это мама научила тебя так читать? – спросила я.
– Да, она говорила эти слова вот так: «Qu’avez-vous donс? – Lui dit un de ces rats. – Parlez!»[10], и она заставляла меня поднять руку вот так, чтобы я не забыла в этом месте повысить голос. А теперь я потанцую, хотите?
– Нет, пока довольно. Но когда твоя мама, как ты сказала, ушла к Святой Деве, с кем же ты жила?
– Я жила у мадам Фредерик и ее мужа. Она заботилась обо мне, но она мне не родная. Она, верно, бедная, у нее не было такого красивого дома, как у мамы. Я недолго жила у них. А потом мистер Рочестер спросил меня, хочу ли я поехать с ним и жить в Англии, и я согласилась. Я ведь знала мистера Рочестера раньше, чем мадам Фредерик; он очень добрый, он всегда дарил мне красивые платья и игрушки. Только видите – он все-таки не сдержал своего обещания: меня привез в Англию, а сам опять уехал, и я его никогда не вижу.
После завтрака мы с Аделью удалились в библиотеку, которую мистер Рочестер, видимо, предназначал нам в качестве классной комнаты. Большинство книг стояло в запертых стеклянных шкафах. Но один шкаф был отперт и содержал в себе все, что нужно для первоначальных занятий, а также ряд книг для легкого чтения: поэзия, несколько биографий, путешествия, романы и так далее. Мистер Рочестер, должно быть, решил, что всего этого гувернантке хватит. И действительно, это пока вполне удовлетворяло меня в сравнении с тем скудным выбором книг, которыми я время от времени могла пользоваться в Ловуде, эти книги открывали передо мной богатые возможности и для развлечения, и для приобретения знаний. В комнате стоял, кроме того, кабинетный рояль, совершенно новый и превосходного тона, а также мольберт и несколько глобусов.
Моя ученица оказалась довольно послушной, однако очень рассеянной девочкой; она была совершенно не приучена к регулярным занятиям. Я почувствовала, что не следует на первых порах слишком принуждать ее; поэтому, когда мы вдоволь наговорились и немного позанимались, – кстати, наступил полдень, – я позволила ей вернуться к няне, а сама решила до обеда сделать несколько набросков, которые были нужны мне для занятий с нею.
Когда я поднималась наверх, чтобы взять папку и карандаши, миссис Фэйрфакс окликнула меня.
– Вероятно, ваши утренние занятия кончились? – спросила она.
Старушка находилась в комнате, двустворчатые двери которой были широко открыты. Услышав ее голос, я вошла. Это был большой и величественный зал с пунцовыми креслами и занавесками, турецким ковром, с обшитыми дубом стенами, огромным окном из цветного стекла и высоким потолком, украшенным лепкой. Миссис Фэйрфакс как раз протирала стоявшие на серванте высокие вазы из прекрасного пурпурного камня.
– Какая чудесная комната! – воскликнула я, озираясь, ведь я не видела в своей жизни ничего похожего на такое великолепие.
– Да, это столовая. Я открыла окно, чтобы впустить немного свежего воздуха и солнца: ужасная сырость заводится в помещении, где мало живут, – рядом, в гостиной, прямо как в погребе.
Она указала мне на широкую арку в том же стиле, что и окно, и также задрапированную восточной тканью. Поднявшись по двум ступенькам, я заглянула в нее, и мне почудилось, что я попала в сказочный чертог, – такой великолепной показалась эта комната моему неискушенному взору. На самом же деле это была просто нарядная гостиная с будуаром; там и тут лежали белые ковры, на которых, казалось, брошены были гирлянды ярких цветов; белоснежный потолок, украшенный лепными виноградными гроздьями, прекрасно гармонировал с пунцовыми диванами и оттоманками; на камине бледного паросского мрамора стояли сверкающие хрустальные вазы цвета темного рубина, а большие зеркала между окнами отражали это ослепительное сочетание снега и пламени.
– В каком порядке вы содержите эти комнаты, миссис Фэйрфакс! – сказала я. – Ни пыли, ни чехлов. Если бы не сырость, можно было бы думать, что в них и сейчас живут.
– Видите ли, мисс Эйр, хотя мистер Рочестер и навещает нас редко, его приезды всегда неожиданны. Я заметила, что его раздражает, когда он находит все в чехлах и при нем начинается уборка; поэтому я решила, что лучше всего, если комнаты будут постоянно готовы к его приезду.
– Разве мистер Рочестер такой требовательный?
– Нет, не скажу; но у него вкусы и привычки настоящего барина и аристократа, и все в доме должно делаться так, как он привык.
– А нравится он вам? Его вообще любят в округе?
– О да. Эта семья была всегда очень уважаема. С незапамятных времен все, что вы здесь видите, вся земля, насколько можно окинуть взглядом, принадлежала Рочестерам.
– Но, не касаясь вопроса о его богатстве, сам он вызывает симпатию? Как человека его любят?
– У меня нет причины не любить его; и, по-моему, арендаторы считают его справедливым и щедрым хозяином. Но ведь он никогда подолгу здесь не живал.
– А нет ли у него каких-нибудь особенностей? Словом, каков у него характер?
– О, это человек безукоризненный. Правда, он немного чудак. Он постоянно путешествует и многое перевидал. Вероятно, он умен; но мне никогда не приходилось подолгу с ним разговаривать.
– А в каком смысле он чудак?
– Да не знаю, трудно объяснить, – ничего такого, что бросалось бы в глаза, но когда говоришь с ним, это чувствуется: никогда не знаешь, шутит он или серьезен, доволен или наоборот; никак его не поймешь. Во всяком случае, я не понимаю его; но это не имеет значения, он очень хороший хозяин.
Вот и все, что мне удалось узнать от миссис Фэйрфакс о ее хозяине и моем. Есть люди, которые, должно быть, вовсе лишены способности характеризовать человека или явление, обрисовать то, что наиболее бросается в глаза. Видимо, добрая старушка принадлежала именно к этой категории. Мои вопросы смущали ее, но не наводили на размышления. Для нее мистер Рочестер – это был мистер Рочестер, аристократ и крупный землевладелец, вот и все. Она не спрашивала и не допытывалась ни о чем больше и, должно быть, удивлялась моему желанию получить более точные сведения о его личности.
Когда мы вышли из столовой, она предложила показать мне остальные комнаты, и я последовала за ней; мы обошли весь дом сверху донизу, и я восхищалась тем, что видела, ибо все здесь было устроено разумно и со вкусом. Большие парадные залы показались мне особенно величественными, зато некоторые из комнат на третьем этаже, хотя они были темные и низкие, привлекали тем, что от них веяло духом старины. Мебель, стоявшая раньше в нижних этажах, постепенно переправлялась сюда, по мере того как менялась мода. При неверном свете, падавшем в узкие окна, я видела кровати, которым было не меньше ста лет, лари из дуба или орехового дерева, украшенные причудливой резьбой в виде пальмовых веток и толстых херувимов, напоминавшие Ковчег Завета, ряды старинных стульев с узкими сиденьями и высокими спинками, еще более старинные кресла, сохранившие на своих подушках полустертые следы вышивки, сделанной руками, которые уже два поколения назад стали прахом. Благодаря всем этим реликвиям третий этаж Торнфильд-холла казался олицетворением прошлого, хранилищем воспоминаний. Днем мне очень нравился полумрак, тишина и своеобразная обстановка этих комнат, но я бы ни за что не согласилась провести ночь на одной из этих широких массивных кроватей. Некоторые из альковов имели стены и дубовые двери, другие были завешены старинными гобеленами с изображением странных цветов, еще более странных птиц и уж совсем странных человеческих существ, – все это вместе должно было казаться поистине фантастическим при бледном свете луны.
– В этих спальнях спят слуги? – спросила я.
– Нет, они помещаются в маленьких комнатах на той стороне дома; тут никто не спит. Если бы в Торнфильде были привидения, они являлись бы именно здесь.
– Я тоже так думаю. Но у вас, значит, нет привидений?
– Во всяком случае, я о них никогда не слышала, – отозвалась миссис Фэйрфакс, улыбаясь.
– И на этот счет не существует никаких преданий, никаких легенд или рассказов?
– Мне кажется, нет. А вместе с тем говорят, что все Рочестеры были люди бурного и беспокойного нрава; может быть, поэтому они так мирно спят в своих могилах.
– Да… «После жизни огневой их крепок сон…» – пробормотала я. – А куда вы теперь направляетесь, миссис Фэйрфакс? – спросила я, видя, что она куда-то повернула.
– Наверх. Хотите взглянуть на вид с крыши?
Я последовала за ней по узенькой лесенке на чердак, а затем по пожарной лестнице и через открытый люк вылезла на крышу. Теперь я находилась на одном уровне с колонией грачей и могла заглянуть в их гнезда. Наклонившись, я посмотрела вниз, и парк развернулся передо мной, как большая карта. Зеленый подстриженный газон окружал, словно бархатным поясом, серые стены дома; на широкой поляне стояли рядами старые кусты боярышника; лес, темный и суровый, пересекала пешеходная тропинка, и мох, устилавший ее, был зеленее, чем листва деревьев. Возле ворот я увидела церковь, за ней дорогу, мирные холмы, словно дремавшие в свете осеннего солнца, и затем горизонт, а над ним высокое небо, лазурное, с жемчужными облаками. В этом пейзаже не было ничего необычайного, но весь он был прекрасен. Когда я отвернулась и вновь спустилась в люк, я едва могла различить пожарную лестницу. После яркого голубого воздуха и залитых солнцем рощ, пастбищ и зеленых холмов, посреди которых стоял барский дом и которые я только что созерцала с таким удовольствием, мне казалось, что на чердаке темно, как в погребе.
Миссис Фэйрфакс на минуту задержалась, чтобы запереть люк, а я ощупью нашла выход с чердака и продолжала спускаться. Я остановилась в длинном коридоре, который проходил через весь третий этаж, отделяя комнаты фасада от комнат, находившихся в глубине дома. Этот коридор с двумя рядами темных запертых дверей, узкий, низкий, сумрачный – в конце его находилось только одно маленькое оконце, – напоминал коридор в замке Синей Бороды.
Я тихонько шла вперед и вдруг услышала звук, который меньше всего ожидала здесь услышать: до меня донесся чей-то смех. Это был странный смех – отрывистый, сухой, безрадостный. Я остановилась. Смех умолк, но лишь на мгновение. Он прозвучал опять – громче, ибо в первый раз смеялись очень тихо, – и оборвался на высокой ноте, казалось пробудив эхо в каждом из этих пустынных покоев, хотя раздался он в комнате рядом, и я могла бы совершенно точно сказать, за какой именно дверью.
– Миссис Фэйрфакс, – крикнула я, услышав, что она спускается по лестнице. – Вы слышали этот громкий смех? Кто это?
– Вероятно, кто-нибудь из горничных, – ответила она. – Может быть, Грэйс Пул.
– Но вы слышали? – опять спросила я.
– Да, совершенно ясно. Я часто слышу ее смех. Она шьет в одной из этих комнат. Иногда с нею бывает и Ли, они шумят и болтают.
Смех повторился, негромкий, отрывистый, и закончился странным бормотанием.
– Грэйс! – крикнула миссис Фэйрфакс.
Говоря по совести, я не ждала, что Грэйс ответит; смех был такой мрачный, такой жуткий, какого я никогда не слышала. Правда, была середина дня, и ничто сверхъестественное не сопровождало это странное явление; обстановка и время дня отнюдь не располагали к страхам, иначе меня охватил бы суеверный ужас.
Впрочем, тут же выяснилось, что во всем этом нет ничего таинственного: дверь рядом со мной открылась, и вышла служанка – женщина лет тридцати-сорока. У нее была невысокая коренастая фигура, рыжие волосы, грубое, простое лицо. Трудно себе представить образ менее романтический, менее похожий на призрак.
– Слишком много шуму, Грэйс, – сказала миссис Фэйрфакс, – не забывайте приказа.
Грэйс молча присела и снова ушла в комнату.
– Она шьет и помогает Ли по хозяйству, – продолжала вдова. – У нее есть известные недостатки, но она хорошо справляется с работой. Кстати, как у вас шли занятия с вашей ученицей?
Разговор перешел на Адель, и мы продолжали беседовать на эту тему, пока спускались в более светлые и веселые помещения нижнего этажа. В холле Адель подбежала ко мне.
– Сударыня, обед на столе! – воскликнула она и добавила: – Что касается меня, то я проголодалась!
Обед был готов и ожидал нас в комнате миссис Фэйрфакс.
Глава XII
Та надежда на безбурную жизнь, которую сулила мне моя первая встреча с Торнфильд-холлом, еще сильней укрепилась во мне после более продолжительного знакомства с этим местом и его обитателями. Миссис Фэйрфакс оказалась такой, как я и предполагала, – уравновешенной, добродушной женщиной, хорошо воспитанной и неглупой. Моя ученица была девочка живая, довольно своенравная и избалованная – и поэтому иногда упрямая: но так как ее предоставили целиком моим заботам и никто не вмешивался в мои методы ее воспитания, она скоро отвыкла от своих маленьких капризов и стала послушной и восприимчивой к учению. У нее не было никаких особых талантов, никаких резко выраженных черт характера или своеобразных чувств и вкусов, благодаря которым она стала бы выше обычного уровня детей ее возраста; но не было у нее и недостатков или пороков, которые ставили бы ее ниже этого уровня. Она делала вполне удовлетворительные успехи, питала ко мне искреннюю, хотя, быть может, и не очень глубокую привязанность, а ее простодушие, живость и желание нравиться внушали и мне ответное чувство, достаточное, чтобы сделать наше взаимное общение приятным.
Это – замечу в скобках – может быть сочтено за холодность теми, кто любит разглагольствовать об ангельской природе детей и кто считает долгом воспитателей относиться к ним с обожанием; но я пишу эту книгу не для того, чтобы льстить родительскому эгоизму, не для того, чтобы потворствовать лицемерию или повторять всякий вздор. Моя цель – говорить только правду. Я добросовестно заботилась об успехах и развитии Адели и питала спокойную привязанность к ее маленькой особе, так же как я питала благодарность к миссис Фэйрфакс за ее доброту, за ее неизменно ровное и ласковое отношение ко мне, отвечая ей таким же уважением.
Пусть порицает меня кто хочет, если я добавлю к этому, что порой, когда я одна бродила по парку, или выходила за ворота и смотрела на дорогу, или, воспользовавшись тем, что Адель играет с няней, а миссис Фэйрфакс расставляет банки с вареньем в кладовой, взбиралась по лестнице на третий этаж, открывала дверь чердака и, выбравшись на крышу, окидывала взором далекие поля и холмы и всматривалась в туманный горизонт; что мне хотелось тогда обладать особой силой зрения, которая помогла бы мне проникнуть за эти пределы, достигнуть иного, деятельного мира, увидеть города и местности, полные жизни, о которых я слышала, но которых никогда не видела; что я мечтала о большем жизненном опыте, о более широком общении с людьми, о знакомстве с более разнообразными характерами, чем те, которые меня окружали до сих пор. Я очень ценила все хорошие качества миссис Фэйрфакс и Адели, но я верила, что существует другая, более деятельная доброта, – а то, во что я верила, я желала и увидеть.
Кто будет порицать меня? Без сомнения, многие. Меня назовут слишком требовательной. Но что я могла поделать? По натуре я человек беспокойный, неугомонность у меня в характере, и я не однажды страдала из-за нее. Тогда моим единственным утешением было ходить по коридору третьего этажа взад и вперед, в тишине и уединении, и отдаваться внутреннему созерцанию тех ярких образов, которые теснились передо мною, прислушиваться к нараставшему в моем сердце волнению, смущавшему меня, но полному жизни, и в лучшие минуты внимать той бесконечной повести, которую создавала моя фантазия, насыщая ее событиями, огнем, чувством – всем, чего я желала и чего лишена была в этот период моего существования.
Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если она не дана ему судьбой. Миллионы людей обречены на еще более однообразное существование, чем то, которое выпало на мою долю, – и миллионы безмолвно против него бунтуют. Никто не знает, сколько мятежей – помимо политических – зреет в недрах обыденной жизни. Предполагается, что женщине присуще спокойствие; но женщины испытывают то же, что и мужчины; у них та же потребность проявлять свои способности и искать для себя поле деятельности, как и у их собратьев мужчин; вынужденные жить под суровым гнетом традиций, в косной среде, они страдают совершенно так же, как страдали бы на их месте мужчины. И когда привилегированный пол утверждает, что призвание женщины только печь пудинги да вязать чулки, играть на рояле да вышивать сумочки, то это слишком ограниченное суждение. Неразумно порицать их или смеяться над ними, если они хотят делать нечто большее и учиться большему, чем то, к чему обычай принуждает их пол.
Во время этих одиноких прогулок по коридору я нередко слышала смех Грэйс Пул. Это был все тот же отрывистый, низкий, глухой смех, который так взволновал меня, когда я впервые услышала его. До меня доносилось также ее бормотание, еще более странное, чем смех. В иные дни она безмолвствовала; но звуки ее голоса всегда вызывали у меня недоумение. Я не раз видела ее; она выходила из своей комнаты то с тазом, то с тарелкой или подносом в руках, направлялась на кухню и обычно возвращалась оттуда с кружкой портера (прости мне эту грубую правду, романтический читатель). При виде ее мое любопытство, вызванное ее странным смехом, гасло: ни в этой неповоротливой фигуре, ни в лице с резкими чертами не было ничего, способного вызвать интерес. Я не раз старалась вовлечь Грэйс в разговор, но она была чрезвычайно молчалива: все мои попытки пресекались ее односложными ответами.
Остальные обитатели этого дома: Джон и его жена, Ли – горничная и Софи – няня-француженка – были вполне достойные, однако ничем не примечательные люди. С Софи я болтала по-французски и иногда расспрашивала ее о родине; но у нее не было дара ни к описанию, ни к рассказу, и она обычно давала такие краткие и неопределенные ответы, что они могли скорее отбить охоту к расспросам, чем вызвать ее.
Так прошли октябрь, ноябрь и декабрь. Однажды в январе, после обеда, миссис Фэйрфакс попросила, чтобы я не занималась с Аделью ввиду того, что девочка простужена; Адель горячо поддержала эту просьбу; я вспомнила ту радость, которую доставляли мне такие случайные праздники, когда я была ребенком, и, сочтя необходимым проявить известную уступчивость, согласилась. Был ясный, спокойный день, хотя очень холодный. Я устала, просидев все долгое утро в библиотеке. Миссис Фэйрфакс только что написала письмо, которое нужно было отправить на почту, поэтому я надела шляпу и плащ и предложила отнести его в Хэй: до этой деревушки всего две мили – это будет только приятной прогулкой. Усадив Адель в маленькое креслице возле камина в комнате миссис Фэйрфакс и дав ей ее лучшую восковую куклу (которую я обычно хранила в шкафу завернутой в серебряную бумагу), а также книжку с картинками, я ушла, ответив поцелуем на ее «Возвращайтесь скорее, моя милая, моя дорогая мадемуазель Жаннет».
Земля была застывшая, воздух тих, ни один человек не встретился мне на дороге. Сначала я шла быстро, чтобы согреться, потом замедлила шаг, наслаждаясь и предвкушая те удовольствия, которые сулило это время дня и года. Было три часа; церковный колокол только что прозвонил, когда я проходила мимо колокольни. Угасающий день и низко стоявшее над горизонтом бледное лучистое солнце придавали особое очарование этому часу. Я отошла уже на милю от Торнфильда, передо мной тянулась узкая дорога, славившаяся летом своими зарослями шиповника, а осенью орехами и ежевикой. Еще и сейчас между ветвями кое-где алели уцелевшие ягоды боярышника и шиповника. Но главная прелесть этой дороги состояла зимой в полной пустынности и безгласной тишине. Если и долетало сюда дыхание ветра, то оно не вызывало ни малейшего шороха, ибо здесь не было ни деревца остролиста, ни какого-либо другого представителя той же вечнозеленой породы, а нагие кусты орешника и боярышника были так же безмолвны, как белые истертые камни, которыми была выложена дорога. По обе стороны ее широко и вольно раскинулись поля, где уже бродил скот; а маленькие коричневые птички, порой трепыхавшиеся в кустах, были похожи на блеклые листья, которые забыли упасть.
Дорога, ведшая в Хэй, непрерывно поднималась в гору. Пройдя половину пути, я присела на ступеньку изгороди, которой огорожено было поле. Я закуталась в плащ и сунула руки в муфту, так что мне не было холодно, хотя морозило все сильнее: это доказывала толстая корка льда, покрывавшая тропинку, по которой еще недавно, после внезапной оттепели, стекал ручеек. С моего места мне хорошо был виден весь Торнфильд; подо мной, в центре долины, высился серый массив дома с зубчатыми стенами: он резко выделялся на фоне рощицы с черными грачиными гнездами. Я сидела до тех пор, пока среди деревьев не опустилось солнце, пунцовое и ясное. Тогда я повернула на восток.
Над холмом стояла луна; она была еще бледна, как облачко, но быстро становилась все ярче и поднималась все выше, озаряя деревню, которая тянулась по верху холма, полускрытая деревьями, и посылала в небо голубые струйки дыма из своих многочисленных труб. До нее оставалась еще миля, но в глубокой тишине уже доносились ко мне несложные звуки ее жизни. Мой слух улавливал также ропот ручьев, текущих где-то в ущельях и оврагах; по ту сторону Хэя было много возвышенностей, и, конечно, там были ручьи: в прозрачной вечерней тишине доносилось их журчание – не только самых близких, но и самых отдаленных.
И вдруг в тихий ропот и журчание, такие далекие и вместе с тем такие отчетливые, ворвались иные звуки: раздался громкий топот, какой-то металлический лязг, заглушившие мягкий лепет струй; не так ли на картине кряжистый утес или мощные извилины старого дуба, выступив отчетливо и резко, вдруг закроют от вас и лазурный холм вдали, и солнечный горизонт, и жемчужные облака, где краски неуловимо переходят одна в другую.
Шум доносился с дороги: видимо, приближалась лошадь. Ее еще не видно было за поворотом, но топот становился все громче. Я быстро поднялась со ступеньки, однако дорога была здесь слишком узка, и пришлось снова сесть, чтобы лошадь могла пройти. В те дни я была молода, и какие только фантастические образы, то смутные, то ослепительные, не волновали мое воображение! Среди прочего вздора в моей душе жили и далекие воспоминания о детских сказках; и когда они снова всплывали, юность придавала им ту силу и живость, каких не знает детство. Пока я ожидала в сумерках появления лошади, все более приближавшейся, мне вспомнились некоторые из сказок Бесси, где фигурировал дух, известный жителям Северной Англии под названием Гитраша: он появляется в образе коня, мула или большой собаки и бегает по пустынным дорогам, иногда настигая запоздалых путников, – так же как сейчас меня настигала эта лошадь.
Она была уже совсем рядом, но я все еще не видела ее. И вдруг, кроме топота, я услышала шорох, и из кустов выбежала огромная собака, резко выделявшаяся на фоне бурого орешника своей черной с белым шерстью. Она в точности соответствовала воплощению Гитраша, как его описывала Бесси: существо, похожее на льва, с длинной шерстью и крупной головой. Пес спокойно пробежал мимо, даже не обратив на меня загадочного собачьего взора, как мне и представлялось заранее. Позади шла лошадь, очень крупная; на ней сидел всадник. Появление человеческого существа – всадника – сразу же рассеяло чары. Никто никогда не ездил верхом на Гитраше, он всегда появлялся один; духи же, насколько я понимала, хотя и могли принимать образ бессловесного животного, вряд ли соблазнились бы оболочкой обыкновенного человека. Нет, это был не Гитраш, а просто путник, спешивший в Милкот ближайшей дорогой. Он миновал меня, и я продолжала идти вперед, но, сделав несколько шагов, обернулась: я услышала, что лошадь скользит по обледенелой тропинке. Путник воскликнул: «Этого еще не хватало!» – и тут же лошадь грохнулась. Я остановилась. Конь и всадник лежали на земле. Собака подбежала и, убедившись, что и всадник и лошадь беспомощны, начала лаять так громко, что вечерние холмы отозвались звонким эхом на этот басистый лай, неожиданно гулкий и мощный. Она обнюхала поверженного всадника и его коня, а затем подбежала ко мне – ведь это все, что она могла сделать: кругом не было никого, чтобы просить о помощи. И я вняла ее молчаливой мольбе и подошла к всаднику, который силился выпутаться из стремян. Судя по его энергичным движениям, он, видимо, не очень пострадал при падении; все же я не удержалась и спросила его:
– Вы ушиблись, сэр?
Кажется, он выругался, но я и сейчас в этом не уверена; во всяком случае, он пробормотал что-то и не сразу ответил.
– Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? – снова спросила я.
– Отойдите куда-нибудь подальше, – ответил он наконец и приподнялся, сначала встав на колени, а затем во весь рост. После этого раздался грохот скользящих копыт, стук и звон, сопровождаемые понуканием всадника, а также лаем и прыжками пса, и я невольно отступила как можно дальше. Однако мне не хотелось уходить, не увидев результата этих усилий. Наконец попытки увенчались успехом: лошадь снова стала на ноги, а собака успокоилась после приказа хозяина: «Куш, Пилот!» Тогда путник, наклонившись, стал ощупывать свое колено и ступню, словно проверяя их целость; видимо, он все же испытывал боль, ибо схватился за ступеньку, с которой я только что поднялась, и сел на нее.
Мне очень хотелось быть ему полезной или по крайней мере проявить внимание, и я опять подошла к нему.
– Если вы ушиблись, сэр, и вам нужна помощь, я могу сходить в Торнфильд-холл или Хэй.
– Благодарю вас, я и так обойдусь! Кости у меня целы, просто вывих, – и он, снова приподнявшись, сделал попытку стать на ноги, однако это движение вызвало у него болезненное «ой!».
Еще не окончательно стемнело, да и луна светила все ярче, так что я видела его совершенно отчетливо. На нем был плащ для верховой езды с меховым воротником и стальными застежками. Фигуру его было трудно рассмотреть, но он казался среднего роста и широкоплеч. Лицо смуглое, черты суровые, лоб массивный. Глаза под густыми сросшимися бровями горели гневным упрямством. Уже не юноша, он, пожалуй, еще не достиг средних лет, – ему могло быть около тридцати пяти. Я не чувствовала перед ним ни страха, ни особой робости. Будь он романтическим молодым героем, я бы не отважилась надоедать ему расспросами и навязывать свои услуги, но я, вероятно, еще не видела красивых юношей и, уж конечно, ни с одним не говорила. В теории я преклонялась перед красотой, галантностью, обаятельностью; но если бы я встретила все эти достоинства воплощенными в мужском образе, я бы сразу поняла, что такой человек не найдет во мне ничего притягательного, и бежала бы от него, как от огня или молнии, которые скорее пугают, чем влекут к себе.
Если бы незнакомец улыбнулся мне и добродушно ответил, когда я обратилась к нему, если бы отклонил мою просьбу с приветливой благодарностью, – я, может быть, пошла бы дальше, не возобновив своих вопросов; но его сердитый вид и резкий тон придали мне смелости. Когда он сделал мне знак уйти, я осталась на месте и заявила:
– Я ни в коем случае не могу бросить вас здесь, сэр, в такой поздний час, на пустынной дороге; по крайней мере пока вы не окажетесь в силах сесть на лошадь.
Когда я сказала это, он поднял глаза. До сих пор он едва ли хоть раз взглянул на меня.
– Вам самой давно пора быть дома, – сказал он, – если ваш дом по соседству. Откуда вы взялись?
– Вон оттуда, снизу. И я ничуть не боюсь, – ведь светит луна; я с удовольствием сбегаю в Хэй, если хотите; да мне и нужно туда на почту – отправить письмо.
– Вы живете там, внизу? Вы хотите сказать – вон в том доме с башнями? – спросил он, указывая на Торнфильд-холл, залитый ярким лунным светом и тем резче выделявшийся на фоне лесов, которые издали казались сплошной темной массой.
– Да, сэр.
– А чей это дом?
– Мистера Рочестера.
– Вы знаете мистера Рочестера?
– Нет, я его никогда не видела.
– Разве он не живет там?
– Нет.
– А вы знаете, где он теперь?
– Нет, не знаю.
– Вы не прислуга в доме, это ясно. Вы… – Он остановился, окинув взглядом мою одежду, которая была, как всегда, очень проста: черный мериносовый плащ и черная касторовая шляпка; и то и другое не надела бы даже камеристка знатной дамы. Он, видимо, затруднялся решить, кто же перед ним. Я помогла ему:
– Я гувернантка.
– Ах, гувернантка, – повторил он. – Черт побери, я и забыл! Гувернантка! – и снова принялся рассматривать меня. Минуты через две он поднялся со ступеньки, но едва сделал движение, как лицо его снова исказилось от боли.
– Я не стану посылать вас за помощью, – сказал он, – но вы сами можете мне помочь, если будете так добры.
– Хорошо, сэр.
– У вас нет зонтика, которым я мог бы воспользоваться как тростью?
– Нет.
– Тогда постарайтесь взять мою лошадь и подвести ее ко мне. Вы не боитесь?
Сама я побоялась бы коснуться лошади, но так как мне было предложено это сделать, пришлось послушаться. Положив свою муфту на ограду, я подошла к рослому коню и попыталась схватить его за уздечку, однако лошадь была горячая и не давала мне приблизиться. Я делала все новые попытки, но тщетно. При этом я смертельно боялась ее передних копыт, которыми она непрерывно била. Путник ждал, наблюдая за мной; наконец он рассмеялся.
– Да, уж я вижу, – сказал он, – гора отказывается идти к Магомету! Поэтому все, что вы можете сделать, это помочь Магомету подойти к горе.
Я приблизилась к нему.
– Извините меня, – сказал он, – необходимость заставляет меня воспользоваться вашей помощью.
Его рука тяжело легла на мое плечо, и, весьма ощутительно надавив на него, путник доковылял до своей лошади. Как только ему удалось взять в руки уздечку, он сразу же подчинил себе коня и вскочил в седло, делая при этом ужасные гримасы, так как вывихнутая щиколотка причиняла ему при каждом движении резкую боль.
– Ну вот, – сказал он; и я видела, что он уже не кусает себе губы. – Дайте мне мой хлыст, вон он лежит возле изгороди.
Я поискала хлыст и подала ему.
– Благодарю вас, а теперь бегите с вашим письмом в Хэй и возвращайтесь как можно скорее домой.
Он коснулся лошади шпорами, она взвилась на дыбы, затем поскакала галопом. Собака бросилась следом, и все трое быстро исчезли из виду, —
- Как вереск, что в степи сухой
- Уносит, воя, ветер.
Я подобрала свою муфту и зашагала дальше. Эпизод был закончен и уже отошел в прошлое; в нем не было ничего значительного, ничего романтического и, пожалуй, ничего интересного; и все же он внес какое-то разнообразие хотя бы в один час моей бесцветной жизни. Кто-то нуждался в моей помощи и попросил ее; я ее оказала. Мне удалось что-то сделать, и я была рада этому; и хотя услуга эта была ничтожной и случайной, все же я имела возможность действовать, а я так устала от своего однообразного существования. Это новое лицо было как новая картина в галерее моей памяти, оно резко отличалось от всех хранившихся там образов: во‐первых, это было лицо мужчины; во‐вторых, оно было смуглое, решительное и суровое. И это лицо все еще стояло перед моими глазами, когда я вошла в Хэй и бросила письмо в почтовый ящик. Я видела это лицо перед собой, пока спускалась под гору, торопясь домой. Дойдя до изгороди, я приостановилась, словно ожидая, что опять услышу на дороге топот копыт, увижу всадника в плаще и большого ньюфаундлендского пса, похожего на Гитраша. Но передо мной лишь темнела изгородь и серебристая подстриженная ива безмолвно возносила свою стройную вершину навстречу лучам луны. Я ощущала только легчайшее дуновение ветра, проносившегося за милю отсюда между деревьями, обступившими Торнфильд. И когда я посмотрела вниз, туда, откуда доносился этот непрерывный шелест, мой взгляд невольно отметил одно из окон фасада, в котором трепетал огонек. Это напомнило мне о том, что уже поздно, и я поспешила домой.
Мне не хотелось возвращаться в Торнфильд: переступить через его порог – значило вернуться домой, в стоячее болото; опять бродить по безмолвному холлу, подниматься по мрачной лестнице, сидеть в своей одинокой комнатке, а затем беседовать с безмятежной миссис Фэйрфакс и проводить длинные зимние вечера только с ней, с ней одной – одна мысль об этом была способна погасить то легкое возбуждение, которое было вызвано моей прогулкой, и снова сковать мои силы цепями однообразного и слишком тихого существования, безмятежность и спокойствие которого я уже переставала ценить. Как полезно было бы мне тогда очутиться среди бурь и треволнений необеспеченной жизни, чтобы тоска по тишине и миру, которые меня сейчас так угнетали, пришли ко мне как результат сурового и горького опыта; да, это было мне так же необходимо, как долгая прогулка человеку, засидевшемуся в слишком удобном кресле.
У ворот я помедлила, помедлила и на лужайке перед домом. Я ходила взад и вперед по мощеной аллее; ставни стеклянной входной двери были прикрыты, и я не могла заглянуть внутрь. Казалось, и взор мой, и душа влеклись прочь от этого мрачного здания, от этой серой громады, полной темных закоулков, – таким оно по крайней мере мне тогда представлялось, – к распростертому надо мною небу, к этому голубому морю без единого облачка. Луна торжественно поднималась все выше, ее лик словно парил над холмами, из-за которых она показалась; и они отступали все дальше и дальше вниз, тогда как она стремилась к зениту, в неизмеримые и неизведанные бездны полуночного мрака. А за ней следовали трепетные звезды; при виде их мое сердце задрожало и горячее побежала в жилах кровь. Но иногда достаточно пустяка, чтобы возвратить нас на землю: в холле пробили часы, и это заставило меня оторваться от луны и звезд; я открыла боковую дверь и вошла.
В холле было полутемно, горела только бронзовая лампа высоко под потолком; на нижних ступеньках дубовой лестницы лежал теплый красноватый отблеск, – он падал из большой столовой, раздвижные двери которой были открыты; в камине жарко пылал огонь, бросая яркие блики на мраморную облицовку и медную каминную решетку, на пышные пунцовые шторы и полированную мебель; он озарял также и расположившуюся перед камином группу. Но едва я успела взглянуть на нее, едва до меня донеслись веселые голоса, среди которых мне послышался и голос Адели, как дверь уже захлопнулась.
Я поспешила в комнату миссис Фэйрфакс; здесь тоже топился камин, но свечи не были зажжены, и хозяйка отсутствовала. Зато перед камином важно уселся большой, черный с белым, пес, совершенно такой же, как встреченный мною на дороге Гитраш. Он настолько был похож на того пса, что я невольно произнесла: «Пилот!» – и собака поднялась, подошла и стала обнюхивать меня. Я погладила ее, а она помахала пушистым хвостом. Но животное все еще казалось мне каким-то фантастическим существом, я не могла представить себе, откуда оно взялось. Позвонив, я попросила, чтобы принесли свечу; кроме того, мне хотелось узнать, что у нас за гость. Вошла Ли.
– Откуда эта собака?
– Она прибежала за хозяином.
– За кем?
– За хозяином, за мистером Рочестером. Он только что приехал.
– Да что вы? И миссис Фэйрфакс у него?
– Да, и мисс Адель. Они все в столовой, а Джона послали за врачом. С хозяином случилось несчастье: его лошадь упала, и он вывихнул себе ногу.
– Лошадь упала на дороге в Хэй?
– Да, когда он спускался с холма. Она поскользнулась на обледеневшей тропинке.
– А… Принесите мне, пожалуйста, свечу, Ли.
Ли принесла свечу, а за ней следом вошла миссис Фэйрфакс, повторившая мне ту же новость. Она добавила, что мистер Картер, врач, уже прибыл и находится сейчас у мистера Рочестера. Затем она вышла распорядиться относительно чая, а я поднялась наверх, чтобы раздеться.
Глава XIII
По требованию врача мистер Рочестер рано лег в этот вечер и поздно поднялся на следующее утро. А когда наконец сошел вниз, то сразу же занялся делами: явился его управляющий и кое-кто из арендаторов.
Нам с Аделью пришлось освободить библиотеку. Она служила теперь приемной для посетителей. В одной из комнат наверху затопили камин, я перенесла туда наши книги и устроила там классную комнату. В это же утро мне пришлось убедиться, что Торнфильд стал иным. В доме уже не царила тишина, как в церкви: через каждый час или два раздавался стук в парадную дверь или звон колокольчика, в холле слышались шаги и разнообразные голоса, – ручеек из внешнего мира заструился через наш дом, ибо этот дом обрел хозяина. Что касается меня – так он мне нравился больше.
В этот день нелегко было заниматься с Аделью. Она то и дело выбегала из комнаты и, перегнувшись через перила, высматривала, не видно ли где мистера Рочестера, и то и дело изобретала предлоги, чтобы сойти вниз, но я подозревала, что у нее одна цель – библиотека, где ее отнюдь не желали видеть; а когда я наконец рассердилась и велела ей сидеть смирно, она продолжала все время болтать о своем друге, monsieur Edouard Fairfax de Rochester, как она его называла (я до сих пор не знала всех его имен), строя предположения относительно тех подарков, какие он ей привез: он, видимо, вчера вечером намекнул ей, что, когда из Милкота приедет его багаж, она найдет там коробку, содержимое которой будет для нее небезынтересно.
– А это значит, – продолжала она по-французски, – что там есть подарок для меня, а может быть, и для вас, мадемуазель. Он спросил меня, как зовут мою гувернантку. Говорит: «Это такая маленькая особа, худенькая и бледненькая?» Я сказала, что да, такая. Ведь это же правда, мадемуазель?
Мы с моей ученицей, как обычно, обедали в комнате миссис Фэйрфакс; во вторую половину дня пошел снег, и мы остались в классной комнате. В сумерки я разрешила Адели убрать книги и сойти вниз, ибо, судя по тишине и по тому, что никто не звонил у парадного входа, можно было предположить, что мистер Рочестер наконец свободен. Оставшись одна, я подошла к окну, но ничего не было видно – снег и сумерки образовали плотную пелену и скрыли от глаз даже кусты на лужайке. Я опустила штору и вернулась к камину.
Вглядываясь в причудливый пейзаж, возникший из пылающих углей и пепла, я старалась уловить в нем сходство с виденным мною изображением Гейдельбергского замка на Рейне, когда вошла миссис Фэйрфакс. С ее появлением рассеялись мрачные мысли, которые уже подстерегали меня, воспользовавшись моим одиночеством.
– Мистеру Рочестеру будет очень приятно, если вы и ваша ученица придете сегодня вечером пить чай в гостиную, – сказала она. – Он был так занят весь день, что не мог пригласить вас к себе раньше.
– А в котором часу будет чай? – осведомилась я.
– О, в шесть часов. В деревне он ведет правильный образ жизни. Самое лучшее, если вы переоденетесь сейчас же. Я пойду с вами и помогу вам. Вот вам свеча.
– Разве необходимо переодеваться?
– Да, лучше бы. Я всегда к вечеру переодеваюсь, когда мистер Рочестер дома.
Эта церемония показалась мне несколько претенциозной, однако я вернулась к себе и вместо черного шерстяного надела черное шелковое платье; это было мое лучшее платье, и притом единственная смена, если не считать светло-серого, которое, по моим ловудским понятиям о туалетах, я считала слишком нарядным и годным лишь для высокоторжественных случаев.
– Сюда нужно брошку, – сказала миссис Фэйрфакс.
У меня было лишь одно украшение – жемчужная брошка, которую мне подарила на память мисс Темпль. Я приколола ее, и мы сошли вниз. Не имея привычки к общению с посторонними, я чувствовала себя особенно смущенной оттого, что предстану перед мистером Рочестером после столь официального вызова. Я предоставила миссис Фэйрфакс войти в столовую первой и спряталась за нее, когда мы проходили через комнату; затем, миновав арку с опущенной драпировкой, я вошла в элегантную гостиную.
На столе стояли две зажженных восковых свечи и еще две – на камине. В тепле и свете ослепительно пылавшего камина растянулся Пилот, а рядом с ним стояла на коленях Адель. На кушетке, слегка откинувшись назад, полулежал мистер Рочестер, его нога покоилась на валике; он смотрел на Адель и на собаку. Пламя ярко освещало все его лицо. Я сразу же узнала в нем вчерашнего незнакомца, – это были те же черные густые брови, тот же массивный угловатый лоб, казавшийся квадратным в рамке темных волос, зачесанных набок. Я узнала его резко очерченный нос, скорее характерный, чем красивый, раздувающиеся ноздри, говорившие о желчности натуры, жесткие очертания губ и подбородка, – да, все это носило, несомненно, отпечаток угрюмости. Его фигура – он был теперь без плаща – соответствовала массивной голове; не отличаясь ни высоким ростом, ни изяществом, он все же был сложен превосходно, ибо при широких плечах и груди имел стройный стан.
Мне казалось, что мистер Рочестер заметил, как мы вошли, но, может быть, не хотел это обнаружить, ибо не поднял головы, когда мы приблизились.
– Вот мисс Эйр, сэр, – сказала миссис Фэйрфакс с присущим ей спокойствием.
Он поклонился, все еще не отводя глаз от ребенка и собаки.
– Пусть мисс Эйр сядет, – сказал он. И в его чопорном и принужденном поклоне, в нетерпеливых, однако вежливых интонациях его голоса было что-то, как бы говорившее: какое мне, черт побери, дело до того, здесь мисс Эйр или нет! В данную минуту я нисколько не расположен ее видеть.
Я села, и мое смущение исчезло. Безукоризненно вежливый прием вызвал бы, вероятно, во мне чувство неловкости. Я бы не сумела ответить на него с подобающей изысканной любезностью; но эта своенравная резкость снимала с меня всякие обязательства, спокойствие же и самообладание, наоборот, давали мне преимущество над ним. Кроме того, в эксцентричности его поведения было что-то неожиданное и вызывающее. И мне было интересно посмотреть, как он будет держаться дальше.
Впрочем, он продолжал вести себя так, как вел бы себя истукан, то есть не двигался и не говорил. Миссис Фэйрфакс, видимо, находила, что кто-нибудь должен же быть любезен, и начала говорить сама – как обычно, очень ласково и, как обычно, одни банальности. Она выразила мистеру Рочестеру сочувствие по поводу того, что ему весь день докучали делами и что у него такая невыносимая боль, и заметила напоследок, что надо быть очень терпеливым и осторожным, если он хочет скорее поправиться.
– Сударыня, я попросил бы чашку чая, – был единственный ответ, последовавший на эту тираду.
Она торопливо позвонила и, когда Ли принесла чайный прибор, принялась с хлопотливым усердием расставлять чашки. Мы с Аделью перешли к столу, однако хозяин остался на кушетке.
– Будьте добры, передайте мистеру Рочестеру его чашку, – обратилась ко мне миссис Фэйрфакс, – как бы Адель не пролила.
Я исполнила ее просьбу. Когда он брал чашку из моих рук, Адель, видимо, решила, что настала подходящая минута и надо напомнить и обо мне.
– А ведь в вашем чемодане, мсье, наверное, есть подарок и для мисс Эйр?
– О каких подарках ты говоришь? – сердито спросил он. – Вы разве ожидали подарки, мисс Эйр? Вы любите получать подарки? – и он испытующе посмотрел мне в лицо своими темными, злыми и недоверчивыми глазами.
– Право, не знаю, сэр. У меня в этом отношении мало опыта, но обычно считается, что получать подарки очень приятно.
– Обычно считается? А что вы думаете?
– Мне, вероятно, понадобилось бы некоторое время, сэр, чтобы дать вам удовлетворительный ответ. Ведь подарки бывают разные, и тут надо еще поразмыслить, прежде чем ответить.
– Вы, мисс Эйр, не так простодушны, как Адель: она откровенно требует от меня подарка, вы же действуете исподтишка.
– У меня меньше уверенности в моих правах, чем у Адели, она может опираться на права давнего знакомства и на силу обычая: она утверждает, что вы всегда ей дарили игрушки. Мне же не на что опереться в моих требованиях, так как я здесь чужая и не сделала решительно ничего, заслуживающего благодарности.
– Ах, не напускайте на себя, пожалуйста, еще сверхскромность. Я экзаменовал Адель и вижу, что вы немало потрудились. У нее не бог весть какие способности и уж вовсе нет никаких талантов, и все-таки за короткое время она достигла больших успехов.
– Вот вы мне и сделали подарок, сэр; и я вам чрезвычайно признательна. Самая большая радость для учителя, когда похвалят его ученика.
– Гм… – мистер Рочестер промычал что-то невразумительное и начал молча пить чай.
– Присядьте к огню, – сказал мне мой хозяин, когда чай был убран и миссис Фэйрфакс уселась в уголке со своим вязаньем, а Адель принялась водить меня за руку по комнате, показывая книги в роскошных переплетах и красивые безделушки на консолях и шифоньерках. Мы послушались, как нам и полагалось. Адель хотела усесться у меня на коленях, но ей было приказано играть с Пилотом.
– Вы прожили в моем доме три месяца?
– Да, сэр.
– Вы приехали из..?
– Из Ловудской школы в …ширском графстве.
– А, из благотворительного учреждения! Сколько вы там пробыли?
– Восемь лет.
– Восемь лет! Ну, значит, вы очень живучи. Мне кажется, если прожить там половину этого времени, так подорвешь и не такое здоровье. Неудивительно, что вы похожи на существо из другого мира. А я-то спрашивал себя, откуда у вас такое лицо! Когда вы вчера вечером встретились мне на дороге в Хэй, я почему-то вспомнил о феях и чуть не спросил вас, не вы ли напустили порчу на мою лошадь; я и сейчас еще не разубедился в этом. Кто ваши родители?
– У меня их нет.
– Наверно, никогда и не было, а? Вы их помните?
– Нет.
– Я так и думал. И что же, вы ждали своих сородичей, сидя у изгороди?
– Кого ждала, сэр?
– Маленьких человечков в зеленом! Был как раз подходящий лунный вечер. Я, вероятно, помешал вашим танцам, поэтому вы и сковали льдом проклятую тропинку?
Я покачала головой.
– Маленькие человечки в зеленом покинули Англию лет сто назад, – сказала я, продолжая разговор в том же тоне, что и он. – И теперь ни в Хэе, ни в окрестных селах не осталось от них и следа. Я думаю, что ни летняя, ни осенняя, ни зимняя луна больше никогда не озарит их игр.
Миссис Фэйрфакс уронила на колени вязанье и, удивленно подняв брови, прислушивалась к нашему странному разговору.
– Что ж, – продолжал мистер Рочестер. – Если у вас нет родителей, то должны быть какие-нибудь родственники – дяди и тети?
– Нет. По крайней мере, я о них ничего не знаю.
– А где ваш дом?
– У меня нет дома.
– Где живут ваши братья и сестры?
– У меня нет братьев и сестер.
– Кто же посоветовал вам приехать сюда?
– Я дала объявление в газетах, и миссис Фэйрфакс написала мне.
– Да, – сказала добрая старушка, для которой последние вопросы были гораздо понятнее, – и я каждый день благодарю провидение за то, что оно помогло мне сделать этот выбор. Общество мисс Эйр для меня неоценимо, а в отношении Адели она оказалась доброй и внимательной воспитательницей.
– Пожалуйста, не трудитесь превозносить ее, – отозвался мистер Рочестер, – похвалы меня не убедят, я буду сам судить о ней. Она начала с того, что заставила упасть мою лошадь.
– Сэр?! – удивилась миссис Фэйрфакс.
– Я ей обязан этим вывихом.
Вдова, видимо, растерялась.
– Мисс Эйр, вы когда-нибудь жили в городе?
– Нет, сэр.
– Вы бывали в обществе?
– Нет, только в обществе учениц и учительниц Ловуда, а теперь – обитателей Торнфильда.
– Вы много читали?
– Только те книги, которые случайно попадали мне в руки, да и тех было не слишком много и не очень-то ученые.
– Вы жили как монахиня и, без сомнения, хорошо знаете религиозные обряды. Ведь Брокльхерст, который, насколько мне известно, является директором Ловуда, священник? Не так ли?
– Да, сэр.
– И вы, девочки, наверное, обожали его, как монашки в монастыре обожают своего настоятеля?
– О нет!
– Как равнодушно вы об этом говорите. Подумайте – послушница и не обожает своего настоятеля! Это звучит почти кощунственно!
– Мистер Брокльхерст был мне антипатичен, и не я одна испытывала это чувство. Он грубый человек, напыщенный и в то же время мелочный; он заставлял нас стричь волосы и из экономии покупал плохие нитки и иголки, которыми нельзя было шить.
– Это очень плохая экономия, – заметила миссис Фэйрфакс, снова почувствовавшая себя в своей сфере.
– И это главное, чем он обижал вас? – спросил мистер Рочестер.
– Когда он один ведал провизией, еще до того, как был назначен комитет, он морил нас голодом, а кроме того, изводил своими бесконечными наставлениями и вечерними чтениями книг его собственного сочинения – о грешниках, пораженных внезапной смертью или страшными карами, так что мы боялись ложиться спать.
– Сколько вам было лет, когда вы поступили в Ловуд?
– Около десяти.
– И вы пробыли там восемь лет. Значит, вам теперь восемнадцать.
Я кивнула.
– Как видите, арифметика вещь полезная; без нее я едва ли угадал бы ваш возраст. Это трудное дело, когда детский облик и серьезность не соответствуют одно другому, – как у вас, например. Ну, и чему же вы научились в Ловуде? Вы умеете играть на рояле?
– Немножко.
– Конечно, всегда так отвечают. Пойдите в библиотеку… я хочу сказать: пожалуйста. Извините мой тон, я привык говорить «сделайте» и привык, что все делается по моему приказанию. Я не могу менять своих привычек ради новой обитательницы моего дома. Итак, пойдите в библиотеку, захватите с собой свечу, оставьте дверь открытой, сядьте за рояль и сыграйте что-нибудь.
Я встала и пошла исполнять его желание.
– Довольно! – крикнул он спустя несколько минут. – Вы действительно играете «немножко», я вижу. Как любая английская школьница. Может быть, чуть-чуть лучше, но не хорошо.
Я закрыла рояль и вернулась. Мистер Рочестер продолжал:
– Адель показывала мне сегодня утром рисунки и сказала, что это ваши. Я не знаю, принадлежат ли они только вам. Вероятно, к ним приложил руку и ваш учитель?
– О нет! – воскликнула я.
– А, это задевает вашу гордость! Ну, пойдите принесите вашу папку, если вы можете поручиться, что ее содержимое принадлежит только вам; но не давайте слова, если не уверены, я сейчас же отличу подделку.
– Тогда я ничего не скажу, а вы судите сами, сэр.
Я принесла папку из библиотеки.
– Пододвиньте стол, – сказал он, и я подкатила столик к дивану. Адель и миссис Фэйрфакс тоже подошли.
– Не мешайте, – сказал мистер Рочестер, – вы получите от меня рисунки, когда я их посмотрю. О господи! Да не заслоняйте мне…
Он неторопливо принялся рассматривать каждый набросок и каждую акварель. Три из них он отложил, остальные после осмотра отодвинул.
– Возьмите их на тот стол, миссис Фэйрфакс, – сказал он, – и посмотрите вместе с Аделью. А вы, – он взглянул на меня, – садитесь на свое место и отвечайте на мои вопросы. Я вижу, что эти рисунки сделаны одной и той же рукой. Это – ваша рука?
– Да.
– А когда вы это успели? Ведь тут понадобилось немало времени и кое-какие мысли.
– Я сделала их во время последних двух каникул в Ловуде. У меня тогда не было других занятий.
– Откуда вы взяли сюжеты?
– Я сама их придумала.
– Вот эта самая голова придумала, которая сидит на ваших плечах?
– Да, сэр.
– И там есть еще такие же мысли?
– Думаю, что есть, вернее – надеюсь.
Он разложил перед собой наброски и снова стал по очереди их рассматривать.
Пока он занят ими, я вам расскажу, читатель, их содержание. Во-первых, должна предупредить, что в них не было ничего примечательного. Эти образы возникли в моем воображении, и когда я видела их умственным взором, еще до того, как перенесла их на бумагу, они поражали меня своей живостью; но моя рука была бессильна, она не поспевала за моей фантазией, и я набросала только слабое подобие представшего мне видения.
Рисунки были сделаны акварелью. На первом – низкие, синевато-багровые тучи клубились над бурным морем. Все морское пространство тонуло в полумраке, сквозь мглу проступал лишь передний план, или, вернее, ближайшие волны, так как земли не было видно. Луч света падал на полузатопленную мачту, на которой сидел баклан, большой и темный, с обрызганными пеной крыльями; в клюве он держал золотой браслет с драгоценными камнями, которым я придала всю ту яркость, какую могла извлечь из своей палитры, и всю ту выпуклость и четкость, на которую был способен мой карандаш. Под мачтой и сидевшей на ней птицей сквозь зеленую воду просвечивало тело утопленницы. Отчетливо виднелась только прекрасная стройная рука, с которой был сорван или смыт браслет.
На переднем плане второй картины выступал высокий горный пик, поросший травой, по которой ветер как будто гнал сухие листья. Над ним и за ним широко раскинулось небо – темно-голубое, каким оно бывает в сумерках. А на фоне этого неба, со всей той мягкостью и воздушностью, какую только я могла ей придать, я набросала фигуру женщины, видную по пояс. Туманное чело венчала звезда; черты лица, казалось, были затянуты дымкой, но глаза светились каким-то темным огнем, а волосы, подобно черной туче, разорванной бурей или молнией, окутывали плечи. На шее лежал бледный отблеск, как бы от лунного света. Тот же легкий отблеск озарял и прозрачные облака, из которых вставало это видение вечерней звезды.
На третьей была изображена вершина айсберга, вздымавшаяся к полярному зимнему небу. Сноп северного сияния разбросал свои туманные копья по горизонту. На переднем плане вырисовывалась гигантская голова, прислонившаяся к айсбергу, две прозрачных руки закрывали лицо черным вуалем. Были видны только бескровный лоб, белый, как кость, и тускло блестевший, лишенный всякого выражения глаз. Над висками, среди складок черного тюрбана, смутное и прозрачное, как облако, светилось кольцо белого пламени, служившее оправой для нескольких более ярких искр. Это кольцо было как бы «подобьем царственной короны», и оно венчало «ту форму, что формы не имеет».
– Вы чувствовали себя счастливой, когда рисовали эти картины? – вдруг спросил меня мистер Рочестер.
– Я была целиком поглощена ими, сэр; да, я была счастлива. Словом, когда я их рисовала, я испытывала самую сильную радость в своей жизни.
– Ну, это еще немного. Как вы рассказывали, ваша жизнь не богата радостями, но мне кажется, что, когда вы запечатлевали эти странные образы, вы жили в том фантастическом мире, в котором живет художник. Вы подолгу сидели над ними каждый день?
– Мне нечего было делать во время каникул, и я просиживала над ними с утра до ночи. Этому благоприятствовали и длинные летние дни.
– И вы чувствовали себя удовлетворенной результатом вашей усердной работы?
– О нет. Меня все время мучил контраст между замыслом и выполнением. Каждый раз я представляла себе то, что была бессильна воплотить.
– Не совсем: вам все же удалось закрепить на бумаге хотя бы тень ваших видений; но, вероятно, не больше. Чтобы довести дело до конца, вам не хватало ни мастерства, ни знаний; все же для девушки, только что окончившей школу, это странные рисунки. Что касается замысла, то он принадлежит царству фей. Эти глаза вечерней звезды вам, вероятно, приснились? Как могли вы придать им эту ясность, и притом без всякого блеска? Ведь звезда над ними затмевает их лучи. И что таится в их суровой глубине? А кто научил вас рисовать ветер? Чувствуешь, что в небе над горой настоящая буря. И где вы видели Латмос? Ибо это Латмос! Нате, возьмите ваши рисунки…
Едва я успела завязать папку, как он взглянул на часы и откровенно сказал:
– Уже девять часов. О чем вы думаете, мисс Эйр? Адели давно пора спать. Пойдите и уложите ее.
Перед тем как выйти из комнаты, Адель подошла и поцеловала его. Он терпеливо принял эту ласку, но, видимо, она не произвела на него большого впечатления. Пилот и то ответил бы приветливее.
– Ну, я вам всем пожелаю спокойной ночи. – Он сделал рукой жест, указывая на дверь и как бы говоря этим, что устал от нашего общества и отпускает нас. Миссис Фэйрфакс сложила вязанье, я взяла свою папку. Мы поклонились ему – он ответил нам коротким кивком – и вышли.
– Вы сказали, что в мистере Рочестере нет никаких бросающихся в глаза особенностей, миссис Фэйрфакс, – заметила я, войдя к ней в комнату, после того как уложила Адель.
– А по-вашему, есть?
– Мне кажется, он очень непостоянен и резок.
– Верно. Он может показаться таким новому человеку, но я настолько привыкла к его манере, что просто не замечаю ее. Да если и есть у него странности в характере, то их можно извинить.
– Чем же?
– Отчасти тем, что у него такая натура, – а кто из нас в силах бороться со своей натурой? Отчасти, конечно, тем, что тяжелые мысли мучают его и лишают душевного равновесия.
– Мысли о чем?
– Прежде всего о семейных неприятностях.
– Но ведь у него нет семьи?
– Теперь нет, но была, по крайней мере были родные. Он потерял старшего брата всего несколько лет назад.
– Старшего брата?
– Да. Наш мистер Рочестер не так давно стал владельцем этого поместья, всего девять лет.
– Девять лет – срок немалый. Разве он так любил своего брата, что до сих пор не может утешиться?
– Ну, это вряд ли; насколько я знаю, между ними часто бывали недоразумения. Мистер Роланд Рочестер был не совсем справедлив к нашему мистеру Эдварду. Возможно, он восстановил против него отца. Старик очень любил деньги и старался сохранить семейную собственность неприкосновенной. Ему не хотелось делить имение, но все же он мечтал о том, чтобы и мистер Эдвард был богат и поддерживал их имя на должной высоте. И едва сын достиг известного возраста, как отец предпринял кое-какие меры – не очень-то красивые – и в результате натворил кучу бед. Старик и мистер Роланд действовали заодно ради того, чтобы приобрести богатство, и из-за них мистер Эдвард попал в затруднительное положение. В чем там было дело, я толком так и не знаю, но он не мог вынести всего того, что на него свалилось. Мистер Рочестер не очень-то легко прощает. Вот он и порвал с семьей и уже много лет скитается по свету. Мне кажется, он никогда не живал в Торнфильде больше двух недель кряду, с тех пор как сделался владельцем этого имения после смерти брата, не оставившего завещания. Неудивительно, что он ненавидит старый дом и избегает его.
– А почему бы мистеру Рочестеру избегать его?
– Может быть, он кажется ему слишком мрачным.
Этот ответ не удовлетворил меня. Мне хотелось знать больше; однако миссис Фэйрфакс или не желала, или не могла дать мне более подробных сведений о происхождении и причинах этих горестей мистера Рочестера. Она утверждала, что они тайна для нее самой и все ее сведения сводятся к догадкам. Мне было ясно, что она не намерена продолжать разговор на эту тему, и я прекратила расспросы.
Глава XIV
В последующие дни я мало видела мистера Рочестера. По утрам он был занят всевозможными делами, а во вторую половину дня приезжали джентльмены из Милкота и из соседних поместий и нередко оставались обедать. Когда его нога зажила и можно было садиться на лошадь, он стал много выезжать – очевидно, отдавал визиты – и возвращался домой только поздно вечером.
В эти дни он даже Адель вызывал к себе только изредка, а я лишь случайно встречалась с ним в холле, на лестнице или в коридоре, причем иногда он проходил мимо с холодным и надменным видом, отвечая на мой поклон только кивком или равнодушным взглядом, – а иногда приветливо кланялся, с чисто светской улыбкой. Эти перемены в его настроениях не обижали меня, я чувствовала, что все это ко мне не имеет отношения. Тут действовали какие-то иные причины.
Однажды, когда у него были гости к обеду, он прислал за моей папкой: видимо, хотел показать мои рисунки. Джентльмены уехали рано; в Милкоте, – так сообщила миссис Фэйрфакс, – предполагалось какое-то многолюдное собрание. Так как вечер оказался дождливым и холодным, мистер Рочестер не поехал. Едва гости отбыли, как он позвонил, – Адель и меня позвали вниз. Я пригладила ей волосы щеткой, одела поизящнее и, убедившись, что сама, как обычно, несколько напоминаю квакершу и в моем туалете нечего поправлять, настолько было все просто и скромно, включая и гладкую прическу, спустилась с Аделью вниз, причем маленькая француженка оживленно обсуждала вопрос о том, пришел ли наконец ее «ящик», который вследствие какой-то ошибки задержался в пути. На этот раз ее надежды оправдались: когда мы вошли, то увидели на столе долгожданную картонную коробку. Адель словно инстинктивно угадала, что это ее коробка.
– Ma boite, ma boite![11] – воскликнула она, подбегая к столу.
– Да, это твоя boite наконец-то! Садись с ней в уголок, о ты, истинная дочь Парижа, и открой ее, – услышала я низкий насмешливый голос мистера Рочестера, донесшийся из глубины огромного кресла возле камина. – И смотри, – продолжал он, – не надоедай мне подробностями этого увлекательного процесса или какими-нибудь замечаниями относительно содержимого коробки. Словом, производи все операции в полном молчании. Tiens toi tranquille, enfant, comprends tu?[12]
Но Адель, видимо, не нуждалась в этом предупреждении. Она забралась вместе со своим сокровищем на диван и торопливо развязывала бечевку, придерживавшую крышку. Открыв коробку и развернув покровы шелковой бумаги, она только тихо воскликнула:
– Oh ciel! Que c’est beau![13] – и предалась восхищенному созерцанию своих сокровищ.
– А мисс Эйр здесь? – спросил хозяин, приподнимаясь в кресле и оглядываясь на дверь, возле которой я стояла.
– Так вот вы где! Идите сюда, садитесь. – Он подвинул стул к своему креслу. – Я не люблю детской болтовни, – продолжал он, – так как я старый холостяк и у меня нет никаких приятных воспоминаний, связанных с детским лепетом. Я был бы не в состоянии провести целый вечер наедине с малышом. Не отодвигайте ваш стул, мисс Эйр. Пусть он стоит там, где я его поставил, то есть – пожалуйста… Черт побери все эти вежливости! Я постоянно забываю о них… Не испытываю я также особой симпатии и к простодушным старушкам. Однако о своей мне приходится помнить. Я не имею права забывать о ней, она все-таки носит фамилию Фэйрфакс, или была замужем за Фэйрфаксом, – а говорят, что родственниками нельзя пренебрегать.
Он позвонил, прося пригласить миссис Фэйрфакс, которая вскоре явилась со своей корзиночкой для вязанья.
– Добрый вечер, сударыня! Я послал за вами, рассчитывая на ваше милосердие: я запретил Адели разговаривать со мной о своих подарках, а она жаждет излиться перед кем-нибудь. Будьте столь добры, возьмите на себя роль публики и собеседницы. Это будет истинным благодеянием.
И действительно, едва Адель увидала миссис Фэйрфакс, как усадила ее на диван и тотчас же выложила ей на колени все те вещицы из фарфора, слоновой кости и воска, которые нашла в своей boite. Она засыпала ее объяснениями на ломаном английском языке, на котором тогда говорила.
– Теперь я выполнил свой долг внимательного хозяина, – продолжал мистер Рочестер, – то есть предоставил гостям занимать друг друга, и могу на свободе подумать о собственных удовольствиях. Мисс Эйр, подвиньте ваш стул еще немного вперед, вы все-таки сидите слишком позади меня. Чтобы видеть вас, я должен переменить свое положение в удобном кресле, а я отнюдь не собираюсь этого делать.
Я исполнила его требование, хотя гораздо охотнее осталась бы в тени; но мистер Рочестер так умел приказывать, что вы поневоле ему повиновались.
Мы сидели, как я уже упоминала, в столовой; люстра, зажженная к обеду, заливала комнату праздничным светом. Ярко пылал камин, красные драпировки тяжелыми пышными складками свисали с высокого окна и с еще более высокой арки; все было тихо, слышалась только сдержанная болтовня Адели (она не смела говорить слишком громко), да во время пауз доносился шум зимнего дождя, хлеставшего в оконные стекла.
Сейчас мистер Рочестер, сидевший в своем роскошном кресле, выглядел иначе, чем обычно. Он был не такой строгий, не такой угрюмый. Его губы улыбались, глаза блестели, может быть, от выпитого вина, – в чем я не уверена, но что было весьма вероятно. Словом, после обеда его настроение слегка поднялось. Он стал гораздо общительнее и откровеннее, гораздо снисходительнее и добродушнее, чем казался по утрам. И все же лицо его оставалось довольно мрачным, голова была откинута на мягкую спинку кресла; словно высеченные из гранита черты и темные глаза озаряло пламя камина, – а глаза у него были действительно прекрасные – большие, черные, и в их глубине что-то все время менялось, в них на мгновение вспыхивала какая-то мягкость или что-то близкое к ней.
Минуты две он смотрел на огонь, а я смотрела на него. Вдруг он обернулся и перехватил мой взгляд, прикованный к его лицу.
– Вы рассматриваете меня, мисс Эйр, – сказал он. – Как вы находите, я красив?
Если бы у меня было время подумать, я бы ответила на этот вопрос так, как принято отвечать в подобных случаях: что-нибудь неопределенное и вежливое, но ответ вырвался у меня до того, как я успела удержать его:
– Нет, сэр!..
– Честное слово, в вас есть что-то своеобразное! Вы похожи на монашенку, когда сидите вот так, сложив руки, – тихая, строгая, спокойная, устремив глаза на ковер, за исключением тех минут, впрочем, когда ваш испытующий взор устремлен на мое лицо, как, например, сейчас; а когда задаешь вам вопрос или делаешь замечание, на которое вы принуждены ответить, вы сразу ошеломляете человека если не резкостью, то, во всяком случае, неожиданностью своего ответа. Ну, так как же?
– Сэр, я слишком поторопилась, прошу простить меня. Мне следовало сказать, что нелегко ответить сразу на вопрос о наружности, что вкусы бывают различны, что дело не в красоте и так далее.
– Вот уж нет, вам не следовало говорить ничего подобного. Скажете тоже – дело не в красоте! Вместо того чтобы смягчить ваше первое оскорбление, утешить меня и успокоить, вы говорите мне новую колкость. Продолжайте. Какие вы находите во мне недостатки? По-моему, у меня все на месте и лицо как у всякого другого?..
– Мистер Рочестер, разрешите мне взять назад мои слова; я не то хотела сказать, это была просто глупость.
– Вот именно, я тоже так думаю, и вам придется поплатиться за нее. Ну, давайте разберемся: мой лоб вам не нравится?
Он приподнял черную прядь волос, лежавшую над его бровями, и показал высокий, умный лоб; лицу его, однако, недоставало выражения доброты и снисходительности.
– Что ж, сударыня, я, по-вашему, дурак?
– Отнюдь нет, сэр. Но не примите за грубость, если я отвечу вам другим вопросом: считаете ли вы себя человеком гуманным?
– Ну вот опять! Колкость вместо ожидаемого комплимента. А все потому, что я заявил о своей нелюбви к детям и старушкам. Нет, молодая особа, я не слишком гуманен, но совесть у меня есть. – И он указал на выпуклости своего лба, которые, как говорят, свидетельствуют о чувствительной совести и которые были у него, к счастью, достаточно развиты, придавая особую выразительность верхней части лица. – Кроме того, – продолжал он, – в моей душе жила когда-то своеобразная грубоватая нежность, и в вашем возрасте я был довольно отзывчив, особенно по отношению к угнетенным, несчастным и забитым. Но с тех пор жизнь сильно потрепала меня, она основательно обработала меня своими кулаками, и теперь я могу похвастаться тем, что тверд и упруг, как резиновый мяч, хотя в двух-трех местах сквозь оболочку мяча можно проникнуть вглубь и коснуться чувствительной точки, таящейся в самой средине. Так вот, смею я надеяться?
– Надеяться на что, сэр?
– На мое превращение из резинового мяча в живого человека.
«Нет, он, наверное, выпил лишнее!» – решила я, не зная, что ответить на этот странный вопрос. Действительно, откуда мне было знать, способен он на это превращение или нет?
– Вы очень смущены, мисс Эйр, и хотя вас нельзя назвать хорошенькой, так же как меня нельзя назвать красавцем, смущение вам идет; кроме того, оно отвлекает ваш взгляд от моей физиономии и заставляет вас рассматривать цветы на ковре; поэтому продолжайте смущаться. Сударыня, я расположен быть сегодня общительным и откровенным!
После этого заявления он поднялся с кресла и встал, положив руку на мраморную каминную доску. В этой позе его фигура была видна так же отчетливо, как и лицо. Ширина плеч не соответствовала росту. Вероятно, многие сочли бы его некрасивым, однако в его манере держаться было столько бессознательной гордости, столько непринужденности, такое глубокое равнодушие к своему внешнему облику, такая надменная уверенность в превосходстве своих более высоких качеств, заменяющих физическую красоту, что, глядя на него, вы невольно готовы были поверить в него, как он сам в себя верил.
– Я расположен сегодня быть общительным и откровенным, – повторил он. – Вот почему я послал за вами. Меня не удовлетворяет общество камина и подсвечников, а также Пилота, ибо они вовсе лишены дара речи. Адель уже чуть-чуть лучше, но и она не годится; то же самое и миссис Фэйрфакс. Вы же, я в этом уверен, можете, если захотите, удовлетворить моим требованиям. Вы заинтересовали меня в первый же раз, когда я вас сюда позвал. С тех пор я почти забыл вас, другие мысли занимали меня. Но сегодня я решил провести спокойный вечер, отбросив все, что докучает мне, и помнить только приятное. Мне хотелось бы заставить вас высказаться, узнать вас лучше, поэтому – говорите.
Вместо того чтобы заговорить, я улыбнулась. Это была отнюдь не снисходительная или покорная улыбка.
– Говорите же, – настаивал он.
– Но о чем, сэр?
– О чем хотите. Я целиком предоставляю вам и выбор темы, и ее обсуждение.
Я сидела и молчала. «Если он хочет, чтобы я говорила единственно ради того, чтобы болтать, то увидит, что напрасно обратился за этим ко мне», – думала я.
– Вы онемели, мисс Эйр?
Я все еще молчала. Он слегка наклонил ко мне голову и бросил на меня быстрый взгляд, словно проникший в самую глубину моей души.
– Упрямитесь? – сказал он. – Рассердились? О, это понятно. Я высказал свое требование в нелепой, почти дерзкой форме. Мисс Эйр, я прошу извинить меня. Прежде всего имейте в виду, что я вовсе не хочу обращаться с вами как с существом, ниже меня стоящим, то есть, – поправился он, – я притязаю только на то превосходство, которое дают мне двадцать лет разницы между нами и целый век жизненного опыта. Это вполне законно et j’y tiens[14], – как сказала бы Адель; и вот на основе этого превосходства, и только его, я прошу вас теперь быть такой доброй и немножко поговорить со мной, чтобы отвлечь меня от мыслей, которые окончательно мне опостылели и тревожат меня, как больной зуб.
Он снизошел до объяснения, почти до просьбы о прощении. Я не осталась равнодушной к его словам и не хотела этого скрыть.
– Я охотно готова развлечь вас, сэр, если смогу, очень охотно, – но с чего же мне начать? Ведь я не знаю, что вас интересует. Задавайте мне вопросы, и я постараюсь ответить на них.
– Тогда прежде всего скажите: вы согласны, что я имею некоторое право на властный, а иногда, может быть, резкий тон? Я и в самом деле бываю очень настойчив, но имею на это право по той причине, на которую уже указал, а именно: что я гожусь вам в отцы, что я приобрел большой жизненный опыт, общаясь со многими людьми разных национальностей, исколесил половину земного шара, тогда как вы спокойно жили на одном месте среди все тех же людей.
– Поступайте как вам угодно, сэр.
– Это не ответ, или, вернее, – ответ, способный вызвать раздражение, так как он слишком уклончив. Выскажитесь яснее.
– Я не думаю, сэр, чтобы вы имели право приказывать мне лишь потому, что вы старше меня, или потому, что лучше знаете жизнь. Ваши притязания на превосходство могут основываться только на том, какие вы извлекли уроки из жизни и вашего опыта.
– Гм, неплохо сказано, но согласиться с этим я не могу, потому что никаких уроков я не извлек, разве только самые неподходящие. Оставив в стороне вопрос о превосходстве, вы все-таки должны примириться с тем, чтобы иногда подчиняться моим приказаниям, не обижаясь и не сердясь на мой повелительный тон. Согласны?
Я улыбнулась. Мне пришло в голову, что все же мистер Рочестер весьма своеобразный человек. Он, видимо, забывает, что платит мне в год тридцать фунтов за то, чтобы я исполняла его приказания.
– Это хорошая улыбка, – сказал он, мгновенно уловив скользнувшее по моему лицу выражение. – Но говорите.
– Я подумала, сэр, о том, что далеко не всякий хозяин будет спрашивать свою подчиненную, которой он платит деньги, не обижают ли ее и не сердят ли его приказания.
– Свою подчиненную, которой он платит деньги? Это вы моя подчиненная, которой я плачу? Ах да, я забыл про ваше жалованье! Ну, что же! Хоть на этой меркантильной основе вы мне разрешите слегка подразнить вас?
– Нет, сэр, не поэтому, а потому, что вы забыли об этом, и потому, что вам не безразлично, как ощущает ваша подчиненная свою зависимость, – я соглашаюсь от всего сердца.
– И вы согласны обойтись без некоторых общепринятых фраз и форм вежливости и не считать, что это дерзость?
– Я уверена, сэр, что никогда не приму отсутствие формальности за дерзость. Первое мне нравится, а второго не потерпит ни одно свободнорожденное существо ни за какое жалованье.
– Вздор! Большинство свободнорожденных существ стерпит за деньги что угодно; поэтому говорите только о себе и не судите о вещах, в которых вы совершенно не разбираетесь; впрочем, в душе я пожимаю вам руку за ваш ответ, хотя он и неверен, а также за то, как вы ответили. Вы говорили искренне и прямо, – не часто слышишь такой тон: обычно на искренность отвечают напускной любезностью, или холодностью, или тупым и грубым непониманием. Из трех тысяч молодых гувернанток не нашлось бы и трех, которые ответили бы мне так, как вы. Но я не собираюсь льстить вам: если вы сотворены иначе, чем огромное большинство, – это не ваша заслуга. Такой вас сделала природа. И потом, я слишком тороплюсь с моими заключениями. Пока что я не имею оснований считать вас лучше других. Может быть, при кое-каких положительных чертах вы таите в себе возмутительные недостатки.
«Может быть, и вы тоже?» – подумала я. Когда у меня мелькнула эта мысль, наши взгляды встретились. Казалось, он прочел ее, и ответил, словно она была высказана вслух:
– Да, да, вы правы! У меня у самого куча недостатков. Я знаю их и вовсе не собираюсь оправдываться, уверяю вас. Одному богу известно, как у меня мало оснований быть строгим к другим. В моей прежней жизни было немало дурных поступков, да и весь характер этой жизни таков, что всякие насмешки и порицания, с которыми я обратился бы к моим ближним, прежде всего обратятся на меня самого. Когда мне шел двадцать первый год, я вступил, или, вернее (как и все грешники, я готов переложить половину ответственности за свои несчастия на других), я был увлечен на ложную тропу и с тех пор так и не вернулся на правильный путь. А ведь я мог быть совсем иным – таким же, как вы, но только мудрее, и почти таким же непорочным. Я завидую покою вашей души, чистоте вашей совести, незапятнанности ваших воспоминаний. Знаете, маленькая девочка, чистые воспоминания, ничем не оскверненные, – это восхитительное сокровище, это неиссякающий источник живительных сил! Не так ли?
– А каковы были ваши воспоминания, когда вам было восемнадцать лет, сэр?
– О, тогда все было хорошо! Это были чистые и здоровые воспоминания! Никакая грязь, никакая гниль не отравляла их. В восемнадцать лет я был подобен вам, совершенно подобен. Природа создала меня неплохим человеком, мисс Эйр, – а вы видите, каков я теперь? Вы скажете, что не видите, – по крайней мере я льщу себя тем, что читаю это в ваших глазах (предупреждаю, вам нужно научиться скрывать свои мысли: я очень легко угадываю их). Так вот, поверьте мне на слово, я не могу назвать себя негодяем, и вы не должны приписывать мне ничего подобного, ибо скорее в силу обстоятельств, чем природных склонностей, я самый обычный грешник, предававшийся всем тем убогим развлечениям, которым предаются богатые и ничтожные люди. Вас удивляет, что я признаюсь в этом? Вам в жизни предстоит быть невольным поверенным многих тайн ваших ближних; люди инстинктивно чувствуют, как и я, что не в вашем характере рассказывать о себе, но что вы готовы выслушать чужие исповеди. И они почувствуют также, что вы внимаете им не с враждебной насмешливостью, а с участием и симпатией, и хотя не говорите красивых слов, но можете утешить и ободрить.
– Откуда вы знаете? Как вы беретесь предсказывать все это, сэр?
– Знаю прекрасно. Поэтому и говорю нимало не задумываясь. Вы скажете, что я должен был подняться выше обстоятельств? Да, должен был, должен был, но, как видите, этого не случилось. Когда судьба посмеялась надо мной, я еще не был умудрен жизнью и не знал, что никогда нельзя терять хладнокровие. Я предался отчаянию, и тогда я пал. И вот теперь, когда растленный глупец вызывает во мне отвращение своими жалкими пороками, мне трудно утешить себя мыслью, что я лучше его. Я вынужден признать, что и я такой же. А как я жалею теперь, что не устоял! Одному богу известно, как жалею! Если вас будут увлекать соблазны, мисс Эйр, вспомните о вашей совести. Муки совести способны отравить жизнь.
– Говорят, сэр, раскаяние исцеляет.
– От них раскаяние не исцеляет. Исцелить может только второе рождение. И я мог бы переродиться, у меня есть силы, но… но какой смысл думать об этом, когда несешь на себе бремя проклятья? А уж если мне навсегда отказано в счастье, я имею право искать в жизни хоть каких-нибудь радостей, и я не упущу ни одной из них, чего бы мне это ни стоило.
– Тогда вы будете падать все ниже, сэр.
– Возможно. Но отчего же, если эти радости чисты и сладостны? И я получу их такими же чистыми и сладостными, как дикий мед, который пчелы собирают с вереска?
– Пчелы жалят, а дикий мед горек, сэр.
– Откуда вы знаете? Вы никогда не пробовали его. Какой у вас серьезный, почти торжественный вид! Но вы так же мало смыслите во всем этом, как вот эта камея (он взял с каминной полки камею), и вы не имеете никакого права наставлять меня, ведь вы – всего-навсего молодая послушница, еще не переступившая порога жизни и не ведающая ее тайн.
– Я только напоминаю вам ваши собственные слова, сэр. Вы сказали, что ошибки приводят к угрызениям совести, и признали, что это отравляет жизнь.
– Но кто сейчас говорит об ошибках! Едва ли мелькнувшая у меня мысль была ошибкой. Она скорее откровение, чем соблазн. Она очень светла, очень целительна, я знаю. Вот она опять! Нет, это не дьявол, уверяю вас, а если дьявол, то он облекся в одежды светлого ангела. Я думаю, что должен впустить прекрасную гостью, если она просится в мое сердце.
– Остерегайтесь, сэр, это не настоящий ангел.
– Еще раз, откуда вы знаете? На основании чего можете вы отличить павшего серафима – ангела бездны – от вестника неба, отличить истинного праведника от искусителя?
– Я сужу по выражению вашего лица, сэр: вы были смущены и опечалены, когда эта мысль возвратилась к вам. Я уверена, что вы навлечете на себя другое несчастье, если последуете ей.
– Нисколько! Она несет мне сладчайшую в мире весть, да и потом, вы же страж моей совести! Поэтому можете не беспокоиться. Приди ко мне, прекрасная странница.
Он сказал это, словно обращаясь к видению, представшему только перед ним; затем, протянув руки, он прижал их к груди, словно заключая невидимое существо в свои объятия.
– Теперь, – продолжал он, снова обращаясь ко мне, – я принял странницу и знаю: она – переодетая богиня. Я в этом совершенно уверен. И она уже принесла мне добро, мое сердце было подобно склепу, теперь оно будет алтарем.
– Говоря по правде, сэр, я вас совсем не понимаю. Я не могу продолжать этот разговор, так как он для меня слишком загадочен. Я знаю одно: вы сказали, что у вас много недостатков и что вы скорбите о собственном несовершенстве. Вы сказали, что нечистая совесть может стать для человека проклятием всей его жизни. И мне кажется, если бы вы действительно захотели, то со временем могли бы стать другим человеком, достойным собственного уважения. Если вы с этого же дня придадите своим мыслям и поступкам большую чистоту и благородство, через несколько лет у вас будет запас безупречных воспоминаний, которые доставят вам радость.
– Справедливая мысль! Правильно сказано, мисс Эйр. И в данную минуту я энергично мощу ад.
– Сэр?
– Я полон добрых намерений, и они тверже кремня. Конечно, мои знакомства и мои интересы станут иными, чем они были до сих пор.
– Лучше?
– Да, лучше. Настолько, насколько чистое золото лучше грязи. Вы, кажется, сомневаетесь? Но я в себе не сомневаюсь. Я знаю свою цель и свои побуждения и в данную минуту ставлю себе закон, непреложный, как закон мидян и персов, и утверждаю, что истина только в этих новых целях.
– Какая же это истина, сэр, если она требует для своего утверждения нового закона?
– И все же это истина, мисс Эйр, хотя она, бесспорно, требует нового закона: небывалое сочетание обстоятельств требует и небывалого закона.
– Опасное утверждение, сэр; ведь ясно, что этим легко злоупотребить.
– О добродетельная мудрость! Такая опасность есть, не спорю, но я клянусь всеми домашними богами – не злоупотреблять.
– Вы тоже человек и грешны.
– Верно; и вы тоже. Но что из этого?
– Человеческое и грешное не должно притязать на власть, которую можно признать только за Божественным и совершенным.
– Какую власть?
– Власть сказать по поводу новой, не освященной традициями линии поведения: это правильно.
– Это правильно, вот именно; и вы это сказали.
– Пусть это будет правильно, – сказала я, вставая, ибо считала бессмысленным продолжать спор, в котором все от первого до последнего слова было мне непонятно. Кроме того, я чувствовала себя неспособной проникнуть в мысли моего собеседника – по крайней мере сейчас – и испытывала ту неуверенность, ту смутную тревогу, которой обычно сопровождается сознание собственной недогадливости.
– Куда вы идете?
– Укладывать Адель, ей давно пора быть в постели.
– Вы боитесь меня, оттого что я, как сфинкс, говорю загадками?
– Да, ваши слова мне непонятны, сэр, я ошеломлена, но, разумеется, не боюсь.
– Нет, вы боитесь, вы из самолюбия опасаетесь попасть в смешное положение.
– В этом смысле – да, у меня нет ни малейшего желания говорить глупости.
– Если бы даже вы их и сказали, то так спокойно и важно, что я принял бы их за умные мысли. Неужели вы никогда не смеетесь, мисс Эйр? Не трудитесь отвечать: я вижу, что вы смеетесь редко; но вы можете смеяться очень весело. Поверьте, по природе вы вовсе не суровы, не больше, чем я порочен. Ловуд все еще держит вас в своих тисках. Он сковывает выражение вашего лица, заглушает ваш голос, связывает ваши движения. И вы в присутствии мужчины – брата, или отца, или хозяина, называйте там, как хотите, – боитесь весело улыбнуться, заговорить свободно, быстро задвигаться. Но со временем, надеюсь, вы научитесь держаться со мной так же естественно, как я с вами, а я иначе не могу. И тогда ваши взгляды и движения будут живее и разнообразнее, чем они дерзают быть сейчас. По временам я вижу между тесными прутьями клетки прелюбопытную птицу – живую, неугомонную и отважную пленницу; будь она свободна, она бы взлетела под облака. Вы все еще намерены уйти?
– Уже пробило девять, сэр.
– Неважно, подождите минутку, Адели еще не хочется спать. Моя поза, мисс Эйр, спиной к огню и лицом к вам, благоприятствует наблюдению. Беседуя с вами, я по временам смотрел и на Адель (у меня есть основания считать ее интересным объектом для наблюдения; основания, которые я, может быть – и даже наверное, – когда-нибудь сообщу вам): десять минут тому назад она извлекла из своей коробки розовое шелковое платьице, развернула его, и на лице ее вспыхнул восторг; кокетство у нее в крови, оно ослепляет ее разум, захватывает все ее существо. «Я хочу его примерить! И сию же минуту!» – воскликнула Адель и выбежала из комнаты. Сейчас она у Софи и переодевается, через несколько минут она вернется, и я знаю, кого увижу перед собой – Селину Варанс в миниатюре, такой, какой она появлялась на сцене, – впрочем, это неважно. Во всяком случае, мои нежнейшие чувства получат удар. Таково мое предположение. Останьтесь и посмотрите, сбудется ли оно.
Вскоре мы действительно услышали в холле детские шаги Адели. Девочка вся преобразилась, как и предсказывал ее опекун. Вместо коричневого платьица, которое было на ней, она оказалась в розовом шелковом, очень коротком, собранном у пояса в пышные складки. На ее головке лежал веночек из розовых бутонов. На ногах были шелковые чулки и белые атласные туфельки.
– Est-ce que ma robe me va bien?.. – воскликнула она, подбегая к нам. – Et mes souliers? Et mes bas? Tenez, je crois que je vais danser![15]
И, приподняв платьице, она затанцевала по комнате. Дойдя до мистера Рочестера, она легко повернулась на носках и, упав перед ним на одно колено, воскликнула:
– Monsieur, je vous remercie mille fois de votre bonte! – Затем, поднявшись, добавила: – C’est comme cela que maman faisait, n’est-ce pas, monsieur?[16]
– Вот именно, – последовал ответ, – и comme cela[17] она выманивала английское золото из моего кармана. Я тоже был зеленым, желторотым юнцом, мисс Эйр, – увы, совсем желторотым! – и был так же свеж и непосредствен, как вы теперь. Моя весна прошла, но она оставила мне этот французский цветочек, от которого в иные минуты мне очень хотелось бы отделаться. Перестав ценить тот стебель, на котором он расцвел, убедившись, что это такая порода, которая признает только золотое удобрение, я испытываю лишь весьма относительную привязанность к этому цветку, особенно когда он кажется таким искусственным, как сейчас. Я сохраняю его у себя и выращиваю скорее во имя католического принципа, гласящего, что одно доброе дело может искупить множество грехов – больших и малых. Когда-нибудь я объясню вам все это. Спокойной ночи!
Глава XV
И мистер Рочестер вскоре все объяснил мне. Как-то под вечер мы с Аделью встретили его в саду; и пока она играла в волан и забавлялась с Пилотом, он предложил мне погулять по длинной буковой аллее, откуда мы могли наблюдать за девочкой.
Тогда он рассказал мне, что Адель – дочь французской танцовщицы Селины Варанс, к которой он некогда питал une grande passion[18]. На эту страсть Селина как будто отвечала с удвоенным пылом. Он считал, что она его обожает, невзирая на то, что он некрасив. Он верил, что она предпочитает его taille d’athlête[19] изяществу Аполлона Бельведерского.
– И знаете, мисс Эйр, я был так польщен тем, что эта галльская сильфида отдает столь явное предпочтение британскому гному, что снял для нее особняк, дал ей целый штат слуг, экипаж, задаривал ее шелками, бриллиантами, кружевами… Короче говоря, я самым банальным образом шел навстречу собственному разорению, как и всякий другой безумец. Я, видимо, не был наделен способностью изобрести новый и оригинальный путь к позору и гибели и следовал обычным путем, добросовестно стараясь ни на дюйм не отклониться от проторенной дорожки. И меня постигла, как я этого и заслужил, судьба всех безумцев. Однажды вечером, когда Селина не ждала меня, я зашел к ней, но ее не оказалось дома. Вечер был теплый, а я устал слоняться по Парижу, поэтому я решил ее дождаться и расположился в будуаре. Я был счастлив дышать воздухом, освященным ее недавним присутствием. Впрочем, нет, преувеличиваю, мне никогда не казалось, что от Селины веет добродетелью. То был скорее аромат курений или благовонных лепешек, запах мускуса и амбры, но отнюдь не аромат святости. Я уже начинал задыхаться от благоухания оранжерейных цветов и ароматических эссенций, когда мне пришло в голову выйти на балкон. От луны и газовых фонарей на улице было очень светло, всюду царили мир и тишина. На балконе стояли два-три кресла; я сел и вынул сигару… Я и сейчас закурю, если разрешите.
Последовала пауза, во время которой он достал и закурил сигару. Затянувшись и выпустив душистую струю дыма в морозный, бессолнечный воздух, он продолжал:
– В те дни, мисс Эйр, я любил также и конфеты, – и вот я сидел, простите мне эту грубость, уплетая шоколад, куря сигару и рассматривая экипажи, которые катились передо мной по аристократическим улицам в сторону находящегося неподалеку здания Оперы. Вдруг появилась элегантная карета, запряженная двумя великолепными английскими лошадьми, она была отчетливо видна на фоне этой ярко освещенной городской ночи, – и я узнал экипаж, который подарил Селине. Она возвращалась; разумеется, от нетерпения мое сердце заколотилось о чугунную решетку, на которую я опирался. Как я и предполагал, карета остановилась перед подъездом особняка, и моя волшебница (очень подходящее слово для оперной дивы) выпорхнула на мостовую. Хотя Селина и куталась в плащ, что было как будто совершенно не нужно в такой теплый июньский вечер, я сразу узнал ее по маленькой ножке, высунувшейся из-под платья, когда она спрыгивала со ступеньки кареты. Перегнувшись через перила балкона, я уже готов был прошептать «Mon ange!»[20] – разумеется, так тихо, чтобы это мог уловить только слух влюбленной, когда, следом за ней, из экипажа выпрыгнул какой-то человек. Он был также скрыт плащом, но на этот раз о мостовую звякнули шпоры, и под сводами подъезда проплыла черная мужская шляпа.
Вы никогда не испытывали ревности, мисс Эйр, верно? Конечно, нет; мне незачем и спрашивать, ведь вы никогда не знали любви. Вам еще предстоит пережить оба эти чувства; ваша душа еще спит, и нужен толчок, чтобы пробудить ее. Вам кажется, что вся жизнь так и будет течь спокойно, как та река, которая несла вашу юность, и вы будете плыть, ничего не видя и не чувствуя, не замечая угрожающих вам рифов, не слыша, как кипят вокруг них волны. Но я вам говорю, и вы запомните мои слова: настанет день, когда вы окажетесь перед узким скалистым ущельем, где река жизни превратится в ревущий водоворот, пенящийся и грохочущий; и тогда вы либо разобьетесь об острые рифы, либо вас подхватит спасительный вал и унесет в более спокойное место, как он унес меня…
Мне нравится этот тусклый день; мне нравится это свинцовое небо, мне нравится угрюмый, застывший от мороза мир. Мне нравится Торнфильд, его освященная преданиями старина и его уединенное местоположение; старые деревья с грачиными гнездами, кусты боярышника, серый фасад и ряды темных окон, отражающих свинцовое небо; а вместе с тем как долго я ненавидел самую мысль о нем, как избегал его, точно этот дом зачумлен. Как и теперь ненавижу…
Он стиснул зубы и замолчал; затем остановился и топнул ногой о мерзлую землю. Казалось, им овладела какая-то ненавистная ему мысль и так крепко держала его, что он не мог сдвинуться с места.
Мы были на главной аллее, когда он остановился. Перед нами высился дом. Подняв глаза, он окинул его таким взглядом, какого я никогда не видала у него ни раньше, ни потом. Казалось, в этих больших глазах под черными бровями схватились не на жизнь, а на смерть страдание, стыд, гнев, нетерпение, презрение, ненависть. Это была неистовая борьба; но вот возникло новое чувство и взяло верх. Во взгляде мистера Рочестера появилось что-то жестокое и циничное, упрямое и решительное, оно укротило душевную бурю и вернуло ему самообладание. Он продолжал:
– Я потому молчал несколько мгновений, мисс Эйр, что спорил со своей судьбой, она стояла вон там, возле ствола, – ведьма, подобная одной из тех, которые явились Макбету под Форесом.
«Ты любишь Торнфильд», – сказала она, подняв палец, и затем начертала в воздухе зловещие письмена, которые протянулись вдоль всего дома, между нижним и верхним рядом окон: «Что ж, люби его, если можешь, люби, если смеешь».
«Я буду любить его, – ответил я, – и осмелюсь любить его!»
– И сдержу свое слово, – добавил он упрямо, – я сломлю все препятствия на пути к счастью, к добру – да, к добру! Я хочу стать лучше, чем я был, чем я есть; и так же, как Левиафан сломал стрелу и копье Иова, так же препятствия, которые другими считаются железом и сталью, станут для меня соломой и гнилушками!
Тут к нему подбежала Адель со своим воланом.
– Уходи! – крикнул он резко. – Не приближайся ко мне, дитя, ступай к Софи.
Затем мы продолжали прогулку молча, и я решилась напомнить ему о том, на чем он так внезапно остановился.
– Вы что же, ушли с балкона, сэр, – спросила я, – когда мадемуазель Варанс вошла в комнату?
Я ждала какой-нибудь резкости в ответ на неуместный вопрос, но он, наоборот, вышел из своей угрюмой задумчивости, повернулся ко мне, и его лицо прояснилось.
– О, я и забыл про Селину. Ну, продолжу, чтобы закончить… Когда я увидел свою волшебницу в сопровождении кавалера, мне почудилось, что я слышу возле себя шипение и что змея с зелеными глазами поднялась, извиваясь бесчисленными кольцами на залитом лунным светом балконе, скользнула под мою одежду и мгновенно нашла себе путь в самые глубины моего сердца. Как странно, – воскликнул он, вдруг опять отвлекаясь от своего рассказа, – как странно, что я выбрал именно вас своей наперсницей! И еще более странно, что вы слушаете меня совершенно спокойно, словно это самая обычная вещь на свете, чтобы мужчина, подобный мне, рассказывал всякие истории о своей возлюбленной неискушенной, молодой девушке. Но последняя странность объясняет первую; как я уже говорил вам, вы, с вашей серьезностью, рассудительностью и тактом, прямо созданы, чтобы быть хранительницей чужих тайн. Кроме того, я знаю, с какой чистой душой соприкоснулся, знаю, что ваша душа не способна заразиться ничем дурным; у вас совершенно своеобразный, единственный в своем роде ум. К счастью, я не собираюсь осквернять его, – но если бы даже и хотел, он не воспринял бы этой скверны. Чем больше мы будем общаться, тем лучше; я не могу погубить вас, но зато вы можете исцелить меня.
После этого отступления он продолжал:
– Я остался на балконе. «Они, без сомнения, войдут в ее будуар, – решил я, – надо подготовить им западню». Просунув руку в открытую дверь, я задернул гардины, оставив лишь небольшую щель, через которую мог наблюдать. Затем притворил раму настолько, чтобы все же слышать шепот любовников, и прокрался обратно к своему креслу. В эту минуту они вошли. Я быстро приник к щели. Горничная Селины зажгла лампу, поставила ее на стол и удалилась. Теперь они были мне видны совершенно отчетливо; они сбросили плащи, и вот передо мной появилась Варанс, блистая атласом и драгоценностями, – все это были, разумеется, мои дары, – и ее спутник – молодой человек в офицерской форме. Я узнал в нем одного кутилу виконта, глупого и порочного юношу, которого встречал в обществе и которого не удосужился возненавидеть, так как слишком глубоко презирал. Когда я узнал его, моя ревность утратила свое жало, ибо в то же мгновение моя любовь к Селине была как бы потушена. Женщина, которая могла обманывать меня с таким соперником, была недостойна моей любви, она вызывала лишь презрение, – правда, в меньшей мере, чем я, позволивший себя обмануть искательнице приключений.
Они принялись беседовать, и их разговор окончательно все разъяснил мне. Это была фривольная, бессердечная, бессмысленная болтовня, которая могла скорее утомить, чем взбесить слушателя. На столе лежала моя визитная карточка, что и послужило для них поводом заговорить обо мне. Ни у одного из них не хватило смелости и остроумия, чтобы метко высмеять меня. Они бранили меня со всей мещанской грубостью, на какую были способны; особенно Селина, которая довольно ехидно издевалась над моими физическими недостатками – «уродством», как она говорила, – хотя обычно она восторгалась тем, что называла моей «beauté mâle»[21]. В этом Селина была полной противоположностью вам: ведь вы при второй же встрече заявили мне совершенно категорически, что я отнюдь не красавец. Меня сразу же поразил контраст…
Тут Адель снова подбежала к нам.
– Мсье, только что приходил Джон, он сказал, что здесь ваш управляющий и хочет повидать вас.
– А, в таком случае я буду краток. Открыв дверь, я вошел и направился к ним. Я заявил, что избавляю Селину от своего покровительства, и предложил ей освободить дом; вручил кошелек с деньгами на необходимые расходы, пренебрег слезами, истериками, мольбами, протестами, припадками и условился встретиться с виконтом в Булонском лесу. На другое утро я имел удовольствие увидеть его перед собой. Я всадил пулю в его тощее, хилое плечо, слабое, как крылышко цыпленка, и уже думал, что раз и навсегда покончил со всей этой историей. Однако, к несчастью, Варанс за полгода перед тем подарила мне эту девочку – Адель, которая была, по ее словам, моей дочерью; может быть, это и так, хотя я не вижу в ее чертах никаких признаков столь мрачного отцовства. Пилот больше похож на меня, чем она. Спустя несколько лет после нашего разрыва Селина бросила ребенка на произвол судьбы и бежала с каким-то музыкантом или певцом в Италию. Я в свое время отказался признать за Аделью какие бы то ни было права на мою поддержку, не признаю их и сейчас, так как не являюсь ее отцом. Но, услышав, что она покинута, я извлек ее из грязи парижских трущоб и перевез сюда, чтобы она могла расти на здоровой почве английского деревенского сада. А миссис Фэйрфакс нашла вас, чтобы воспитывать ее. Но теперь вы знаете, что она незаконная дочь французской танцовщицы, и вы, может быть, иначе отнесетесь к своей задаче и к своей воспитаннице? Может быть, вы явитесь ко мне однажды и сообщите, что нашли себе другое место и что я должен искать себе новую гувернантку и так далее? Да?
– Нет. Адель не ответственна ни за грехи матери, ни за ваши. Я привязалась к ней; а теперь, когда узнала, что она в известном смысле сирота – мать ее бросила, а вы, сэр, от нее отрекаетесь, – моя привязанность к ней станет еще крепче. Неужели я могла бы предпочесть какого-нибудь избалованного ребенка из богатой семьи, ненавидящего свою гувернантку, маленькой одинокой сиротке, которая относится ко мне как к другу?
– Ах, вот как вы на это смотрите! Ну, а теперь мне пора домой; и вам тоже, уже темнеет.
Но я осталась еще на несколько минут с Аделью и Пилотом, побегала и сыграла партию в волан. Когда я вошла в дом и сняла с девочки пальто и шляпу, я посадила ее на колени и продержала целый час, разрешив ей болтать сколько вздумается. Я даже не удерживала ее от того жеманства и тех легких вольностей, к которым она была так склонна, когда чувствовала, что на нее обращают внимание, и которые выдавали легкомыслие ее характера, вероятно унаследованное от матери и едва ли присущее маленькой англичанке. Однако у нее были и достоинства, и теперь я была склонна даже преувеличивать их. Но я тщетно искала в ней какого-нибудь сходства с мистером Рочестером: ни своими чертами, ни своим выражением – ничем это личико не напоминало его. И мне было жаль: если бы удалось установить такое сходство, он больше уделял бы ей внимания.
Лишь вечером, удалившись к себе в комнату, я подробно могла вспомнить все рассказанное мне мистером Рочестером. Как он и отметил, сама эта история была достаточно тривиальна. Страсть богатого англичанина к французской танцовщице и ее измена – случай, довольно обычный в обществе. Но было нечто, бесспорно, очень странное в том глубоком волнении, которое овладело им, когда он попытался выразить свои теперешние чувства – радость, вызванную решением отныне жить здесь, в этом старом доме, в этой местности.
С удивлением размышляла я над этим обстоятельством; но, сознавая, что бессильна разгадать эту загадку в настоящую минуту, я постепенно отвлеклась в сторону и задумалась над отношением хозяина ко мне самой. Мне казалось, что его исповедь – это благодарность за мою скромность; так я и приняла ее. В последнее время он стал относиться ко мне ровнее, чем вначале. Я чувствовала, что никогда ему не мешаю; он больше не приветствовал меня с ледяным высокомерием при случайных встречах и, казалось, бывал им рад. Всегда у него находилось для меня ласковое слово, а иногда и улыбка. Если же он приглашал меня к себе, то удостаивал сердечного приема, и я чувствовала, что действительно развлекаю его и что эти вечерние беседы так же приятны ему, как и мне.
Сама я говорила сравнительно мало, зато с наслаждением слушала его. Он был общителен по природе; очевидно, ему нравилось рисовать перед неискушенной слушательницей картины жизни и нравов (я имею в виду не те, где изображалась бы порочная жизнь и постыдные нравы, но такие, которые уносили меня в другой, более широкий мир, радовавший своей новизной); и я с радостью воспринимала от него новые идеи и, представляя себе те эпизоды, о которых он рассказывал мне, мысленно следовала за ним в неведомые области, которые он раскрывал передо мной, никогда не удивляя и не смущая мой ум какими-либо рискованными намеками.
Та непринужденность, с какой держался мистер Рочестер, постепенно ослабила мою внутреннюю скованность; дружеская откровенность, корректная и сердечная, с которой он подходил ко мне, привлекала меня к нему. Временами он казался мне скорее родственником, чем хозяином. Иногда он опять впадал в свой властный тон; но это меня не смущало: я знала, что это у него в характере. И я была так счастлива, так удовлетворена новыми интересами, вошедшими в мою жизнь, что перестала горевать о своем одиночестве, о том, что у меня нет родных. Ущербный месяц моей судьбы словно вступил в новую фазу, белые листы в моей жизни заполнялись. Я поздоровела и окрепла.
Казался ли мне теперь мистер Рочестер некрасивым? Нет, читатель: чувство благодарности и множество других впечатлений, новых и приятных, делали его лицо для меня самым желанным. Его присутствие в комнате согревало меня больше, чем самый яркий огонь. Но я не забывала о его недостатках, – да и не могла забыть, так как он слишком часто обнаруживал их передо мной. Он был горд, насмешлив, резок со всеми ниже его стоящими. В глубине души я знала, что та особая доброта, с какой он относится ко мне, не мешает ему быть несправедливым и чрезмерно строгим к другим. На него находили странные, ничем не объяснимые настроения. Сколько раз, когда он посылал за мной, я находила его в библиотеке, где он сидел в одиночестве, положив голову на скрещенные руки, и когда он поднимал ее, на его лице появлялось хмурое, почти злобное выражение. Но я верила, что его капризы, его резкость и былые прегрешения против нравственности (я говорю – былые, так как теперь он как будто исправился) имели своим источником какие-то жестокие испытания судьбы. Я верила, что от природы это человек с многообещающими задатками, более высокими принципами и более чистыми стремлениями, чем те, которые развились в нем в силу известных обстоятельств, воспитания или случайностей судьбы. Мне чудилось, что он представляет собой превосходный материал, хотя в настоящее время все его дарования казались заглохшими и заброшенными. Не могу отрицать, что я скорбела его скорбью, какова бы она ни была, и многое дала бы, чтобы смягчить ее.
Наконец я погасила свечу и легла в постель, но не могла заснуть, вспоминая его взгляд, когда он остановился посреди аллеи и сказал, что перед ним предстала его судьба и побуждала его дерзнуть и быть счастливым в Торнфильде.
«А почему бы и нет? – спрашивала я себя. – Что отталкивает его от этих мест? Скоро ли он опять уедет? Миссис Фэйрфакс говорила, что он редко живал в этом доме больше двух недель кряду, – а вот живет же он здесь уже два месяца. Если он уедет, это внесет такую грустную перемену. Может быть, его не будет весну, лето, осень. Какими безрадостными покажутся мне солнечный свет и прекрасные дни!»
Не знаю, забылась я после этих размышлений или нет, – во всяком случае, я сразу же проснулась, услышав, как мне казалось, прямо над своей комнатой какое-то смутное бормотание, странное и зловещее. Я пожалела, что погасила свечу. Ночь была непроницаема, моя душа – угнетена. Я поднялась, села на кровати, прислушалась: все было тихо.
Я попыталась снова заснуть, но мое сердце тревожно билось, и душевное спокойствие было нарушено. Далеко внизу, в холле, часы пробили два. В это же мгновение мне почудилось, что кто-то прикоснулся к моей двери, словно, пробираясь ощупью по темному коридору, кто-то провел по ней рукой. Я спросила: «Кто здесь?» Ответа не было. От страха меня охватил озноб.
Но тут я вспомнила, что это мог быть Пилот: когда забывали закрыть кухонную дверь, он нередко пробирался к двери мистера Рочестера и ложился у порога. Сколько раз утром я сама видела его там. Эта мысль несколько успокоила меня, я легла. Тишина успокаивает, и так как во всем доме теперь царило глубокое безмолвие, я снова задремала. Но в эту ночь мне, видимо, не было суждено уснуть. Едва сон приблизился к моему изголовью, как он уже бежал, спугнутый страшным происшествием.
Раздался сатанинский смех – тихий, сдавленный, глухой. Казалось, он прозвучал у самой замочной скважины моей двери. Кровать находилась недалеко от входа, и мне сначала почудилось, что этот дьявольский смех раздался совсем рядом, чуть ли не у моего изголовья; я поднялась, огляделась, однако ничего не увидела. Но вот зловещие звуки повторились: я поняла, что они доносятся из коридора. Моим первым побуждением было вскочить и запереть дверь на задвижку, а вторым – крикнуть: «Кто здесь?» Раздались какие-то стоны, а затем шаги по коридору, направлявшиеся к лестнице, которая вела на третий этаж. Недавно была сделана дверь, отделявшая ее от коридора. Я услышала, как она открылась и закрылась, а затем все стихло.
«Неужели это Грэйс Пул? – спрашивала я себя. – Она, верно, одержима дьяволом!» Боясь долее оставаться одна, я решила пойти к миссис Фэйрфакс. Поспешно набросила я платье и шаль, отодвинула задвижку и дрожащей рукой открыла дверь. В коридоре горела свеча, она стояла на дорожке, покрывавшей пол. Это обстоятельство меня поразило. Но еще больше я удивилась, когда заметила, что в воздухе висит какая-то мгла, словно он полон дыма. А когда я оглянулась вокруг, стараясь отыскать источник этой синеватой мглы, то ощутила резкий запах гари.
Что-то скрипнуло, где-то приоткрылась дверь. Это была дверь мистера Рочестера, и из нее клубами вырывался дым. Я уже не думала о миссис Фэйрфакс, я не думала о Грэйс Пул и о ее таинственном смехе: в мгновение ока я очутилась в комнате моего хозяина. Вокруг кровати вздымались языки пламени, занавески уже пылали, а среди огня и дыма мистер Рочестер лежал без движения, погруженный в глубокий сон.
– Проснитесь! Проснитесь! – крикнула я.
Я стала трясти его, но он только забормотал что-то и отвернулся к стене. От дыма он лишился сознания. Нельзя было терять ни минуты – уже тлели простыни. Я бросилась к тазу и кувшину. К счастью, оба оказались полны воды. Я схватила их, вылила воду на кровать и на спящего, бросилась к себе в комнату, принесла свой кувшин с водой, тоже вылила на кровать – и, с Божьей помощью, погасила огонь, пожиравший ее. Шипение гаснущего пламени и звон разбитого кувшина, который я отшвырнула, вылив его содержимое, а главное, ледяная ванна, в которой очутился мистер Рочестер, помогли ему наконец очнуться. Хотя в комнате было темно, я знала, что он проснулся, так как слышала, что он бормочет какие-то ругательства, недоумевая по поводу своего пробуждения в луже ледяной воды.
– Что это, наводнение?!
– Нет, сэр, – отвечала я. – Но здесь был пожар. Вставайте, прошу вас, вы залиты водой, я сейчас принесу свечу.
– Во имя всех фей в христианском мире, скажите, это вы, Джейн Эйр? – спросил он. – Что вы сделали со мной, колдунья? Кто здесь в комнате, кроме вас? Так вы решили утопить меня?
– Я принесу вам свечу, сэр. И, ради бога, вставайте. Кто-то задумал черное дело: вам надо как можно скорее выяснить, кто и что.
– Ну вот я и на ногах! Непременно принесите мне свечу, но подождите две минуты, пока я надену на себя что-нибудь сухое… Да, вот мой халат. А теперь бегите.
Я побежала и принесла свечу, которая все еще стояла в коридоре. Он взял ее у меня, поднял и осмотрел кровать, всю почерневшую и опаленную, с намокшими простынями, и лужи воды на ковре.
– Что это такое? Кто это сделал? – спросил он.
Я вкратце рассказала ему все, что мне было известно: странный смех, услышанный мной в коридоре, шаги, поднимавшиеся на третий этаж, дым, запах гари, который привел меня к нему в комнату, наконец, пожар и то, как я затушила его, вылив всю воду, какая была под рукой.
Он слушал нахмурившись; по мере того как я говорила, его лицо все больше выражало озабоченность, но не удивление. Когда я смолкла, он заговорил не сразу.
– Может быть, позвать миссис Фэйрфакс?
– Миссис Фэйрфакс? Нет. На кой черт ее звать! Что она может сделать? Пусть спит сном праведных.
– Тогда я позову Ли и разбужу Джона и его жену.
– Ничего подобного! Сидите смирно. У вас есть платок? Если вам холодно, можете взять вон там мой плащ. Завернитесь в него и сядьте в кресло; вот я укутаю вас. А теперь поставьте ноги на скамеечку, чтобы не замочить их. Я вас покину на несколько минут; свечу возьму с собой. Сидите здесь до моего возвращения; ведите себя тихо, как мышь. Мне нужно подняться на третий этаж. Не забудьте: не двигайтесь и никого не зовите.
Мистер Рочестер вышел. Я следила за удаляющимся светом свечи. Он на цыпочках прошел по коридору, почти беззвучно открыл дверь на лестницу, притворил ее за собой, и свет исчез. Наступила полная темнота. Тщетно старалась я уловить какие-нибудь звуки – я не слышала ничего. Прошло очень много времени, усталость все больше овладевала мной. Несмотря на плащ, мне было холодно, к тому же я не видела смысла в моем пребывании здесь, раз не надо было будить остальных. Я уже намеревалась ослушаться мистера Рочестера, рискуя вызвать его гнев, когда на стене коридора снова появился слабый отблеск свечи и послышались его шаги, приглушенные ковром. «Надеюсь, это он, – подумала я, – а не кто-нибудь еще».
Он вернулся бледный и очень мрачный.
– Я все выяснил, – сказал он, ставя свечу на умывальник. – Как я предполагал, так оно и есть.
– А именно, сэр?
Ответа не последовало: мистер Рочестер стоял, скрестив руки, глядя в пол. Через несколько минут он каким-то странным тоном спросил:
– Я забыл, – вы говорили, что видели что-то, когда открыли дверь своей комнаты?
– Нет, сэр, только свечу на полу.
– Но вы слышали странный смех? Вы ведь и раньше слышали такой смех или что-то в этом роде?
– Да, сэр! У вас тут есть женщина-швея, ее зовут Грэйс Пул, – это она так смеется. Странная особа!
– Совершенно верно, Грэйс Пул, – вы угадали. Она, как вы говорите, действительно странная. Я обо всем этом подумаю. Но все-таки я рад, что вы единственный человек, кроме меня, кто знает все подробности сегодняшнего происшествия. Вы не болтливы; ничего не говорите об этом. Я сам объясню, что здесь произошло (он указал на кровать). А теперь возвращайтесь в свою комнату. Я прекрасно проведу ночь в библиотеке на диване. Сейчас около четырех. Через два часа встанут слуги.
– Спокойной ночи, сэр, – сказала я, собираясь удалиться.
Мистер Рочестер казался удивленным, что было весьма непоследовательно, – ведь он сам только что предложил мне уйти.
– Как! – воскликнул он. – Вы уже уходите от меня? И уходите так?
– Вы же сами сказали, сэр.
– Но нельзя так сразу, не простившись, не сказав ни слова сочувствия и привета… во всяком случае, не так резко и сухо… Ведь вы спасли мне жизнь, вырвали меня у мучительной и ужасной смерти! И спокойно удаляетесь, как будто бы мы чужие люди! Давайте хоть пожмем друг другу руки.
Он протянул мне руку, я дала ему свою. Он взял ее одной рукой, затем обеими.
– Вы спасли мне жизнь; мне приятно, что я именно перед вами в таком огромном долгу. Больше я ничего не скажу. Я не перенес бы такого долга в отношении никого другого. Но вы – иное дело. Ваше благодеяние для меня не бремя, Джейн.
Он смолк и посмотрел на меня. Какие-то слова почти ощутимо трепетали на его устах, но голос ему не повиновался.
– Еще раз спокойной ночи, сэр! В данном случае не может быть и речи ни о каком долге, благодеянии, бремени или обязательстве.
– Я знал, – продолжал он, – что вы когда-нибудь сделаете мне добро, я видел это по вашим глазам, когда впервые встретил вас: их выражение и улыбка недаром (он опять остановился)… недаром, – продолжал он торопливо, – озарили радостью самые глубины моего сердца. Говорят, есть врожденные симпатии; я слышал также о том, что существуют добрые гении; в самой нелепой басне есть крупица правды. Ну, моя дорогая спасительница, спокойной ночи!
Его голос был полон своеобразной силы, его взгляд – странного огня.
– Я рада, что не спала, – сказала я, собираясь уходить.
– Как, вы все-таки уходите?
– Мне холодно, сэр.
– Холодно? Да ведь вы стоите в луже! Тогда идите, Джейн, идите! – Но он все еще держал мою руку, и невозможно было высвободить ее.
Я сказала:
– Мне кажется, идет миссис Фэйрфакс.
– Ну, расстанемся.
Он отпустил мои пальцы, и я вышла.
Я легла в постель, но и подумать не могла о сне. До самого утра я носилась по бурному и радостному морю, где волны тревог перемежались с волнами радости. Минутами мне казалось, что я вижу по ту сторону кипящих вод какой-то берег, сладостнее рая, и время от времени освежающий ветерок пробуждал мои надежды и торжествующе нес мою душу к этому берегу; но я так и не могла достигнуть его даже в воображении, ибо навстречу дул береговой ветер и неустанно отгонял меня. Здравый смысл противостоял бреду, рассудок охлаждал страстные порывы. Слишком взволнованная, чтобы предаться отдыху, я встала, едва рассвело.
Глава XVI
После этой ночи, проведенной без сна, мне и хотелось и страшно было снова увидеться с мистером Рочестером. Я жаждала услышать его голос, но боялась встретиться с ним взглядом. Всю первую половину дня я ежеминутно ожидала его появления; хотя он и был редким гостем в классной комнате, но все же иногда забегал на минутку, и мне почему-то казалось, что в этот день он непременно появится.
Однако утро прошло как обычно: ничто не нарушило моих мирных занятий с Аделью. Вскоре после завтрака я услышала какой-то шум в комнате рядом со спальней мистера Рочестера, а затем голоса миссис Фэйрфакс, Ли и кухарки – жены Джона, и даже грубоватый бас самого Джона. До меня донеслись восклицания: «Какое счастье, что хозяин не сгорел в постели. Опасно оставлять на ночь зажженную свечу!» – «Слава богу, что он не растерялся и схватил кувшин с водой». – «Удивительно, как это он никого не разбудил!» – «Надеюсь, мистер Рочестер не простудился, он ведь остаток ночи провел на диване в библиотеке…»
Ко всем этим разговорам вскоре прибавился шум уборки: за стеной мыли и скребли, передвигали мебель; и когда я проходила мимо спальни мистера Рочестера, спускаясь вниз обедать, я увидела в открытую дверь, что все там снова приняло обычный вид; только с кровати были сняты занавески. Ли стояла на подоконнике, протирая закопченные дымом стекла. Я только что собралась заговорить с ней, чтобы узнать, как ей объяснили вчерашний пожар, но, сделав несколько шагов, увидела в комнате еще фигуру: в кресле возле кровати сидела какая-то женщина и пришивала кольца к новым занавескам. Это была не кто иная, как Грэйс Пул.
Как обычно замкнутая и угрюмая, в коричневом шерстяном платье, клетчатом переднике, белой косынке и чепце, она казалась всецело погруженной в свою работу; ни на низком лбу, ни в будничных чертах ее лица не было и намека на тот ужас, ту растерянность или ожесточение, которые естественны для женщины, покушавшейся на убийство и уличенной в этом. Я была поражена, потрясена. Почувствовав мой пристальный взгляд, она подняла голову, но ничто не дрогнуло, ничто не изменилось в ее чертах, не выдало ни волнения, ни сознания виновности, ни страха перед карой. Она сказала: «Доброе утро, мисс» – как всегда флегматично и кратко, а затем, взяв еще кольцо и тесьму, продолжала шить.
«Сейчас испытаю ее, – решила я, – такое притворство превосходит мое понимание».
– Доброе утро, Грэйс, – сказала я. – Что здесь случилось? Несколько минут назад мне послышались какие-то разговоры.
– Просто хозяин ночью читал в постели, потом заснул, а свеча осталась гореть, и занавеска вспыхнула; к счастью, он проснулся, когда пламя еще не успело охватить кровать и простыни, и ему удалось погасить огонь, залив его водой.
– Странная история, – сказала я вполголоса, затем, пристально посмотрев на нее, добавила: – И неужели мистер Рочестер никого не разбудил, неужели никто ничего не слышал?
Она снова подняла на меня глаза, и на этот раз мне показалось, что в них мелькнула какая-то искра внимания. Казалось, она исподтишка изучает меня; затем она ответила:
– Вы знаете, мисс, слуги спят так далеко – они едва ли могли что-нибудь услышать. Спальня миссис Фэйрфакс и ваша ближе всего к комнате хозяина; однако миссис Фэйрфакс говорит, что тоже ничего не слышала: у пожилых людей сон крепкий. – Она помолчала и затем добавила с каким-то напускным равнодушием, но все же многозначительно подчеркивая слова: – А вот вы молоды, мисс, и, вероятно, спите чутко; вы-то должны были бы слышать шум.
– Так оно и было, – сказала я, понижая голос, чтобы Ли, все еще протиравшая окно, не слышала меня. – И сначала я решила, что это Пилот; но ведь Пилот не может смеяться, а я уверена, что слышала смех, и престранный.
Она взяла новую нитку, тщательно навощила ее, спокойно вдела в иглу и заметила с полным самообладанием:
– Знаете, мисс, едва ли хозяин стал бы смеяться, когда ему угрожала такая опасность. Вам, наверно, приснилось.
– Нет, не приснилось, – возразила я с некоторой горячностью, так как ее хладнокровие возмущало меня.
Она снова обратила в мою сторону проницательный, испытующий взгляд.
– А вы сказали хозяину, что слышали смех? – спросила она.
– У меня не было случая говорить с ним сегодня.
– И вам не захотелось открыть дверь и выглянуть в коридор? – продолжала Грэйс.
Казалось, это она теперь ведет допрос, пытаясь выжать из меня какие-то сведения. Вдруг мне пришло в голову: как бы она, догадавшись о моих подозрениях, не сыграла со мной какой-нибудь злой шутки. И я решила, что следует быть настороже.
– Наоборот, я заперла дверь на задвижку, – ответила я.
– А разве вы не запираете свою дверь каждый вечер, когда ложитесь спать?
«Черт побери, она хочет узнать мои привычки, она что-то замышляет!» И негодование снова взяло во мне верх над осторожностью. Я резко ответила:
– До сих пор я очень часто забывала про задвижку. Я не видела в этом необходимости, считая, что в Торнфильд-холле мне не угрожает никакая опасность, но с этого дня, – продолжала я с особым ударением, – я буду всякий раз запирать ее покрепче, прежде чем лечь в постель.
– И хорошо сделаете. Правда, у нас тут кругом спокойно, и, насколько я знаю, никто никогда не пытался ограбить этот дом, хотя всем известно, что здесь в кладовых одной серебряной посуды на многие сотни фунтов. Кроме того, как вы видите, для такого большого дома здесь очень мало слуг, – ведь хозяин не живет у нас подолгу, а когда приезжает, ему, как холостяку, мало что нужно. Но осторожность никогда не мешает. Дверь запереть нетрудно, и лучше, если вы будете защищены от любой неожиданности. Многие люди, мисс, полагаются во всем на провидение, а я считаю: на Бога надейся, а сам не плошай, и береженого Бог бережет. – Тут женщина замолчала. Она и так говорила слишком долго и эту тираду произнесла с назидательностью квакерши.
Я все еще стояла на том же месте, сраженная таким сверхъестественным самообладанием и непостижимым лицемерием, когда вошла повариха.
– Миссис Пул, – сказала она, обращаясь к Грэйс. – Обед для слуг скоро будет готов, вы не сойдете вниз?
– Нет. Поставьте пинту портера и кусок пудинга на поднос, я захвачу с собой наверх.
– А мяса вы не хотите?
– Немного, и ломтик сыру. Вот и все.
– А как насчет саго?
– Пока ничего не нужно. Я спущусь к чаю и сварю сама.
Тут повариха обратилась ко мне, сказав, что миссис Фэйрфакс ждет меня, и я сошла вниз.
За обедом я была так занята размышлениями о загадочном поведении Грэйс Пул и еще больше о том, какое положение она занимает в Торнфильде и почему ее в это же утро не отправили в тюрьму или по крайней мере не рассчитали, что совершенно не слышала рассказа миссис Фэйрфакс относительно ночных происшествий. Ведь мистер Рочестер совершенно ясно высказал мне свою уверенность в том, что преступницей была именно она; какая же таинственная причина удерживала его от того, чтобы открыто изобличить ее? Отчего он просил и меня хранить тайну? Это было очень странно: ни с чем не считающийся, вспыльчивый и гордый джентльмен находился, казалось, во власти одной из самых ничтожных своих служанок, и притом настолько, что, даже когда она покусилась на его жизнь, он не решился открыто обвинить ее в этом, а тем более покарать.
Будь Грэйс молода и красива, я могла бы допустить, что мистер Рочестер находился под влиянием чувств, более властных, чем осторожность или страх; но в отношении столь мало привлекательной, некрасивой и пожилой особы такое предположение казалось невероятным. «Правда, – размышляла я, – она была молода, и эта молодость совпала с молодостью ее хозяина. Миссис Фэйрфакс как-то говорила мне, что Грэйс уже давно живет в этом доме. Не думаю, чтобы она когда-нибудь была хорошенькой. Но даже при отсутствии внешнего очарования она могла привлечь его оригинальностью и силой характера. Мистер Рочестер любитель решительных и эксцентрических натур, а Грэйс, уж во всяком случае, эксцентрична. Что, если из-за случайной прихоти он оказался во власти этой женщины и она теперь оказывает тайное влияние на его поступки, пользуясь его прошлым, от которого он не в силах отмахнуться, которого не может забыть?» Но тут мне представились с такой отчетливостью квадратная плоская фигура миссис Пул и ее незначительное, сухое, топорное лицо, что я сказала себе: «Нет, невозможно! Мое предположение не может быть верным!» «И все же, – продолжал тайный голос, живущий в сердце каждого из нас, – ты ведь тоже некрасива, а мистеру Рочестеру как будто нравишься; во всяком случае, тебе это не раз казалось. А что было этой ночью? Вспомни его слова, вспомни его взгляд, его голос!»
Я слишком хорошо помнила все – и слова, и взгляд, и тон, и в эту минуту снова живо их себе представила. Я вошла в классную комнату, Адель рисовала. Я наклонилась над ней и стала водить ее карандашом. Вдруг она с изумлением посмотрела на меня.
– Что с вами, мадемуазель? – спросила она. – Ваши пальцы дрожат, а щеки у вас красные, как вишни!
– Просто я наклонилась, Адель, и кровь прилила к моим щекам. – И она продолжала рисовать, а я продолжала думать.
Я поспешила отогнать ужасные предположения, которые возникли у меня в отношении Грэйс Пул. Они казались мне отвратительными. Я мысленно сравнила себя с ней и нашла, что мы все же совсем разные. Бесси Ливен однажды сказала мне, что я настоящая леди, – и она сказала правду: я и чувствовала себя такой. А ведь теперь я выглядела гораздо лучше, чем тогда, когда Бесси видела меня. Я пополнела и посвежела, стала живей и здоровей, так как узнала целящую силу светлых надежд и беспечных радостей.
«Скоро вечер, – сказала я себе, взглянув в окно. – За целый день я не слышала в доме ни голоса мистера Рочестера, ни его шагов; но, несомненно, я его сегодня еще увижу». Утром я боялась этой встречи, а теперь желала ее, и меня все больше охватывало нетерпение.
Когда сумерки окончательно сгустились и Адель ушла от меня вниз, в детскую, поиграть с Софи, я уже горячо желала этой встречи. Я прислушивалась, не зазвонит ли внизу колокольчик, не поднимется ли кто-нибудь наверх, чтобы позвать меня; иногда мне казалось, что я слышу шаги самого мистера Рочестера, и я оборачивалась к двери, ожидая, что она вот-вот откроется и он войдет. Но дверь не открывалась, и только все гуще становился мрак за окном. Однако было еще не поздно, мистер Рочестер нередко присылал за мной и в семь и в восемь вечера, а теперь только шесть. Наверное, мои ожидания не будут обмануты – именно сегодня, когда мне столько хочется сказать ему. Я решила опять навести его на разговор о Грэйс Пул и послушать, что он мне ответит. Я решила прямо спросить его, считает ли он, что именно она покушалась на него прошлой ночью, и если да, то почему он держит в тайне это преступление. Меня нимало не заботило то обстоятельство, что мое любопытство может раздражить его; мне доставляло особое удовольствие то сердить его, то снова успокаивать, – при этом верный инстинкт не позволял мне заходить слишком далеко. Я никогда не отваживалась на простое поддразнивание и, так сказать, искусно играла с огнем. Не теряя ни на миг должной почтительности и не забывая о своем положении, я осмеливалась спорить с ним без страха и смущения, – это нравилось и ему и мне.
Наконец ступеньки скрипнули под чьими-то шагами. Вошла Ли, но только для того, чтобы сообщить мне, что чай подан в комнате миссис Фэйрфакс. Я была рада сойти вниз, так как это все же могло приблизить меня к мистеру Рочестеру.
– Вы, наверное, очень хотите чаю, – сказала мне эта добрейшая леди, когда я вошла к ней, – вы так мало кушали за обедом. Я боюсь, – продолжала она, – что вы нездоровы сегодня: у вас горят щеки и вид лихорадочный.
– О нет, я чувствую себя отлично. Как нельзя лучше.
– Тогда докажите это и кушайте как следует. Не заварите ли вы чай, пока я довяжу этот ряд? – Докончив его, она поднялась и спустила занавеску, по-видимому более не рассчитывая работать при свете дня; и в самом деле, сумерки быстро сгущались, и уже наступала темнота.
– Сегодня чудесный вечер, – сказала она, глядя в окно, – хотя звезд и не видно. В общем погода благоприятствует поездке мистера Рочестера.
– Поездке? Разве мистер Рочестер уехал? Я и не знала, что его нет дома.
– Он уехал сейчас же после завтрака. Он отправился в Лиз, имение мистера Эштона. Это за десять миль отсюда, по ту сторону Милкота. Там собралось самое изысканное общество: лорд Ингрэм, сэр Джордж Лин, полковник Дэнт и другие.
– Вы ждете его обратно сегодня?
– Нет. И даже не завтра. Возможно, он прогостит там неделю и больше. Ведь когда собираются вместе эти утонченные светские люди, они окружены такой роскошью и весельем, всем, что может доставить удовольствие и развлечение, что они не спешат расстаться друг с другом. Особенно там рады джентльменам; а мистер Рочестер так оживлен и интересен в обществе, что является всеобщим любимцем; он очень нравится дамам, хотя, казалось бы, недостаточно красив для этого. Но я думаю, что его таланты и умение держаться, а может быть, богатство и старинный род, искупают некоторые недостатки его наружности.
– У Эштона будут и дамы?
– А как же! Прежде всего миссис Эштон и ее три дочери, очень элегантные молодые барышни; затем Бланш и Мери Ингрэм – это настоящие красавицы! Я видела Бланш шесть-семь лет назад, когда она была восемнадцатилетней девушкой. Мистер Рочестер давал на Рождество большой бал, и она тоже приехала. Вы бы видели столовую в этот вечер, как богато она была украшена, как ослепительно освещена! Собралось не меньше пятидесяти дам и джентльменов, и все из лучших семей нашего графства; но царицей бала была мисс Ингрэм.
– Вы говорите, миссис Фэйрфакс, что видели ее? Расскажите, какая она.
– Да, я видела ее. Двери столовой были распахнуты настежь; это было на Рождество, и слугам тоже разрешили собраться в холле и послушать, как дамы играют и поют. Мистер Рочестер пригласил меня в столовую; я уселась в укромном уголке и смотрела на них. Я никогда не видела более великолепного зрелища! Дамы были одеты роскошно, большинство из них, по крайней мере молодые, показались мне красавицами, но всем им было далеко до мисс Ингрэм.
– Опишите ее.
– Высокая, прекрасно сложенная, покатые плечи, длинная грациозная шея, смуглая чистая кожа, благородные черты, глаза, похожие на глаза мистера Рочестера, – большие и темные, такие же блестящие, как ее бриллианты. И потом, у нее замечательные волосы – черные, как вороново крыло, и так красиво причесаны: на затылке корона из толстых кос, а спереди длинные блестящие локоны. Она была одета во все белое. Палевый шарф закрывал ей одно плечо и грудь и, завязанный на боку, спадал длинными концами ниже колен. В волосах у нее был приколот золотистый цветок, он красиво выделялся среди черной массы ее кудрей.
– И, наверно, все восхищались мисс Ингрэм?
– Да, конечно! И не только ее красотой, но и талантами. Она была в числе тех дам, которые пели. Какой-то джентльмен аккомпанировал ей на рояле. Они спели дуэт с мистером Рочестером.
– С мистером Рочестером? Я не знала, что он поет.
– О, у него отличный бас, и он прекрасный знаток музыки.
– А какой голос у мисс Ингрэм?
– Очень сильный и звучный. Она пела восхитительно; такое наслаждение было слушать ее! А потом она сыграла. Я не судья в музыке, но мистер Рочестер отлично разбирается, и он сказал, что мисс Ингрэм превосходная музыкантша.
– И что же, эта прекрасная и блистательная дама до сих пор не замужем?
– Похоже, что так. Я предполагаю, что ни у нее, ни у ее сестры нет большого состояния. Все владения старого лорда Ингрэма – майоратные, и старший сын унаследовал почти все.
– Но неужели ни один богатый аристократ или же просто джентльмен не увлекся ею? Хотя бы мистер Рочестер? Ведь он, кажется, человек состоятельный.
– О да! Но, видите ли, между ними значительная разница в летах. Мистеру Рочестеру под сорок, а ей всего двадцать пять.
– Что ж из этого? Мы часто видим еще более неравные браки.
– Верно. Но едва ли мистер Рочестер женился бы на ней. Что же вы ничего не кушаете? Вы и крошки не проглотили с тех пор, как сидите за столом.
– Спасибо. Я очень хочу пить, и у меня вовсе нет аппетита. Могу я попросить вторую чашку?
Я хотела вернуться к обсуждению возможного брака между мистером Рочестером и красавицей Бланш, но тут вошла Адель, и пришлось переменить тему разговора.
Оставшись одна, я перебрала в уме все полученные сведения, заглянула в свое сердце, проверила свои мысли и чувства и решила вернуть их на безопасный путь здравого смысла.
И вот я предстала перед собственным судом. Услужливый свидетель – память напомнила мне о тех надеждах, желаниях и ощущениях, которые я лелеяла со вчерашнего вечера, а также о том особом состоянии духа, в котором я находилась примерно уже две недели. Потом заговорил разум и спокойно, со свойственной ему трезвостью, упрекнул меня в том, что я не пожелала заглянуть в глаза действительности и увлеклась несбыточными мечтами. И тогда я произнесла над собой приговор, который гласил:
«Не было еще на свете такой дуры, как Джейн Эйр, и ни одна идиотка не предавалась столь сладостному самообману, глотая яд, словно восхитительный нектар».
«Ты, – говорила я себе, – очаровала мистера Рочестера? Ты вообразила, что можешь нравиться ему, быть чем-то для него? Брось, устыдись своей глупости! Ты радовалась весьма двусмысленным знакам внимания, которые оказывает джентльмен из знатной семьи, светский человек, тебе, неопытной девушке, своей подчиненной? Как же ты осмелилась, несчастная, смешная дурочка? Неужели даже во имя собственных интересов ты не стала умнее, ведь еще сегодня утром ты переживала заново все происходившее этой ночью? Закрой лицо свое и устыдись. Он сказал что-то лестное о твоих глазах, слепая кукла! Одумайся! Посмотри, до чего ты глупа! Ни одной женщине не следует увлекаться лестью своего господина, если он не предполагает жениться на ней. И безумна та женщина, которая позволяет тайной любви разгореться в своем сердце, ибо эта любовь, неразделенная и безвестная, должна сжечь душу, вскормившую ее; а если бы даже любовь была обнаружена и разделена, она, подобно блуждающему огоньку, заведет тебя в глубокую трясину, откуда нет выхода.
Слушай же, Джейн Эйр, свой приговор. Завтра ты возьмешь зеркало, поставишь его перед собою и нарисуешь карандашом свой собственный портрет, – но правдиво, не смягчая ни одного недостатка. Ты не пропустишь ни одной резкой линии, не затушуешь ни одной неправильности, и ты напишешь под этим портретом: «Портрет гувернантки – одинокой, неимущей дурнушки».
Затем возьми пластинку из слоновой кости, которая лежит у тебя в ящике для рисования, смешай самые свежие, самые нежные и чистые краски, выбери тонкую кисть из верблюжьего волоса и нарисуй самое пленительное лицо, какое может представить твое воображение; наложи на него нежнейшие тени и мягчайшие оттенки, в соответствии с тем, как миссис Фэйрфакс описала тебе прекрасную Бланш Ингрэм, – да смотри не забудь шелковистые кудри и восточные глаза. Что? Ты хочешь принять за образец глаза мистера Рочестера? Оставь ты все это! Никаких колебаний! Никаких охов и вздохов, никаких сожалений! Только здравый смысл и решимость! Вспомни величественные, но гармонические очертания скульптурной шеи и груди, нежную руку, покажи округлое и ослепительное плечо, не забудь ни бриллиантового кольца, ни золотого браслета, добросовестно изобрази одежду, воздушный узор кружев и сверкающий атлас, изящные складки шарфа и чайную розу – и подпиши под этим портретом: «Бланш, прекрасная молодая аристократка».
И если когда-нибудь ты снова вообразишь, будто мистер Рочестер хорошо к тебе относится, вынь эти два изображения и сравни их. Скажи себе: «Вероятно, мистер Рочестер мог бы завоевать любовь этой знатной дамы, если бы захотел; так неужели же можно допустить, чтобы он относился серьезно к этой невзрачной нищей плебейке?»
«Так и сделаю», – сказала я себе. Приняв решение, я постепенно успокоилась и заснула.
Я сдержала свое слово. За час или два мой собственный портрет карандашом был набросан; и меньше чем в две недели я закончила миниатюру на слоновой кости с воображаемого облика Бланш Ингрэм. Она выглядела прелестно, и контраст между этим воображаемым портретом и моим реальным был слишком велик, чтобы у меня могли еще оставаться насчет себя какие-нибудь иллюзии. Работа послужила мне на пользу: мои руки и голова были заняты, а новые чувства, которые мне хотелось сохранить в моем сердце, постепенно окрепли.
Благотворное воздействие целительной дисциплины не замедлило сказаться на моем душевном состоянии, и я готова была встретить предстоящие события с подобающим спокойствием, тогда как, застигни они меня раньше, я, вероятно, была бы не в силах не только подавить свои чувства, но и сдержать открытое их проявление.
Глава XVII
Прошла неделя – от мистера Рочестера не было никаких вестей; прошло десять дней, а он все не возвращался. Миссис Фэйрфакс сказала, что нет ничего удивительного, если он из Лиза проехал прямо в Лондон, а оттуда на континент и появится опять в Торнфильде лишь через год: он уже не раз нежданно-негаданно покидал свое поместье. При этих словах я почувствовала, как меня охватил холод и сердце мое упало. Я чуть не пережила сызнова глубокое разочарование, но, вспомнив о своих принципах, сейчас же взяла себя в руки. Я даже удивилась, с какой быстротой мне удалось преодолеть это мгновенное колебание, как легко я отстранила от себя мысль о том, что поступки мистера Рочестера могут быть для меня чем-то полным глубокого жизненного интереса. Но я укротила себя вовсе не с помощью рабской мысли о собственном ничтожестве. Напротив, я сказала себе:
«У тебя нет ничего общего с хозяином Торнфильда; он просто платит тебе жалованье за то, что ты воспитываешь эту девочку, и ты вправе ожидать хорошего отношения к себе, поскольку добросовестно исполняешь свои обязанности. Будь уверена, что это единственная связь, которую он готов признать между вами. Поэтому не делай его предметом своих нежных чувств, своего разочарования и отчаяния. Он человек другой касты; оставайся же в своем кругу и уважай себя настолько, чтобы не отдавать всех сил души и сердца тому, кому они не нужны и в ком это вызвало бы только пренебрежение».
Я спокойно продолжала свои обычные занятия; но время от времени у меня возникали смутные планы о том, как бы мне покинуть Торнфильд. Я заранее сочиняла объявления и размышляла о возможности новой работы. С этими мыслями я не считала нужным бороться, ничто не мешало им окрепнуть и принести свои плоды.
Мистер Рочестер отсутствовал уже около двух недель, когда миссис Фэйрфакс получила письмо по почте.
– Это от хозяина, – сказала она, взглянув на конверт. – Теперь, я думаю, мы узнаем, ожидать ли нам его возвращения или нет.
Она сломала печать и начала читать письмо, а я продолжала пить кофе (мы сидели за завтраком). Кофе был горячий, вероятно, поэтому мои щеки вдруг вспыхнули румянцем; но почему же задрожала моя рука и я невольно пролила половину чашки на блюдечко? Мне не хотелось раздумывать об этом.
– Иной раз мне кажется, что мы живем слишком уединенно; зато сейчас нам будет очень много дела, во всяком случае на некоторое время, – сказала миссис Фэйрфакс, все еще держа перед собой письмо.
Прежде чем позволить себе какой-нибудь вопрос, я завязала Адели передник, затем дала ей еще булочку и снова налила молока. Только после этого я сказала небрежно:
– Вероятно, мистер Рочестер не скоро вернется?
– Наоборот, скоро: через три дня, пишет он, – то есть будет в ближайший четверг. И не один. Бог весть, сколько знатных гостей приедет с ним из Лиза. Он пишет, чтобы приготовили все самые лучшие спальни и чтобы сделали полную уборку библиотеки и гостиной, и предлагает нанять на кухню нескольких помощниц из гостиницы в Милкоте или где удастся. Дамы привезут с собой своих камеристок, а мужчины своих камердинеров, так что здесь будет полным-полно. – Миссис Фэйрфакс наскоро проглотила свой завтрак и поспешно ушла, чтобы тут же начать приготовления.
Эти три дня, как она и предполагала, были полны суеты. До сих пор мне казалось, что все комнаты в Торнфильде содержатся в необыкновенном порядке и прекрасно обставлены; но я, видимо, ошибалась. Появились три поденщицы, и началось такое мытье, обметанье, выбивание ковров, протирание картин, зеркал и люстр, такое основательное протапливание спален и просушивание перед огнем одеял и пуховых перин, какого я в жизни своей не видела и не увижу. Адель бегала среди всей этой кутерьмы в страшном возбуждении. Казалось, уборка и ожидаемый приезд гостей приводят ее в восторг. Она потребовала, чтобы Софи пересмотрела все ее «туалеты», как она называла свои платьица, чтобы она освежила их, проветрила и отгладила. Сама Адель ничего не делала, а только носилась по парадным комнатам, скакала по кроватям, каталась по матрацам и взбиралась на перины и подушки, наваленные перед ярко пылавшими каминами, пламя которых так и ревело в трубах. Я освободила ее от занятий, потому что миссис Фэйрфакс привлекла к работе и меня, и теперь проводила целые дни в кладовых, помогая – вернее, мешая – ей и поварихе. Я училась делать кремы, ватрушки и французские пирожные, жарить птицу и украшать блюда с десертом.
Гостей ожидали в четверг под вечер, к обеду. Я была занята приготовлениями к их приезду, и у меня не было времени предаваться несбыточным грезам. Мне помнится, я была так же весела и деятельна, как и все другие, не говоря уже об Адели. Правда, время от времени что-то сжимало мне сердце, и мое бодрое настроение падало. Вопреки моей воле, что-то отбрасывало меня в мрачный мир сомнений, неуверенности и смутных предчувствий. Они охватили меня с особой силой, когда я увидела, что дверь на лестницу в третий этаж (которая за последнее время была неизменно заперта) медленно отворяется, пропуская Грэйс Пул в накрахмаленном чепце, белом фартуке и косынке, когда я увидела, как она беззвучно скользит по коридору в своих войлочных туфлях, заглядывает в полные беспорядка шумные спальни и то там, то здесь бросает несколько слов, объясняя поденщице, чем протирать решетку или мрамор камина или как выводить пятна с обоев, и затем проходит дальше. Обычно она спускалась в кухню раз в день, съедала свой обед, выкуривала перед огнем маленькую трубочку и затем возвращалась к себе, неизменно унося с собой пинту портера, чтобы выпить ее наверху, в своем мрачном логове. Только один час из двадцати четырех проводила Грэйс внизу с другими слугами, все остальное время она сидела у себя наверху, в комнате с низким потолком и дубовыми панелями; там она шила и, может быть, смеялась своим угрюмым смехом, одинокая, как узница, заключенная в тюрьму.
Самое странное было то, что решительно никто в доме, кроме меня, не обращал внимания на ее привычки и не удивлялся им, никто не обсуждал ее положения, ее занятий, никто не сожалел о ее замкнутости и одиночестве. Правда, мне как-то пришлось невольно подслушать разговор, происходивший между Ли и одной из поденщиц и, видимо, касавшийся Грэйс. Ли сказала что-то, чего я не расслышала, а поденщица заметила:
– Что ж, наверное, хорошее жалованье платят.
– Да, – отвечала Ли, – хотела бы я получать столько. Не то что мне платят мало, – нет, в Торнфильде на это не скупятся, но я не получаю и одной пятой того, что платят ей. И она откладывает деньги: она ездит каждые три месяца в милкотский банк. Меня нисколько не удивит, если, уйдя отсюда, она сможет жить на свои сбережения, но она, видно, привыкла к дому; и потом, ей еще нет сорока, она сильная и здоровая и может справиться с любой работой. Слишком рано ей уходить на покой.
– Она, наверное, хорошо делает свое дело? – спросила поденщица.
– Ах, она прекрасно понимает, что от нее требуется, ее учить не приходится, – многозначительно подтвердила Ли, – а ведь не всякий согласился бы на это, ни за какие деньги.
– Это уж конечно, – последовал ответ. – А разве хозяин…
Поденщица хотела продолжать, но в эту минуту Ли обернулась и увидела меня; она сейчас же толкнула свою собеседницу в бок.
– Разве она не знает? – услышала я шепот поденщицы.
Ли покачала головой, и разговор, конечно, прервался. Все, что я вывела из него, сводилось к одному: в Торнфильде есть какая-то тайна, от участия в которой я была намеренно отстранена.
Наступил четверг. Все было закончено еще накануне: разостланы ковры, повешены пологи, кровати покрыты ослепительными покрывалами, туалеты уставлены необходимыми принадлежностями, мебель протерта, букеты цветов поставлены в вазы; спальни и гостиные совершенно преобразились, они стали свежими и светлыми. Большой холл также был убран, старые резные часы почищены, перила и ступеньки доведены до зеркального блеска; в столовой буфет сверкал серебром; гостиная и будуар были заставлены тропическими растениями.
День клонился к вечеру. Миссис Фэйрфакс облеклась в свое самое парадное черное атласное платье, надела перчатки, золотые часы, – ей предстояло встречать гостей, провожать дам в их комнаты и так далее. Адель тоже потребовала, чтобы ее одели. Я считала, что едва ли она может надеяться на то, что ее позовут к гостям в этот же день. Однако, чтобы доставить девочке удовольствие, я разрешила Софи нарядить ее в одно из ее пышных коротких кисейных платьиц. Мне переодеваться было незачем: я знала, что не покину сегодня то убежище, каким являлась для меня классная комната. А она была теперь «приятным убежищем в часы тревог».
Стоял кроткий ясный весенний день, один из тех дней, какие бывают в конце марта или в начале апреля и своим блеском предвещают лето. Этот день уже померк, но даже вечер был теплым, и я сидела за работой в классной комнате при открытом окне.
– Как долго их нет, – сказала миссис Фэйрфакс, войдя ко мне в своем шуршащем платье. – Я рада, что заказала обед на час позднее того времени, которое назначил мистер Рочестер; ведь уже начало седьмого, и я послала Джона к воротам покараулить: оттуда видно дорогу далеко в сторону Милкота. – Она подошла к окну. – Вот он, – продолжала она. – Ну, Джон (старушка высунулась из окна), какие новости?
– Они едут, сударыня, – последовал ответ. – Через десять минут будут здесь.
Адель бросилась к окну. Я последовала за ней, однако постаралась стать так, чтобы меня скрывала занавесь и я, видя все, осталась бы невидимой.
Десять минут, о которых говорил Джон, длились бесконечно; но вот мы услышали шум колес. Появилось четверо всадников, а за ними две открытые коляски, над которыми развевались вуали и перья; два всадника были элегантные молодые люди; третьим оказался мистер Рочестер, он сидел на своем черном жеребце Мезруре, а Пилот бежал впереди. Рядом с ним ехала дама; ее лиловая амазонка почти касалась земли, длинная вуаль трепетала по ветру; перемешиваясь с ее складками, по плечам струились черные кудри.
– Мисс Ингрэм! – воскликнула миссис Фэйрфакс и поспешила вниз, чтобы занять свой пост.
Кавалькада, следуя изгибу дороги, быстро завернула за угол дома, и я потеряла ее из виду. Адель стала проситься вниз, но я взяла ее на колени и попыталась объяснить ей, что она ни в коем случае не должна стараться попасть на глаза этим дамам ни сейчас, ни в другое время. Что мистер Рочестер очень рассердится. Услышав это, она, конечно, расплакалась; но когда я сделала строгое лицо, согласилась отереть слезы.
Из холла донесся веселый шум; низкие голоса мужчин и серебристые – женщин гармонически сливались, и все покрывал негромкий, но звучный голос хозяина Торнфильд-холла, приветствовавшего своих изысканных и знатных гостей. Затем на лестнице раздался шорох платьев. В коридоре послышались быстрые шаги, тихий и оживленный смех, хлопанье дверями, шепот.
– Они переодеваются, – сказала Адель, которая внимательно прислушивалась к каждому звуку, и, вздохнув, добавила: – Когда у мамы бывали гости, я ходила за ними повсюду – и в гостиную, и в их комнаты; я часто смотрела, как камеристки причесывают и одевают дам, и это было очень занятно. Так и сама научишься.
– А ты не голодна, Адель?
– Ну конечно, мадемуазель! Мы уже пять-шесть часов ничего не ели.
– Пока дамы у себя в комнатах, я спущусь вниз и постараюсь раздобыть тебе чего-нибудь поесть.
И, выскользнув из своего убежища, я осторожно пробралась на черную лестницу, которая вела прямо в кухню; там суетились люди и веяло нестерпимым жаром. Суп и рыба были уже почти готовы, и повариха хлопотала около плиты в таком состоянии души и тела, которые заставляли опасаться, как бы она в конце концов не воспламенилась сама. В людской столовой, у огня, сидели два кучера и три камердинера; камеристки находились, вероятно, наверху, со своими госпожами; новые слуги, нанятые в Милкоте, сновали взад и вперед. Наконец я пробралась в кладовую. Там я взяла холодную жареную курицу, белый хлеб, несколько сладких пирожков, две тарелки, ножи и вилки и поспешила обратно. Я уже была в коридоре и только что собиралась затворить за собой дверь черной лестницы, как усиливающийся гул голосов известил меня о том, что дамы собираются покинуть свои комнаты. Чтобы вернуться в классную, я должна была пройти мимо их дверей; не желая быть застигнутой здесь с моей добычей, я остановилась в конце коридора, где, из-за отсутствия окон, обычно было полутемно, а теперь царил уже глубокий сумрак, так как солнце село.
И вот, одна за другой, гостьи выходили из своих комнат; каждая выпархивала весело и беззаботно, и их платья яркими пятнами мелькали в полутьме. На мгновение они столпились в другом конце коридора, и до меня донеслось их негромкое щебетанье, полное сдержанного оживления. Затем они спустились по лестнице так же легко и беззвучно, как спустилась бы с холма волна тумана. Эта стайка произвела на меня впечатление невиданного мною до сих пор аристократического изящества.
Войдя в класс, я увидела, что Адель выглядывает из приоткрытой двери.
– Какие красавицы! – воскликнула она по-английски. – О, как мне хотелось бы пойти к ним! Как вы полагаете, мистер Рочестер пришлет за нами после обеда?
– Нет, не думаю; у мистера Рочестера и без нас много дел. Забудь на сегодня об этих дамах; может быть, ты увидишь их завтра. Вот твой обед.
Она действительно проголодалась, поэтому курица и пирожки на некоторое время отвлекли ее. Хорошо, что я позаботилась о пище, иначе мы обе, а также Софи, с которой я поделилась, рисковали бы остаться вовсе без обеда, – внизу все были слишком заняты, чтобы помнить о нас. Десерт был подан только в девять часов, а в десять лакеи все еще продолжали бегать взад и вперед с подносами и кофейными чашками. Я разрешила Адели лечь гораздо позднее, чем обычно, так как она заявила, что совершенно не может спать, когда внизу хлопают двери и люди снуют туда и сюда. Кроме того, добавила она, вдруг мистер Рочестер все-таки пришлет за ней, а она будет не одета. Какая жалость!
Я рассказывала ей сказки, пока она была в состоянии слушать, а затем вышла с ней в коридор. Лампа в холле была зажжена, и девочке нравилось смотреть через балюстраду, как слуги входят и выходят. Уже поздно вечером из гостиной, куда был перенесен рояль, донеслись звуки музыки. Мы с Аделью сели на верхнюю ступеньку лестницы и стали слушать. Но вот под аккомпанемент рояля полился звучный голос, – это пела одна из дам, и пела так, что заслушаешься. После соло последовал дуэт, а затем веселая песенка; в перерывах до нас доносилось оживленное жужжание голосов. Я внимательно прислушивалась к ним и вдруг поймала себя на том, что стараюсь разобраться в этих звуках и уловить в их слитном гуле характерные интонации мистера Рочестера; и когда мне наконец удалось различить его голос среди остальных, я начала вслушиваться, стараясь уловить отдельные слова.
Часы пробили одиннадцать. Я взглянула на Адель, прислонившуюся головой к моему плечу: ее веки наконец отяжелели. Я взяла ее на руки и отнесла в постель. Дамы и джентльмены внизу разошлись по своим комнатам лишь около часу.
Следующий день прошел так же весело; гости предприняли прогулку, чтобы полюбоваться живописной местностью по соседству с имением. Они выехали с раннего утра, некоторые верхом, другие в экипажах. Я видела их отъезд и возвращение. Мисс Ингрэм, как и вчера, была единственной всадницей, и, как вчера, мистер Рочестер скакал рядом с ней. Оба они несколько отделились от остальной компании. Я указала на это обстоятельство миссис Фэйрфакс, стоявшей рядом со мной у окна.
– Вот вы говорили, что они едва ли поженятся, – заметила я. – Но мистер Рочестер оказывает ей явное предпочтение перед всеми остальными дамами.
– Да, пожалуй; он, без сомнения, восхищается ею.
– А она им, – добавила я. – Посмотрите, как она наклоняет к нему голову, словно они беседуют наедине. Мне хотелось бы рассмотреть ее лицо, я еще ни разу не видела его.
– Вы увидите ее сегодня вечером, – отозвалась миссис Фэйрфакс. – Я сказала мистеру Рочестеру, что Адель только и мечтает быть представленной этим дамам, и он ответил: «Ах, так? Ну пусть придет сегодня после обеда в гостиную, и попросите мисс Эйр сопровождать ее».
– Разумеется, он сказал это из вежливости; я уверена, что мне незачем туда ходить, – ответила я.
– Я обратила его внимание на то, что вы не привыкли к такому обществу и вам едва ли захочется предстать перед этими веселыми гостями, притом совершенно вам незнакомыми; а он ответил с обычной решительностью: «Глупости! Если она начнет возражать, скажите, что это мое личное желание; а если она будет упираться, скажите, что я сам приду за ней и приведу ее».
– Ну, таких хлопот я ему не доставлю, – ответила я. – Если иначе нельзя, я пойду, но мне очень не хочется. А вы там будете, миссис Фэйрфакс?
– Нет. Я отпросилась, и он отпустил меня. Я научу вас, как избежать неприятной минуты появления на глазах у всех, – это ведь самое тягостное. Отправляйтесь в гостиную, пока там еще никого нет, перед тем как дамы встанут из-за стола, и выберите себе местечко в каком-нибудь укромном уголке. После того как войдут мужчины, вам незачем оставаться, разве только вы сами этого захотите. Пусть мистер Рочестер увидит, что вы здесь, а потом можете ускользнуть, – никто не обратит внимания.
– А как вы думаете, они долго прогостят?
– Возможно, недели две-три, но, конечно, не дольше. После пасхальных каникул сэру Джорджу Лину, который только что избран членом парламента от Милкота, придется вернуться в Лондон. Вероятно, мистер Рочестер уедет с ним. Меня вообще удивляет, что он на этот раз так долго прожил в Торнфильде.
Я ожидала с некоторым трепетом того часа, когда мне придется появиться с моей воспитанницей в гостиной. Узнав, что она наконец-то будет представлена дамам, Адель находилась весь день в состоянии крайнего возбуждения и успокоилась лишь тогда, когда Софи приступила к церемонии одевания. Этот процесс захватил ее целиком; и вот наконец ее волосы были убраны и лежали на плечах в виде длинных, тщательно расчесанных локонов, розовое атласное платье было надето, кушак завязан и натянуты кружевные перчатки, и девочка приняла торжественный и важный вид. Не было нужды предупреждать Адель о том, чтобы она берегла свой туалет: она важно уселась на свой стульчик, аккуратно загнув атласный подол, чтобы не смять его, и уверила меня, что не встанет с места, пока я не буду готова. Но я собиралась недолго: быстро надела свое лучшее платье (серебристо-серое, которое купила к свадьбе мисс Темпль и с тех пор не надевала), быстро пригладила волосы, быстро приколола свое единственное украшение – жемчужную брошку. И вот мы спустились вниз.
К счастью, в гостиную был другой ход, помимо столовой, где все сидели за обедом. Когда мы вошли, гостиная была пуста. Огонь бесшумно пылал в мраморном камине. Среди изысканных цветов, которыми были украшены столы, стояли восковые свечи, ярко освещавшие пустую комнату; с арки спускался пунцовый занавес. Как ни была тонка эта стена, отделявшая нас от обедающих, они говорили настолько приглушенными голосами, что я не могла ничего разобрать, кроме мягкого гула. Адель, которая, видимо, все еще была под властью торжественности этой минуты, села без возражений на скамеечку, которую я указала ей. Я же устроилась на подоконнике, взяла со стола какую-то книгу и сделала попытку углубиться в нее. Тогда Адель поставила свою скамеечку у моих ног. Через несколько мгновений она коснулась моего колена.
– Ты что, Адель?
– Можно взять один из этих чудных цветов, мадемуазель? Только чтобы дополнить мой туалет.
– Ты слишком много думаешь о своем туалете, Адель, но цветок можешь взять.
Я вынула из вазы одну розу и прикрепила ее к поясу девочки. Та вздохнула с чувством огромного удовлетворения, словно чаша ее счастья переполнилась. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку, которую была не в силах сдержать: что-то невыразимо комическое и печальное было в той серьезности и почти благоговении, с какими эта маленькая парижанка относилась к своей внешности.
Раздался шум отодвигаемых стульев. Драпировки раздвинулись. Передо мной на мгновение открылась столовая, где люстра изливала свой ослепительный свет на серебро и хрусталь роскошно сервированного для десерта длинного стола. Под аркой появилась группа дам. Они вошли в гостиную, и драпировки снова сомкнулись.
Их было всего восемь. Но когда они вошли пестрой толпой, казалось, что их гораздо больше. Некоторые из них были очень высоки ростом, многие – в белом, и платье каждой ниспадало столь пышными, волнующимися складками, что это придавало фигуре особую величественность, какую придают луне волны тумана. Я встала и поклонилась им; одна-две кивнули в ответ, остальные лишь посмотрели на меня.
Они рассеялись по комнате, напоминая мне легкостью и живостью движений стаю белокрылых птиц. Некоторые опустились на диваны и оттоманки, некоторые склонились над столами, рассматривая цветы и книги, остальные собрались вокруг камина. Все говорили негромко, но с выразительными и звучными интонациями, как видно – для них привычными. Впоследствии я узнала, как звали каждую из них, а потому могу привести их имена.
Во-первых, здесь были миссис Эштон и ее две дочери. В молодости миссис Эштон, должно быть, отличалась красотой и хорошо сохранилась до сих пор; старшая дочь, Эми, была скорее маленького роста; в ее тоненькой фигурке, в ее чертах и движениях было что-то наивное, полудетское, и это придавало ей особую привлекательность. Ей очень шло белое кисейное платье с голубым кушаком. Вторая, Луиза, была выше и изящнее, с очень хорошеньким личиком, – французы зовут такие лица minois chiffonné. Обе сестры напоминали две нежные лилии.
Леди Лин – крупная, рослая особа, лет сорока, в роскошном атласном платье «шанжан», с весьма надменным лицом – держалась очень прямо. Ее волосы, оттененные голубым пером и убором из драгоценных камней, казались особенно темными.
Полковница Дэнт была менее эффектна, но, по-моему, гораздо более аристократична. У нее была стройная фигура, бледное нежное лицо и светлые волосы. Ее черное атласное платье, шарф из дорогих заграничных кружев и жемчужное ожерелье нравились мне больше, чем радужное великолепие титулованной гостьи.
Но самыми эффектными – может быть, оттого, что они были самыми рослыми, – показались мне вдовствующая леди Ингрэм и ее дочери Бланш и Мери. Все три были статны и высоки ростом. Вдове могло быть лет за сорок. Ее стройная фигура отлично сохранилась. В черных волосах не было ни одной серебряной нити, – по крайней мере, так казалось при свете свечей; зубы блистали нетронутой белизною. Многие сочли бы ее, несмотря на ее возраст, просто ослепительной, да она и была такой, но только по внешности. Во всем ее облике, в манере держаться чувствовалось что-то нестерпимо надменное. У нее был римский нос и двойной подбородок, переходивший в полную шею. Высокомерие не только портило величие ее черт, оно убивало его. Казалось, даже ее подбородок был как-то неестественно вздернут. Взгляд был холоден и жесток. Миссис Ингрэм чем-то напоминала мне миссис Рид. Она так же цедила слова сквозь зубы, в ее низком голосе слышались те же напыщенные интонации, безапелляционные и решительные. На ней было красное бархатное платье, а на голове тюрбан из индийского шелка, придававший ей, как она, вероятно, воображала, что-то царственное.
Бланш и Мери были одинакового роста, прямые и стройные, как два тополя. Мери казалась слишком худой, но Бланш была сложена как Диана. Я рассматривала ее, конечно, с особым интересом. Прежде всего мне хотелось проверить, совпадает ли ее внешность с описанием миссис Фэйрфакс; во‐вторых, похожа ли она на ту миниатюру, которую я нарисовала наугад; и в‐третьих, – сознаюсь в этом, – достойна ли она быть избранницей мистера Рочестера.
Оказалось, что она в точности соответствует и нарисованному мной портрету, и описанию миссис Фэйрфакс: прекрасный бюст, покатые плечи, грациозная шея, темные глаза и черные кудри. Но черты ее лица явно напоминали материнские, с той разницей, что Бланш была молода: тот же низкий лоб, тот же надменный профиль, та же гордость. Правда, это была не столь отталкивающая гордость; мисс Ингрэм то и дело смеялась, однако ее смех звучал иронически, и таким же было выражение ее прихотливо изогнутых, надменных губ.
Говорят, что гении самоуверенны. Я не знаю, была ли мисс Ингрэм гением, но самоуверенной она была в высшей степени. Она принялась спорить о ботанике с кроткой миссис Дэнт. Видимо, миссис Дэнт не занималась этой наукой, хотя, по ее словам, очень любила цветы, особенно полевые, а мисс Ингрэм занималась. И она с надменным видом стала засыпать миссис Дэнт научными терминами. Я заметила, что мисс Ингрэм (выражаясь школьным жаргоном) разыгрывает миссис Дэнт; и, может быть, это высмеиванье и было остроумно, но ему недоставало добродушия. Затем мисс Ингрэм села за рояль, – ее исполнение было блестящим; она спела, – и ее голос звучал прекрасно; заговорила по-французски с матерью, – и выяснилось, что она говорит отлично, очень бегло и с хорошим произношением.
Мери казалась мягче и приветливее, чем Бланш. У нее были более нежные черты и цвет лица несколько светлей (мисс Ингрэм была смугла, как испанка). Но Мери недоставало оживления, ее лицо было маловыразительно, а глаза лишены огня. По-видимому, ей нечего было сказать, и, усевшись в свое кресло, она застыла в нем, словно статуя в нише. Обе сестры были в белоснежных туалетах.
Считала ли я теперь, что мисс Ингрэм действительно может стать избранницей мистера Рочестера? Нет, я по-прежнему этого не могла бы сказать, ведь мне было неизвестно, какие женщины ему нравятся. Если его привлекала величественность, то величественности в ней было сколько угодно, к тому же она была весела и блистала талантами. Большинство мужчин, наверное, восхищаются ею, решила я. А в том, что мистер Рочестер пленен ею, я, кажется, уже имела возможность убедиться. Последняя тень сомнения должна исчезнуть после того, как я увижу их вдвоем.
Не думайте, читатель, что Адель все время так и сидела на скамеечке у моих ног, – нет! Когда дамы вошли, она встала им навстречу, почтительно присела и сказала с важностью:
– Здравствуйте, сударыни!
Мисс Ингрэм насмешливо взглянула на нее и воскликнула:
– Ах, какая куколка!
Леди Лин заметила:
– Это, вероятно, воспитанница мистера Рочестера, маленькая француженка, о которой он говорил?
Миссис Дэнт ласково взяла ее за руку и поцеловала в щеку. А Луиза и Эми Эштон воскликнули:
– Какая прелестная девочка!
Затем они подозвали ее к себе, и она, усевшись между ними, начала усиленно болтать то по-французски, то на ломаном английском языке, завладев вниманием не только барышень, но и миссис Эштон и леди Лин и чувствуя себя на седьмом небе.
Наконец подали кофе, и вошли мужчины. Я сидела в тени, если только можно было говорить о тени в этой ярко освещенной гостиной. Оконная занавесь наполовину скрывала меня. Снова раздвинулись драпировки. Входят мужчины. Их группа производит внушительное впечатление. Все они в черном. Большинство – высокого роста; некоторые молоды. Генри и Фредерик Лин – сногсшибательные щеголи; полковник Дэнт – видный мужчина с выправкой военного. Мистер Эштон, окружной судья, держится с большим достоинством; при совершенно белых волосах у него черные брови и усы, и это придает ему вид театрального «благородного отца». Лорд Ингрэм, как и его сестры, очень высок. Как и они, он красив, но, подобно Мери, кажется вялым и апатичным, точно рост заменил ему все: живость и горячность крови и даже ум.
Но где же мистер Рочестер?
Он входит последним. Я не смотрю на арку, но вижу его. Я стараюсь сосредоточить свое внимание на спицах и петлях кошелька, который вяжу, – мне хотелось бы думать только об этой работе и видеть только серебряные бусинки и шелковые нитки, лежащие у меня на коленях. Однако я отчетливо вижу его фигуру и невольно вспоминаю нашу последнюю встречу, после того как я оказала ему то, что он назвал важной услугой, и он держал мою руку в своей, наблюдая за мной взглядом, полным глубокого волнения, доля которого относилась и ко мне! Как сблизил нас этот миг! Что же произошло с тех пор, что встало между нами? Отчего теперь мы так далеки, так чужды друг другу? Я не ждала, что он подойдет и заговорит со мной, поэтому нисколько не удивилась, когда он, даже не взглянув на меня, уселся в другом конце комнаты и принялся беседовать с дамами.
Как только я убедилась, что его внимание занято ими и что я могу незаметно смотреть на него, я невольно устремила на него свой взор. Мои глаза не повиновались мне, они то и дело обращались в его сторону и останавливались на нем. Смотреть на него доставляло мне глубокую радость – волнующую и вместе с тем мучительную, драгоценную, как золото без примеси, но таящую в себе острую боль. Удовольствие, подобное тому, какое должен испытывать погибающий от жажды человек, который знает, что колодец, к которому он подполз, отравлен, но все же пьет божественную влагу жадными глотками.
Должно быть, верна поговорка: «Не по хорошу мил, а по милу хорош». Лицо моего хозяина, бледное, смуглое, с угловатым массивным лбом, широкими, черными как смоль бровями, глубоким взглядом, резким профилем и решительным, суровым ртом – воплощение энергии, твердости и воли, – не могло считаться красивым, если иметь в виду обычные каноны красоты, но мне оно казалось более чем прекрасным, оно было для меня полно интереса и неодолимого очарования, оно лишало меня власти над моими чувствами и отдавало их во власть этого человека. Я не хотела любить его; читатель знает, какие я делала усилия, чтобы вырвать из своей души первые побеги этой любви; а теперь, при мимолетном взгляде на него, они снова ожили и мощно зазеленели. Он заставил меня опять полюбить его, хотя сам, по-видимому, даже не замечал меня.
Я сравнивала его с гостями. Что значило перед ним галантное изящество Линов, томная элегантность лорда Ингрэма и даже военная осанка полковника Дэнта! Что значило все это в сравнении с природным обаянием мистера Рочестера и его внутренней силой! Меня нисколько не восхищали ни манеры их, ни осанка; однако я вполне допускала, что большинство женщин сочли бы их привлекательными, красивыми, внушительными. И они же сочли бы мистера Рочестера угрюмым и некрасивым. Я видела улыбки его гостей, слышала их смех. В мерцании свечей было, кажется, больше души, чем в этих улыбках; звон колокольчика был содержательнее, чем этот смех. И я видела, как улыбался мистер Рочестер: его суровые черты смягчились, в глазах вспыхнули блеск и нежность, взгляд стал проникновенным и ласковым. Он говорил в эту минуту с Луизой и Эми Эштон, и меня удивило, как равнодушно они отнеслись к его взгляду, который как будто проникал в самую глубину души; я ожидала, что они опустят глаза и что румянец окрасит их щеки, и с радостью отметила в них всякое отсутствие волнения. «Он для них не то, что для меня, – думалось мне, – между ними нет ничего общего, а между нами есть – я уверена в этом; я чувствую, как меня влечет к нему, я понимаю тайный язык его взглядов и движений. Хотя его богатство и положение в обществе и разделяют нас, в моем уме и в моем сердце, в моей крови и в моих нервах есть нечто, что меня роднит с ним. Неужели это я говорила себе всего несколько дней назад, что мое дело – только получать от него жалованье? Неужели это я запрещала себе видеть в нем что-либо иное, кроме опекуна моей ученицы? Это было кощунством, надругательством над природой. Все добрые, честные, сильные чувства моей души невольно устремляются к нему. Я знаю, что должна скрывать свои переживания, что должна убить в себе всякую надежду, должна помнить, что он не может любить меня, – ибо, говоря, что между нами есть какое-то внутреннее родство, я вовсе не предполагаю, что наделена той же силой влияния и той же способностью очаровывать, как и он. Я хочу только сказать, что у нас одинаковые с ним вкусы и ощущения. И поэтому я должна то и дело повторять себе, что мы разлучены навеки; но, пока я живу и мыслю, я не могу не любить его».
Подали кофе. Как только вошли мужчины, дамы защебетали, как птички. Разговор становился все громче и веселей. Полковник Дэнт и мистер Эштон спорят о политике; их жены внимают им. Гордые вдовы – леди Лин и леди Ингрэм – любезно беседуют. Сэр Джордж (я забыла описать его наружность: это очень высокий и розовощекий деревенский джентльмен) стоит перед диваном, на котором расположились дамы, и, держа в руке чашку кофе, время от времени вставляет слово. Мистер Фредерик Лин уселся позади Мери Ингрэм и показывает ей книгу с великолепными гравюрами; она смотрит, улыбается, но сказать ей нечего. Долговязый и флегматичный лорд Ингрэм стоит, скрестив руки, за спинкой кресла, на которое уселась веселая и живая Эми Эштон. Время от времени она поглядывает на него и трещит, как сорока; он нравится ей больше, чем мистер Рочестер. Генри Лин поместился на скамеечке у ног Луизы. Адель примостилась тут же. Он пытается говорить с девочкой по-французски, и Луиза хохочет над его ошибками. Кто же будет парой Бланш Ингрэм? Она стоит у стола одна, грациозно склонясь над альбомом. Видимо, она ждет, чтобы кто-нибудь подошел к ней; но слишком долго ждать она не намерена. Она сама подыщет себе собеседника.
Мистер Рочестер, поговорив с Эштонами, отходит к камину; теперь он один. Бланш делает несколько шагов и становится против него.
– А мне казалось, мистер Рочестер, что вы не любите детей.
– Так оно и есть.
– Тогда ради чего вы взяли на себя заботу об этой куколке? – Она указала на Адель. – Где вы ее подобрали?
– Я не подобрал ее, она была оставлена мне.
– Вам следовало отправить ее в школу.
– Я не мог сделать этого. Школы слишком дороги.
– Ну, вы, вероятно, держите для нее гувернантку. Я только что видела здесь какую-то особу, – она ушла? Ах нет, она все еще сидит вон там, за шторой. Вы, конечно, платите ей? По-моему, это стоит не дешевле, и вам в результате приходится содержать двоих.
Я боялась, или, говоря по правде, надеялась, что упоминание обо мне заставит мистера Рочестера хоть раз взглянуть в мою сторону, и невольно забилась поглубже в угол. Но он даже не повернул головы.
– Я об этом не подумал, – сказал он равнодушно, глядя прямо перед собой.
– Конечно, вы, мужчины, никогда не считаетесь ни с экономией, ни со здравым смыслом. Вы бы послушали, что говорит мама насчет гувернанток: у нас с Мери, когда мы были маленькими, их перебывало по крайней мере с десяток. Одни были отвратительны, другие смешны. И каждая по-своему несносна. Ведь правда, мама?
– Что ты сказала, мое сокровище?
Молодая особа, представлявшая собой это сокровище, повторила свой вопрос с надлежащим пояснением.
– Ах, моя дорогая, не упоминай о гувернантках! Одно это слово уже действует мне на нервы. Бестолковость, вечные капризы!.. Поверьте, я была просто мученицей! Слава богу, эта пытка кончилась.
Тут миссис Дэнт наклонилась к благочестивой даме и что-то шепнула ей на ухо. По ответу я поняла, что миссис Дэнт напомнила ей о присутствии здесь одной из представительниц этой проклятой породы.
– Тем лучше, – заявила леди. – Надеюсь, это послужит ей на пользу. – И добавила тише, но достаточно громко, чтобы я слышала: – Я сразу обратила на нее внимание. Ведь я отличная физиономистка и читаю на ее лице все недостатки этой породы.
– Какие же это недостатки, мадам? – громко спросил мистер Рочестер.
– Я вам на ухо скажу какие, – ответила она и трижды многозначительно качнула своим тюрбаном.
– Но мое любопытство пройдет, оно жаждет удовлетворения именно сейчас.
– Спросите у Бланш, она ближе к вам, чем я.
– О, не отсылай его ко мне, мама. Я могу сказать обо всем этом племени только одно: они несносны! Правда, я не слишком от них пострадала и скорее старалась им сама насолить. Какие проделки мы с Теодором устраивали над нашей мисс Уилсон, и миссис Грэйс, и мадам Жубэр! Мери была слишком большой соней, чтобы участвовать в таких шалостях. Особенно смешно было с мадам Жубэр. Мисс Уилсон была жалким, болезненным существом, слезливым и ничтожным, и она не стоила того, чтобы с ней бороться, а миссис Грэйс была груба и бесчувственна, на нее ничто не действовало. Но бедная мадам Жубэр! Как сейчас вижу ее ярость, когда мы, бывало, окончательно выведем ее из себя – разольем чай, раскрошим на полу хлеб с маслом, начнем подбрасывать книги к потолку и оглушительно стучать линейкой по столу и каминными щипцами по решетке. Теодор, ты помнишь это веселое время?
– Да, конечно, помню, – грассируя, отозвался лорд Ингрэм. – Бедная старушенция обычно кричала: «Ах, гадкие дети!» А тогда мы начинали читать ей нотации за то, что она дерзает учить таких умных детей, как мы, а сама так невежественна.
– Да, я помню. А потом, Тедо, я помогала тебе изводить твоего учителя, этого бедного мистера Вининга, ходячую проповедь, как мы его звали. Он и мисс Уилсон осмелились влюбиться друг в друга, – по крайней мере мы с Тедо так решили. Нам удалось подметить нежные взгляды и вздохи, которые казались нам признаками de la belle passion[22], и все скоро узнали о нашем открытии. Мы воспользовались им для того, чтобы выжить их из нашего дома. Мамочка, как только узнала об этой истории, усмотрела в ней безнравственные тенденции. Разве не так, леди мать?
– Разумеется, душа моя, и я была права. Поверь, существует тысяча причин, по которым любовные интрижки между гувернантками и учителями не могут быть допущены ни на мгновение ни в одном порядочном доме. Во-первых…
– Помилосердствуй, мама, избавь нас от перечислений. Право же, мы сами все это знаем: опасность дурного примера для невинных детских душ, рассеянность влюбленных – и отсюда пренебрежение своими обязанностями; затем взаимное их понимание и поддержка, а отсюда дерзость, мятеж и полный беспорядок. Я права, баронесса Ингрэм из Ингрэм-парка?
– Мой чистый ангел, ты права, как всегда.
– Тогда не о чем больше и говорить. Давайте переменим тему.
Эми Эштон, которая не слышала или не обратила внимания на этот приказ, заявила своим кротким голоском маленькой девочки:
– А мы с Луизой тоже дразнили нашу гувернантку, но она была так добра, что все решительно переносила. Ничем нельзя ее было вывести из себя. Она никогда на нас не сердилась. Ведь верно, Луиза?
– Никогда! Мы могли делать что угодно: шарить в ее столе или рабочей корзинке, все перевернуть вверх дном в ее ящиках. Она была так добродушна, что давала нам все, чего бы мы ни попросили.
– Ну, – заметила мисс Ингрэм с саркастической усмешкой, – кажется, все теперь займутся воспоминаниями о своих гувернантках. Во избежание этого я еще раз предлагаю другую тему. Мистер Рочестер, вы поддерживаете меня?
– Сударыня, я поддерживаю вас в этом, как и во всем остальном.
– Тогда беру дальнейшее на себя. Сеньор Эдуардо, вы нынче в голосе?
– Донна Бианка, если вы прикажете, я буду в голосе.
– А тогда, сеньор, слушайтесь моего королевского приказа – приведите в готовность ваши легкие и другие вокальные органы, чтобы служить моим желаниям.
– Кто не захочет быть Риччио[23] при столь божественной Мери?
– Бросьте вашего Риччио! – воскликнула она, тряхнув кудрями и направляясь к роялю. – Я считаю, что скрипач Давид был препротивным субъектом, черный Босвел[24] нравится мне гораздо больше. По-моему, мужчина ничего не стоит, если в нем нет чего-то дьявольского. Пусть история говорит что угодно, но, мне кажется, он был как раз таким диким, неистовым героем злодейского типа, какому я согласилась бы отдать свою руку.
– Джентльмены, вы слышите? Кто из вас больше всего похож на Босвела? – воскликнул мистер Рочестер.
– Я бы сказал, что, пожалуй, вы, – отозвался полковник Дэнт.
– Клянусь честью, я вам чрезвычайно благодарен! – отозвался мистер Рочестер.
Мисс Ингрэм, с горделивой грацией усевшись за рояль, расправила вокруг себя пышные складки своей белоснежной одежды и заиграла бравурное вступление. Вместе с тем она продолжала говорить. Очевидно, она была сегодня в ударе. Ее речи и выражение лица были предназначены, казалось бы, для того, чтобы не только вызывать восхищение, но прямо-таки ослеплять своих слушателей. Сегодня она, видимо, собиралась показать себя особенно бесшабашной и смелой.
– О, мне так надоели наши теперешние молодые люди! – восклицала Бланш, исполняя оглушительные пассажи на рояле. – Бедные, ничтожные существа, которые не смеют шага сделать за решетку папиного парка и даже до решетки боятся дойти без маминого позволения и охраны. Это люди, которые только и заняты своим красивым лицом, белыми руками и маленькими ногами. Как будто настоящему мужчине нужна красота! Как будто очарование не является исключительным преимуществом женщины, ее законным достоянием и наследием! Некрасивая женщина – это просто оскорбление природе. От мужчин же требуется только одно – сила и решительность. Пусть их девизом будет охота, стрельба, война, – все остальное вздор. Будь я мужчиной, мой девиз был бы именно таков.
– Когда я решу выйти замуж, – продолжала она, сделав паузу, хотя никто ей не возражал, – я найду себе такого мужа, который не будет соперничать со мной в красоте, а скорее будет оттенять ее. Я не потерплю соперника у своего престола, моя власть должна быть безраздельна; я хочу, чтобы он любовался только мной, а не собственным отражением в зеркале. А теперь, мистер Рочестер, пойте, я буду вам аккомпанировать.
– Повинуюсь.
– Вот песенка корсара. Вы знаете теперь мое отношение к корсарам. Поэтому спойте ее con spirite[25].
– Приказания, исходящие из уст мисс Ингрэм, кажется, воспламенили бы стакан снятого молока.
– Берегитесь! Если вы не сумеете мне угодить, я пристыжу вас, показав, как нужно исполнять такие вещи.
– Вы хотите выдать мне премию за неспособность? Теперь я уж наверное провалюсь.
– Ну, смотрите! Если вы это сделаете нарочно, я вам назначу соответствующее наказание.
– Мисс Ингрэм должна быть снисходительна, так как она может возложить наказание, превышающее человеческие силы.
– Объясните, что это значит? – приказала молодая дама.
– Извините меня, сударыня, никаких объяснений здесь не нужно. Чуткость должна подсказать вам, что ваша нахмуренная бровь уже является серьезнейшим наказанием.
– Пойте, – снова приказала Бланш и заиграла громкий аккомпанемент.
«Теперь я могу ускользнуть», – решила я. Но звуки, раздавшиеся вслед за тем, заставили меня остановиться. Миссис Фэйрфакс говорила, что у мистера Рочестера прекрасный голос, – и действительно, у него был глубокий, мощный бас, в который он вкладывал особое чувство, особую выразительность. Этот голос проникал в сердце и странно волновал. Я подождала, пока последний глубокий и полный звук замер и снова зажурчал прерванный на мгновение разговор. Тогда я выбралась из своего уголка и вышла через боковую дверь, которая, к счастью, находилась поблизости. Я очутилась в узеньком коридоре, ведущем в холл. Сделав несколько шагов, я заметила, что у меня развязалась ленточка туфли, и, чтобы завязать ее, опустилась на колено на ковер у подножия лестницы. В это время за мной открылась дверь из столовой. Кто-то из мужчин вышел оттуда. Я торопливо поднялась и очутилась лицом к лицу с мистером Рочестером.
– Как вы поживаете? – спросил он.
– Очень хорошо, сэр.
– Отчего вы не подошли и не поговорили со мной в гостиной?
Мне казалось, что я могла задать ему тот же вопрос; но я не осмелилась и просто сказала:
– Я не решилась беспокоить вас, так как вы, видимо, были заняты, сэр.
– Что вы делали в мое отсутствие?
– Ничего особенного, занималась, как обычно, Аделью.
– И стали гораздо бледней, чем были. Я увидел это с первого же взгляда. Что случилось?
– Решительно ничего, сэр.
– Вы не простудились в ту ночь, когда едва не утопили меня?
– Ничуть.
– Вернитесь в гостиную, вы убегаете слишком рано.
– Я устала, сэр.
Он с минуту смотрел на меня.
– И чем-то огорчены, – сказал он. – Чем? Расскажите мне!
– Ничем, решительно ничем. Я не огорчена.
– А я утверждаю, что огорчены. И настолько, что еще одно слово – и на ваших глазах выступят слезы, – видите, они уже появились, сверкают, и вот уже одна капля катится по щеке. Если бы у меня было время и я бы не опасался, что какой-нибудь сплетник слуга пройдет здесь, я бы все-таки добился от вас, в чем дело. Ну, на сегодня отпускаю вас. Но имейте в виду, что, пока здесь мои гости, я хочу, чтобы вы появлялись в гостиной каждый вечер; таково мое желание, пожалуйста, не пренебрегайте им. А теперь идите и пришлите Софи за Аделью. Спокойной ночи, моя… – Он смолк, прикусил губу и торопливо вышел.