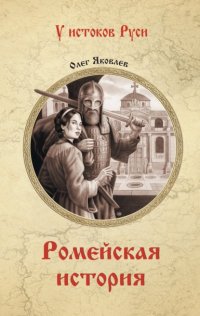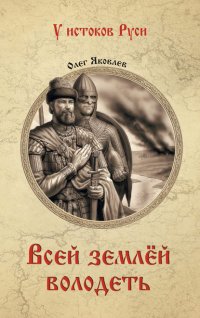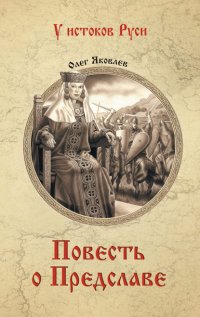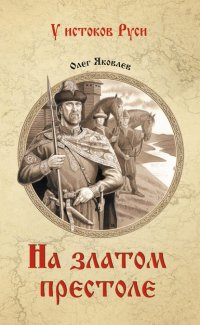
Читать онлайн На златом престоле бесплатно
- Все книги автора: Олег Яковлев
Знак информационной продукции 12+
© Яковлев О. И., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Вступление
Землю эту называли в народе Русью Червонной. Упираясь на западе в ленивые пологие увалы лесистых Карпат, достигала она холмов Подолии, охватывала север лесов Буковины, пересекала бесчисленные, словно рукой неведомого художника вырисованные, текущие по строгой уставной линии с севера на юг притоки буйного Днестра – Стрыпу, Липу Золотую и Гнилую, Серет, Збруч, Смотрич, Мурафу.
И городков укреплённых, и сёл богатых здесь, на юго-западной окраине некогда могучей Киевской державы, было видимо-невидимо. Как воины-сторожа, обступали пределы её обведённые дубовыми, буковыми, а порой и каменными стенами, окружённые земляными валами и рвами крепости. Несли они суровую службу на горных и речных рубежах, затворяли врата иноземным ворогам – ляхам, уграм[1], половцам[2].
Зе́́мли в Червонной Руси, мягкие и плодородные, давали всякий год обильные урожаи пшеницы, ячменя, ржи. Летом утопали города, деревни, слободы в зелени садов, реки полны были стерлядью, голавлём, судаком, окунём, а леса и рощи – дикими кабанами, оленями, косулями, рысями, водилась здесь ценная мехом желтодущатая куница, гнездились по берегам озёр и рек серые утки, гуси, кряквы, нырки; жадно выискивал добычу белоголовый сип, чёрные грифы зловеще кружили под облаками. В горных же лесах, на Карпатских склонах, бродили по скальным тропам огромные бурые медведи.
Всем богата, всем обильна была Русь Червонная, потому и желающих овладеть ею издревле хватало.
То обры – вархониты[3] накладывали на жителей её – гордых непокорливых дулебов[4], тиверцев[5] и белых хорват[6] – тяжкую дань, то поляки занимали города и ставили здесь своих наместников – кастелянов, то кочевники-мадьяры[7] грабили, жгли, разоряли хаты и амбары, вытаптывали рольи[8].
После, во время расцвета Киева, правили здесь княжьи посадники: творили суды, собирали дани, выезжали на ловы[9] в леса и горы.
Но вот, изгрызанная червями междоусобий, рухнула, обратившись в прах, как колосс из библейской книги пророка Даниила, некогда могучая киевская держава, распалась на мелкие и крупные хрупкие осколки отдельных княжеств.
Города Червонной Руси отошли во владения троих братьев – Рюрика, Володаря и Василька Ростиславичей. Братья друг за дружку держались, жили меж собой мирно и союзно, вместе обороняли свои земли от посягательств Киева, Польши, Венгрии. Но после того как в один год умерли оба молодших брата, от былого единения не осталось и следа. Дети их перессорились, каждый тянул одеяло на себя, и только много позже, правдами и неправдами, когда лукавством, а когда силой прибрал к рукам все земли от верховьев Сана и до истоков Южного Буга хитрый и «многоглаголивый» князь Владимирко, сын князя Володаря. Столицей своей сделал он город Галич на правом, высоком берегу среброструйного Днестра, отчего и владение его стали называть Галичиной.
В те времена по югу Руси шли нескончаемые косящие люд усобицы, кровь лилась потоками, велась яростная борьба за хиреющий киевский великий стол[10]. Волны ратей накатывали порой и на Галицкое княжество[11], заливали заревом пожаров хаты крестьян, усадьбы бояр, купецкие дворы. Беспрестанным кипением страстей, тревогой и смятением наполнена была в ту пору жизнь.
С событий грозового 1151 года от Рождества Христова приступаем мы к нашему повествованию.
Глава 1
Ласковое весеннее солнце повисло над Галичем, клубилась пыль, поднимаемая конями и телегами; со стороны крепостного двора, из-за обитых листами кованой меди ворот, раздавался привычный лязг оружия. По соседству в кузне громко бухал молот.
По вьющейся над крутым обрывистым берегом Днестра дороге вверх к воротам двигалась вереница всадников на выхоленных тонконогих скакунах.
Впереди ехал молодой человек, на вид лет двадцати пяти – двадцати шести, на соловом[12] спокойного нрава фаре[13]. Облачён он был в голубого цвета лёгкий суконный плащ, застёгнутый на правом плече фибулой[14] с серебристой змейкой. Шапка с бархатным парчовым верхом, вышитым крестами, была низко надвинута на чело, на жёлтых тимовых[15] сапогах поблескивали округлые медные бодни[16], под плащом виднелась алая сорочка с вышивкой, с рукавами, перехваченными на запястьях серебряными обручами.
Лицо, тёмное от загара, отличалось правильностью черт. От слегка выпуклого, с горбинкой, переносья вдоль щеки под правым глазом тянулся застарелый белый шрам, такой же тонкий след проступал и на деснице[17], начинаясь между безымянным и средним перстами и уходя под рукав сорочки. Светло-русые волосы, слегка вьющиеся, струились непослушными прядями, ниспадали сзади из-под шапки и закрывали шею; усы, по тогдашнему обычаю, были на кончиках напомажены и вытянуты в долгие тонкие стрелки; узкая борода доходила едва не до пупа и слегка колыхалась при каждом движении.
Всадник часто оборачивался, оглядывал своих спутников, со вниманием щуря большие чуть навыкате глаза цвета речного ила.
Следом ехал на ширококостном буланом мерине полный пожилой муж, седовласый, с насупленными лохматыми бровями, весь с головы до ног облитый железом. Чешуйчатый ромейский[18] доспех его блестел на солнце, по лицу из-под островерхого шишака[19] градом катился пот. По правую руку от него на мышастом низкорослом прядущем ушами коньке скакал ещё один вершник[20], как и передний, молодой. Что-то масляно-лукавое проглядывало в чертах этого молодца, напоминал он хитрована-купчика, только что объегорившего на торгу наивного покупателя и светившегося от самодовольства. Маленькая войлочная шапчонка покрывала лишь самую макушку, оставляя почти полностью открытой гриву огненно-рыжих волос. На устах вершника играла лёгкая усмешка, и она же скользила в зелёных, как у кошки, глазах, каких-то неожиданно ярких. Одет был рыжеволосый просто, в долгую светло-коричневую свиту[21] из грубого сукна. По пути он беспрерывно что-то насвистывал, к явному неудовольствию пожилого мужа.
Сзади ехали несколько воинов, оборуженных копьями. На двух крытых рогожей телегах везли, как видно, охотничьи трофеи, – в одном месте выставлялись из-под рогожи оленьи рога, в другом – морда вепря с острыми и кривыми, как сабли, клыками.
Все всадники были хорошо вооружены, у каждого на поясе или в портупее за спиной висел меч или сабля, у молодых к сёдлам были приторочены кольчуги.
– Семьюнко! – окликнул передний рыжего. – Погляди, врата крепостные на запоре. И мост через ров подняли. Или беда какая створилась?
– А может, и так, княжич, – прикрывая глаза ладонью от солнца, ответил рыжий молодец. – Али попросту родитель твой бережётся, крамол боярских опасается.
Семьюнко косо глянул на пожилого и добавил:
– И не зря, верно, боярин Домажир?
Пожилой, недовольно хмурясь, молча передёрнул плечами.
– Помнишь, Ярославе, – продолжал Семьюнко, обращаясь к княжичу, – как единожды выехал князь Владимирко на ловы в Тисменицу, вот такожде[22], как и мы ноне, а бояре тем часом заперли врата да выкликнули на княженье Ивана Берладника. Больших трудов стоило отцу твоему Галич воротить и Берладника согнать со стола.
– Помню. Не забудешь такое. Вот, до скончания дней земных память. – Ярослав провёл пальцем по шраму на щеке. – Под Ушицей сабля половецкая проехалась. Хвала Пресвятой Богородице – защитила, отвела напасть. Но давайте-ка поскачем скорее. Проведаем, что там, во граде.
Он тронул боднями коня. Спокойный угорский иноходец пошёл рысью, далеко вперёд выбрасывая длинные передние ноги.
Узнав княжеского сына, охранники у ворот опустили через ров подъёмный мост. Всадники въехали в обитые медью Немецкие Ворота, пересекли вымощенную досками улицу, миновали другие ворота и оказались на просторном дворе перед княжеским дворцом. Возле крыльца трехъярусных хором с теремными каменными башнями по краям Ярослав торопливо спрыгнул с коня наземь, коротко бросил Домажиру и Семьюнке:
– Подождите в горнице. Я к отцу, – и скорым шагом поспешил вверх по крутой винтовой лестнице.
В горницах и переходах ему раболепно кланялись дворовые челядинцы. На верхнем жиле[23], возле одной из палат Ярослав едва не столкнулся с рослой молодой женщиной в цветастом саяне[24] и повое[25] на голове. Холодно кивнув ей и промолвив коротко:
– Здрава будь, Млава! – Он помчался дальше, через гостиную залу с толстыми оштукатуренными столпами прошёл на гульбище[26], оттуда свернул в ярко освещённый смоляными факелами на стенах переход и, наконец, постучался в дубовую скруглённую наверху дверь. Страж в кольчуге и высоком булатном шеломе[27] приветствовал княжича поясным поклоном.
– Кто тамо? Входи вборзе[28]! – послышался за дверью раздражённый голос.
Ярослав шагнул в уставленную столами узкую и длинную палату. Князь Владимирко Володаревич, сверля сына колючим неодобрительным взглядом, резко встал с высокого резного кресла.
Был он приземист, ширококостен, белолиц, лет имел пятьдесят шесть; будучи ростом меньше сына, стоя рядом, смотрел на него своими светло-серыми белесыми глазами снизу вверх, исподлобья. Руками с толстыми короткими пальцами он перебирал окладистую пшеничного цвета бороду, говорил отрывисто, цедя сквозь зубы:
– Снова вороги подымаются на нас, сын. Изяслав Мстиславич Киевский с уграми, с королём Гезой сговаривается. Хочет за прошлое мне отомстить. Собирает, совокупляет силы ратные на Волыни, во Владимире. Король Геза вельми гневен. Помнит, как я в прошлое лето угорский отряд, на подмогу Изяславу супротив князя Юрья шедший, избил. До единого человека тогда угров в мечи мои удальцы взяли. Вот и злобится король, а Изяслав, враг мой давний, злобу сию разжигает. Вовсе обнаглел Мстиславич. Топерича силу свою чует. Почитай, соуз у его и с ляхами, и с уграми, и с черниговским Изяславом Давидовичем. Князя Юрья Суздальского, тестя твово, с Киева прогнали в обрат в Суздаль. Ну, да сам в своих бедах виноват князь Юрий. Всё людей жалел, воевать не хотел, всё миром поладить мыслил. Да время нынче не такое.
Владимирко вздохнул, переведя взор на забранное слюдой в свинцовой оплётке окно.
– Вот тако, сыне. Без соузников мы с тобою остались. Чую, не выдюжить супротив Изяслава в ратоборстве. Иной путь надоть искать. Вот, ждал тебя, да ты, бают[29], из утра на ловы отъехал. Топерича не до ловов. Давай-ка, сядем тут, обмыслим, как быти.
Ярослав сел на обитую синим бархатом лавку, облокотился о стол. Кусая уста, думал, молчал, опустив голову; наконец, сказал, глядя на вышагивающего по палате отца:
– Ведаю, отче, слова мои тебе будут не по нраву. Но всё ж скажу. Нынешняя вражда твоя с Изяславом – из-за городков бужских. Занял ты Тихомль, Шумск, Выгошев, Гнойницу, Бужск, се – города волынские, Изяславовы. Ежели отдашь их, успокоится киевский князь. А королю Гезе воевать и так не шибко-то охота. И ещё. Архиепископ Кукниш, ближник королевский, златолюбив паче всякой меры, не раз ты через него за гривны[30] и куны мир у короля покупал.
– О Кукнише баишь ты верно. А в остальном – глупость городишь. Бужск, Тихомль, Шумск отдавать ворогу свому – нет, пущай другого охотника ищут!
Ярослав ничего не ответил.
«Скуп отец, прижимист, – думал княжич. – И упрям излиха, никому ни в чём уступать не привык. Умён, изворотлив, но с добытками своими расставаться вельми не любит. Может, оттого и рати нескончаемые на земле нашей, и беда новая едва не каждое лето в двери стучится. Когда городок Мическ на Киевщине осадил, так такой взял с горожан окуп, что жёнки даже серьги из ушей вынимали, а попы кресты и потиры[31] златые из церквей выносили».
Князь Владимирко прервал мысли сына:
– Вот ты глаголешь: отдай городки! Да рази ж в городках сих дело? Ну, пущай даже Изяслава с Гезой умирим мы. А наши, галицкие вороги, бояре крамольные? Тотчас ослабу[32] мою учуют, головы подымут, с Берладником, двоюродником твоим, опять сноситься почнут. Нынче ведь как я их утишил? Вот, скажем, Домажир и Молибог завсегда супротив меня козни строили. Дак я Домажира обласкал, сыну его в Шумске посадничество дал. А Молибога, приятеля егового закадычного, не принял, гнать велел взашей из Галича. Топерича сидит Молибог в замке своём горном, злобою пышет, и злобится-то боле всего на Домажира: обошёл-де меня, предал боярин. И ты тако дей, сыне. Расколоть их надоть, рассорить друг с дружкой. А коли Шумск отдам я Изяславу Киевскому, опять Домажир с Молибогом и иными опальниками снюхается. Дескать, лишил мя князь волости, опозорил, сына с посадничества свёл. Тако вот, Ярославе. Со боярами хитро деять надобно. Помни се.
– Ну, пусть так, отец, – согласился княжич. – Но тогда как же нам теперь быть, что делать?
– Слабость свою николи[33], сын, боярам и черни казать не мочно[34]. Собирать полк, дружину готовить будем, выступим к Перемышлю. К сербам, к болгарам послано уже. Помощь пришлют. Но ратиться с сим забиякою, с Изяславом, очертя голову на его идти – не след. Потому вот что. – Владимирко опёрся обеими руками о стол, склонился над сыном и вполголоса, словно опасаясь, как бы кто не подслушал под дверью их разговор, сказал: – Грамоты разошлём. Ко князю Юрью – шёл бы на Киев. К полоцким боярам и князю их, Ростиславу Глебовичу, дабы выступили супротив зятя Изяславова, Рогволода. К новгородцам – погнали б сына Изяславова со стола. А главное – к ромейскому базилевсу[35], Мануилу. Как-никак родич он наш, сестра моя старшая Ирина за стрыем[36] его Исааком замужем, вроде как друг и соузник Мануил нам покуда. Побудить его надоть на угров идти, на Саву. Так, мол, и так, отпишу, час настал удобный. Ударь по мадьярам, оттяпай у короля Гезы Хорватию. Гезе тогда не до нас станет, сын. Своя рубашка – она завсегда к телу ближе. Попомни слова мои, Ярославе, отступится Геза от Изяслава, побежит свои владенья боронить. Тако вот. Мануилу сам я грамоту составлю, а ты ступай, пиши полочанам да новгородцам. Пошлём в Новгород боярина Домажира, а в Суздаль, ко князю Юрью, Щепана. Семьюнко же, отрок[37] твой, к Кукнишу пущай езжает. Парень он смекалистый, далеко пойдёт. А епископ угорский, верно ты сказал, златолюбив вельми. Отговаривать почнёт на наши гривны Гезу от войны. Эх, жаль гривен! Этакой сволочи и веверицу[38] отдать жалко, да что ж топерича?! Большее потерять мочно. Ну, с Богом, сыне. Ступай, да не мешкай. Тотчас садись за грамоты.
…Дело спорилось. Макая в чернильницу перо, выводил Ярослав на пергаменте киноварью[39] полууставные буквы. Семьюнко сидел напротив, княжич иногда просил его подсказать то или иное выражение, читал вслух отрывки:
«…Изяслав, бояре, к ногтю вас прижать мыслит, к земле пригнуть. На всю Русь длань свою тяжкую наложить этот хищник вознамерился. Князь же Рогволод – подручник его верный. Дабы волости свои уберечь, не принимайте Рогволода, людей его и киян[40] избивайте, а своего князя, Ростислава Глебовича, крепко держитесь…»
Новгородскому посаднику Судиле Ивановичу, старому приятелю Юрия Суздальского, писал так: «Град ваш издревле вольный, Изяслав же Киевский холопами[41] вас сделать хощет… Не к лицу Новому городу подручника киевского у себя держать. Всем вам киевский князь мечом грозит, всем вам от него один позор и одна погибель…»
Отложив перо, Ярослав присыпал грамоты песком, чтобы высохли чернила, велел звать печатника. Пергамент свернули в свитки, прикрепили к ним восковые вислые печати с родовым княжеским гербом – соколом и изображением князя Владимирка со скипетром в деснице.
Закончив дело, Ярослав устало потянулся и поднялся со скамьи.
– Собирайся, Семьюнко, – сказал он. – К Кукнишу, архиепископу угорскому, отец тебя посылает. Осторожно с ним надо будет говорить, намёками. Ну да что тебя учить, сам знаешь. Если придёшь, мешок со златом на стол бросишь – давай, мол, Кукниш, отговаривай короля от рати – не поймут тебя. А ежели исподволь, тихонько, с глазу на глаз, да ночкою тёмною в шатре, вот тогда, думаю, уразумеете вы друг друга.
Он невесело рассмеялся.
– Да, друже, торными дорогами здесь не пройдёшь. Всё приходится петлять, как в горах, обходить завалы, скалы, чащи. Напролом идти – глупо. Вот стрыйчич[42] мой, Иван Берладник, тот, говорят, человек безоглядчивый, простодушный, прямой. Девки его любят, дружина, люд простой, а не нагрел он на земле места. А всё потому, что княжеские дела – не охотничьи забавы, где против тебя – зверь лютый, и у тебя в руках меч или рогатина. Одним словом, людьми править – не оружьем бряцать. Тяжкий се крест, и не всякому он по плечу.
– Оно тако, княжич. – При свете свечи на столе лукавинкой сверкнули зелёные глаза Семьюнки. – Мне, оно конечно, до премудрости ентой далеко. Вот, мыслю токмо… – Он замялся. – Думаю, в стан королевский ежели я поеду, надоть мне приодеться. Кафтанчик какой ни то справить, сапожки. Сам знаешь, княжич, беден аз. Дак ты бы… Дал бы мне маленько злата из скотницы[43] княжой. Всё ж таки, как-никак, а на службе состою, князя Владимирка порученья исполняю.
Ярослав вдруг рассмеялся. Да, Семьюнко себя никогда не забывает. Не столь уж он и беден, отец его покойный солью промышлял, возил из Коломыи в самый Киев. Наверное, золотишко у Семьюнки водится. Ну да разве человека изменишь? Лучше малым пожертвовать, чем ворога себе наживать.
– Попрошу отца. Думаю, даст злата. Заутре же велит казначею отсыпать тебе, – ответил он.
Смазливое лицо Семьюнки озарилось масляной улыбкой.
…Проводив его, Ярослав прошёл в смежный с палатой молитвенный покой. Здесь на поставце в мерцающем свете лампад стояли иконы, а на стене в полный рост, почти до сводчатого потолка, изображена была Пресвятая Богоматерь. Молитвенно сложив на груди руки, смотрела она на княжича с любовью, страданием и немой укоризной. Короткий голубой мафорий[44] покрывал её голову и плечи, светло-зелёная хламида[45] струилась вниз, вокруг головы сиял, разбрасывая в стороны тонкие золотистые лучи, нимб с греческими буквами.
Встав на колени, Ярослав склонил голову и зашептал молитву.
– Достойно есть яко воистину блажити Тя[46] Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истленья Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Он смотрел в тусклый лик Божьей Матери, и на глаза его наворачивались слёзы, тяжёлый ком подкатывал к горлу и перехватывал дыхание.
Княжич не знал, не помнил матери, рано умершей дочери венгерского короля Коломана Софии, рос без материнского пригляда и ласки, и Богородица, этот лик, эта фреска на стене заменяла ему в одинокие тоскливые вечера и ночи самого дорогого на свете человека, которого он был лишён. Ей, Богородице, пресвятой Деве Марии, поверял он все свои тайны, делился сомнениями, переживаниями, только одна Она своим безмолвием поддерживала и понимала его, Ей дарил он свою сыновью любовь, к Ней обращался за советом и помощью.
– Спаси нас, Пречистая Богоматерь! Заступись за мя, грешного, пред Господом! Бо[47] человек аз, жалок аз, нищ и грешен, и мерзостей земных преисполнен! Вот писал днесь[48] грамотки подмётные по отцову веленью, подстрекал новгородцев и полочан ко встани[49]. Из-за мя теперь кровь прольётся, люди погибнут. Но мог ли, мог ли по-иному содеять?! Не ради оправданья, но ради нищеты и малости своей молю: заступись, Пресветлая Богоматерь, не дай пропасть и погинуть душе моей в геенне огненной! Умолила ты Сына Своего, дабы от Пасхи и до Троицы не мучились человеци худые и грешные в аду! Бо претят Тебе стоны и страданья людские! Аз, жалкий раб Божий, худым умом своим мыслю одно: Твоим путём идти, по Твоему примеру земные дела вершить! Оберегу землю Галицкую, кою дала ты мне в наследство, от ратей, глада, мора! За дело се всё, что имею, отдам, самую жизнь положу! Спаси мя, Пречистая Матерь Божья!
То ли показалось, то ли в самом деле лёгкая улыбка тронула уста Богородицы, и некоей чистотой, светом невидимым горним обдало княжича. И сделалось Ярославу как-то хорошо-хорошо, так приятно, тихо на душе, все сомнения, колебания, беспокойные мысли его отступили куда-то, истаяли, он чувствовал тепло, как бы исходящее от этой фрески, словно мать родная, о коей не знал почти ничего, прижала его сейчас к своей груди и ласковыми дланями провела по непокорным волосам.
Исчез тяжкий ком в горле, высохли слёзы, Ярослав поднялся на ноги, удивлённо окинул взором молельню и, чувствуя необычайную лёгкость в теле, очарованный, вернулся обратно в палату.
Ждали его впереди большие заботы и свершения.
Глава 2
Тёмная весенняя ночь стояла над Галичем, тишину нарушали время от времени оклики стражи и удары деревянного била[50] на крепостной стене, едва различимой с гульбища в серебристом свете луны. Было холодно, ветер доносил до Ярослава, прижавшегося спиной к толстому деревянному столпу, запахи молодой листвы, трав, той свежести и новизны, какая бывает только ранней весной, в пору, когда природа пробуждается после долгой зимней спячки и словно упивается торжеством вновь нарождающейся жизни.
Каким-то глупым недоразумением казалась княжичу война, которая вот-вот могла разразиться. Нет, не для стрел и копий создал Бог этот мир, не для кровавых баталий и смертей на бранных полях, думалось Ярославу. Для чего ратаи всю жизнь свою пашут землю, для чего выращивают хлеб, разбивают яблоневые и вишнёвые сады над берегами обеих Лип и среброструйного Днестра? Для чего зиждители[51] строят храмы, украшают их фресками, мусией[52], акантом? Или ремественники-гончары создают дивную поливную посуду, а златокузнецы – кресты-энколпионы[53], мониста и браслеты, от одного взгляда на которые захватывает дух? Зашёл в лавку такого умельца – и будто в сказку попал! Нет, жизнь следует мирно обустраивать. Как, Ярослав пока ещё не знал.
Отец – он, понятно, годами цеплялся за власть, за достойное место меж родичей-князей. Лукавил, предавал, бросал в бой дружины, не щадил ни себя, ни других. Прав он был? Наверное, не всегда, но он создал на месте крохотных уделов обширное княжество, укрепил и украсил города, сделал Червонную Русь сильной, с самим киевским князем Изяславом тягается теперь за города и веси. Но вот если б на месте отцовом он, Ярослав, оказался? Так ли бы поступил? Или всё-таки отец прав?.. Он говорит: с боярами допрежь[54] всего сладить надо…
Ответов на свои вопросы Ярослав не находил.
Далеко внизу под стеной ворчливо тявкнула разбуженная собака, лязгнула железная цепь. Снова раздался привычный стук деревянного била. Стало холоднее, кунтуш[55] на меху, обшитый сверху тёмно-зелёным сукном, не согревал тело.
Да что там говорить, если ещё седьмицу[56] назад снег срывался над долиной Луквы за городом. Ранняя весна, март-березозол. В такую вот пору и начинают князья свои рати.
…На душе стало тягостно, неприятно. О чём бы ни думал, все мысли поворачивают на Изяслава и угров. Верно, быть опять войне, литься крови.
Ярослав вздохнул, качнул головой и, круто повернувшись, ушёл с гульбища в хоромы…
В ложнице[57] чадил глиняный светильник. Пробудившаяся холопка-суздальчанка стрелой метнулась в переход.
Ярослав, сбросив с плеч кунтуш, в одной расписной рубахе медленно опустился на лавку. На ложе, укрытая беличьим одеялом, спала жена, Ольга, дочь суздальского князя Юрия, того, что прозван был за извечное своё стремление прибрать к рукам Киев и иные южнорусские города Долгоруким. Ольга была рослой пышногрудой жёнкой с громким грубым голосом. Полтора года уже, как состоялась их свадьба, а так и не прикипели супруги друг к другу душой, так и остались чужими. Скрашивали порой холод отношений ночные совокупления, когда уже не порывы души, а лишь похоть одна от близости тёплого женского тела, от ощущения жадной плоти её рядом с собой бросала Ярослава в Ольгины объятия. После всякий раз становилось противно, гадко, думалось: ну, прямь стойно[58] жеребец на кобылу! Но потом опять всё повторялось из раза в раз.
Вот так, соединили отцы Галич с Суздалем, привезли Ярославу эту жёнку, что сейчас громко, с присвистом, сопит на пуховой перине, и не помыслили, люба ли она ему, а он – ей.
Недавно родила Ольга сына. Мальчика нарекли Владимиром – в честь деда. Более всех рад был его рождению князь Владимирко. Считал князь, что укреплялся, укоренялся его род на Галицкой Земле. Оно так, конечно, да вот только самому Ярославу был этот ребёнок вовсе не в радость. Полагал он, была уже Ольга непраздна, когда состоялась их свадьба. Зная о том, верно, и торопил князь Юрий отца, и настаивал, и хотел побыстрее вытолкать замуж перезревшую грешную дочь свою. Тогда, полтора года назад, в очередной раз овладел Долгорукий Киевом, изгнав князя Изяслава на Волынь. Помнит Ярослав просторные киевские палаты, шумные пиры, горластых суздальских дружинников, вечно пьяных, златоверхий Михайловский собор на круче над Днепром, золото опадающей листвы в садах, всю набеленную улыбающуюся Ольгу, здравицы, кольца на перстах, хоросы[59] и паникадила, от которых слепило в глазах. Потом была ночь на сенях[60] – первая их брачная ночь, робость его и издевательский смех молодой жены, её вопрос:
– У тебя чё, и девок николи не бывало?
Затем был яростный неодолимый порыв плоти и чувство гадливости от случившегося.
Одолев себя, спросил тихо, шёпотом:
– Почему не цела?
Услышал в ответ лишь короткий презрительный смешок, отвернулся от неё, раздосадованный и обиженный сам на себя за неумелость свою, да так и заснул.
После родов Ольга располнела, распухла, как дрожжевое тесто. С годами всё более напоминала она отца своего, князя Юрия – такая же была рослая, полная, с округлым лицом и кривым, скошенным немного набок, носом. Ходила по терему, переваливаясь, будто медведица, вечно чем-нибудь недовольная, вела себя в Галицких хоромах хозяйкою, пушила слуг грубым голосом своим, досаждала и ему, Ярославу, придирками своими и криками.
…Ярослав грустно глянул на её полураскрытый рот, на распущенные густые волосы цвета воронова крыла, разметавшиеся по подушке, подумал вдруг: «Хороша только, когда спит. Хоть не ругается, и то ладно».
Стал в уме прикидывать, кем ему Ольга приходится, какова у них степень родства.
Так, оба они – потомки великого киевского князя Ярослава, наречённого летописцами Мудрым. Владимир и Всеволод Ярославичи – родные братья. У Владимира сын был Ростислав, у Всеволода – Владимир Мономах, они меж собой братья двухродные[61]. Дед Ярослава, князь Володарь, был Ростиславу сыном, а князь Юрий – сын Мономаха, выходит, его брат троюродный. И, стало быть, Ольга его, Ярослава, отцу четвероюродной сестрой приходится. Вот так, смешно и грустно. Получается, на дальней тётке своей он женат. Глупость, да и только. Впрочем, что ж тут глупого? Не он, Ярослав, первый такой. Для князя женитьба – не сладкая утеха, не любовь светлая, а дело державное. Союзили Галич с Суздалем родители – вот и учинили сей брак. Как купцы, деля прибыли, ударили по рукам.
Ольга внезапно пробудилась. Приподняла голову с подушки, изумлённо изогнула тонкие дуги чёрных бровей, хрипло спросила:
– Чего расселся, не ложишься?
– Не спится. С отцом баил. Снова Изяслав Киевский ратью нам грозит.
Он глянул на её немного раскосые серые с голубинкой глаза. Глаза были половецкие; от покойной матери, дочери хана Аепы, достались они Ольге, равно как и волосы чёрные, и брови.
Жена заворочалась под одеялом, зевнула, проворчала нехотя:
– Всю жизнь рати одни! Никоего покоя!
Перекрестив рот, она тотчас откинулась на подушки и мгновение спустя снова заснула.
Ярослав посмотрел на неё с той же хмурой грустью и стал нехотя расстёгивать ворот рубахи. Спать не хотелось вовсе, но в теле чувствовалась усталость. Коротко помолившись, Ярослав забрался на ложе рядом с нелюбимой женой.
Ночью ему приснилась Богоматерь с ласковой улыбкой на тонких устах. Стало тепло и спокойно, страхи и тревоги на время ушли. Почему-то ему подумалось сквозь сон, что всё будет хорошо.
Глава 3
В то время как на юге Руси уже начинали зеленеть деревья и молодая трава пробивала себе путь к тёплым солнечным лучам, на севере, на гигантских просторах Залесья ещё царствовала зима и на полях лежали белые сугробы. Сурова природа Суздальщины, иной раз и урожаи здесь, на этой щедро обдуваемой холодными ветрами земле, бывали столь скудны, что хоть с голоду помирай. Впрочем, край обустраивался, полнился людьми, бежавшими с Киевщины, с Черниговщины или из иных областей от княжьих усобиц и половецких набегов. Возникали сёла, укреплённые города, на освобождённых от вековых пущ участках земли колосилась рожь.
Но всё же в описываемую нами пору оставалось Залесье окраиной Руси. Многотрудно было житие в этих местах, а тут ещё эхо войн опалило огнём города и посёлки, когда киевский князь Изяслав в соузе с новгородцами прошёлся по ним, сжигая, разоряя, уводя в полон. Или когда суздальский владетель, Юрий Долгорукий, один за другим совершал походы на юг, уводя с собой ополченцев, отрывая мужей от жён, отцов – от детей, сынов – от матерей.
Но самое гиблое, наверное, место в Залесье – княжеский поруб[62]. В стороне от роскошного суздальского дворца Долгорукого, по соседству со сторожевой башней-вежей[63], вырыта была земляная яма. Хоть и обложили яму сверху рядами толстых брёвен и укрепили с боков такими же врытыми вертикально в землю столпами, но царили в ней холод и сырость. Одинокий узник в видавшем виды кожушке, некогда красивом, обшитом серебристой нитью по вороту и полам, а ныне свалявшемся, утратившем былой блеск и яркость, безмолвно сидел на дощатых нарах и уныло смотрел в потолок. В долгой широкой бороде его, давно нечесаной, проглядывали седые нити, на худом лице проступали острые скулы. Большие серые глаза смотрели мутно, в них уже померкло страдание, уступив место равнодушию, такому, когда лишь одна мысль успокаивает и заставляет ровно биться сердце: «И это пройдёт».
Не узнать было в узнике некогда удалого и хваткого молодца, забубенную головушку, безудельного князя Ивана Ростиславича Берладника.
Давно потерял Иван счёт времени, понимал он лишь, что там, наверху, над настилом из брёвен, властвует зима, дуют холодные пронизывающие ветры, метёт лихая метель. Иной раз сходил по дощатой крутой лесенке к нему в поруб суровый усатый стражник, молча, с подозрительностью осматривал утлое сырое помещение с факелом в руке. С пленником никто никогда не разговаривал – таков, видно, был приказ Долгорукого.
Всякий день ему спускали сверху на верёвке кус чёрствого ржаного хлеба и корчагу с водой, реже – с квасом. То была единственная еда узника. Изредка, по большим праздникам, к хлебу и питью добавляли маленький котелок с горячими щами – тогда и для Ивана наступал праздник. Он жадно, обжигая уста, поглощал пахнущую капустой наваристую похлёбку. Но праздник оканчивался с последней ложкой щей. Снова наступали тянущиеся унылой чередой дни и ночи.
А ведь был когда-то Иван лихим удальцом, смелым добрым воином, хлебосольным хозяином. Ещё подростком остался он без отца. Князь Ростислав Володаревич владел городами Перемышлем и Звенигородом, что располагался на левом берегу Днестра между устьями Серета и Збруча. Боролся он с братом Владимирком за Свиноград, хотел овладеть всею горной страной закарпатской, да старшие князья примирили братьев, каждому велели держать свою волость. Вскоре за тем Ростислав внезапно занемог и умер. Ходили кривотолки, будто это Владимирко постарался извести братца, велел подсыпать ему в пищу какую-то гадость.
Как бы то ни было, а пришлось малолетнему Ивану с матерью уносить из Звенигорода ноги.
Мать Ивана была родом из дунайских болгар, красавица была, каких мало. Иван на всю жизнь запомнил её роскошные каштановые волосы и ласковую улыбку на алых устах.
Осели они с матерью в городке Берладе, расположенном посреди холмистой гряды на речке такого же названья. Всякий народ стекался в Берлад – и беглые холопы из Русских и Угорских земель, и болгары, спасавшиеся от гнёта империи ромеев, и кочевые половцы и печенеги, покинувшие земли соплеменников.
Сбирались эти людишки, промыслом которых становился разбой на торговых путях, в лихие шайки, баловали по Сирету, Пруту и Дунаю, грабили купцов. Прозывали людей сих, без роду-племени, берладниками, по имени городка. И его, Ивана, тож прозвали Берладником, иначе – Берлядином. Так и вошёл он в русские летописи, извечный бродяга и кочевник.
Среди разбойного народа быстро стал он своим, стал предводителем лихой вольницы, этаким князем без княжества. Когда подрос, сам возглавлял не раз набеги на соседние земли. Единожды аж до Месемврии доходил на стругах по Чермному морю.
С годами обзавёлся Иван преданными людьми, своего рода дружиной. С их-то помощью и держал власть в Берладе. Ещё позже понял: одним разбоем не проживёшь, не укрепишься в Подунавье. Даровал грамоты ромейским и иным купцам, пропускал через владенья свои в междуречье Сирета и Прута торговые суда, брал пошлины. Жил в ту пору неплохо, но захотелось большего. И когда позвал его Владимирко в Звенигород, на отцово место, отправился не колеблясь.
В Звенигороде сыграл свадьбу с юной дочерью боярской, жить стал весело, на широкую ногу. Вместе с дядей ходил на Волынь, затем оборонял Галичину от киевских князей, от угров и ляхов, славу заслужил и честь беспримерной храбростью своей, и многие бояре галицкие, недовольные крутым норовом Владимирки, стали поглядывать в сторону Ивана, думая про себя: нам бы в князи этакого молодца. В дела боярские нос особо совать не станет, а от ворога любого завсегда оборонит.
И единожды приехал в Звенигород галицкий боярин, Стефан Дементьевич. Долго ходил вокруг да около, расспрашивал Ивана о покойных отце с матерью, а потом и ляпнул будто невзначай: зовут-де тя, княже Иван, бояре в Галич. Нет нам сладу с дядькою твоим, в бараний рог он нас скрутил. Жесток паче всякой меры князь Владимирко. Прижимист, скуп, купцов поборами душит, ремественный люд такожде от него стонет. И нам, боярам, подняться не даёт. У кого земли отберёт, кого засудит, а иной раз и вовсе головы лишит. Ты, мол, токмо согласье дай. Тотчас весь Галич за тя встанет.
Проняли Ивана речи Стефановы. Решил он рискнуть, бросить на кон лихую судьбу свою.
В ту пору Владимирко охотился в Тисменице. Тем и воспользовались бояре. Галопом, на взмыленном скакуне влетел Иван в городские ворота, и в тот же час посажен он был на стол в соборе Спаса. Закружилась у добра молодца головушка.
Князь Владимирко, сведав о случившемся, мешкать не стал. Тотчас собрал великую рать и подступил к галицким стенам. Привёл с собой множество сербов и болгар – давних своих друзей и соузников.
Началась долгая осада. Но успешно отражали галичане все приступы Владимиркова воинства. Может, и удержался бы Иван в Галиче, да подвела его глупая самонадеянность.
Однажды решил он совершить вылазку во вражий стан, пощипать как следует разношёрстную Владимиркову рать. Надоело любящему вольный простор удальцу просиживать за крепостной стеной. Вырвался отряд бешеных всадников – берладников, охотников «за зипунами» из ворот, врезался в гущу опешивших супротивников, погнал их берегом Днестра наперегонки с зимней вьюгой. Ох, славно посекли тогда ворогов удальцы! Только и звенели, только и ходили мечи вверх-вниз, опускаясь на вражьи плечи и спины.
Но за лихой атакой проглядели берладники главное – отрезал их Владимирко со свежим полком от градских стен, а затем и взял в плотное кольцо.
Целую ночь рубились берладники, почти все и полегли на бранном поле. Едва вырвался тогда Иван из окружения. Весь перемазанный кровью, ускакал вдоль холмистого Днестровского берега в Звенигород. Так рухнула в одночасье мечта его о Галицком столе. Впрочем, нет – мечта осталась, рухнули лишь надежды занять Галич сейчас. В Звенигороде же городские старцы[64] вежливо, но твёрдо сказали Ивану: ушёл от нас, соблазнился хлебным столом, дак не обессудь.
Указали князю-изгою из Звенигорода путь. С той поры служил Иван разным князьям – сперва Всеволоду Ольговичу, затем Изяславу Мстиславичу, вместе с ними ратоборствовал супротив Владимирки. Супругу свою с малым чадом отослал в Смоленск – тамошняя княгиня приходилась сестрой его матери. Когда же узрел Иван остуду к своей персоне со стороны Изяслава Мстиславича, рванул, не думая особо, как всегда, в Суздаль, к Юрию Долгорукому, первейшему Изяславову врагу. Предложил Юрию свой меч, стал служить, как служил прежде иным князьям, а не уразумел, что Юрий в большой начавшейся в те годы борьбе за киевский золотой стол – соузник Владимирки. Поначалу, правда, не до Ивана было Галицкому владетелю, а у князя Юрия любой добрый воин был на счету – мыслил он отнять Киев у Изяслава.
Может, всё бы и обошлось, да угораздило Ивана один раз глянуть в серые с голубинкой очи молодшей дочки Долгорукого, Ольги. Глянул – и утонул, словно заворожила его суздальчанка. Видно, и княжне по душе пришёлся удатный[65] молодец, косая сажень в плечах. Ольга была не из таких, что молча вздыхают и сохнут в девичьих светлицах. Капризная избалованная отцова любимица привыкла добиваться своего. Скоро настала тёмная ночка, повстречались они на сеновале на задворках княжьего терема, возле башни-повалуши[66], потом были ещё встречи, были объятия, поцелуи, и был грех. О, сколь сладка была Юрьева дочь, и сколь велика была страсть!
Узнал о встречах их Долгорукий, разгневался, велел тотчас поковать Ивана, а после бросил его гнить в поруб.
Ольгу же немедля вытолкали замуж, и за кого?! За сына Владимиркова! Вот уж, воистину, мир тесен.
Поначалу Иван рвал на себе волосы, но затем пыл его угас, отчаяние в душе сменилось равнодушием. Клял себя он за неразумие, за лихость свою, но вместе с тем и думал: да разве мог он по-иному? Доведись снова пройти весь прежний путь – прошёл бы без сожаленья! Сидел в сырой темнице без надежды, но и вне отчаяния.
…Поддерживаемый под руки двумя дружинниками, в поруб медленно ввалился грузный рослый князь Юрий. По лицу Ивана скользнула искорка изумления. Впрочем, она тотчас угасла, уступив место привычному безразличию.
От князя Юрия исходил сильный запах хмельного. Уставившись на Ивана, Юрий грозным раскатистым басом проревел:
– Что, ворог, коромольник! Невест чужих, стало быть, портишь! Вот оно как! Но ничего! Посидишь, соколик ясный, в клетке! – Он злобно расхохотался. – Требует тя стрый твой, Владимир Галицкий! Просит выдать тя ему на расправу! Что молчишь?! Вот думаю, смекаю: а стоит ли?! Али лучше уж тут те сдохнуть?!
Долгорукий замолчал. Он долго стоял посреди поруба, уперев руки в бока, косо, с хитроватым прищуром посматривал на своих дружинников, на Ивана, всё такого же равнодушного к своей судьбе. Наконец, махнул десницей:
– А, чёрт с тобою! Сиди покудова, а тамо поглядим ещё!
Он ожидал, что узник бросится перед ним на колени, будет молить не выдавать его жестокому Владимирке, умоется слезами, и тогда бы Долгорукий проявил милость и простил бы его, вывел из поруба, послал на войну против Изяслава. А после… на войне бывает всякое. Ни к чему суздальскому князю, в конце концов, ссориться с галицким, они – друзья и близкие родичи… Случайная стрела, невзначай брошенная сулица[67]. Мало ли что может створиться. Зато его, Юрия, будут хвалить за милосердие и справедливость.
Но Иван молчал, чем немало удивил и разгневал Долгорукого.
Ругнувшись, суздальский князь так же медленно, тяжело дыша, полез наверх. За ним вслед, звеня бронями, поднялись дружинники.
Опять окружили несчастного узника тишина, тьма и неизвестность.
Глава 4
Семьюнко торопился, стегал половецкой нагайкой гнедого конька, ударял ему боднями в бока. Клубилась из-под копыт густая пыль, майское солнце не ласкало, а жарило незадачливого путника своими обжигающими копьями-лучами. Пот бисером катился по взмокшему челу. Позади остался Перемышль с его соляными складами и амбарами, разбросанными возле речных вымолов[68]. Семьюнко по броду пересёк стремительный извилистый Сан и окунулся в прохладу зелёного букового перелеска. Стройными цепочками потянулись перед глазами холмы с обрывистыми склонами, поросшие буйной зеленью. В чисто вымытом небе пели жаворонки, в выси зависали, махая крылышками, кобчики.
Семьюнко огляделся по сторонам, придержал конька, осторожно, перейдя на шаг, выехал из леска на обдуваемый тёплым ветром простор. Стал медленно взбираться на крутой холм. Вниз струями посыпался сухой песок.
«Где-то тут стан угорский». – Семьюнко остановился на вершине холма, на самом косогоре, приложил ладонь к челу, снова стал осматриваться вокруг.
У самого окоёма[69] на полуночной стороне сверкнул под солнцем булат. Зоркий глаз отрока различил фигуры воинов в панцирных бронях и белые шатры, почти сливающиеся с маленькими белоснежными облачками. Он пустил конька рысью и промчался по твёрдому выложенному из бука мостку через густо поросшую орешником балку, на дне которой гневно журчала на камнях узенькая речушка, вся в белом пенном крошеве.
Громкий оклик заставил Семьюнку вздыбить коня. Два угра в пластинчатых доспехах, блестящих на солнце, с копьями наперевес спешили ему навстречу.
– Кто есть?! Куда идти?! – посыпались вопросы на ломаном русском языке.
– Грамоту везу. Епископу Кукнишу.
Семьюнко развязал суму и потряс зажатой в деснице грамотой с серебряной княжеской печатью.
Стражи велели ему сойти с коня.
– Доложим, – сказал резким неприятным голосом один из них, худощавый смуглый ратник с тонкими и длинными загнутыми книзу усами.
Из-за холма показались ещё четверо угров. Подозрительно посматривая на незнакомого человека в кафтане русского покроя, под которым виднелись кольца кольчуги, они обступили Семьюнку со всех сторон. Грозно щетинились острые длинные копья.
Худощавый побежал в сторону лагеря. Спустя короткое время он вернулся и приказал отроку следовать за собой. Двое угров остались у мостка, остальные направились с Семьюнкой.
Вскоре отрок очутился в просторном белом шатре, на ткани которого были золотом вышиты большие латинские кресты-крыжи. Епископ Кукниш, облачённый в лилового цвета сутану, с гладко выбритым лицом и тонзурой на голове, сидел в высоком кресле и перебирал пальцами чётки. Полное розовощёкое лицо его дышало достатком и сытостью, маленькие карие глазки неприятно скользили, словно тщательно ощупывая собеседника.
За спиной Кукниша висели тяжёлые латы и шлем с забралом, украшенный алым пушистым пером. Крест и меч шли по жизни рядом, мир сменялся войной, ратная страда – полевыми работами. Латинский же бискуп[70] сочетал в одном лице монаха и воина. Такое было не редкостью в те времена на Западе.
– Кто ты? – осведомился Кукниш, хмуро сведя густые смоляные брови.
Он говорил по-русски, и довольно чисто.
– С грамотой к тебе, святой отец. Князь Володимирко просит тебя, о благочестивый господин, принять его послание и щедрые дары. Со скорбью узнал наш князь о том, что король угров готовится воевать его землю, вняв совету недостойного киевского князя Изяслава.
– Вот оно что, – медленно, растягивая слова, проговорил Кукниш. – Дары… В другой час я бы посодействовал миру. Но ныне… – Он сокрушённо покачал головой. – Очень жаль мне, но король пребывает в сильном гневе. В прошлое лето, да будет тебе известно, князь Владимирко уничтожил под Сапоговом наш отряд, шедший на подмогу князю Изяславу. Коварно, предательски, под покровом ночной темноты его ратники изрубили наших воинов до последнего человека. По этой причине, гонец, я даже не рискну подойти к его величеству с предложением мира. Хотя, не скрою, очень бы хотел наступлению тишины и благодати.
«Ещё бы! Небось, уразумел, что не пустой я приехал. Видал, верно, торока, рухлядью[71] набитые», – тщательно скрывая в усах презрительную ухмылку, думал Семьюнко.
Да, каша заваривалась густая. Отрок стоял перед епископом, соображая, как ему лучше поступить.
– Битвы не избежать, – продолжал тем часом Кукниш. – К тому же князь Изяслав уже на подходе к нашему лагерю. С ним его старший сын, Мстислав. Он ещё непримиримей настроен.
– Но какова выгода короля в этом деле? – решился спросить Семьюнко.
– Выгода… – Епископ вздохнул. – Если бы всё мерилось выгодой! Золотом, уделами… Нет здесь никакой выгоды. Король Геза – рыцарь, и верен данным князю Изяславу клятвенным обещаниям. И потом, сильное влияние на короля имеет королева Фружина. Не забывай, что она – сводная сестра князя Изяслава.
– Но ведь у державы угров есть свои враги. И с ними нельзя будет поладить так, как с нашим князем, – с наигранным недоумением промолвил Семьюнко.
– Ты говоришь о Ромее. Ты прав. – Кукниш опять вздохнул. – Но король очень уж зол на вашего Владимирка. Нет, отрок, войны не остановить… Пока не остановить. Думаю, ты меня понял.
Он хитровато улыбнулся, сверля собеседника прищуренным взглядом своих пронзительных карих глаз.
Семьюнко молча кивнул.
Приложив десницу к груди, он низко поклонился епископу. Кукниш стал, медленно разворачивая, вчитываться в грамоту, чуть заметно кивал головой, снова горестно вздыхал.
– Попробуем что-нибудь сделать. Но, повторяю, не теперь. И, разумеется, если князь Владимирко окажется достаточно щедр, – наконец произнёс он. – Пока же я пошлю к нему одного своего каноника. А ты останешься здесь. И знай: у меня надёжная охрана…
«Пугает или успокаивает?» – Семьюнко уставился на епископа с немым вопросом.
– Люди Изяслава не смогут причинить тебе лиха. Если, конечно, ты будешь осторожен и благоразумен.
Епископ позвонил в серебряный колокольчик. Тотчас на пороге шатра возникли два рослых стража в чешуйчатых катафрактах[72].
– Этого человека тщательно оберегать. Никто посторонний не должен о нём знать! Всё понятно?!
– Точно так, ваша эминенция! – пробасил один из охранников.
Семьюнко молча кусал губы.
«Хорошо хоть, часть княжого золотишка припрятал в Перемышле, у брательника[73] на складе. Еже[74] что…» – Семьюнко оборвал ход собственных рассуждений, запретив себе даже мыслить об этом «еже что».
…Отрока поселили в том же епископовом шатре, огородив войлочными пологами и ширмами, велели сбросить русское платно, кольчугу и облачиться в голубой угорский жупан грубого сукна, приставили слугу – немого монаха, который приносил ему еду и вино. В тревожном нетерпеливом ожидании потянулись для Семьюнки дни.
Глава 5
Громыхали тяжёлые доспехи. Ржали вздыбленные лошади. На возах везли оружие и припасы. К берегу Сана, извиваясь серебристо-серой змеёй, подходила грозная тьмочисленная Изяславова рать. Шли киевский и черниговский полки, боярские отроки, дружины из Владимира, Луцка, Пересопницы, шли туровцы, берестейцы[75], ратники из киевских пригородов, союзные торки[76] и берендеи[77]. В глазах рябило от многоцветья хоругвей[78]. И вся эта огромная масса валила в сторону Перемышля, готовясь задавить, подмять под себя Червонную Русь с её упрямым и лукавым князем Владимирком, с её богатым боярством, с ушлыми купцами и знатными ремественниками. Словно дракон, разверзший пасть, сминая, сжигая на своём пути сёла и городки, двигалось воинство, щетинясь копьями, сверкая мечами и саблями.
Вблизи на пологих зеленеющих холмах расположились союзные угры. Король Геза ещё накануне вечером послал к Изяславу скорого гонца, призывая на совет. И сейчас вместе с ближними баронами король, облачённый в горностаевую мантию поверх лат, в золотой короне на голове, наблюдал за тем, как от змееподобного воинства отделяется группа всадников в нарядных разноцветных одеждах и скачет вверх по склону.
Но совет будет после. Пока же ждёт гостей и хозяев шумный роскошный пир. Ради шурина своего не поскупился Геза. Перед шатрами уже расставлены столы, уже щекочут ноздри ароматы готовящихся яств, уже виночерпии готовы щедро наполнять братины[79] и ендовы[80] светлым мадьярским вином, пшеничным и ячменным олом[81], терпкой сливовицей.
Вот, наконец, на вершину холма въезжает на статном коне белоснежной масти киевский князь Изяслав Мстиславич. По левую руку от него – его брат, Святополк Волынский, по правую – сын Мстислав. Владетели спускаются с коней, Геза идёт навстречу шурину, широко распахивая объятия. Родичи-союзники обнимаются, лобызают друг дружку, затем Геза приглашает гостей разделить с ним трапезу. Льётся вино, слуги несут на подносах огромные туши жареного мяса, тащат разноличную рыбу, приправы, соусы, блюда из птицы. Вздымаются чары, произносятся здравицы, звучит весёлая музыка.
Изяслав хмур, улыбается с натугой, через силу. Тёмно-русые волосы, сзади коротко подстриженные, непокорно вьются, неровными прядями спадают на чело, тонкие вытянутые в стрелки усы грозно топорщатся, он мало ест и почти ничего не пьёт. На приветствия угорских вельмож больше отвечает его брат, Изяслав лишь рассеянно кивает и недобро косит по сторонам своими светлыми золотушными глазами.
Война была его стихией, если чем и отличался он, так это ратным умением, лучше любого воеводы знал всякие воинские хитрости. Вот и ходил по всей Руси с мечом, покоряя, сжигая, разоряя, бросая закованных в булат дружинников на непокорных князей и строптивые города. Сеял на земле смерть, добиваясь вожделенной цели – великого киевского стола, стола отцовского и дедовского, побеждая и изгоняя тех, кто противился его власти, его воле. Всегда и везде признавал он один только способ достижения целей – харалужный[82] меч. Шестой год длилось лихолетье, и не было ему видно конца и края.
Шумные застолья и пиры Изяслав не жаловал, если пил, то только когда вынуждали его к тому обстоятельства. Все дела, кроме войны и охоты, он полагал второстепенными. Может, потому и киевский стол он то захватывал легко, со стремительностью находника-степняка[83], то столь же неожиданно и быстро уступал главному супротивнику – стрыю своему Юрию Суздальскому. Грызлись меж собой дядя с племянником, яко лютые звери, и втягивали в яростную эту грызню всё новые и новые силы: угров, ляхов, торков с берендеями – Изяслав, половецкие орды – Юрий.
Изяслав чаще побеждал, бывал более искусен в манёврах, он пользовался поддержкой старых киевских бояр, которые боялись засилья в стольном Юрьевых «суздальцев». Иными словами, за Юрия был закон, был старый дедов ряд[84] – порядок наследования, за Изяслава – сила и люди, «набольшие мужи». Уступать же никто никому не хотел.
В битвах Изяславу везло, в жёнах – нет. Первой женой его была полячка Рикса, от неё имел князь троих сыновей – Мстислава, Ярослава и Ярополка. Жили плохо, княгине не по нраву были нескончаемые отлучки мужа, его рати и вечные скитания по Руси из конца в конец. Чего только не было: Полоцк и Новгород, Владимир-на-Волыни и Переяславль[85], Туров и Берестье. Надоела Риксе такая жизнь, завершился брак Изяславов громким разводом. Рикса, как говорили, уехала в Швецию и вышла там вдругорядь[86] замуж за короля Сверкера. Живёт в каменном замке в Упсале, шлёт длинные послания любимому сыну Ярославу в Новгород, пишет, что обрела тихое счастье и покой. Изяслав вроде тоже долго не горевал, вскорости послал сватов в Литву, к диким лесным язычникам. Новая княгиня, рослая белокурая красавица Эгле, заступила место сварливой нравной полячки. Но молода была литвинка, а Изяслав, покалеченный в долгой череде войн, израненный, со шрамами на теле, уставший от бесконечных перемещений человек, которому перевалило за пятьдесят, уже никак не мог удовлетворить её вкусы и желания. Заскучала литовская княжна по родной стороне, по парню молодому из соседнего племени, к коему крепко прикипела душою. И вот, дождавшись, когда ушёл Изяслав в очередной свой поход, обманула она бдительность теремной стражи и ускакала на лихом коне с двумя верными слугами в любимые с детства литовские пущи. Да не успела красна девица – догнали её Изяславовы подручники, слуг тотчас повесили на дубу, а её, как изменницу, бросили гнить в мрачное подземелье. Из темницы Изяслав литвинку больше не выпустил – от тоски, сырости и отчаяния полгода спустя Эгле скончалась.
Расправившись с неверной литвинкой, стал Изяслав подумывать о новом браке. Невесту отыскали ему в далёкой стране абхазов, да, видно, неблизок был путь от берегов Понта[87] до стольного Киева. Покуда ждал её терпеливо князь, перемежая удачные войны с охотами и заключая выгодные союзы. Первенца своего, Мстислава, женил на Агнессе, сестре краковского князя Болеслава Кудрявого, младшего брата Святополка – на моравской княжне Евфимии, дочери Оттона, другого брата, Владимира – на дочери венгерского бана[88] Белуша, ближнего королевского советника. Оброс родственными связями, обрёл выгодных союзников и шёл теперь усмирять одного из злейших своих врагов – Владимирка Галицкого. При одном упоминании о нём стискивал Изяслав пудовый кулак.
Нынешнее пиршество раздражало его. Стоит ли тратить попусту время на безлепую[89] похвальбу, если рядом – враг, которого надо давить, давить?! Вот осилим сию лукавую галицкую лисицу – что ж, тогда можно б и попировать. Глядишь, там и невеста к Изяславу прибудет. Говорят, красна обезская[90] княжна! Чад народит, потешит пожилого скучающего по женской ласке князя.
Изяслав бросал угрюмые взгляды то на сына Мстислава, то на Святополка, то на короля Гезу. Кряжистый коренастый Мстислав, совсем ещё юноша с короткой тёмной бородкой, черноволосый, большеглазый, с сильными руками, вдоволь ел и пил, охотно, в отличие от отца, вступал в беседу с угорскими баронами, любезно улыбался, но во всём знал меру.
«Державный муж растёт», – думал о нём довольный Изяслав. Если он чему и рад был сейчас, так это сыну, его немного резким порывистым словам о том, что Владимирко достоин самой суровой кары и что его следует примерно наказать за преступные удары исподтишка и изощрённое коварство.
Король Геза в ответ расплывался в улыбке и убеждал Изяслава и его сына в своей дружбе и решимости покончить с «галицким смутьяном».
Слова короля шумно поддержали угорские бароны и киевские бояре. Снова заискрилось в чарах и ендовах золотистое вино. Зазвенели бубны, перед столами закружились в пляске скоморохи. Появились жёнки в красочных нарядах, одна из них беззастенчиво села на колени к Мстиславу, другая удобно поместилась между двумя баронами, третья, самая яркая и красивая, ударяя в бубен, понеслась в безудержном танце, запрокинув назад роскошные волосы цвета вороного крыла.
Изяслав, обернувшись, кликнул стольника.
– Вечером приведёшь ко мне… енту, – качнул он головой в сторону танцовщицы.
– Содеем, княже, – подобострастно кланяясь, пробормотал стольник.
Расталкивая скоморохов, к князю протиснулся молодой боярин в обшитом узорочьем кафтане с высоким стоячим воротом. На боку у него в сафьяновых ножнах висела сабля с дорогой рукоятью.
– Что тебе, Пётр? – нахмурился Изяслав.
– Княже! Владимирко на том берегу… Силы совокупляет. Болгары, сербы к нему пришли. Рать великая! – взволнованно выпалил боярин. Холёные долгие персты его нервно подрагивали.
Изяслав как-то сразу оживился, подобрался, на устах его заиграла улыбка. Он залпом осушил огромную чару, кряхтя, вытер колючие усы, поднялся с раскладного стульца, заключил торжественно:
– Час сечи настаёт, други и соузники! Наказуем же вора и отметчика[91]! Станем супротив их на сем бреге!
И сразу оборвалась музыка, исчезли скоморохи, попрятались куда-то гулевые жёнки. Пир сменился совещанием в королевском шатре.
Сидели по-степному, на кошмах, скрестив под собой ноги, говорили кто по-русски, кто по-угорски. Толмач, хромой убогий монашек, бойко переводил сказанное. Боярин Пётр, скрипя пером, записывал по княжому повеленью речи короля, князей и вельмож. На харатье[92] выводились строгим полууставом буквы славянской кириллицы.
– Стрельцам надобно поутру занять холмы над Саном. А комонным[93] переходить по бродам на ту сторону. Коли станет Володимирко мешать переправе – стрелами его попотчевать, – говорил Изяслав. – Мы станем у излуки, а ты, брат, – обратился он к Гезе, – иди выше вдоль реки. Тамо такожде брод есть.
Геза молчал, раздумывал, переглядывался с советниками.
– Сколько у нас всего силы ратной? – спросил молодой Мстислав.
– У меня семьдесят три полка, – отмолвил ему король.
– И у нас тыщ тридцать дружины и пешцев, – обронил волынский воевода Дорогил, воспитатель-вуй[94] Мстислава, долгобородый муж, худой и костистый.
– Да, силы немалые. Владимирке столько не собрать, – задумчиво заключил Изяслав. – Даже со всеми еговыми болгарами да сербами. А потому жду от него очередного лукавства. Тут главное, брат, не верить ему, не поддаваться словесам его сладким.
Геза опять промолчал. Накануне подступил к нему епископ Кукниш, говорил, что неплохо бы поладить с галицким князем миром. Король с негодованием отверг это предложение, смерив епископа презрительным взглядом, но ночью примчал в его стан скорый гонец из одной из крепостей на южной границе. Ромейский базилевс Мануил Комнин подтянул к берегам Савы свою армию, его боевые корабли бороздят воды Дуная. В Сербии и Боснии назревает ратная гроза. Было о чём задуматься, от чего закручиниться королю угров. Война с двумя противниками сразу в намерения Гезы не входила. Получалось, что этот трус Кукниш был не так уж и неправ. Но обещания и союзный долг заставляли Гезу продолжать поход. Надеялся он сейчас на то, что с Владимирком удастся быстро управиться.
Эту мысль он высказал вслух.
– Галицкого князя следует как можно скорее привести к покорности. Ибо у тебя возможна новая рать с Юрием, а мне угрожают греки.
– Владимирку надо уничтожить! – горячо воскликнул Мстислав.
По лицам большинства угорских баронов пробежали усмешки. Молодой князь весь сгорал от нетерпения, охваченный боевым пылом. Спору нет, храбрость и решительность – добрые свойства, но время ли теперь яростно махать мечом и очертя голову бросаться в сечу. Многие угры сомневались, верно ли поступили они, столь глубоко ввязавшись в русские распри. Впрочем, оказались среди них и такие, которые были согласны с Мстиславом.
– Наши сабли остры, наши кони быстры! – заявил молодой барон Фаркаш, вскакивая с кошм.
– Это всё так, но Владимирко – опасный враг, – заметил опытный воевода Або. – В таком деле, как наше, кроме отваги, нужна осторожность.
Другие бароны согласно закивали головами.
Изяслав нахмурил чело и вопросительно уставился на короля. Геза постарался тотчас рассеять его сомнения.
– Мы выступим завтра утром, как ты и советуешь. Возьмём галицкого князя в клещи, попытаемся овладеть Перемышлем. Надеюсь, ты не сомневаешься в нашей искренности и преданности.
На том и порешили. Совет был окончен. Изяслав и его спутники не мешкая покинули угорский лагерь. Геза во главе пышной свиты, разряжённой в ромейский аксамит[95] и парчу, в кафтаны из драгоценных лунских[96] и ипрских[97] сукон, на конях с дорогой обрудью[98], проводил его до подножия холма. Обратно он возвращался мрачный и озабоченный. Сидя на вороном аргамаке[99], в обитом серебром седле с высокой лукой, он недобро взирал за реку. Там в туманной дымке видны были дубовые крепостные стены Перемышля. Угрия ввязывалась в дело, не сулящее особых выгод. Но отступать, рушить данные клятвы король не хотел.
В лагере горели костры, готовилась еда для воинов. Стучали топоры – стан обносился частоколом из остроконечных кольев. В шатрах притихли, затаились вельможи. Кое-где раздавался звон оружия и доспехов. Высоко в небе реяли хоругви и бунчуки.
– На заре выводить полки! – обернувшись, резким голосом недовольно бросил Геза бану Белушу и, ударив боднями коня, взмыл на вершину холма.
Глава 6
Молодой Избигнев Ивачич с тревогой всматривался в синюю сумеречную даль. Внизу тихо плескался Сан, уже можно было рассмотреть в тусклом свете извивающуюся змейку воды. За рекой пологой цепью чернели длинные холмы, пустынные, густо поросшие молодой травой. Днём отсюда, с правого берега, открывался дивный вид, но сейчас, в эту беспокойную предутреннюю пору не о красотах думалось Избигневу. Волнение охватывало девятнадцатилетнего парня, никогда ещё не приходилось ему участвовать в жаркой сече, и вот нынче… Доведётся ему принять боевое крещение. Такова судьба, таков удел всякого княжьего отрока. Успокаивал сам себя, вспоминал напутствие отца, говорившего: «Не ты первый, не ты – последний», но всё одно – предательски подрагивали в волнении длани, когда напряжённо вслушивался в царящую вокруг тишину и глядел на чёрные холмы и поблескивающие в свете пробуждающегося дня небольшие болотца, повсюду разбросанные на низком правом берегу Сана.
– Светает. Сейчас, верно, пойдут, – хрипло проговорил вполголоса стоящий рядом с Избигневом тысяцкий[100] Держикрай.
На востоке быстро всходило солнце. День обещал быть тёплым и ясным, ни тучки, ни облачка не было заметно на светлеющем небосклоне. Розовая заря залила восходнюю сторону неба, в ярком свете её засверкали булатные шеломы галицких ратников. Слева вдали заструились под ветром стяги союзных болгар и сербов. Ночные стражи принялись громко перекликаться.
Уже когда диск солнца выкатился из-за холмов и темнота окончательно отступила, тишину утра оборвал, нагло, резко и яростно, громкий звон литавров. Ему вторило басистое рычание боевых труб.
– Угры вышли! – крикнул Держикрай.
Избигнев увидел, как на вершине широко раскинувшегося за рекой холма появились ратники в кольчатых доспехах, в плосковерхих булатных шапках, конные и пешие. Высоко вверх взвилось белое знамя с золотистыми ангелами и короной святого Стефана.
– Стяг подняли. К сече изготовились, – промолвил кто-то из отроков.
– Избигнев! Скачи ко князю. Передай: угры поднялись! – приказал тысяцкий.
Отрок незамедлительно взмыл в седло. Конь, недовольный столь резким движением всадника, обиженно заржал, забрыкался, покосился на Избигнева тёмным осуждающим глазом, но, после того как отрок тихонько похлопал его по шее, немного успокоился и быстрой рысью понёс его вверх по склону.
Тем временем за Саном чуть в стороне от королевских полков показались ратники Изяслава. Избигнев разглядел голубой киевский стяг с ликом Михаила Архангела. Видно было, как от основного войска отделились два небольших отряда и подъехали к самой реке.
«Броды осматривают», – понял Избигнев и боднями поторопил коня.
Князь Владимирко, в золочёном остроконечном шеломе с наносником, с кольчужной бармицей[101], закрывающей шею и плечи, в дощатом доспехе[102] с фигурными пластинами, украшенными спереди чеканным узором в виде листьев аканта, сидел на раскладном стольце[103].
– Княже! Угры вышли. И Изяслав такожде! – Голос Избигнева взволнованно прозвенел в свежем утреннем воздухе.
– Вижу! – коротко и резко отмолвил Владимирко. Весь подобравшись, он сверлил взглядом холодных жестоких глаз собирающиеся вражеские полки.
Довольно долго князь сидел, замерев, без движения, размышляя, как теперь поступить.
Наконец, он обернулся к скромно стоящему в сторонке Избигневу.
– Ивана Халдеича сын! – признал князь юношу. – Добре. Будешь сегодня посыльным. Сей же час скачи к воеводе Серославу. Передашь, чтобы на бродах стрелами угров и киян держали. Пускай оставит там немного людей, а с остальными отступит на холмы. Тамо укрепимся, заборолы[104] сделаем. Удержим ворогов.
Бывалый ратоборец, князь Владимирко прекрасно понимал, что в прямой сшибке ему не устоять, слишком велики силы были у Изяслава и Гезы. Только одно мог он теперь: сдержать вражий натиск, отбиться, не дать киевскому князю и его союзникам добраться до Перемышля.
Избигнев тотчас ускакал выполнять его повеленье. Владимирко отдал распоряжения другим отрокам и приказал подвести коня.
«Стало быть, Семьюнко не смог убедить епископа. А может… – Вспомнив масленую рожу рыжего отрока, князь с досадой подумал, – Зря я ему столь важное дело доверил. Поди, серебришко спрятал и уграм же и передался. Эх, был бы кто понадёжней… Да где их, надёжных-то, сыскать?! Каждый о своей выгоде думает!»
Впрочем, рассуждать было теперь некогда. Одного боярчонка Владимирко немедля послал в Галич. Пусть Ярослав в его отсутствие держит ворота города закрытыми и изготовится на всякий случай к осаде. Бог весть, как может повернуть дело.
Гридни[105] подали князю статного белоснежного коня, услужливо подсадили в седло. Владимирко рысью взмыл на самую вершину холма, из-под ладони стал смотреть за тем, как совокупляют силы на левом берегу Сана его враги. Тем временем галицкие воеводы и тысяцкие с полками спешили занять удобные высокие места над Саном. Час битвы близился.
…Угорские рати остались у брода напротив холма, который занимали галичане, Изяслав же с остальным воинством двинулся вдоль Сана вверх по течению. Увидев движение противника, Владимирко велел наёмным сербам и болгарам идти за ним и не давать киянам переправиться через реку.
Бой начался с тучи стрел, залпом выпущенных с угорской стороны. Галичане у брода ответили дружными выстрелами. И в тот же миг через брод, пятная воду пенным крошевом, бросились лихие угорские всадники. Их встречали стрелами, короткие сулицы запели в воздухе, а затем конная дружина воеводы Серослава, облачённая в тяжёлые ромейские катафракты, уже у самого берега мощным ударом обратила лихой венгерский авангард вспять. Падали с дико ржущих коней в свирепо пенящуюся воду сражённые всадники, изрыгая ругательства, вмиг всё на броде перемешалось, перепуталось, и, наконец, вырвавшиеся из железных клещей Серослава угры ринули на спасительный левый берег. Вслед им неслись стрелы.
Понимая, что сил у него мало, воевода Серослав не стал преследовать отступающих. Угры построились в боевой порядок и изготовились повторить натиск.
Владимирко смотрел с вершины холма, как и вторая ещё более яростная атака угорской конницы была отбита галичанами. Но выше по течению, по левую руку от него, резко и бешено рванули через брод дружинники Изяслава. Болгары и сербы, хоть и удерживали броды, но пятились, отступали. Где-то среди сражавшихся промелькнул всадник в золочёных доспехах.
«Изяслав, али сын его, Мстислав, – подумал Владимирко. – Вот взять бы такого в полон, тогда бы…»
Князь, с досадой прикусив губу, оборвал ход собственных мыслей. Мечты, мечты несбыточные. Вон какая сила через брод валит!
Избигнев прискакал от Серослава, просил вспоможения, дышал тяжело, конь был весь в мыле.
Владимирко усмехнулся горько, ответил резким грубым голосом, переходя на крик:
– Где я ему возьму ратников?! Пускай держится, покуда может!
Воевода Тудор Елукович прислал гонца с вестью, что часть угров ушла вверх по Сану.
«Верно, к Изяславу в подмогу», – Владимирко окликнул Избигнева и послал его с пятью сотнями всадников к Тудору для вспоможения.
– Потом ещё дам. Пусть, сколько могут, держат Изяслава у брода, – отрезал он хмуро.
Когда Избигнев примчался к Тудору, бой шёл уже на правом берегу реки. Изяславовы дружины рассеяли болгар и сербов и, при поддержке угорского отряда, теснили галичан.
Киевляне не могли подать помощь основным силам Гезы из-за глубокого рва между бродами, и весь свой удар они обрушили на воеводу Тудора, который, хоть и отступал, но оставлял перед собой множество поверженных противников.
Сеча теперь, кажется, достигла наибольшего ожесточения. Ударяли ратники друг друга, бились свирепо, с яростью. Избигнев, сам не понимая как, но оказался вдруг в самой сердцевине схватки. Скрещивались мечи и сабли, валились под копыта сражённые, падали кони. Кого-то он съездил саблей по голове, затем уклонился от удара тяжёлого меча, с каким-то ражим киевлянином схватился у самого края рва, оба они враз полетели с коней куда-то вниз, ломая густые заросли кустарника. Уже на дне рва, возле звонко журчащего ручья, они вскочили, схватились за оружие, но вдруг остановились. Киевлянин внимательно разглядывал Избигнева, молодой галицкий отрок, недоумевая, делал то же.
– Ты кто таков будешь? – спросил киевлянин.
– Избигнев я, Ивачич. Отроком служу князю Владимирку.
– Галичанин?
– Со Свинограда.
– А-а. Знаю. Бывал. А я – Нестор, Бориславич, боярин киевский. С братом Петром мы у князя Изяслава в старшей дружине.
Киевлянин огладил всклокоченную жёсткую бороду, вдруг рассмеялся, посмотрел в юное лицо Избигнева, спросил:
– И чего мы тут делим, чего друг дружку тузим? Ну, не поделили князи какие-то городки, а нам-то какого беса головы класть?! Вот что, Избигнев. Давай-ка прекратим безлепицу сию, – он указал на свою саблю. – Вложим оружье в ножны. И каждый из нас к своему князю поедет. Вижу, навоевались вдосталь. Пора и мир творить. Твой князь – он упрямый.
Нестор снова беззлобно рассмеялся.
Избигнев пристально смотрел на его смугловатое лицо с прямым носом и добрыми карими глазами. Нестору было на вид лет около тридцати, не больше.
– Ну, ступай, отроче. Думаю, не раз мы ещё с тобою встретимся. Токмо гляди, береги себя, – напутствовал его на прощание Нестор.
– Имею надежду, не на бранном поле свидимся, – вымученно улыбнулся в ответ Избигнев.
– Вот то ж. Ну, бывай.
Они расстались, и каждый встал взбираться на свою сторону рва.
Уже наверху Избигнев нашёл гнедого конька, видно, оставшегося без всадника, вскочил в седло и, видя, что галичане, не выдержав натиска Изяслава, отступают, бросился в сторону лагеря Владимирки.
…Угры перешли-таки через Сан, оттеснив Серославову дружину, и тогда князь Владимирко, не выдержав, ринулся с основной своей ратью им наперерез. Сеча закипела бешеная, никто не хотел уступать. Храбро бился и сам Владимирко, и его дружинники, но и король Геза немало супротивников срубил своей рукой, и молодой Мстислав Изяславич, приведя своих переяславцев и чёрных клобуков королю на помощь, с горячностью, поднимая десницу с окровавленным мечом, разил одного галичанина за другим.
– Ты за нас ныне бьёшься, а мне стыдно напрасно стоять! – велел объявить он Гезе.
Приход Мстислава, его прорыв через ров, в котором ещё недавно мирились Избигнев с Нестором, и решил окончательно исход боя. В час, когда молодой отрок добрался-таки до своего князя, вокруг того осталось совсем мало воинов.
– Отходим! К городу! – крикнул разгорячённый схваткой Владимирко Избигневу.
Страшной силы ударом меча он свалил с коня наседавшего справа угра и, увлекая за собой ратников, в ярости и отчаянии врезался в тесно сомкнутые вражеские ряды.
Им удалось прорваться. Галопом понеслись скакуны по полю, взлетали с холма на холм, хрипели, понукаемые всадниками. Уже перед самыми воротами Перемышля Избигнев обернулся и, к ужасу своему, понял, что скачут они с князем вдвоём. Всех остальных или настигли и порубали угорские и переяславские конники, или попали они в полон. В продолговатый червлёный щит[106], которым отрок прикрывался от врагов, впилось несколько калёных стрел.
На городской площади перед хоромами Владимирко устало сполз с седла. С раздражением сорвав с головы золочёный шелом, весь покорёженный, со следами от сабельных ударов, он тотчас поспешил укрыться в тёмных переходах. Избигнев неторопливо спешился и, тут только почувствовав наваливающуюся на плечи усталость, направил стопы в гридницу[107].
Состояние было какое-то странное, перед глазами всё ещё стояла картина битвы, он как наяву видел падающих под копыта воинов в кольчугах, видел кровь, а в ушах раздавался свист смертоносных стрел. Было опустошение, и ещё был Нестор со своей улыбкой и со словами: «И чего мы тут делим?»
Глава 7
В гриднице стояла непривычная тишина, лишь пара челядинов едва слышно проскользила между столами. Избигнев устало расположился на лавке, намереваясь предаться отдыху. Всё тело его тряслось, как в лихорадке, он ещё словно был там, в гуще неистового боя, видел кровь, смерть, ярость. И ещё был Нестор, его улыбка как будто успокаивала Избигнева, дарила юноше надежду, что война эта кончится и настанет мирная жизнь.
«Нет, рати – это не моё, не мой удел, – думал Избигнев. – Уж лучше в монахи подамся, чем так… Всюду убиенные, рати нескончаемые. И кому от того польза?»
Вот отец, боярин Иван Халдеевич, был муж суровый, к своим двоим сыновьям строгий, больше ругал их, мог и ударить, ежели что. Человек жестокий, прямой, хотел, чтоб и сыны были такими же, чтоб шли напролом к своей цели, переступая через кровь, если того требовали обстоятельства.
Нет, он, Избигнев, не смог бы, как отец, рубить головы смутьянам. Не в том видел юноша свою стезю. Наверное, Нестор – тот совсем не такой человек, как отец. Где он теперь? Жив ли остался, а может, сложил голову там, у брода? Вон сколько ратников полегло с обеих сторон!
Мысли отрока прервал шум шагов и громкие голоса. Гридницу заполняли галицкие дружинники.
– Отстали вои[108] Изяславовы и угры. Двор загородный княжеский узрели, бросились жечь и грабить, нам и удалось в городе скрыться, – рассказал Избигневу сын боярина Домажира Иван, рослый плечистый увалень, косая сажень в плечах. – Воевода Тудор к Галичу отошёл, Серослав тож бежал, не ведаю куда. Еже и побили, так более болгар да сербов. Своих немного мы потеряли.
– Что ж, сербы и болгары – не люди, что ли? – Избигнев горько усмехнулся. – Тоже, чай, у многих жёны, да матери, да чада малые.
Иван не ответил, лишь недовольно передёрнул крутыми плечами да стал снимать в нескольких местах повреждённую кольчугу.
– Отрок Избигнев! – протиснулся в гридницу княжеский слуга. – Князь тя кличет!
Избигнев быстро подхватился и поспешил по переходу за челядином. На стенах мерцали факелы, длинные тени тянулись вдоль бревенчатых стен. Большой чёрный кот, заметив приближающихся людей, шмыгнул куда-то в сторону, бесшумно сокрывшись в темноте.
…В просторной палате на цепях висели хоросы. Несколько перемышльских бояр сидели возле стены. Здесь же был и епископ Алексий, облачённый в чёрную рясу, с украшенной драгоценными каменьями панагией на груди.
Князь Владимирко лежал на широкой лавке. Пшеничная борода лопатой была всклокочена, поднята вверх, он слабо постанывал, шевелился под синим парчовым покрывалом с вытканными грифонами и львами.
Избигнев отвесил князю земной поклон. Заметив его, Владимирко приподнял голову и слабым голосом прохрипел:
– А, сын Ивана Халдеича. Звал… Вот, помираю… Сил нет… Поранили всего в сече лютой… Ты… Ты поезжай в стан угорский… Грамоту крулю Гезе передай… И архиепископа Кукниша повидай… Скажешь, умирает Владимирко и просит мира… Нынче же нощью поезжай… А покуда пожди в гридне… Призову… Окромя тя, послать некого… Уразумей, вьюнош… На тя надёжа единая. Створи мир.
Князь бессильно откинул голову на подушки.
– Оставьте меня… Все, – приказал он.
…Вскоре Избигнева снова позвали в княжеский покой.
«Неужто помирает! Вроде в Перемышль когда въезжали, жив и здоров был», – недоумевал отрок, во второй раз спеша по длинному тёмному переходу и опять видя того же чёрного кота.
Владимирко, когда они остались одни, резко отбросил в сторону покрывало, сел, а затем вскочил с лавки.
– Пускай все думают, ранен аз, при смерти лежу, – заговорил он быстро и тихо. – Средь бояр перемышльских есть доброхоты Изяславовы, тотчас ему весточку дадут. А ты поезжай к архиепископу Кукнишу и воеводе Або. Соглашайся на все условия – города Изяславу воротить, злата дать. Лишь бы убрались угры и кияне с Червонной Руси. Я же для всех – ранен тяжко, лежу, сил подняться не имею. Вот тебе грамота, Избигнев. И знай: дело справишь, не забуду. Паче отца твово, Свиноград от ворогов спасшего, ценить тя буду.
Сжимая в деснице грамоту с золотой княжеской печатью, Избигнев снова кланялся, пятясь к двери. После, уже в переходе, он в полной мере понял, сколь важное дело ему поручено. Справится ли он с ним? Судьба всей Земли внезапно оказалось в руках его, девятнадцатилетнего парня! На душе становилось тревожно, волнение охватывало душу, тяжёлый ком сжимал горло.
С наступлением вечерних сумерек Избигнев с несколькими гриднями отправился в угорский лагерь.
Глава 8
Архиепископ Кукниш и воевода Або, многозначительно переглядываясь, внимали княжеской грамоте. Избигнев, разворачивая свиток, читал вслух, делая паузы, во время которых хромой монах-толмач переводил его слова на венгерский язык. Хоть и знал молодой отрок довольно сносно угорскую молвь, но так было принято.
– «…поскольку Бог всемилостивый всем грешникам грехи отпускает, так бы мне отпустил и не предал меня в руки врагов моих, Изяслава и сына его. Я же от тяжких ран лежу при смерти и, если Бог изволит меня от сего света взять, чтоб король сына моего Ярослава взял в своё защищение…»
– Князь галицкий лежит на смертном одре?! – изумлённо изогнул седые брови Або. – Это странно. Я видел его целым и невредимым у ворот Перемышля.
– Князь держался, превозмогая боль, сколько мог долго, хотя и был опасно ранен, – отвечал ему Избигнев. – Уже после, в хоромах, силы совсем оставили его.
С трудом юноша сдерживал дрожь в голосе и в руках. Но, кажется, его взволнованная речь убедила бывалого воеводу и архиепископа.
По знаку последнего он продолжил чтение грамоты.
– «…Всем то известно, что отец короля, достославной памяти король Бела, был слеп и многие напасти терпел, но я его моим копьём и моими полками оборонял. За обиду его с поляками я бился. Того ради, воспомянув прежнее, ныне он мне да воздаст, а я вдвойне, когда потребно королю будет, постараюсь воздать, ежели жив буду. А коли помру ныне, сыну своему накажу служить ему защитою верою и правдою».
Гридни положили перед Кукнишем и Або дорогие сосуды, золото, серебро, отрезы ромейской парчи. Избигнев заметил, как лицо Кукниша аж вытянулось от вожделения при виде такого богатства.
– Князь Владимирко даст ещё больше всего этого, если вы, уважаемые, убедите короля Гезу заключить мир, – объявил Избигнев.
…Долго совещались угорские вельможи, долго сомневались, качали головами, но вид злата и парчи сделал своё дело. Они направили стопы к королю и вскоре передали Избигневу, что король Геза сам хочет его видеть.
В изумрудного цвета жупане ипрского сукна, в парчовой шапке, увенчанной изображением золотой зубчатой короны, Геза при виде посла нетерпеливо вскочил с раскладного стульца.
– Твой князь вправду так сильно болен? – Чёрные глаза-буравчики короля скользили по лицу смущённого Избигнева. – Или он опять всё врёт, как бывало не раз?!
– Он правда болен, государь, – по-угорски отвечал, краснея, Избигнев.
– Что же ты прячешь от меня свой взор, посол?! – допытывался Геза. – Скрываешь тёмные мысли?! Почему я должен верить этой грамоте?!
Он потряс харатейным свитком.
– Мой князь хочет мира, – теперь уже без обмана твёрдо сказал Избигнев и прямо добавил, думая рассеять недовольство и сомнения Гезы. – Да извинит меня король. Мне впервые выпала такая честь – быть послом к правителю столь могучей державы, отсюда моя робость.
– Посол говорит правду, ваше величество, – поспешил встать на его сторону Кукниш. – Этот человек не обманывает нас. Он слишком молод и прям. Поверьте, я знаю людей.
– А я бы не верил этому проходимцу! – вскочил с кошм весь разодетый в красочные цветастые одежды молодой барон Фаркаш. В руке он держал шелом с перьями. – Князь Владимирко в очередной раз изрыгает ложь! А тебя… – Он указал в сторону Избигнева. – Я вызываю на поединок. Пусть меч рассудит, чья правда!
– Да будет тебе известно, что особа посла неприкосновенна, – недовольно изрёк Кукниш. – Полагаю, здесь не место для обсуждения рыцарских поединков.
– Под Сапоговом этот пёс Владимирко погубил моего брата! – выкрикнул Фаркаш.
Избигнев вдруг вспыхнул. Прошла, исчезла мгновения назад владевшая им робость. Прямо и твёрдо смотря на короля, он резко вымолвил:
– Негоже мне подвергаться здесь унижениям. И слышать гадости о своём князе я здесь не намерен. Прошу, государь, унять пыл своего подданного.
Он повернулся, собираясь покинуть королевский шатёр.
– Постой! – окликнул его Геза. – Мы подумаем над предложением князя Владимирка. Вреда же тебе никто не причинит. На этом моё королевское слово. Теперь ты можешь идти. В нужный час я тебя призову.
Едва за Избигневом опустилась пола шатра, Геза крикнул Фаркашу:
– Не сметь задевать посла!
Он опустился на стулец, насупил тонкие вытянутые в стрелки брови, уставился на Або:
– Твоё предложение, воевода. Как нам поступить?
Або ответил уклончиво:
– Боюсь, если ты, государь, отдашь просящего тебя о милости князя галицкого в руки врага его, это будет умалением твоего достоинства. Стыд будет тебе от всех государей.
– Ты что скажешь? – обратился король к полнолицему барону Ласло.
– Полагаю, что мы достаточно помогли князю Изяславу.
– Каково твоё слово, Белуш? – повернул король голову в сторону хорватского бана.
– Меня беспокоит император ромеев Мануил. Сей молодой хищник – враг гораздо более опасный, чем галицкий князь.
– Ясно, – король всё сильнее хмурился. Он понимал, что, несмотря на нынешнюю победу, цели своей союзники не достигли. Владимирко не уничтожен, хотя, кажется, его можно привести к покорности. Об этом Геза собирался утром говорить с Изяславом.
Пока же он обратился к Кукнишу.
– Что думаешь ты, архиепископ? – осведомился он.
– Князь Изяслав – наш союзник, мы пришли оказать ему помощь. Твои воины, государь, бились не за страх, а за совесть, выказав храбрость и упорство в часы тяжкой сечи, – начал издалека Кукниш. – Но подумай так, светлый король. Лучше для нас, мадьяр, что у русских много князей. Они ослабляют друг друга, воюют между собой, нам не вредят, и нам нет причин их бояться. Но если Изяслав станет слишком силён…
Король решительным жестом с раздражением оборвал льющуюся сладким мёдом речь архиепископа.
– Мне ясно ваше мнение, доблестные мужи, – сказал он. – Утром я буду иметь встречу с князем Изяславом. Я не могу отвергнуть мольбы кающегося и нуждающегося в прощении.
…Среди ночи в лагерь Изяслава помчался скорый королевский гонец.
Глава 9
Семьюнко метался из угла в угол просторного шатра. Издали ушей его достигал шум сражения. Но едва стоило высунуть из-за войлочного полога голову, как тотчас оказывался рядом оружный[109] страж и закрывал весь обзор. Приходилось со вздохом возвращаться в опостылевший шатёр и бессильно падать на кошмы.
Уже вечером явился знакомый худощавый угр и коротко оповестил Семьюнку о битве и поражении Владимирки.
«Значит, князь укрылся в Перемышле. Как же там мои… – Мысли Семьюнки были об упрятанных на соляном складе ценностях. – Не добрались бы сии разбойники до сребра, до злата моего. Нечего мне тут сидеть, в стане угорском. Как стемнеет, бежать надобно, проверить, цело ли добро, да в Галич смываться поскорее. Коня бы своего токмо сыскать».
С нетерпением ждал Семьюнко наступления ночи. Слышно было, как угорские ратники возвращались в лагерь. Вблизи шатров загорелись костры, до Семьюнки доносился запах жареного мяса. Пировали, как обычно, шумно, вокруг костров раздавались пьяные крики, звенели чаши и оружие.
«Напьются, охрану ослабят», – решил Семьюнко. Вскоре он проверил свою догадку и с радостью обнаружил, что стража у полога нет. Тогда он осторожно выбрался из шатра и, никем не замечаемый, стал, озираясь по сторонам, медленно спускаться к берегу реки. Ночную тьму прорезали яркие огни костров, за рекой под Перемышлем тоже горели огни, виден был участок крепостной стены, на забороле[110] которой чадили смоляные факелы.
Город надо было обойти стороной, пробраться к складам, а оттуда держать путь в сторону Галича. Только бы стражи не хватились, не подняли тревогу.
Семьюнко добрался до своего коня, оглядел торока, усмехнулся горько. Как он и полагал, торока были пусты. Семьюнко тихо ругнулся, недобрым словом вспомнив епископа.
«Что тать[111], ничем не отличен. Лишь бы злата поболе. Тож, служитель Христов! Хоть кольчугу не забрал, и на том спасибо».
Ведя в поводу коня, отрок спустился к реке. На дороге попались ему два подвыпивших угра.
– Русс, да?! Из дружины Изяслава?! – воскликнул один из них на ломаной русской мове. – Храбро вы сегодня бились! Пойдём, нальём тебе вина! Отметим победу! Хорошее вино, настоящее мадьярское белое!
– Извините, други! Порученье княжое исполняю. Спешить мне надобно. – Семьюнко приложил палец к устам.
– А… Порученье!.. Поняли…
Угры отвязались. Пошатываясь, поплелись они своей дорогой к одному из ближних костров.
Уже изготовился Семьюнко к переправе через Сан, как вдруг набросились на него сзади двое, прижали к земле. Третий супротивник с факелом в руке склонился над ним. Семьюнко, подняв глаза, увидел сухощавое долгобородое лицо.
– В вежу его. Вборзе! Се и есь Владимирков лазутчик! – прохрипел долгобородый.
В веже Семьюнку привязали к двум длинным жердям над очагом. Долгобородый, взяв в руку факел, стал жечь пленнику ноги.
– Отвечай, гад, кто тебя к Кукнишу подсылал?! Владимирко?! О чём сговаривались?! Ну, отвечай! Я, Дорогил, вуй князя Мстислава, вопрошаю тя! Ну, вборзе, вборзе! У меня терпенья мало! Сожгу стопы-то, ходить не сможешь! Хотя, куды те топерича идти!
Дорогил залился противным каркающим смехом.
Семьюнко кричал от боли, но говорить отказывался. Дорогил жёг ему ноги, скрипел зубами от злости, ругался. Его подручные время от времени окатывали Семьюнку водой, чтобы он не потерял сознание. Неведомо, сколь долго длилась пытка, но внезапно на пороге вежи появились двое людей в дорогих одеждах. В одном из них Семьюнко тотчас узнал Кукниша, второй был брат Изяслава князь Святополк. Архиепископ что-то долго говорил князю на ухо. Святополк согласно кивал, а затем крикнул Дорогилу:
– Довольно! Брось факел! Развязать, отпустить сего человека! Немедля! Пусть идёт, куда хочет!
– Да как же, княже?! Я ж сего ворога от самого Перемышля вёл, следил. Как же, княже?! – возопил в недоумении Дорогил. – Да я из него всю душу выпотрошу! Я его – на дыбу! Все кости гадине переломаю!
– Тебе что сказано! – заорал Святополк. – Хватит, навоевались! Зверь ты, что ли, Дорогил!.. Да, и коня отроку воротить! И сряду! И кольчугу! Ну, быстрей!
– Ох, княже! – Дорогил нехотя стал развязывать Семьюнке руки.
Отрока выволокли из вежи. К изумлению своему, Семьюнко заметил, что ночь давно минула и на небе ярко светило солнце. Видно, не один час висел он на жердях и подвергался мучительным пыткам.
После, когда люди Святополка подсадили Семьюнку на коня, не вытерпел Мстиславов вуй, подошёл к нему, глянул в зелёные боязливо бегающие глаза, вымолвил со злостью:
– Запомнил я тя, Лисица Рыжая! Насквозь тя, гада, вижу! Эх, попадись ты мне ещё хоть разок! Отбивную из тя сделаю! Не терплю таких, хитрых да скрытных! А на роже твоей лукавство этак и написано! И ведай: тысяцкий Дорогил ворогов не забывает! Николи не забывает! Еже б не заступничество бессовестное бискупа да князя Святополка, горели б пятки твои! И ты бы сам в аду уже жарился с ими вместях[112]! Эх! Ну, проваливай!
Семьюнко, поняв, наконец, что свободен, ударил боднями коня и стремглав бросился через брод. В лицо полетели водяные брызги.
На берегу Дорогил стискивал кулаки и злобно грозил ему вслед.
Глава 10
Утром король Геза со своими баронами направился в лагерь Изяслава. Избигнев ехал вместе с уграми, мучительно размышляя дорогой, удастся ли ему створить мир.
Барон Фаркаш, улучив мгновение, подъехал к нему вплотную, вызывающе грубо толкнул, небрежно бросил:
– Как насчёт поединка?!
Избигнев внезапно вспыхнул.
– Не видишь, я княжью службу правлю! Не до твоего молодечества ныне. Потом, после!
– Да ты просто трус! – воскликнул Фаркаш.
– Трус? Ну, так давай сейчас прямо! Вот у меня сабля на поясе, у тебя, гляжу, тож! Давай начинай, доставай из ножен! Чего медлить?!
Фаркаш злобно засопел, огляделся по сторонам, нехотя обронил:
– Как только закончатся переговоры, жду тебя вон на том лугу.
– А чего сразу не хочешь? Зачем время тянуть? Вдруг меня в стане киевском задержат! – усмехнулся Избигнев. – Или ты сам боишься?
– Как ты смеешь сомневаться в моей храбрости?! – вспылил Фаркаш.
Слова его прервал звук трубы, извещающий о прибытии короля Гезы со свитой в стан Изяслава.
Киевские отроки и гридни, все разодетые в цветастые кафтаны и свиты, встречали гостей поклонами, помогали спуститься с коней, провожали до огромного шатра, над которым горделиво реял Михаил Архангел с мечом в деснице.
Князь Изяслав, в кафтане зелёного цвета с узорочьем, с золотой гривной на шее в три ряда, в багряных тимовых сапогах и в шапке с собольей опушкой и парчовым верхом, восседал на высоком стольце. Место напротив него на таком же стольце занял король Геза, рядом с Изяславом расположились его брат и сын, тоже в богатых одеяниях из парчи и аксамита. Возле владетелей полукругом расселись бояре и бароны. Среди приближённых киевского князя Избигнев вдруг заметил Нестора, который едва приметно улыбнулся и лукаво подмигнул ему.
– О чём речь вести умыслил, брат мой? – спросил Изяслав короля.
– Прибыл ко мне, брат мой Изяслав, от князя галицкого посол. – Геза указал рукой в сторону Избигнева. – Просит мира князь Владимирко. Велел передать, что болен вельми, страдает от ран и едва ли будет жив. Грамота имеется. Желаю, брат, слово твоё услышать.
Молодой Мстислав вскочил было со стольца, весь пылая от возмущения, но отец суровым взглядом удержал его и повелительным жестом приказал сесть на место.
– Что ж, отвечу так, – начал киевский князь. – Еже помер Владимирко, то Бог убил его за ковы, за клятвопреступления, за пролитие крови неповинной, за гибель христиан многих. Сколь полегло днесь люду на поле ратном! В том его, Владимирки, вина. Коли просит он мира, так того бы и я желал. Но, мыслю, творит он сие коварно, обманывает тя, брат. Ему токмо б ныне от рук наших избавиться, а после всё по-старому пойдёт: удары исподтишка, клятв попрание. Сколь раз он тебе обещал, а потом рушил клятвы, да ещё и вред немалый наносил с сожаленьем и тебе, и мне. Ныне же судом Господним предан он нам в руки. Ежели возьмём копьём Перемышль, да земли его меж собой поделим, так и усобью, и ковам его конец наступит.
Выслушав Изяслава, король поднялся.
– Я должен посовещаться с баронами, – сказал он и поспешил выйти из шатра.
Угорские вельможи потянулись следом за королём. Вместе с ними вышел и Избигнев.
Долго шептался Геза с ближними баронами, снова выслушивал их советы, качал головой. Угорская знать не желала продолжения ратоборства с галичанами, все опасались базилевса Мануила и горячо убеждали короля створить мир. Наконец, Геза вернулся в княжеский шатёр.
– Не могу погубить просящего милости и кающегося в винах своих не простить. Крест этот, – король принял из рук церковного служки небольшой серебряный латинский крест-крыж, – сам Бог прислал пращуру моему, святому королю Стефану. И кто, его целовав, клятву преступит, того Бог накажет страшною карою. Крест этот отнесут сегодня ко Владимирке. И если, поклявшись, нарушит князь галицкий обещания свои, то тогда, брат Изяслав, либо Владимирку быть в стране мадьяр государем, либо мне – в Галичине князем.
Так как Изяслав в ответ угрюмо молчал, король обратился к бледному от волнения Избигневу:
– Именем государя своего проси у брата моего, князя великого Изяслава, прощения за прежние ковы, за обман и предательство.
– О том повеления не имею! – коротко и твёрдо ответил Избигнев.
По рядам киевских бояр прокатился ропот недовольства. Мстислав, не выдержав, с лязгом приздынул из ножен меч. Отец молча удержал его за руку.
Король Геза постарался погасить назревающие страсти.
– Поезжай, посол, к своему князю. Пусть пришлёт к нам лучших своих мужей, пусть принесёт извинения за обиды. А ты, архиепископ, – обратился он к Кукнишу, – доставишь князю галицкому крест. На том слово моё крепко.
– Я согласен, – промолвил, отводя очи в сторону, Изяслав.
Он понимал, что король не желает продолжения войны, а спорить и тем самым рисковать потерять ценного союзника владетель Киева не хотел.
Мстислав, не выдержав, вскочил-таки и заговорил, быстро, глотая слова:
– Я вам, отец и король угров, скажу: того вы ко крестному целованью приводите, о коем сами прекрасно ведаете, что порушит он роту[113]! Ведаете такожде, что не поранен Владимирко, но притворяется токмо! Но, вижу, не убедить вас. Тогда таково слово моё к тебе, король: не забывай николи, что здесь, на месте сем, говорил, и преступника не оставь без отмщенья!
Изяслав, выслушав сына, заметно приободрился, заулыбался. По сердцу были ему Мстиславовы пылкие речи. Твёрд и крепок на рати и на совете его первенец! Достойный муж вырос, не страшно такому будет и стол передать. Ему бы – в походы дальние, на поганых хаживать, боронить землю Русскую, а не с такой дрянью, как Владимирко, ратоборствовать.
Прервав воцарившееся в шатре короткое молчание, Изяслав объявил:
– Я тоже своих людей ко Владимирке пошлю. Бояре Пётр и Нестор Бориславичи! Повелеваю вам отправиться в Перемышль. Будьте свидетелями целованья крестного!
…Как только король и его свита покинули киевский стан, к Избигневу снова подскакал Фаркаш.
Молодой барон с досадой обронил:
– Вынужден отложить наш поединок. Король посылает меня на Саву. Я должен немедля ехать.
Избигнев с виду равнодушно пожал плечами, хотя и был этому втайне рад. В самом деле, не время было до молодецких забав. Предстояли ещё трудные переговоры, и Бог весть, чем всё может закончиться.
…Притворяясь, будто тяжко страдает от ран, князь Владимирко лежал на постели в палате и тихо постанывал. К кресту он приложился охотно, говорил, что вернёт Изяславу спорные городки на Горыни[114] и Бужск, а также обещал одарить и его, и угров золотыми и серебряными гривнами и драгоценностями.
После, как заключили, наконец, мир, Избигнев возле городских ворот снова встретился с Нестором.
Бориславич улыбался ему, говорил, что рад миру, а потом, на прощанье, сказал так:
– Понимаешь ли, друже Избигнев, князья меняются, и не токмо князья. С годами у каждого человека меняются вкусы, привычки, привязанности. Так происходит всегда. Ныне мы с тобою по разные стороны бранного поля были, а будем, верится мне, вместях. Иные князи будут, иное время наступит. А то, что здесь мы повстречались – то добре. Оба мы – русичи. И оба – рода боярского. А бояре – опора любой земли, любого княжества. Как они решают, так и бывает всегда. Так что прощай покудова, и до встречи.
Они пожали друг другу руки.
Нестор скрылся среди свиты вельмож, а Избигнев долго ещё стоял у ворот, смотрел вслед удаляющейся веренице всадников и размышлял о словах нежданно обретённого друга.
Чувство было такое, что за последние два дня он повзрослел сразу на несколько лет.
Глава 11
На забороле галицкой крепостной стены гулял ветер. Внизу, по ту сторону рва, россыпью убегали по склонам холмов в низину мазанки и хаты посадского люда. Луква лениво ползла к еле заметному вдали среброструйному Днестру, как непутёвая сестра к блестящему красавцу брату. Все ворота города заперты. У Немецких ворот, обитых листами позлащенной меди, застыла стража, видны остроконечные шишаки дружинников и их острые копья.
Ярослав в очередной раз обходил кругом стены. Вроде бы всё тихо, всюду расставлены сторожа, всё так же звенит медное било, оповещая об очередном минувшем часе. Суконная мятелия, долгополая, с серебряными узорами на вороте, подоле и рукавах, развевается на ветру. Под нею – панцирная кольчуга, на ногах – бутурлыки[115] с застёжками, на голове – лёгкий плосковерхий шлем-мисюрка[116], под ним – прилбица[117] волчьего меха, на наборном поясе – сабля в обшитых зелёным сафьяном деревянных ножнах – в полном вооружении ходил молодой княжич по стене, вглядывался вдаль с тревогой и сомнением, размышлял, как ему теперь быть. Он уже знал о сражении, о том, что отец укрылся в Перемышле и, кажется, был всерьёз ранен. Сперва в Галич прискакал воевода Серослав с вестью о разгроме рати на берегу Сана, затем явился с остатками воинства Тудор Елукович. Этот вёл себя спокойно, степенно, он предложил Ярославу, если что, идти с киевским князем на мировую.
– Отец твой – упрям вельми. Моя не слушай. Всё сам делай, – говорил удалой служивый печенежин на ломаной русской мови. – Нехорош думат каназ. Мир нада… Города отдать нада.
Ярослав был в душе согласен с Тудором. Но пока он ждал вестей. Если отец умрёт, тогда он тотчас пошлёт к Изяславу людей и уступит эти несчастные города. Воевать он не хотел и не любил. Города же, думалось, дело наживное. Сегодня Изяслав и угры в соузе, а завтра… как знать.
Обойдя стены, княжич спустился во двор, через крытые сени проследовал в собор Спаса. Поставил свечку за отцово здравие, стал на колени, долго и истово молился. Просил Господа уберечь Червонную Русь от вражьего меча, от крови и разора.
После молитвы он снова вышел во двор и внезапно лицом к лицу столкнулся с Семьюнкой, который, хромая, ковылял к крыльцу княжеских хором.
Друзья обнялись и облобызались.
– Поранили тебя, что ли? – спросил обеспокоенный Ярослав.
– Дорогил, сволочь, споймал. Целую нощь пытал, ноги жёг.
– Дорогил? Это ещё кто такой?
– Мстислава, сына Изяславова, вуй. Из бояр переяславских.
Друзья прошли в горницу. Семьюнко устало плюхнулся на лавку.
– К архиепископу, как велено было, прибыл я, – стал рассказывать Семьюнко. – Ну, как водится, сребро-злато ему дал, архиепископ сей и отмолвил: не могу, мол, ничего покуда содеять. А дары взял, гад! Поселил меня у ся в шатре, велел сидеть безвылазно, ждать, чего тамо далее створится. Потом битва была. Ну, высунулся я поглядеть, тут на мя с десяток волынян и налетело. Скрутили, в вежу привели, Дорогил сей и давай пытать: кто, да что. Но я, княжич, ни слова ему не сказал.
– Тебя ведь и убить могли, – сокрушённо качнул головой Ярослав.
– Князь Святополк выручил. Пришёл в вежу вместях с Кукнишем, велел свободить. А Дорогил сей всё грозил, что встретит меня ещё, и не поздоровится мне тогда.
Ярослав нахмурился.
– Не разумею, отчего Святополк тебя отпустил. Какая ему в этом корысть? Как думаешь, друг.
– Мне помыслы княжьи неведомы. Малый слуга аз есмь. Токмо умишком своим худым смекаю, архиепископ его уговорил. Отца твово злато в том помогло.
– А может, в чём Святополк с братцем своим расходятся? Может, чего не поделили? Может, недоволен чем Святополк?
Семьюнко в ответ лишь пожал плечами. Улучив мгновение, он перевёл разговор на иное:
– Княжич! Просьба у меня к тебе! Ты прости уж. Поиздержался аз малость! Вот и кафтанчик прохудился, и черевы до дырок истёр. Ты б мне помог…
– Ладно. – Ярослав невольно усмехнулся. – Не переделать лукавую натуру твою. Отсыплю тебе из скотницы серебра за службу верную.
Зелёные глаза Семьюнки хитровато заблестели.
…Обедали друзья тут же, в горнице, хлебали из деревянных мис чечевичную похлёбку. Не до пиров роскошных было в тяжкий час войны.
После Ярослав позвал на совет некоторых ближних бояр. Явился полный, с жёлтым лицом боярин Гарбуз, за ним – худой костистый Лях – милостник Владимирки.
Лях несколько лет назад приехал в Галич из Польши, и вскоре князь Владимирко женил его на молодой вдове Млаве, своей полюбовнице. И вышло так, что грудастая белокурая Млава разрешилась от бремени сыном аккурат в один день с Ярославовой Ольгой. А так как молока у ражей вдовы было много, стала она кормилицей княжеского отпрыска. Потому и прозвище приклеилось к маленькому Володиславу, чаду Млавы – Кормилитич, то бишь, кормилицын сын. Ходили упорные слухи, что истинным отцом Володислава был князь Владимирко, а вовсе не Лях. Впрочем, слухи мало-помалу улеглись. После Млава родила одного за другим ещё двоих сыновей, Яволода и Ярополка. Лях же тем временем оказывал князю Владимирке одну услугу за другой. Вначале расстроил он соуз Изяслава с поляками, а позже помог, используя свои связи на родине, выдать замуж за польских князей двоих сестёр Ярослава.
Самая старшая, надменная Анастасия, вышла за Болеслава Кудрявого, владетеля Кракова, наиболее сильного сейчас польского князя. За младшего Пяста[118], Мешко, выдали вторую Ярославову сестрицу, смешливую Евдоксию. Обе свадьбы сыграли в Галиче в один день. Помнил Ярослав, как щедро лились хмельные меды, как напивались самохвальные паны олом[119] и вином, как бахвалились, учиняли драки, как тянула вверх голову отцовская любимица Анастасия, всем своим видом показывая, что княжеская дочь выше всей этой суеты, и как тихо хихикала, прикрывая рот ладонью, совсем ещё девочка Евдоксия, проказница и шалунья.
Быстро летит время. Два года минуло со времени того пира. Анастасия уже стала матерью, родила князю Болеславу сына. Может, шепнула что мужу на ухо ночью, вот и не пошли польские князья на подмогу Изяславу, как угры.
Ярослав отвлёкся от воспоминаний. Надо было решать, как теперь быть.
– Имею вести, отец мой при смерти лежит в Перемышле. Испрашиваю вашего совета. Как нам поступить? Если пойдут угры и ратники Изяслава воевать Червонную Русь, сёла и городки пустошить? Если к Галичу подступят в силе тяжкой? – спрашивал Ярослав.
Волнение звучало в его молодом голосе. Но растерянности не было, в словах сквозила не по летам свойственная Ярославу рассудительность. Словно уже взвесил княжич все за и против, уже принял решение и только хотел услышать поддержку от своих ближних советников.
– Отец твой, князь Владимирко Володаревич, жив покуда, – напомнил Лях.
Ярослав посмотрел на него с горькой усмешкой.
– Я ведь не об отце вопрошаю. Жить ему, али нет, то Бог определит. О Земле забота моя.
– Мириться надоть с Изяславом, – выдохнул Гарбуз.
– Воистину, – тихо поддержал старого боярина Семьюнко.
– Думаю, если подойдёт Изяслав под Галич, пошлю к нему грамоту. Отдам городки погорынские и Бужск. Иначе всё потеряем. Изгоем быть не хочу, а Русь Червонную сохранить надо, – твёрдо промолвил Ярослав. – В этом заботу главную свою вижу.
– Отец твой городки бы не отдал, – заметил Лях.
– Повторяю тебе, боярин – не об отце моём сейчас толковня[120], – повысив голос, гневно сверкнул на него глазами Ярослав. – Будет жив, Бог даст, будет решать он. А покуда… – он прикусил губу, задумался, но затем резко вскинул голову и заключил. – Сделаем так, как я говорю. Решено.
Он поднялся со стольца, подошёл к окну. За столпом гульбища видны были холмы с зелёными дубравами. Пастух перегонял по лугу отару овец, ближе, у деревянного моста через Днестр, копошились гуси, дым поднимался змейками над трубами посадских хат. Мирная жизнь кипела в Галиче, и мир этот хотел Ярослав сохранить. Пусть цена ему и будет дорого́й.
…Закончив совет, он снова поспешил на заборол.
Уже вечером, когда, усталый, промокший под вешним дождём, ввалился он в свой покой, переоделся в сухие одежды и помолился, как делал ежедень, перед иконой Богородицы, подступила к нему вся пылающая возмущением Ольга.
В одеянии из лёгкого шёлка, обрисовывающем тело, с крупными звездчатыми серьгами в ушах, настойчивая и решительная, она словно бы заполонила собой всё пространство покоя.
– Что, мириться с ворогами измыслил?! Испужался, в порты наложил?! Батюшку свово и мово предать осмеливаешься?! – громко кричала дочь Долгорукого, топая ногами и стискивая в кулаки свои большие сильные руки, унизанные перстнями с жуковинами[121].
«Лях доложил. Жёнке своей шепнул, а та тотчас Ольге напела в уши», – догадался Ярослав.
Он отмолвил жене с едва скрываемым раздражением:
– Я – княжеский сын, а не баран! О стенку головой биться не намерен. О подданных своих заботу имею допрежь всего. Не справиться мне с Изяславом и с уграми одновременно. Лучше малым пожертвовать, нежели всё потерять. Об отцах наших молвила ты. Но мой отец нынче в ранах тяжких лежит, а твой – невестимо где обретается. Помощи от него не дождёшься. Покуда ждать будем – от Галича ничего не останется. И нам с тобой ноги тогда уносить отсюда придётся, в Берлад или куда подальше. Этого хочешь?!
– Труслив ты! – Ольга презрительно скривила тонкие губки, покрытые толстым слоем коринфского пурпура.
От неё пахло благовониями, и запах этот, резкий и густой, раздражал Ярослава. Не выдержав, он выпалил ей в лицо:
– В трусости упрекаешь? Так ведь не я из-под Киева опрометью бежал после битвы на Руте, а твой отец, князь Юрий. Не хочу я, как он, из волости в волость бегать. Потому и переговоры думаю начать с Изяславом. Если, конечно, до осады дело дойдёт.
– Не смей об отце моём тако! Сопляк! – топнув ногой, вскричала возмущённая до глубины души Ольга. – Мизинца егового не стоишь ты!
Она неожиданно разревелась, громко, навзрыд.
– Дура! – ругнулся Ярослав.
Он стремглав выскочил из покоя, с громким стуком захлопнув за собой массивную дубовую дверь.
Не было мира у молодого княжича в семье. На душе становилось от этого горько, гадко, противно.
«Ну зачем, зачем она мне? Или невесты доброй сыскать нельзя нигде! Вон у того же Мстислава – экая, говорят, красавица Агнешка Польская. Или у Святополка – мораванка Евфимия. Солнцеликой на Руси её кличут. Или у того же Долгорукого сыны, Андрей и Глеб – оба на боярских дочерях женаты. И обе жены, что Улита Кучковна, что Глебова княгиня – и красовиты, и норову спокойного. Не то что эта… Упрямая, дерзкая, грубая вся. Как древо неотёсанное, как кукла, как идол поганый, тряпками обмотанный!»
…Ночью Ярослав никак не мог заснуть. Забросив руки за голову, смотрел в бревенчатый потолок, тускло озаряемый светом лампады, вздыхал, думал.
Ольга внезапно явилась к нему, навалилась медведицей, словно и не было давешнего тяжкого разговора с криками и взаимными оскорблениями и обидами.
Ярослав равнодушно ласкал её полное тело с округлыми выступами грудей, целовал крупные соски, она в ответ дланями возбуждала его естество, с жадностью сосала устами, храпела от страсти, стойно[122] лошадь.
После, исполнив, как положено, супружеский долг, Ярослав гладил её по распущенным чёрным волосам, смотрел в исполненные лукавства раскосые половецкие глаза, шептал:
– Ты не спорь со мной, не гневайся. Я для нас обоих стараюсь.
Жена неожиданно рассмеялась.
– Буду и впредь тебе перечить! Думашь, люб ты мне? Просто замуж мне пора было, и всё! А ты был из всех женихов – самый мне подходящий, и по летам, и по знатности рода. И я княгиней галицкой стать захотела. И вот этого, – она ткнула перстом Ярослава в фаллос, – такожде хотелось. Чтоб не как прежде, а без стыда и оглядки, не боясь, еже кто узрит.
– У нас, верно, дети ещё будут, – осторожно заметил Ярослав.
– Знамо, будут. Кажную нощь совокупляемся, – Ольга весело расхохоталась.
– Давай спать. Может, дела как ни то без нас уладятся, – Ярослав со слабой надеждой уставился на мерцающие лампады и положил крест.
…Как в воду глядел княжич. Утром в Галич прискакал сын боярина Домажира Иван. Так в городе стало ведомо о хитрости князя Владимирка, о его мнимой болезни, о кресте святого Стефана и о заключении мира.
«Изворотлив отец. Обманул-таки врагов своих. Оберёг лукавством от разоренья Русь Червонную, – думал ободрившийся Ярослав, стоя на гульбище и подставляя лицо ласковым утренним лучам солнца. В эти мгновения он гордился своим отцом. – А я? Учиться мне ещё много надо уму и хитрости державной».
Ему верилось, что мир пришёл на Червонную Русь крепкий и долгий.
После он поймёт, что горько ошибается и что до прочного мира на Галичине ещё далеко. Не догадывался Ярослав, сколь много пота придётся пролить ему, сейчас ещё совсем молодому, чтобы, наконец, достичь для Червонной Руси расцвета, а для себя – могущества и уважения ближних и дальних родичей, бояр и иноземных владык.
Глава 12
Князь Владимирко, довольный собой, возбуждённо прохаживался по палате, потирал руки, усмехался лукаво, говорил сидящему в молчании на лавке Ярославу:
– Обманул я Изяслава и Гезу. Пущай топерича думают, что отдам я им городки на Горыни и Бужск. Не на такого напали!
– Ты же клялся, отче! – В карих глазах княжича на мгновение полыхнул страх. – Клялся на кресте, в коем частица Животворящего Креста Господня заключена. Это крест святого короля Стефана.
– То всё глупости, сыне! – морщась, отмахнулся Владимирко. – Принудили меня силой к сей клятве. Все об этом знают.
– Кощунствуешь ты, отче! Нельзя через крест преступать! – воскликнул Ярослав.
– Замолчь! – прикрикнул на него Владимирко. – Молод ещё мне указывать! Не отдам я Изяславу ни пяди земли своей. Домажирича Ивана послал уже в Шумск с наказом. Гнать в шею посадников и тиунов киевских повелел.
– Изяслав, отче, гневом воспылает! Тотчас новую рать на Галич поведёт. И король угорский, помнишь, что сказал. Мстить, говорит, буду.
– Мстить? – Владимирко, уперев руки в бока, громко расхохотался. – Ты, сыне, словам велеречивым не верь особо. Мало ли, чего он тамо болтал. Ты шире на мир гляди. На то и князь будущий.
– Как так, отче? Поясни, – Ярослав поднял голову и искоса воззрился на отца.
– Ты на Запад глянь. Уразумей, сейчас главное противоборство у них – между папой и германским императором. Те, кто сторону папы держат – гвельфы, а супротивники их – гибеллины. И все государи в сию борьбу втянуты. Скажем чешский Владислав – на стороне императора, а угорский Геза, наоборот, за папу стоит. Так вот, да будет тебе ведомо, Ярославе, германский император Конрад ныне с Мануилом Комнином союзится. Свояченица Конрада, Берта Зульцбахская – жена Мануила. И оба императора Гезе войной угрожают. Да и не просто угрожают – Мануил вон в открытую на Дунае флот сильный держит, Сербию у угров оттягать хочет. Потому, сыне, Геза к нам на Галичину в ближайшие лета более не сунется. Не стоит его опасаться. Да и бароны у него и епископы – люди продажные. Еже что… – Владимирко не договорил. – И ещё. Показать тебе хочу.
Он полез в маленький медный ларец и достал оттуда грамоту на багряного цвета пергаменте, с золотой печатью базилевса Ромеи.
– Се – договор мой с Мануилом. Думашь, болгары с сербами просто так на помощь нам приходили? Нет, за ними – базилевс.
Ярослав развернул грамоту, стал читать. Греческий язык знал он хорошо, учителя были добрые. Споткнулся он на слове «hypospondos». Посмотрел изумлённо на отца, спросил с недоумением:
– Это что же получается? Базилевс Мануил вассалом тебя объявляет! Как же так, отец?! Всю жизнь боролся ты за самостоятельность Руси Червонной, отбивал наскоки ляхов и угров, ратился со Всеволодом Ольговичем и с Мстиславичами, а теперь! Получается, всё это ради того, чтоб перед ромеями на колени пасть?!
Ярослав с возмущением отодвинул от себя грамотицу.
– Базилевс далеко, а Киев – близко, сыне. Пускай думает Мануил, что его здесь, на Днестре и в Подунавье, власть. А на самом деле всё инако.
– Отец! Мануил – наш союзник. Это я могу понять. Но зачем он на Галич посягает? Зачем сувереном твоим себя именует?
– Иначе, сын, не было бы у меня с ним никоего соуза. Из двух зол меньшее выбирать надо, – поучительно изрёк Владимирко.
Он сел напротив Ярослава и пристально глянул ему в лицо.
– Это так. Только не думаю я, что Мануил лучше Изяслава будет. Одно хорошо – далеко он покуда. А если угров победит – рядом окажется, и тогда верности вассальной, клятв и дани от тебя потребует. И грамотку вот эту вспомнит.
– И что ты мне предлагаешь? – неодобрительно прищурил глаза Владимирко.
– С Изяславом мириться. Отдай ему эти чёртовы городки. Не стоят они крови пролитой. Был недавно в Бужске. Деревня деревней, разве стеной обведена. А Гнойница и вовсе – на болоте каком-то стоит.
Владимирко со злостью грохнул кулаком по столу.
– Вот оно! За спиной моей с ворогами мириться задумал! Знаю, сказали уже, что ты городки сии отдать хотел! Дак вот те, на, выкуси! – Он поднёс к лицу Ярослава кукиш. – Не получит Мстиславич сих городков. Ни Бужска, ни Гнойницы, ни которого!
«Млава с Ляхом донесли», – понял Ярослав, скрипнув зубами.
– Я Землю от ратей оберечь хотел, – сказал он отцу, выпрямившись и встав с лавки. – Не в чем тебе меня упрекать. А что насчёт ромеев и базилевса Мануила с тобой не согласен, так знай: ничьим холопом быть не хочу! Сам меня так учил.
– Учил. Выучил, на свою голову! Вот что, Ярославе. Поди вон! И не смей, слышишь, не смей мне перечить! Мальчишка! – Владимирко неожиданно сорвался на крик.
Ярослав спокойно вышел. У самой двери он обернулся и, презрительно усмехнувшись, спросил:
– Что, опять на князя Юрия надеешься? Да не придёт он из своего медвежьего Суздаля! А если придёт, так опоздает опять, с перепою! Брось ты за него держаться. Брось, отец, пока не поздно!
– Пошёл вон! Сказано тебе! – Владимирко снова бухнул кулаком по столу.
Когда Ярослав покорно ушёл, вдруг подумал галицкий князь, что касательно Юрия сын, наверное, прав.
Но городки он отдавать не хотел и в скором времени снарядил в Суздаль гонца.
Глава 13
Избигнев, как только закончились переговоры и был заключён мир, воротился в Свиноград. Крепость меж узкими рукавами речки Белки, обведённая буковыми стенами, высилась на холмах, окружённых болотистыми низинами. Путь к воротам пролегал по мосткам, переброшенным через топкие участки. Тучами кружили в воздухе мошки и комары, от болот исходило тепло и влага, так что дышать порой становилось трудно. Лишь на забрале стены, наверху, было легче. С высоты открывался вид на окрестные дали. Поля и низины перемежались с лесами и рощами, раскинувшимися на полуночной стороне. Восточнее, за рукавом Белки, располагался довольно обширный окольный город. Окаймляли его те же топкие болота и невысокая изгородь из плетня. Шлях, проложенный через гати, вёл к соседнему Плесненску и недалёкому Бужску, залегающему у истоков Западного Буга, тому самому городку, который стал яблоком раздора между Владимирком и Изяславом. В другую сторону, на юго-запад, тоже бежала дорога, более широкая и добрая. Вела она через холмы Подолии, крутые каньоны и среброструйные быстрые речки прямо в Галич.
Славился Свиноград своими косторезами и сапожниками, всю Галицкую Землю снабжал он добротной обувью и изделиями из кости. Обереги резали, крестики и всякие фигурки.
…Отец, старый седобородый Иван Халдеевич, лежал в тяжкой болезни. Избигнев, как приехал, тотчас направился к нему в покой. С тревогой взглядывая в бледное отцово лицо, в тусклые обведённые старческой серостью глаза, он рассказывал о битве и переговорах. Иван Халдеевич слушал молча, изредка согласно кивал. Потом, наконец, когда Избигнев окончил свой рассказ, разжал плотно сомкнутые уста, заговорил тихо, так, что сын, чтобы услышать, сел поближе, наклонился и прильнул к нему.
– Мне, чую, Избигнев, не встать более. Ослаб совсем. Поэтому послушай, что тебе сейчас скажу. И крепко запомни. Ранее многого тебе не рассказывал. Род свой ведём мы от хазарских[123] иудеев. Издавна, лет двести назад, осели наши предки в Киеве, на Копырёвом конце[124]. Дядя мой, Иванко Захариич, был первым воеводой у киевского князя Святополка. А после смерти Святополка случился в Киеве бунт, чернь восстала и разграбила много домов нашего народа. Многие иудеи ростовщиками были, многих чёрных людей закабалили. Вот и взметнулся Киев. Новый князь, Владимир Мономах, и велел тогда, в угоду простонародью, всем иудеям убираться из Земли Русской. Отец же мой ещё ранее в Свинограде поселился. Служил сперва князю Володарю, затем сынам его. Я, как и дядя, более по ратной части пошёл. никогда не забывайте. Понял, Избигнев? А ты, я смотрю, в отца моего, Халдея, выдался. Тот советником был у князя Володаря, к венграм и чехам ездил, посольство правил. Тебе, Избигнев, я вижу, дело ратное не по нутру. А в посольском деле преуспел ты, хвалю. Поэтому… – старый воевода устало смахнул с чела выступивший пот. – Вот мой тебе отцовский наказ. Езжай в Галич. Хватит тебе в отроках тут ходить. Воеводский сын, не дворянчик какой мелкий. Грамоту тебе дам. В Галиче сыщешь иудея Нехемию, живёт он у Немецких ворот, лавку держит. Он тебе поможет в свиту к княжичу Ярославу устроиться. К самому князю Владимирку не суйся – вокруг него всё схвачено старыми боярами. Но князь Владимирко не вечен. А сын у него один. Ярослав, полагаю, на новых людей опираться станет. Имею сведения, часто спорит он с отцом своим о делах. Вот с этого, Избигнев, службу и начни. Что проявил ты себя – это хорошо. Владимирко тебя, думаю, запомнил. Но держись Ярослава. Вот тебе мой совет. Брата твоего Михаила отправил я в Полоцк, пусть там путь себе пробивает. И так скажу: если что у тебя не выйдет, если беда какая, перебирайся к брату. А если, наоборот, у Михаила что не так пойдёт, примешь его у себя. Держитесь друг за дружку, служите, но и себя…
– Понял, отец.
– Да, и мать свою Марию в Галич забери, как я помру. Чую, не встану.
Иван Халдеевич снова тяжко вздохнул.
– Одно худо, Избигнев, – сказал он. – Мягок ты излишне. С людьми надо твёрже. Кому – в морду дать, кого и сабелькой полоснуть. А ты всё по-доброму, по-мирному хочешь. На отца моего похож. Тот тоже так. Убили его в стране угров. Нагло убили, в открытую грубые и невежественные бароны. Подняли длани на старца седобородого. Я отомстил, всех троих под Сапоговом схватил и повесил, как собак, на ближнем дубе. Будут помнить угры, каков воевода Иван Халдеевич. Ну вот, всё тебе сказал. Подай мне отвар тёплый. Вон, в жбане стоит, стынет. Попью, да, извини старика, спать буду. Устал.
Он снова вытер платом потевший лоб, дрожащими слабеющими руками принял жбан, долго, маленькими глотками пил отвар целебных трав. Затем уронил голову на подушки, слабо улыбнулся сыну, шепнул:
– Ступай, Избигнев. Дай, перекрещу тебя. Крещён ведь. И помни всё, что тебе тут сказал. Крепко помни. Дорога ждёт тебя долгая и многотрудная.
…Спустя седьмицу Избигнев, взяв с собой одного челядина и поводного коня, выехал в Галич. Впервые надолго покидал он родной город и потому, часто оборачиваясь, смахивал с глаз непрошенные слёзы. Но постепенно юноша отвлёкся и стал смотреть на дорогу. Отец был прав, ждёт его впереди долгий и тернистый путь, и лучше не вспоминать прошлое, а устремляться мыслию вперёд, к новым свершениям и удачам. На душе почему-то стало спокойно и тихо.
На второй день Избигнев добрался до Галича.
Глава 14
Звенели яровчатые[125] гусли. Слепец-гусляр, перебирая тонкими перстами струны, пел стародавнюю песнь о былинных храбрах[126]. Притихшая гридница слушала, как выводил он неожиданно сильным звонким голосом рулады. Но вот окончил старик свою песнь. Оборвался полёт серебряных струн, тишина на короткие мгновения окутала огромную залу. Князь Владимирко широким жестом отсыпал в длань поводыря-подростка горсть золотых талеров.
Пир продолжился, зашумели бояре, в чары полился из ендов и братин тягучий мёд. Откупоривались бочонки со светлым и тёмным олом, били в серебро чар янтарные пенные струи, понеслись, как резвые скакуны в чистом поле, пышные славословия.
Радовались бояре и княжьи милостники. Рад был и князь Владимирко. Выкрутился, змеёй изогнулся, клятву преступил, но отвёл от Галичины беду хитрый князь. А значит, в целости останутся пашни, борти, угодья боярские, не вытопчут поля копыта вражьих коней, не полыхнут заревом хоромы и дворцы. Вот и хвалили бояре своего князя, превозносили до небес за «доброе охранение», за надёжную защиту. Славили его смекалку, его хитрость, его ум.
Быстро пустели и снова наполнялись чары. Обильные яства – свинина жареная, телятина на пару, лебеди, гуси, разноличная рыба, заморские фрукты – исчезали в бездонных желудках. А мёд продолжал литься тягучей вязкой рекой, развязывая всё сильней и сильней хмельные языки.
Появились скоморохи, задудели в дудки, забили в барабаны, закривлялись потешно. До слёз хохотали гости, глядя на их ужимки и маски-скураты[127].
Рядом с боярами – жёнки в ярких саянах, сверкают узорочьем платов, убрусов[128], высоких кик[129]. На почётном месте Млава – знали Владимирковы ближники, сколь велика власть этой молодой боярыни. Давно уже она – полюбовница Владимирки, и всегда слушает князь её советы, всегда потакает её прихотям. Не понравишься Млаве – больше и близко не подступишь ко княжьему двору.
Статная, в жемчужном очелье и парчовом летнике, с шёлковой перевязью-лором[130], переброшенном через плечо, вся в сиянии золота ожерелий, серьг, колец, Млава вела себя, стойно княгиня. Сидела вся важная, гордая, по правую руку от князя. Владимирко порой поглаживал её по белой холёной руке, Млава прищуривала, как сытая кошка, глаза и раздавала ближним боярам покровительственные улыбки.
Вот молодой Иван Домажирич, преподнёс он ей сегодня на поливном блюде два чеканных браслета. Молодец боярский сын! Знает, как продвинуться поближе ко княжьему столу.
А вот совсем ещё юный Коснятин, сын воеводы Серослава. Робеет отрок, жмётся к стене, подливает князю мёд из чары. Этого надобно будет Млаве приободрить, приголубить где-нибудь в переходе тёмном, сказать, чтоб смелее ступал по палатам дворца. Как-никак, отец его, воевода Серослав – сила в Галиче немалая.
Вдалеке в углу молча макает в пиво длинные усы супруг Млавы, боярин Лях. Тих, неприметен, не мешает своей жене властвовать у князя в терему, не учиняет дома криков и ссор, не ревнует. Видно, разумеет, что к чему. Имеет выгоду от жениной красоты. Доброго мужа подобрал Млаве Владимирко. За это она ему вдвойне благодарна. Не какая-то там вдова жалкая теперь Млава, а боярыня, мать семейства. Вон детишки – сыночки подрастают. А от кого они зачаты: от мужа, от князя аль от какого отрока, коего прислонила к стенке в переходе чёрной ночью, того и сама Млава не ведает.
…Княжич Ярослав пришёл в гридницу в самый разгар веселья. Сел возле отца, выпил чарку красного хиосского вина, отведал свежей телятины и голавля под сметанным соусом, извинился, молвил, что недосуг, торопится, и быстро покинул пир.
Давно приметила Млава, что и Ярослав, и дружки его молодые сторонятся шумных Владимирковых застолий. На неё, Млаву, смотрел княжич с едва скрываемым презрением. Единожды подловила она его в переходе, завела в закуток, стиснула в объятиях. Сказала прямо:
– Полюби мя, княжич. Тоскую. Отец твой уже немолод, боярин мой – и вовсе стар. А я, вишь, молода, горяча. Любви хочу.
Отодвинул её от себя Ярослав, усмехнулся, промолвил тихо:
– Отстань, изыди, сатана!
Крест положил и метнулся в темноту, только его и видели. Боялась Млава, что скажет отцу, да, видно, смолчал, себе же на пользу. Чуяла боярыня, непрост княжич. Чуяла такожде, что не люба ему молодая жена. Но как сыграть на этом, покуда не ведала. Да и Ольга оказалась не из простых. Хоть и подступала к ней Млава не раз с задушевными разговорами, не шла дочь Долгорукого на откровенность, молчала, поджимала уста. И знала Млава твёрдо: если что случится с Владимирком и сядет Ярослав на его место, в терем княжой путь ей будет заказан.
Пока же цвела, пользовалась своей красотой и своим положением боярыня, хохотала заливисто, подымала чарку, ударялась в пляс на весёлом пиру.
…Далеко за полночь закончилось шумное застолье. Кто из бояр тут же, в зале, на лавке храпел, упившись, кто под лавкой лежал, а кто кое-как доплёлся до крыльца и, рухнув в возок, крикнул возничему: «Гони! Домой!»
Опустела гридница. Стольники уносили на поварню недоеденные яства и посуду.
Князь Владимирко, перешагивая через тела, выбрался на гульбище. Глотнул полной грудью чистый ночной воздух, притянул к себе вовремя оказавшуюся рядом Млаву, заговорил, глядя в звёздную высь:
– Вот Мстиславича побьём, заживём! С ромеями, с немцами торг наладим, в шелках и паволоках у меня ходить будешь! Голубица моя! Как тебе плат звёздчатый, подарок мой давешний? По нраву? Звёзды на нём вытканы, яко на небе.
– Ох, по нраву, княже! – промурлыкала довольная боярыня. – Мне б ещё ожерелье янтарное! Бают, на море Варяжском[131] сей камень находят.
– Будет ожерелье! Заказал купцам нашим.
– А ещё багрянец бы, яко у царицы греческой! И мафорий хочу. Давно ить[132] обещал.
– Ненасытная ты! – Владимирко нахмурился.
Видя, что князь начинает сердиться, Млава тотчас спохватилась и добавила:
– Да всё то не к спеху. Нощь на дворе. Пойдём, княже мой возлюбленный, в ложницу.
Владимирко, как лёг в постель, так тотчас и захрапел. Млава, полежав немного, бесшумно поднялась и метнулась со свечой в руке в коридор. Шла осторожно, оглядываясь по сторонам. На пороге гридницы молодой Коснятин Серославич тушил свечи в огромном семисвечнике на стене.
– Пойдём со мной, отроче.
Нежные женские руки обхватили оробевшего боярчонка. Млава настойчиво потянула его за собой в темноту.
Часы до рассвета они провели в крохотной каморе на верхнем жиле. Уже под утро Млава засобиралась, ласково шепнув Коснятину:
– Чтоб князь не прознал, пойду. Вот тебе ключ от сей каморы. Заутре приходи. Сладко с тобою. Ну, прощай, мальчик мой. – Она потрепала его по щеке. – И помни: я доброты не забываю.
Она задорно хихикнула и, шурша дорогим платьем, скрылась за дверями.
Коснятин начал медленно одеваться. Голова болела после бессонной ночи. Он раздумывал, стоит ли приходить сюда ещё, или лучше остеречься. Вдруг кто что проведает, скажет князю.
Впрочем, днём сомнения воеводского сына разрешились сами собой. Князь вызвал его к себе, протянул грамоту и властно приказал:
– Даю тебе, Коснятин, двоих гридней в помощь. Выбери на конюшне добрых коней. Скачи в Суздаль, к свату моему, князю Юрию. Передай на словах: пора ему выступать на Киев. Настал час удобный. Да, и Изяславовых людей на пути берегись. Гридней даю тебе опытных, каждую тропку на Руси знают. Так что скачи, и не мешкай. Дела того требуют.
Коснятин сжимал в руке свиток с серебряной печатью, кланялся князю в пояс, пятился к двери.
На душе у него наступило даже некоторое облегчение. Казалось, уж проще мчаться через всю Русь в далёкий Суздаль, чем рисковать головой в объятиях княжеской полюбовницы.
Сын воеводы не догадывался, что как раз Млава и предложила князю именно его послать к Долгорукому.
Глава 15
Старик Нехемия дело своё знал. Вместе с Избигневом пришёл он поутру в княжеские хоромы, пошептался на сенях с дворским[133], затем подозвал жестом застывшего в ожидании у дверей отрока, молвил дворскому:
– Вот Ивана Халдеевича сын. Ты, боярин, помоги ему. В накладе не останешься.
Нехемия быстро исчез, словно растворился в воздухе. Дворский же провёл Избигнева вверх по лестнице на третий, самый верхний ярус хором.
Так очутился Избигнев в княжеской палате.
На стене красовались раскидистые лосиные рога и майоликовый[134] щит, рядом висела длинная алебарда с окрашенной в красный цвет рукоятью. Другую стену покрывал персидский ковёр. Лавки были обиты рытым[135] бархатом.
На одной из них сидел княжич Ярослав.
– Садись, отроче, – указал он на лавку напротив. – Стало быть, Ивана Халдеевича ты сын младший. Ты и на Сане был, в сече рубился? И на переговоры ездил? К королю Гезе? Так в грамотице твоего отца писано.
– Всё верно, княжич. Вот, отец меня к тебе отправил.
Избигнев смущённо развёл руками.
– И правильно сделал. Преданные и умные слуги любому князю нужны. Жаль, отец мой окружил себя одними подхалимами. А тем лишь бы пиры учинять да сребро из княжьих рук получать, да гривны воеводские.
Ярослав и Избигнев смотрели друг на друга, словно примеривались. Видно, понравился княжичу отрок. Да и Ярослав, улыбчивый, спокойный, внимательный, мягкий с виду, сразу пришёлся Избигневу по душе.
Говорил он прямо, открыто:
– Не по нраву мне, что не хочет отец отдавать Изяславу городки. Как бы новой войны не вышло. Нынче послал он людей ко князю Юрию в Суздаль, а сам рати готовит на Киев. Вот так. Опередить хочет Изяслава. Может, оно бы и правильно было, да не верю я в тестя моего. Медлителен он, излиха веселью, пьянству и блуду подвержен. Так вот, Избигнев. Ты вот мне отмолви, как думаешь, прав ли мой отец?
– Если бы князь Юрий на Киев пошёл, и вборзе, тогда да, верно князь Владимирко деет. А если нет… – Избигнев развёл руками. – Для чего тогда договор учиняли?
– Вот то-то же, – вздохнул Ярослав.
В дверь палаты просунулась рыжая голова Семьюнки.
– Чего сидеть тут, киснуть, Ярославе. Лето на дворе, солнце светит. Айда на Гнилую Липу. Искупаемся, рыбки нажарим. Может, девок каких сыщем. Дело молодое. И отрока сего, – он подмигнул Избигневу, – с собой бери!
– И вправду. Подождут дела, – княжич решительно поднялся с лавки. – Пойдём, Избигнев.
…На вымоле у берега Луквы они забрались в небольшую лодку. Под дружными взмахами вёсел утлое рыбачье судёнышко стремительно понеслось через быстрый Днестр. Сильное течение относило его вниз, как раз к устью Гнилой Липы.
Солнце палило нещадно, из-под войлочных шапок градом катился пот. Вода искрилась, отливала яркой голубизной. Далеко, за противоположным правым берегом серебрились свинцовые маковки галицких церквей.
Днестр бурлил, шумел на перекатах, бил волной в борта, грозился перевернуть лодку, но Семьюнко и Ярослав своё дело знали. Не один раз плавали они в здешних водах, ведали, где на Днестре опасные водовороты, где омуты топкие, а где на камни подводные можно невзначай налететь.
– Правее держи! Вот сюда! – указывал рыжеволосый молодец Избигневу. – Так! Молодцом!
– Сейчас со стреженя сойдём, там легче будет, – оборачиваясь, говорил сидевший впереди княжич. – Вон уже и Гнилая Липа.
После довольно долгого качания на волнах лодка уткнулась носом в песчаный берег.
У реки зеленели толстоствольные липы, кое-где меж ними выглядывал стройный граб. Щебетали птицы. Ощущение было такое, что они очутились в раю. Избигневу после унылых свиноградских болот всё здесь было в диковинку, он зачарованно глядел по сторонам.
Вместе с Семьюнкой они принесли хворосту, развели костёр, острогою наловили немного мелкой рыбы.
– Её здесь хоть руками лови, – говорил Ярослав.
Семьюнко достал из лодки заранее припасённый котелок. Вскоре закипела в нём наваристая ушица.
Трое молодых людей сидели допоздна у костра, хлебали ароматное варево, вели откровенные разговоры обо всём, что придёт в голову.
Три человека, три в недалёком будущем державных мужа, от которых во многом зависела судьба Червонной Руси. Пока они ничего этого не знали, им хотелось быть сейчас просто молодыми людьми, радоваться ясному солнечному дню, тихому тёплому вечеру и вкусной ухе.
Увы, немного ждёт их впереди таких спокойных вечеров.
Глава 16
Весь пропитанный пылью дорог, пропахший духом лесных вятичских[136] дебрей, молодой Коснятин Серославич возвратился в Галич на исходе лета. Говорил на совете у Владимирки, рассказывал, бросая короткие отрывистые фразы:
– Князь суздальский Юрий Владимирыч… собрал рати на Киев… Союз заключил с рязанскими и муромскими князьями… вошёл в землю вятичей… С ним и половцев немало идёт… Которые меж Волгою и Доном кочуют… Пошёл далее князь Юрий на Мценск, на Вщиж да на Глухов… Оттуда я к тебе, княже Владимирко, поскакал вборзе. О сём велено тебе передать.
Получив добрую весть, Владимирко решительно ударил руками по подлокотникам стольца и, вскочив, объявил боярам:
– Сей же час рати готовлю. Прямо на Киев иду, покуда Изяслав не ждёт. Обложим его с князем Юрием, яко медведя в берлоге!
Он ободрился, отошёл от недавнего поражения под Перемышлем, чуял свою силу, предвкушал скорый успех.
Напрасно некоторые бояре остерегали его, отговаривали от войны.
– Обожди. Лиха бы не было, – качал седой головой старый Гарбуз.
На сей раз сторону его принял Домажир, обеспокоенный судьбой Шумска, в котором посадничал его сын Иван.
Сомневался в верности княжьего решения также опытный воевода Тудор.
Прочие поддержали князя.
Спустя несколько дней конная галицкая рать выступила на Киев. Громыхали доспехами дружинники, сверкали на солнце баданы[137], чешуйчатые и дощатые панцири, зерцала[138], шишаки, мисюрки, секиры, мечи и сабли в узорчатых чеканных ножнах. Реяли в воздухе прапоры с золотистым львом на светло-голубом фоне. Торжественно гудели боевые трубы, звенели литавры.
Но… как ушла рать, так и воротилась назад спустя седьмицу. Так же сияло оружие и доспехи, реяли стяги, но в литавры не били, не было слышно и звуков труб.
Князь Владимирко, на ходу с раздражением срывая с себя шишак с меховым подшлемником и расстёгивая фибулу на алом плаще-корзне[139], бросился к себе в палату. Тотчас он вызвал к себе сына.
– Что стряслось, отче? – хмурясь, спросил Ярослав, видя, что отец гневен и бледен.
– А то, что ты был прав! – рявкнул Владимирко. – Зря я за сего Юрия держусь! Раззява он! Нет, ты подумай, какая сволочь!.. – Он неожиданно разразился проклятиями: – Олух! Болван! Пьяница!
– Успокойся, отец. Сказывай, что там у вас случилось?
Владимирко в бешенстве рванул ворот суконной вышитой узорами рубахи.
– Пошёл я, стало быть, на Киев, как уговаривались, и узнаю вдруг: Изяслав супротив меня со всей своей ратью идёт. Вопрошаю, где ж Юрий? Шлю гонцов, те возвращаются и передают: в Глухове тестюшко твой веселится. Вина тамо и меды рекой многоводной льются. Ну, я тут и не выдержал. Повернул рати обратно в Галич. Помысли, сын! Третий раз уже я из-за Юрья великий труд учинил и один токмо убыток понёс! Нет, более я за него воевать не хочу! Своё удерживать – да, стану! Ни пяди земли Изяславу не отдам! Но тесть твой отныне пускай другого себе помощника ищет!
– Что ж делать будем? – спросил Ярослав.
Он понимал, что Галичу грозит новая война с Киевом.
– Покуда сожидать придётся, и рати наготове держать. А там как Бог рассудит.
Владимирко устало откинулся на спинку лавки, крикнул челядинца, велел подать ола.
Крупными глотками отхлёбывал из оловянной кружки пенистое пиво, смотрел на молчавшего сына, вдруг сказал:
– А не дурак ты у меня! Вот токмо твёрдости тебе недостаёт. Но, надежду имею, с годами и то придёт. Даст Бог, оставлю тебе после себя владенья обширные, людьми и добрыми пашнями богатые. Так ты нажитое мной береги, помни: немало пота пролил я, собирал по крупицам Русь Червонную. Вот тебе мой наказ.
– Ты что, отец, помирать, что ли, собрался? – удивлённо вскинул взор на Владимирку сын. – Поживёшь ещё. Не старик, чай.
– Один Господь ведает, Ярославе, сколь кому лет на белом свете отмерено, – тяжко вздохнул галицкий владетель.
Ярослав смолчал. Нечего было ответить на отцовы слова. Видел только во взоре Владимирки, столь часто гневном, строгом, некую тоску. Отчего-то жалко стало Ярославу отца.
…На Руси было неспокойно. Снова двигались куда-то конные дружины, снова громыхали доспехи, снова звенело оружие.
Затаился Галич в тревожном ожидании. Как перед грозой: показались из-за окоёма уже чёрные тучи, и ждёшь, что вот-вот сверкнёт яркой вспышкой молния, разрезая стрелой небосвод, громыхнёт за нею вослед раскат и засвищет, пригибая к земле тонкие стволы дерев, разбойный злой ветер.
Время котор[140], время крамол, время нескончаемых кровопролитий! И когда же настанет ему конец!
Глава 17
Осень и зима после бурных событий конца весны и лета выдались на Галичине спокойными. Собран был крестьянами на княжьих и боярских рольях обильный урожай пшеницы, ячменя и ржи. Амбары и бретьяницы[141] ломились от зерна и муки. По Днестру вниз под охраной оружных дружинников отплыл с товарами большой торговый караван. Везли мёд, зерно, скору[142]. Быстроходные струги и хеландии[143] под разноцветными ветрилами[144] держали путь в болгарскую Месемврию и далее в Константинополь.
Пройдёт время, и воротятся купцы в Галич с греческими тканями, будет во что одеть знатным горожанам своих жён. Да и иного добра немало привезут с собой торговые люди: будет и оружие, и заморские фрукты, и вина, и диковинные звери пополнят княжеские загоны.
А пока наползли с Карпат мохнатые снеговые тучи, оделась земля белым покрывалом, загуляли по холмам Подолии свирепые метели. По зимним шляхам поскакали в города и веси скорые гонцы, принося с собой вести, когда желанные, когда тревожные, а когда попросту ненужные.
В такую пору князь Владимирко и его приближённые учиняли охоты, стреляли в лесах зайцев, уток, иной раз выходили и на крупного зверя. Ярослава в эту зиму охота почему-то не занимала и не радовала, больше просиживал он вечера за книгами. Сам перевёл с греческого часть Хроники Георгия Амартола, послал свой перевод в Киев, в Печерскую лавру, хотел, чтобы тамошние монахи посмотрели и оценили его труд.
Хотелось большего. В хоромах Ярославу становилось как-то тесно, но выезжать на ловы, рыскать по лесам в поисках зверя тоже не было ни малейшего желания. Семьюнко – тот носился вместе с дружиной, возвращался всякий раз с ловов разгорячённый, румяный, свежий, подробно рассказывал, где на сей раз охотился, какого зверя видел, какого добыл.
Избигнев – тот больше находился около Ярослава. Оказалось, молодой воеводский сын неплохо говорил по-гречески, знал латынь и венгерский. И книг был Избигнев любитель, так что коротать с ним время доставляло княжичу немалое удовольствие.
Беда грянула на исходе зимы. Из Киева с договорными грамотами приехал в Галич боярин Пётр Бориславич.
Стоял в горнице перед Владимирком, вальяжно развалившемся в высоком обитом голубой парчой кресле, обводил взором сидящих вдоль стен бояр, говорил резко, громко, чуя за своей спиной всю силу Киева и союзных ему земель.
– Клялся ты на кресте, что вернёшь князю Изяславу Мстиславичу города Бужск, Гнойницу, Тихомль, Выгошев и Шумск. О том был меж нами и такожде королём угорским заключён договор. И грамоты сии были составлены и утверждены. Ты же городков тех не отдал и по сию пору. Потому требует князь Изяслав Мстиславич, чтоб воротил ты немедля города, неправо отданные тебе Юрьем Суздальским в бытность его в Киеве. Также велено сказать тебе, княже Владимирко, что летом давешним ты, с войском идучи, многие области киевские разору подверг. Но то согласен князь Изяслав тебе простить, токмо ежели города вышеупомянутые ты воротишь. Тогда миром дела наши уладим. Не хочет бо князь Изяслав войны.
Пётр стоял перед Владимирком, весь исполненный достоинства, в розового цвета кафтане с узорочьем по вороту и широким рукавам, с золотой гривной на шее, в шапке с парчовым верхом. Держался спокойно, уверенно, гордо вздёргивал голову, хоть и видел, что слова его Владимирка не пронимают и что не согласен на условия Изяслава упрямый галицкий владетель.
Владимирко внезапно рассмеялся послу в лицо.
– Брат мой Изяслав слишком многого захотел. Не подавился бы городками моими.
– Что же, князь? Выходит, не намерен ты городки отдавать? Не желаешь условия договора исполнять? – спросил Пётр.
– Не намерен! Мои се городки! Пусть на чужое не зарится князь твой! – Владимирко, внезапно разгневавшись, вскочил на ноги.
– Что ж. Вот тогда тебе грамоты мирные. – Пётр положил на стол перед князем два харатейных свитка. – Порушил ты, князь, клятву свою и ряд. Отныне меч нас рассудит.
– Ах, вот как заговорил, боярин Пётр! – загремел Владимирко. – Скажи тогда князю Изяславу: он на меня ворогов иноземных, угров, навёл! И области мои с ими вместях разорил! Сёла пожёг, поля повытоптал! И я теперь, как смогу, ему за то отомщу! А про городки погорынские и Бужск пусть забудет!
Лицо боярина Петра, доселе спокойное, покрыл багрянец возмущения. Довольно молод был ещё Бориславич, тридцать три года недавно стукнуло. Вот и не сдержался, крикнул Владимирку в ответ:
– Брату своему крест ты целовал! А топерича мстить неправо хочешь! Бог тебя наказует, князь! Опомнись, помысли, что глаголешь!
Владимирко, выслушав гневную отповедь, вдруг сразу остыл, сел обратно в кресло. Лицо его исказила полная лукавого презрения ухмылка.
– Ишь ты! О кресте вспомнил. Да мал тот крест был. И не крест вовсе, а так – крестик!
Кто-то из бояр, кажется, Лях, тихо засмеялся. За ним вослед загоготал Домажир.
Гул одобрения прокатился по горнице. Но боярин Пётр уже овладел собой. Он спокойно возразил Владимирку:
– Да, князь, мал был тот крест. Токмо не в том суть. Велик ли он, мал ли, но сила Божья во всех крестах равная. И ещё. Полагаю, ежели что князь сказал, так то и без креста должно быть твёрдо и велико. Вспомни, что тебе о кресте том говорил король Геза.
Владимирко с раздражением оборвал посла:
– Король, что хотел, то тогда и говорил! Его была перемога[145]! А ты ныне ступай вон! Надоел! Ещё учить меня вздумал! И передай князю свому мои слова! Вон!
Князь снова неожиданно сорвался в крик.
– Эй, дворский! Отроки! Гоните его взашей со двора! Подвод и коней не давать! Пускай на своих езжает!
Он топнул в негодовании ногой.
Пётр Бориславич молча поклонился ему в пояс и, оставив грамоты, вышел.
В палате большинство бояр шумно поддержали князя.
– Воевода Серослав! Заутре же на киевскую дорогу сторожей[146] пошли! Сожидать будем ворога! – приказал Владимирко. – И дружине вели мечи точить и кольчуги чистить!
…Ярослав наблюдал за приёмом киевского посла сверху, через одно из маленьких оконцев по соседству с палатами бабинца[147].
– Господи, что он глаголет! – шёпотом словно сами собой шептали уста княжича. Стало страшно. Как мог его отец, вот так легко, нарушить данную на кресте клятву, преступить через крестное целование. И эти Домажиры и Серославы, неужели они не понимают ничего?! Что может быть ужасней кары Господней! Вспоминались книги Ветхого Завета, пламенные речи пророков, в горле стоял ком.
Княжич бросился было вниз, он хотел остеречь, остановить отца, задержать посла. Но вдруг понял тщету своих усилий. Эти горластые бояре попросту не дадут ему ничего сделать. От осознания собственного бессилия он беззвучно разрыдался, рухнув на лавку и обхватив руками голову.
Прервал его отчаяние колокол придворной божницы святого Спаса. Наступило время вечерни.
Быстро умывшись, Ярослав поспешил на молитву.
С переходов, ведущих на хоры церкви, был хорошо виден шлях, широкой полосой проходящий через нижний город к восточным городским воротам и далее к мосту через Днестр. И в этот час как раз медленно ехал по нему на усталых некормленых конях боярин Пётр. Увидав его, князь Владимирко, смеясь, сказал боярам:
– Вот посол Изяславов, взяв все мои городки, в Киев повёз!
Дружно хохотали над удачной шуткой льстивые бояре.
…Когда возвращались они после молитвы в хоромы, на том же самом месте Владимирко вдруг резко остановился.
– Ах! Кто это меня ударил за плечом! – возопил он.
Но сзади никого не было.
Князь попытался обернуться, но шатнулся и полетел вниз со ступенек. Двое гридней и церковный служка подхватили морщившегося от боли галицкого владетеля.
– В горницу несите его! Вборзе, раззявы! – прогремел воевода Серослав.
Ярослав увидел отца уже лежащим на постели. Владимирко бредил, лицо его, мертвенно-бледное, было перекошено от боли. Он шептал что-то неразборчивое. Вокруг суетились лекари, в покое стоял запах целебных трав.
– Выйдите все! – распорядился Серослав.
Седые усы воеводы грозно топорщились. Казалось, вот сейчас выхватит он из ножен меч и будет защищать своего князя от невидимого врага.
Ярослав остался стоять в переходе. Тело его пробирала дрожь. В голове пронеслось:
«Вот оно, наказанье Божье! Порушил отец клятву, преступил через крест святой, и теперь…»
Стало ещё страшнее, чем там, наверху. Он истово перекрестился. Не было ничего – один холод, одно опустошение. Ледяными перстами княжич ухватился за косяк двери. Стоял, слыша, как стучит в груди от волнения сердце.
«Неужели… Столь скоро… И я останусь один… С этими боярами… Ну почему один? А Избигнев! А Семьюнко! А воевода Тудор Елукович!.. А дядька Гарбуз! Они все мне помогут… Но князь теперь, владетель Галича, глава всей Руси Червонной – я! А рядом Киев с этим зверем Изяславом! Но почему зверем?! С ним, верно, можно и поладить… Почему князь Святополк отпустил тогда Семьюнку?.. Время ли о том думать?!» – Ярослав одёрнул сам себя и тряхнул русой головой, словно норовя отогнать ненужные в такой час мысли.
– Да что с им?! Пустите меня! – расталкивая челядь, спешила к Владимирку вся размалёванная, в ярких одеждах Млава.
Ярослав заступил ей дорогу, злобно процедил в круглое румяное лицо:
– Поди отсюда, боярыня! Не до тебя! Бог покарал отца моего за порушение роты! Поняла?!
Млава было возмутилась, но вдруг вмиг притихла, будто испугавшись Ярослава и его слов. Зашмыгала носом, прослезилась, прянула прочь.
Воевода Серослав положил длань Ярославу на плечо.
– Кончается отец твой. За попом послали. А покуда тебя кличет.
…Владимирко метался по постели. Ярослав сел у изголовья, напряжённо вслушиваясь в едва различимый шёпот. Приподнявшись, он прильнул ухом к отцовым устам.
– Сын мой… Тебе… оставляю… Галичину… Береги её… Юрьевичей… не держись… Слабы они тут… на юге… С уграми… мир твори… С Изяслава… сынами… мирно живи… Я… я… неправо деял… Крест… крест с мощами… серебряный… малый… сила велика… Наказуем за се.
Князь бессильно откинул голову на подушки. Его окладистая пшеничная борода поднялась кверху.
Ярослав, чувствуя, как тело его дрожит от напряжения, повалился обратно на стул.
«А что бы мать моя молвила, если бы была жива? – подумал он вдруг. – Да я ведь её и не знал. Сестра старшая – та её помнит. Спрошу у неё… А что ответит? Господи, что опять за мысли?!»
Княжич ужасался сам себе. Он вдруг понял, почему эту зиму так тосковал, сидя в терему. Он ждал, подспудно ждал, что вот-вот освободится от отцовой опеки и расправит крылья. Но расправит ли?
Пришёл священник, князя готовились соборовать.
– Я пойду, отче, – прошептал Ярослав.
– Иди… Прощай, сын, – слова Владимирки прозвучали неожиданно громко.
Ярослав вздрогнул и поспешил назад в переход.
Долго стоял со свечой в руке, дрожал всем телом, озирался по сторонам. И не заметил княжич, как подошёл к нему снова воевода Серослав.
– Князь Владимирко Володаревич преставился! – объявил он громко.
Тут только, до конца осознав, что случилось, Ярослав не выдержал и разрыдался, уронив голову на плечо оказавшегося рядом старика Гарбуза. Дядька успокаивал, гладил его широкой ладонью по русым волосам, говорил:
– Тихо, тихо, княже… Ты не плачь… Всё в руце Божией… Князь ты отныне… Твоё время пришло, Ярославе…
Почти те же слова говорила ему ночью Ольга.
Не до сна было, сидел Ярослав на лавке в смежной с ложницей утлой каморе, писал грамоты.
Первым делом он снарядил гонца вслед боярину Петру, велел, чтобы киевский посол никуда не уезжал, а ждал его приказаний.
Затем, уняв, наконец, дрожь в пальцах, начертал две короткие грамотки сёстрам. Утром понесутся с горестной вестью скорые гонцы в Краков – к Анастасии и в Познань – к Евдоксии.
После подозвал Ярослав Ольгу, велел ей:
– Садись, отпиши отцу своему. Пускай ведает, что у нас тут створилось.
– Плохо я пишу, – призналась откровенно Ольга. – Ты бы сам лучше… того.
– Ладно. Уйди, – Ярослав недовольно скривился. – Тоже мне, княгиня галицкая! Стыд один! Ступай покуда. Оставь меня одного.
Шурша платьем, Ольга послушно скрылась в ложнице. Вскоре до ушей Ярослава донёсся её мерный храп.
Молодой князь просидел без сна до рассвета. Думал о будущем, тревожился, вспоминал давнее и недавнее прошлое. Страх прошёл, схлынул, но возникло внезапно ощущение, словно некая сила тяжкая навалилась ему на плечи и давила, яро, зло, не позволяя распрямиться.
После он понял: сила эта была – власть. Хоть и ждал, и готовил себя, а в одночасье пришла она к нему, пришла и требовала – мой ты, мой! Служи мне!
…Князь Владимирко Володаревич умер в возрасте 58 лет. После себя оставил он сильное, богатое пахотной землёй и людьми княжество, но находилось оно в те дни накануне новой большой войны.
Глава 18
Ярослав принимал Петра Бориславича в той же палате, где ещё вчера издевался над киевским посланником его отец.
Он сидел на отцовском троне в чёрном клобуке и в чёрной епанче, а бояре, намедни[148] столь оживлённые, теперь в таких же траурных одеяниях горестно безмолвствовали на лавках вдоль стен. Многие скорбно опускали взоры.
В палате висела напряжённая тягостная тишина. Пётр Бориславич, ничего не знавший ещё о смерти Владимирка, недоумённо озирался по сторонам. Княжеские слуги поставили ему столец и усадили напротив Ярослава.
Молодой князь хотел было начать речь, но тут подступил к его горлу тяжкий ком. Слёзы покатились из глаз.
Пётр, всё ещё ничего не понимающий, тихо осведомился у боярина Домажира:
– Что всё сие означает?
– Ночью сей Бог взял князя Владимирка Володаревича, – коротко отмолвил как всегда важный степенный Домажир.
– Странно. Когда отъезжал я, князь ваш жив был и здоров! – изумился Пётр.
Он не поверил в случившееся. Казалось ему, Владимирко хочет обмануть его и приготовил какую-то свою очередную хитрость.
– Что-то в плечо его ударило, как с вечерни возвращался. Стал он от того сильно изнемогать, и Бог взял его, – в двух словах объяснил Домажир.
Пётр цветастым платом вытер со лба проступивший пот, перекрестился и прошептал:
– Воля Божья да будет! Всем нам там быть.
Глядя на лица Ярослава и бояр, он наконец-то поверил, что всё услышанное им здесь – сущая правда.
Тем временем Ярослав понемногу пришёл в себя. Утерев слёзы, со скорбью глянул он на киевского посла и объявил ему:
– Мы тебя, боярин Пётр Бориславич, призвали вот зачем. Бог проявил свою волю, как Он хотел. Теперь поезжай к отцу моему Изяславу и от меня ему поклонись, и передай ему следующее:
«Бог отца моего взял, и теперь ты будешь мне вместо отца. Ты сам знаешь, что было меж тобою и отцом моим, но то всё Бог уже рассудил. Он отца моего взял, а меня на его место поставил. Теперь, отец, кланяюсь тебе. Прими меня как сына своего Мстислава. Пусть ездит Мстислав подле твоего стремени по одной стороне от тебя, а я по другой стороне буду ездить со всеми своими полками».
Умолк князь, снова слёзы полились у него из глаз. Глядя на него, расчувствовался и обронил слезу и Пётр.
Тягостная тишина вновь воцарилась в палате. Потрескивали свечи. Из кадильниц, расставленных в нескольких местах на полу, курился фимиам.
Ярослав, удержав рыдания, велел выдать Петру свежих коней, корм и подводы. Посла отправляли по чести, а о городках погорынских речи покуда не вели – не до того было.
В притворе домовой церкви святого Спаса в морморяной[149] гробнице покоилось тело Владимирка. Возле гроба поместили, по старому славянскому обычаю, копьё и меч.
Скорбь и горе читались на лицах приближённых галицкого владетеля, тех, кто получал от него милости. Пётр Бориславич некоторое время постоял перед гробом, в полутёмном притворе, думая о том, сколь же велика Сила Божья.
После он напишет в своей летописи:
«Нужно стремиться к тому, чтобы с добрыми делами и с честью кончить жизнь. Особенно князьям следует быть осмотрительными в своих делах державных, ибо, помимо того, что сами князья могут ошибаться, как и прочие люди, но положение их подаёт дурной пример их подданным. Губят князья много невинных людей и разоряют, забывая, что они должны держать ответ перед Богом».
Уехал боярин Пётр, и вслед ему кружила зимняя пурга, заметая снегом широкий шлях.
Выл за окнами бешеный ветер. Страшно становилось Ярославу, он сидел в палате один, отпустив бояр, и думал. Отцовым путём идти далее не хотелось. Укреплять Русь Червонную, добиваться самостоятельности, отстаивать независимость своего княжества – на это он готов был и жизнь положить, но отцовы методы, его жестокость и алчность – такого молодой Ярослав не принимал и принять никак не мог.
После он поймёт, что надо быть князю и хитрым, и коварным, а где-то – и жестоким, что иначе нельзя. Но покуда душа его не принимала ничего этого, было тяжело, невозможно, дико мыслить сейчас о земных заботах. Чувство было такое, что соприкоснулся он с вечностью и узрел, сколь же малы все они, люди, сколь ничтожны дела их по сравнению с Богом, с Божьей Силой и Волей.
Снова текли слёзы, снова тело содрогалось от рыданий. Ярослав прошёл в свой покой, упал ниц перед иконой Богородицы, зашептал молитву.
И, о чудо, слёзы высохли как будто в одно мгновение, дрожь в членах исчезла. И когда встал Ярослав с колен, уже не юноша робкий, а державный муж взирал на лик Богородицы, и думалось уже как-то проще, без отчаяния и надрыва душевного:
«Да, так должно быть. Таков мой крест. К сему я готовился, сего ждал. Вот и настал час».
Глава 19
Две сестры Ярослава, Анастасия и Евдоксия, обе в долгих чёрных одеяниях, сидели на лавке в братнем покое. Богородица, словно мать родная, простирала над ними длани. Ярослав говорил сёстрам ласковые слова о любви, о том, что их отец, несмотря на многие беды, сохранил в целости обширное Галицкое княжество и что он будет впредь его укреплять и сёстрам своим всегда и во всех делах постарается стать опорой.
Слова звучали фальшиво. Евдоксия всё время плакала и вытирала своё миниатюрное лицо платочком.
«Совсем как девочка, – подумал про неё Ярослав. – Не изменилась нисколько за без малого три лета».
Евдоксия была младше Ярослава на год, вскоре после её рождения скончалась их мать София, дочь Коломана Венгерского. Ни Ярослав, ни Евдоксия матери не помнили.
Молодой князь с тихим горестным вздохом опустился на скамью напротив сестёр. Заполонили душу его воспоминания, словно наяву вставали перед взором незабываемые картины детства и отрочества.
…Князь Владимирко в 1124 году от Рождества Христова получил в наследство от своего отца Свиноград, тогда как младший брат его, Ростислав Володаревич, сел на стол в Перемышле. Недолго жили братья в мире, почти сразу же по смерти отца вспыхнула между ними распря. На стороне Ростислава выступили два брата Васильковича, Владимирко же прибег к помощи угров. В ссору владетелей Западной Руси поспешил вмешаться киевский князь Мстислав, сын Мономаха, грозным окриком из стольного велев, чтобы княжили Владимирко и Ростислав в городах, которые завещал им отец. Но братья не желали мириться, причём зачинщиком ссоры стал Владимирко. Тогда Мстислав послал на Червонную Русь оружные рати.
Струхнув, князь Владимирко бежал в Угры. Вместе с ним отправились туда ближние его советники, а также беременная жена и дочь Анастасия. В венгерской столице Эстергоме[150] княгиня София родила сына. Так появился на свет он, Ярослав. Мир на Червонной Руси вскоре был восстановлен, княжеская семья вернулась в Свиноград, а пару лет спустя, после неожиданной кончины Ростислава, Владимирко овладел и Перемышлем.
Первые детские воспоминания Ярослава связаны были с Перемышлем, смутно помнил он, как мамка – полногрудая страдающая одышкой венгерка, таскала его на пристань на берегу Сана, где тянулись долгой чередой соляные склады. Здесь было шумно и людно, отовсюду раздавалась многоязыкая речь. Испугавшись огромного горбатого верблюда, маленький княжич спрятался в складках мамкиной юбки и тихо плакал, размазывая по щекам слёзы.
Запомнил он также и постриги свои, и подстягу – обряд посвящения в воины, когда дядька, боярин Гарбуз, усадил его на коня, а отец, улыбающийся, наряжённый в саженный самоцветами драгоценный кафтан, в горлатной шапке[151], провёз его вокруг двора. Маленький Ярослав от страха закрывал глаза.
Учиться грамоте его посадили в семь лет вместе с молодшей сестрой. Занимались они вроде бы прилежно, хотя непоседливая сестра без конца дразнила его, показывала язык, колола булавками. Решив отомстить ей, Ярослав выкрал у учителя-монаха Никодима лист дорогого пергамента, назначенного не для уроков, но для дел более важных – переписки книг, начертания грамот, ведения летописей, нарисовал на нём уродливую рожицу с острыми зубами и косичкой, схожей с крысиным хвостом, и подписал: «Се – Евдоксия». Девочка разревелась от обиды и пожаловалась отцу. В тот день Ярослава впервые подвергли порке, причём порол его сам Владимирко, а вслед за тем заставили просить у сестры прощения.
Анастасия была старше его на пять лет, и когда Ярослав с Евдоксией ещё только начали постигать грамоту, она уже числилась в невестах и ходила в красивых одеждах. Всегда надменная, высоко держащая голову, старшая сестра едва замечала их, а заметив, пренебрежительно кривила губки – что, мол, взять с вас? Дети всего лишь.
Евдоксия и Ярослав были друг на дружку похожи, оба русоволосые, кареглазые, с прямыми тонкими славянскими носами. Глаза, как говорили, достались им от матери, а носы и волосы – от отца. Старшая сестра совсем не походила на них – это была синеглазая курносенькая блондинка, к четырнадцати годам сильно вымахавшая в росте, с уже выпирающими из-под нижней сорочки округлостями грудей. Меж кумушками в тереме ходили слухи, что «сблодила покойная княгиня» с одним тиуном – чудином. Никого ибо в роду ни у Владимирки, ни у королей венгерских такового не было николи – белокурого да курносого. Тем не менее отец сильнее младших чад Анастасию любил и баловал; всякий раз, возвращаясь из похода, щедрой рукой дарил ей то паволоки, то сукно на сряду[152]. Однажды привёз из болгар диковинки – красные кожаные сандалии, серский[153] шёлк на платье и шёлковый же мафорий. Платье княжне пошили в короткий срок, и хаживала теперь по терему перемышльскому юная девица, ставшая ещё более надменной и напыщенной, стараясь как можно чаще напялить на себя весь этот пурпур. Выступала павой, при виде Ярослава, которого отец воспитывал в строгости и велел носить только самую простую одежду – посконную[154] рубаху да расширенные у колен порты, морщилась с нескрываемым презрением. Иной раз ткнёт в бок или в живот, засмеётся, глядя на его недовольное лицо, скажет: «Яко смерд[155], ходишь. Словно и не сын княжой вовсе».
«Расфуфыренная фуфырка» – так в шутку прозвали Анастасию при дворе Владимирки, так порой и отец её называл, привозя любимой дочери очередной дар.
Единожды в летнюю пору, в жару решил отрок Ярослав искупаться в Сане. Река узенькой змейкой извивалась меж холмов, бурлила на перекатах, и княжич старался не уплывать далеко, держаться близ берега. Выйдя из воды, невзначай столкнулся Ярослав с незнакомым мальчиком, явно не из семьи княжеской челяди или Владимирковых бояр.
– Ты кто?! – вопросительно уставились на княжича лукавые зелёные глаза. Волосы у мальчика были ярко-рыжего цвета.
– Я – Ярослав.
– Выходит, ты сын княжеский. А я – Семьюнко. Отец мой солью промышляет, возит из Коломыи.
– Вот как!
– Послушай, Ярославе. Давай с тобою дружить! – предложил рыжий.
Так началась дружба Ярослава с сыном купца Изденя. Князь Владимирко вначале этого не одобрял. Как-то раз Ярослав с Семьюнкой украли на пристани лодку и переплыли Сан. Вся дворня несколько часов безуспешно разыскивала пропавшего княжича. Отроки же, переправившись на левый берег реки, лодку бросили, и её отнесло течением. Обратно в город они, вдоволь наигравшиеся, вернулись с помощью одного смерда, проведшего их через брод.
Оба мальца были нещадно пороты, досталось и старику челядину Стефану, что не уследил за княжичем. Владимирко при всей семье устроил княжичу и его дружку разнос, орал что было мочи, стучал по столу кулаком.
– Один ты у меня, один! – кричал князь. – На тя надёжа единая! Я тебе Русь Червонную в наследство оставить хочу, а ты! Заместо того, чтоб науку постигать, шляешься невесть где! А ежели б люди какие лихие?! Али лодка б посреди Сана перевернулась?!
На Семьюнку, видя, что прикипел к нему Ярослав, махнул князь рукой. Велел отдать его в учение вместе со своими и боярскими детьми. Сиживали отроки за буковыми столами, выводили буквецы, затем изучали более сложные предметы. Егоза Евдоксия оказалась к учению способной, с годами стала старательней и преуспевала паче прочих, Ярослав учился чуть похуже, Семьюнко, хоть и быстро всё ухватывал, да неусидчив был вельми, так и норовил куда сбежать с уроков. Иван же, сын боярина Домажира, читал и писал с превеликим трудом. Науки Ярославу давались, а вот в ратном деле получалось у него мало что. То с коня упадёт, вызвав гнев ярый родителя, то стрела у него с лука сорвётся. Чему обучился лучше – так это владеть саблей. Рубиться они с Семьюнкой умели здорово, благо, учитель у них оказался добрый – дядька Гарбуз.
Как один раз упал с коня да едва не расшибся, помнил Ярослав до сей поры. Сидел сконфуженный, в ответ на отцовую ругань говорил одно и то же:
– Я ж не виноват. Конюхи твои тарпана[156] какого-то дикого подсунули. Он и понёс, ирод!
Угрюмо исподлобья взирал Ярослав на отца и сестёр. Анастасия, не выдержав, прыснула со смеху, смущённо прикрыла рот ладонью, в глазах Евдоксии тоже читалась насмешка. Отец злился, ходил взад-вперёд по горнице, ругался. Родителя отрок Ярослав сильно боялся. Крутым нравом отличался князь Владимирко, в том числе и к сыну своему был строг. Однако строгость эта всё-таки помогла, научился княжич управляться с резвыми скакунами.
Шестнадцать лет стукнуло Ярославу, когда перебралась их семья в Галич. В этом городе умер один из двухродных братьев Владимирки – Игорь Василькович. Сыновей его князь Владимирко выгнал из пределов Червонной Руси, и те, все трое, вскоре сложили головы во время очередных княжеских междоусобиц.
В ту пору Галич был невелик, чуть поболее какого-нибудь Бужска или Белза, но после того, как сделал его Владимирко столицей своего обширного княжества, город стал быстро расти и хорошеть.
Затем случилась война с Киевом, была сеча под Ушицей с дружиной Изяслава Давидовича и союзными ему половцами, неожиданно яростная и кровавая. В рубке сей у стен крепости и получил Ярослав свои раны. После той битвы отец в походы его не брал, берёг сына, как зеницу ока, говорил, повторял из раза в раз:
– Один ты у меня. Не хочу без наследника остаться. Некому мне, окромя тебя, княжество Галицкое отдать. Пойдёт прахом всё мною собранное…
Ярослав отвлёкся от воспоминаний и вслушался в шепоток сестёр.
– У нас тоже воюют всё время. Брат моего Болеслава, Владислав, из Силезии ратью грозит. Говорят, с императором германским сговаривается, – говорила Анастасия. – Хочет Краков себе воротить. Молодшие братья его изгнали, вот и злобится.
Слова сестры заставили Ярослава вспомнить о хрисовуле[157] базилевса Мануила и о союзе «двух империй».
– А обо мне отец словно и забыл вовсе. Выдал замуж, и выбросил из жизни своей, – пожаловалась на покойного родителя Евдоксия, капризно, как в детские лета, надув губки.
– О покойном худые слова не стоит сейчас говорить. – строго сказал ей Ярослав и, смягчившись, добавил: – Отныне, сестрица, ты в моём доме всегда гостья желанная. Знай это. Думаю, схлынут в скором времени рати. Мирно жить будем.
– Кто ведает. Вон у немцев император Конрад недавно умер. На престоле сейчас племянник его, Фридрих, – напомнила Евдоксия. – И неизвестно, как он себя поведёт. Знаю только, что богемские[158] князья поклялись ему в верности.
– А я вот тяжела ныне, – огладила Анастасия своё округлившееся чрево. – Второго робёнка сожидаю.
Ярослав в мыслях порадовался за сестёр.
Кажется, обе устроены неплохо. Мужья их любят. Вот у Анастасии сын малый растёт, Болеслав. Даст Господь, ещё ребёнок будет.
– А отец, как овдовел, так боле и не оженился, – вздохнул он. – С разными путался, и с замужними, и с дочерьми боярскими. Говорил, не хочу, чтоб окромя тебя, Ярославе, сыны были. Не хочу земли разделенья.
– Млава ить у его была, – удивлённо приподняла брови Евдоксия.
– Млава, – подтвердил Ярослав. – Ныне замужняя она боярыня.
– Ведаю. За Ляхом, кой сосватал меня за Мешку.
– За ним. Троих чад имеет.
В покой тихо вплыла двухродная сестра Ярослава, Елена Ростиславна. Елене хоть и стукнуло уже тридцать лет, но была она всё ещё не замужем. Князь Владимирко, помня злые дела её родного братца, Ивана Берладника, не особо жаловал племянницу и держал её в одном из галицких монастырей.
Ярослав, посмотрев на длинное рябое лицо Елены с мясистым крупным носом, на её сгорбленную фигуру, вдруг почувствовал к ней жалость.
«Не виновата она, что брат такой», – пронеслось в голове.
Вслух он объявил ей:
– Отныне из монастыря можешь уезжать. Не монахиня, чай. Жениха тебе, Елена, сыщем. А пока в доме у меня поживёшь. Не чужой ты мне человек.
– Спаси тебя Бог, братец, – Елена, расчувствовавшись, всплакнула. – Да токмо куды мне, с этакой рожей, замуж. Никто и не возьмёт. А коли возьмёт, дак выгонит тотчас. Вон Анастасия и Евдоксия – экие красавицы!
– Никто тя обидеть не посмеет, сестрица, – успокоил её брат. – А о том, что я тебе сказал, подумай. Перебирайся ко мне в терем.
Елена снова рассыпалась в благодарностях, говорила, что не позабудет его доброту и что поставит свечку за его здравие.
После все они прошли в горницу. Собирались ближние бояре, княжьи милостники, отроки готовились прислуживать за столом. Явилась в сопровождении свиты из знатных галицких боярынь княгиня Ольга. Как обычно, громогласная, она распоряжалась за столом, покрикивала на слуг, указывала, куда что нести. Села рядом с Ярославом, самодовольная, гордая. Чуяла свою власть над всеми окружающими её людьми. Ещё бы – дочь самого Долгорукого, и кабы не её родитель, не было бы Галицкого княжества вовсе, съели бы его алчные соседи – Изяслав, ляхи, угры. Так полагала бывшая суздальская княжна, и не могли её разубедить в этом ни частые неудачи отца в борьбе за Киев, ни то, что далёк отсюда, от Галича сейчас князь Юрий и что другие совершенно у него цели и намерения. Что ей эти Ярославовы сёстры, жёны мелких князьков! Что ей бояре галицкие! Да у отца её земли во сто крат более, чем у всех их, вместе взятых! Что ей сам Ярослав – мальчишка вчерашний! Если не захочет ходить в воле её отца – полетит со стола, а Ольга вдругорядь выйдет замуж, за какого-нибудь более достойного государя.
Так и сидела, принимала с важностью пищу, слушала добрые слова о покойном Владимирке. Смахнула с глаза слезу, всплакнула – так было положено, затем снова приняла вид важной надутой гусыни. Евдоксия поглядывала на неё с заметным презрением, даже во взоре кроткой Елены читалось осуждение. Но не обращала на такие мелочи внимания гордая своим положением княгиня, не думала, как могут в будущем повредить ей эти как будто невзначай брошенные взгляды.
Опустели тарели с кутьёй, осушены были чарки с крепким мёдом. Закончился поминальный пир. Наутро сёстры Ярослава отправлялись в обратную дорогу, к мужьям и детям. Уже перед самым отъездом, когда стояли они втроём на гульбище и смотрели, как тихо сыпались на землю крупные хлопья снега, Евдоксия вдруг, спохватившись, сказала:
– Забыла совсем. В прошлое лето, перед тем как рать была у батюшки с уграми и с Изяславом, приезжал в Познань к нам один боярин волынский, Дорогил. Мстиславу, сыну Изяславову, он дядькой приходится. Вначале в Сандомире и Люблине, у князя Генрика он побывал, после к моему Мешку заявился. Уговаривал польских князей воевать супротив батюшки моего. Возмутилась я, накричала тогда на Мешку, говорила, разведусь, мол, с тобой, ежели на Перемышль выступишь. Удалось мне убедить супруга своего от соуза с Изяславом и сыном его отказаться. И Генрика он такожде от рати отговорил. Но ты, брате, ведай, что и в другой раз Изяслав в Польшу мужа свово пошлёт супротив тебя.
– А ты у меня умница, сестрица, – ласково улыбнулся Ярослав. – Вот что. Пошлю я в Познань своего человека. Пусть постоянно при дворе Мешки обретается. И ты с ним связь держи. Ежели что…
Князь не договорил. Умные сёстры всё поймут и упредят его.
…Вечером князь посетил опального боярина Молибога. После смерти Владимирки хитрый лис почуял ветер перемен и воротился из своего горного гнезда в Галич. Чутьё его не обмануло. Рад был старик, что после долгих лет забвения сам князь пришёл к нему, растрогался, обронил слезу. Сидел перед Ярославом, худой, иссохший, слушал со вниманием, ликуя в душе.
– Сын у тебя взрослый, Филипп. Хочу, чтоб послужил он мне. Твоё же место отныне – в думе моей.
Теребя жёсткую белую с желтизной бороду длинными костлявыми перстами, Молибог позвал сына. Статный плечистый молодец поклонился Ярославу в пояс.
– Дело у меня к тебе, Филипп. Посылаю тебя в Польшу, в Познань, ко двору князя Мешко, к сестре моей Евдоксии. Побывай перед тем в Сандомире, православных людей наших посети – купцов, ремественников. И обо всём, что польские князи замышляют, что сестра моя тебе скажет, мне передавай. Когда грамотку черкнёшь, когда сам приедешь. Особо если об Изяславе и его людях что прознаешь.
– Понял, князь! – супя смоляные брови, отмолвил молодой красавец. – Заутре же на конь и в дорогу. Верно те службу справлю, не сумлевайся.
Как только Филипп вышел, старый Молибог стал жаловаться на неблагодарность, на то, что покойный Владимирко отодвинул его от себя, отобрал волости под Саноком, сослал.
– Во всех бедах моих боярин Домажир виной. Подольстился ко князю, нашептал в уши, – говорил он.
– Разберёмся и с Домажиром. Вот только с Киевом мир учиним. – Ярослав вздохнул. – Ну, прощевай, боярин. Думаю, встреча сия наша – не последняя.
Поутру рано выехали из Немецких ворот Галича несколько вершников, рванули намётом по дороге на Люблин. Вослед им долго кружили снежные вихри.
Глава 20
Боярин Нестор Бориславич с грамотой киевского князя прибыл в Галич спустя несколько дней. Как ранее старший брат Пётр, стоял он перед князем и боярами в той же палате, читал, разворачивая, свиток с золотой Изяславовой печатью:
«Что отца твоего Бог судил, то оставляю на Его волю святую. Что ты отцом меня нарицаешь и обещаешь быть в моей воле, оное нам, а тем паче тебе, весьма полезно, и я тебе мою любовь точно так же обещаю и о том прилежать буду, чтоб тебя никто не обидел. А кроме того, помогать тебе против твоих неприятелей хочу, чтобы твоя область расширялась и множилась. Только ты возврати мне города мои, которые отец твой неправо взял и, несмотря на клятвенное обещание, удержал. Ты же ведаешь и видишь, что Бог всякие неправды наказывает, и не захочешь тому греху участником, а пролитию крови христианской причиной быть».
Так писал киевский князь Изяслав. Слова Ярославовы принимал, но городки требовал и грозил ратью.
– Подумать мы должны, – выслушав посланца, объявил Ярослав и отпустил Нестора.
Надолго запомнил молодой князь то свещание в палате.
– Мыслю я, бояре, мир творить надо. Отдать придётся города Изяславу, – предложил Ярослав.
Что тут началось! Один за другим повскакивали ближние Владимирковы мужи с лавок.
– Да как же се! Да ты что, княже! – заорал яростно Домажир. – Да сии городки – наши! Отец твой сколь пота за них пролил, а ты отдать хочешь! Не бывать тому!
– Не бывать! – вторил ему пепельноволосый Щепан.
– Укажем киевскому князю место его! – кричал Лях. – Отгоним его ратников к Киеву, пущай к нам боле не суётся!
– Ко князю Юрью послов снарядим!
– С ляхами уговоримся!
– Ромейский базилевс болгар и сербов на подмогу нам пришлёт!
– Нечего нам бояться Изяслава!
Почти все бояре решительно воспротивились отдаче погорынских городов и Бужска.
Когда мало-помалу крики в палате утихли, за всех высказался воевода Серослав.
– Не хотим мы, бояре галицкие, князю своему урона нанести. Но будем его, не щадя живота[159] своего, защищать, покуда Бог нам позволит. Но к рати с Изяславом подготовиться надо. Потому, княже, вели тотчас посла киевского звать. Ответим ему, что съехаться надобно и о городках тех перетолковать. Тогда, мол, и договор о них учиним.
Дружно поддержали Серослава бояре. Ярослав, чувствуя своё бессилие перед этими крикунами, своё безвластие, свою малость, прикусил уста. Хотелось убежать из этой палаты, пасть ниц перед иконой Богородицы, плакать, умолять. С трудом уняв овладевшее им отчаяние, молодой князь спокойно заметил Серославу:
– Да ведь, воевода, не дурак Изяслав. Уразумеет, что мы токмо время тянем.
– Ну и пущай! Рать, дак рать! – завопил, потрясая кулаком, Домажир.
Снова шум прокатился по палате, снова враз закричали, замахали руками бояре. Пришлось Ярославу подчиниться их воле.
После он вызвал к себе Избигнева, они долго сидели в утлом покое, где обычно обмысливал тайные дела свои покойный князь Владимирко. Князь говорил:
– Обо всём, что на свещаньи было, приятелю своему Нестору расскажи. Ничего от него не утаивай. Пусть Изяслав знает, что я рати не хочу. Пусть поймёт такожде, кто его враги истинные.
– Что же, княже, выходит, война опять? – Избигнев горестно разводил руками.
– Получается, так. Мало у меня покуда власти в Галиче, не перекричать старых отцовых ближников. Вот ежели бы Изяслав в этом помог.
– Не всё здесь столь просто, князь. Кое-что я проведал. Домажир и его сын сносились с братом Изяславовым, Святополком. Обещали ему галицкий стол, если оставят Ивана Домажирича посадником в Шумске и ещё другие волости на Погорине дадут. Вот потому князь Святополк Семьюнку и отпустил. Не захотел лишний раз с галичанами ссориться.
– Вот как! – Ярослав вскочил. – Что ж, тотчас велю Домажира схватить и под стражу!
– Не надо, князь. Не горячись покуда. Мы с Семьюнкой следить за ими людей направили. Думаем, не один Домажир в заговоре. Как всё выясним, тогда их…
– Ладно, Избигнев. А покуда как же нам быти?
– Ежели рать грянет, княже, мы все за тебя станем. Одно только: в бой сам лучше не ходи. Пускай бояре с Изяславом бьются, ты в стороне стой. А тамо поглядим.
Поздним вечером Ярослав отпустил Избигнева. Только теперь он смог пройти к себе в ложницу, упасть ниц перед Богородицей и страстной мольбой облегчить свои переживания.
И он поклялся:
– Ежели жив буду, ежели охранишь ты меня, Матерь, от меча вражьего, от стрелы шальной, от кинжала предательского, храм на Подоле[160] возведу в честь твою. И станет сей храм главным во всей Руси Червонной.
Глава 21
Был день Фёдоровой седьмицы, 3 марта. Таяли снега, реки наполнялись мутными водами, пригревало ласковое вешнее солнце. И грянула война, снова шли друг супротив друга рати русские, шли, закованные в кольчуги, в тяжёлые дощатые и чешуйчатые панцири дружины, шли пешцы с копьями и высокими, в рост человечий, щитами, шли лучники, шли союзные болгары и одетая кто во что придётся вольница берладников. Всех, кого можно, собрали галицкие воеводы на бой.
Изяслав тем часом занял Тихомль, перешёл через реку Серет и двинулся к Теребовле. Здесь, возле её крепких дубовых стен, на холмах, недавно только очистившихся от снега, и в низинах, где ещё кое-где виднелись чёрно-белые прожилки и потрескивал под ногами хрупкий лёд, и суждено было разыграться новой кровавой сече.
С утра пал туман, и хотя лазутчики докладывали Ярославу, что противник близко, не видать было ничего.
Воеводы Серослав и Тудор Елукович на левом крыле поставили болгар, возглавляемых воеводой Страшимиром, на правом – берладников, над которыми началовал некий Нечай, в середине же и в челе войска стали галицкие бояре со своими и княжескими дружинниками. Вперёд, как обычно, послали стрельцов с луками, за ними плотными рядами расположились пешцы. Уже когда выстроилась рать и изготовилась к бою, туман вдруг спал, рассеялся, да так неожиданно быстро, словно сам Господь разогнал его мановением десницы Своей.
Напротив галичан, грозно сверкая булатом, под разноцветными хоругвями стояла тьмочисленная вражья рать. Куда ни бросал Ярослав встревоженный взор, всюду видел он острые копья, блистающие на солнце шишаки, щиты и кольчуги.
– Супротив болгар дружины Святополка и Владимира Андреича Дорогобужского[161], – разъяснил князю подъехавший на буланой кобыле Семьюнко, облачённый в кольчатую бронь и в плосковерхом аварском шеломе[162]. – А супротив нашего чела сам Изяслав с киянами и чёрными клобуками. Видишь, шапки чёрные бараньи, концы набок свешиваются. То и есь клобуки. Комонные все. Говорят, рубятся здорово.
– А против берляди нашей Мстислав стал, – добавил бывший тут же боярин Лях. – Вон, глядите. Прапор переяславский на ветру развевается. И с им рядом черниговцы. Лазутчика ихнего намедни мы поимали. Сказал, Изяслав Давидович полк свой киянам в подмогу прислал.
– Изяслав Давидович – известный разбойник. То он Ушицу жёг с половцами вместях, – заметил Ярослав. – Вот, память на всю жизнь, – указал он на белый сабельный шрам у себя под глазом. – Лихая была рубка.
Воеводы и бояре собрались в веже на короткое совещание. Сидели, не снимая доспехов, на кошмах. Первым слово взял Тудор Елукович.
– Каназ! – обратился он к Ярославу. – Молод ты ещё.
Видя готовое сорваться с уст Ярослава возражение, он повысил голос и произнёс заранее заготовленную речь:
– Поезжай прочь… Стань наверху, на месте удобном… И смотри на битву. Будешь нам, как отец… Твой отец любил нас и жаловал. И мы тебя любить и жаловать будем…
– Ты у нас один, – добавил дядька Гарбуз, – если тебе, упаси Господь, приключится что вредное, останемся мы, стойно овцы без пастыря. Нас же хоть и тысячу побьют, власть твоя от того не ослабеет, войско же ты новое собрать сможешь. Потому возьми дворовых своих и ближников и стань у града. А мы будем с Изяславом биться.
– И кто из нас жив останется, тот станет тебе впредь верно служить, – сказал боярин Щепан.
– Ну что ж, пусть так, – после некоторого раздумья согласился Ярослав.
Уже когда выходили из вежи, услыхал он за спиной злобный шепоток Домажира:
– Где ж то видано, чтоб князь позади рати хоронился!
Сразу вспомнились Ярославу давешние слова Избигнева.
…Он отъехал на три перестрела в сторону городских стен и расположился на высоком холме, откуда, не слезая со статного вороного коня с длинной густой гривой, вместе с Избигневом и Семьюнкой стал наблюдать за ходом начинающегося сражения.
Вот стрелы понеслись, вот пешие ратники с топорами ринулись вперёд, вот дружина Мстиславова ударила в правое крыло. Берладники выстояли, выдержали натиск, не отступили.
– Добро они бьются, – крикнул Ярославу в ухо Семьюнко. – Нечай не зря хвалился. Гляди, гляди, гонят!
Видно было, как переяславцы, а за ними черниговцы ринули вспять. Но вот воин в золочёных доспехах, видно, князь Мстислав, остановил их. Он что-то кричал, лицо его, обрамлённое короткой бородой, было искажено от ярости, он потрясал мечом, зажатым в боевой рукавице. Остановились переяславцы, сомкнули ряды, с новой силой закипела сеча.
В центре напирали кияне и чёрные клобуки. Свист и улюлюканье неслись из глоток степняков, сабли в их руках так и сверкали.
– Князь! Болгары Святополка гонят! – крикнул подскакавший отрок. – Здорово мы им врезали! Бегут, наложили в порты!
– Зато Изяслав в челе наседает! Гляди! – указал ему Избигнев.
Всё перед глазами Ярослава мешалось в каком-то багряно-серебристом клубке. Непонятно было, чья перемога. Одно понимал он точно: правое крыло его рати опрокинуло-таки переяславцев с черниговцами, и Мстислав, такой всегда жадный до битв, такой искусный стратилат[163], в беспорядке отступает в сторону Серета.
«Вот тебе и берладники! – подумал Ярослав. – Не зря сказывали, будто без их помощи князю Юрью ни за что тогда, три лета назад, Киевом не овладеть было».
Мысли князя прервала неожиданно пущенная откуда-то слева стрела. Пропела она совсем рядом с грудью и пробила малиновое корзно, надетое поверх кольчуги.
Семьюнко рванул в галоп вослед удаляющемуся всаднику. За ним бросились двое отроков. Нападавший мчал что было сил, ударял боднями коня, отстреливался. Но вот один из отроков попал в скакуна беглеца. Конь дико заржал, взбрыкнул и, резко выбросив передние ноги, опрокинул седока. Семьюнко прыгнул на него сверху, ударил плашмя саблей по шишаку, оглушая.
Один из отроков ножом разрезал завязки и сорвал с его лица булатную личину. Совсем молодое лицо предстало взору Семьюнки и подскакавшего следом Ярослава.
– Кто ты?! Почто в меня стрелял? – спросил князь.
– Я… Меня… послали… велели убить… тебя.
– Кто велел?
– Князь Святополк Мстиславич.
– Это правда, ты не врёшь? – спросил, усмехаясь, Семьюнко. – Вот он каков, благодетель-то мой и защитник.
– Правда, не вру я. Мать у меня… в холопки её забрали… Отец купу взял… у князя… А отдать не возмог… Помер… Ну, нас всех в холопы и забрали… Потом тиун княжий приехал… Повёз ко князю… А князь и велел… Говорил, если содею, как нать… Вольную даст… Мать и всю семью… отпустит.
– Ах ты, дрянь! – Семьюнко замахнулся на полоняника плетью.
– Постой! – перехватил его руку своей цепкой дланью с долгими перстами Ярослав. – Что ещё знаешь?
– Нощью один боярин ко князю Святополку приходил. Сговаривались Галич ему отдать.
– Что за боярин?
– Я не ведаю.
– А увидишь – узнаешь?
– Да… Мыслю, смогу…
– Ну вот, – обратился Ярослав к Семьюнке и гридням. – Повязать его, и в обоз. А боярина того покажешь, отпущу.
– Княже! – воскликнул Семьюнко. – Убить он тя хотел!
– Довольно! Я сказал! – прикрикнул на него Ярослав.
Позже, когда отъехали они обратно на холм, он уже спокойно объяснил своему другу:
– Ты пойми, холоп сей – тупое орудие. Проведать надобно, кто за ним стоит. Если Домажир, то, верно, не он один.
– Может, Молибог?
– Нет, не думаю. Молибога я умилостивил, – видя недоумённое лицо Семьюнки, Ярослав невольно улыбнулся и добавил: – Сынка его в Польшу пристроил, на службу.
…Яростная сеча шла до вечерних сумерек. Так и неясно было, кто же победил в этой схватке, такой ожесточённой и кровопролитной, каких Галицкая Русь ещё не ведала.
С наступлением темноты воевода Тудор Елукович благоразумно отвёл остатки галицкой рати и болгар к стенам Теребовли. Ушли восвояси и берладники во главе с Нечаем. В жаркой сече не посрамила славы и чести своей удалая дунайская вольница. На месте битвы остался один Изяслав с киевлянами, союзники его и прочие князья бежали с поля битвы.
Простых пленных галицких ратников Изяслав велел перебить. Он убоялся остаться на поле брани, остерегаясь ночного нападения, и, равнодушно посмотрев, как рубят наотмашь, со злостью несчастных полоняников его закалённые в сечах дружинники, приказал отступать по дороге на Киев. Там ждал его сгорающий от стыда и ярости сын Мстислав. Впервые бежал молодой переяславский князь с поля битвы. Отец утешал его, говорил, что разберётся с этими галичанами вдругорядь.
Двадцать знатных галицких бояр увели с собой в Киев отец и сын. За них родичи заплатят немалый выкуп. Среди пленённых оказались сын Домажира Иван и боярин Лях.
Сам Домажир пал на бранном поле. В сутолоке, когда теснили Изяславовы рати галичан, поразила его в глаз калёная стрела. Погиб, уже в самом конце яростной схватки, и воевода Серослав. Налетели на него сразу трое чёрных клобуков, подняли на копья. Многие другие бояре, те, что так шумели на недавнем совете, также обрели на бранном поле у села со зловещим названием Останково свой последний земной приют.
Над Галичем плыл печальный перезвон. Убитых было столько, что телег не хватило всех сразу привезти. Горестный стон стоял над Червонной Русью.
А в хоромах, занимаемых полюбовницей покойного Владимирка боярыней Млавой, как дитя, рыдал на груди у хозяйки молодой Коснятин Серославич.
– Он, гад, сам сзади встал, испужался! А батюшку мово в самое пекло послал! Тож, князь! Князёк он, зайчишко трусливый, а не князь никакой вовсе! – размазывая по щекам слёзы, восклицал сын убитого воеводы. – Гад! Гад! Ненавижу! Отомщу, отомщу!
– Да успокойся ты, Коснятинушка, – медовым ласковым голосом гладила его по кудрявым волосам Млава. – Не одному тебе лихонько пришлось. Ты с плеча-то не руби, милый мой. Ты исподволь, не сразу. Мне вон Ярославка тож навредил, из терема княжого выгнал. А не помнит, как сына егового я своею грудью выкормила.
– Я… Я его убью! – вскричал, вырвавшись из её объятий, Коснятин.
– Глуп еси, младень! – фыркнула Млава. – Ты не так сделай. Ты, – Она поставила перед боярчонком чару с медовым квасом, – испей-ка покуда кваску. И охолонь. С ножом на князя бросаться – пустое. Ты в доверье к ему войди, а тамо… Тамо и видно будет.
Коснятин глотал слёзы, дрожащими устами пил квас, кивал головой, успокаивался понемногу. Хитрая Млава своё дело знала хорошо.
Глава 22
Скрывая в душе изумление, с наигранным равнодушием смотрел Ярослав на маленького колченогого человечка в коричневой свите, перетянутой на поясе простой верёвкой, тощего (в чём и душа держится), которого привёл к нему во Владимирков покой оружный гридень.
– Вот, просился к тебе, княже. Все пороги поистёр, тя дожидаючись, – доложил страж, подталкивая незнакомца тупым концом копья.
– Оставь нас, Микола, – приказал Ярослав.
Человечек распростёрся ниц на дощатом полу и заговорил неожиданно тонким голоском по-гречески:
– О, светлый архонт[164]! Не могу выразить словами, как рад я видеть тебя, о солнцеликий! Молю, возьми меня к себе. Верным псом твоим станет грек Птеригионит! Остережёт тебя от злого врага, поможет найти верного друга, подслушает враждебные разговоры, устранит всякое препятствие, возникшее на твоём светлом пути!
«Евнух! – догадался Ярослав. – Что за прозвище странное. Птеригионит. Птеригион – значит, крылышко по-гречески. Что же ему от меня надо?»
– Встань, хватит валяться на полу, мил человек, – сказал князь также по-гречески. – Отмолви, какое имеешь ко мне дело? Хочешь служить мне? Но ничего я о тебе не знаю. Кто ты, откуда родом?
Человечек упрашивать себя не стал, мигом вскочил на ноги. На маленьком очень смуглом лице его появилась какая-то чудовищная улыбка, скорее напоминающая звериный оскал. Ярослав вздрогнул, но взял себя в руки и стиснул кулаки.
Обнажив непропорционально большие жёлтые зубы, незваный гость ответил:
– Кто я такой, ты и сам догадываешься, светлый князь. Птеригионитом прозвали меня в Константинополе за то, что я так мал ростом и лёгок на решения и действия.
– Ты евнух? Может, ты служил в покоях императрицы? – прямо спросил Ярослав.
– Да, я изуродован и превращён в недочеловека, – лицо Птеригионита приняло злобно-торжествующее выражение. – Но тем, кто был виновен в моей беде, больше нет места в этом мире. Служил ли я базилиссе? Ты проницателен и догадлив, светлый архонт. Одно время я прислуживал в Палатии. Но базилисса Ирина не сумела оценить моих достоинств. Женщина – существо коварное и жестокое, архонт. Тем более эта немка. Хитрая, умная. Она, как гадюка.
– Какие же твои достоинства, раб?! И почему ты столь непочтительно отзываешься о порфироносной? – Ярослав рассердился, но за гневом его опытный придворный уловил оттенок иронии.
Он спокойно продолжил:
– Как-то раз я застал базилиссу в объятиях одного… вельможи, так скажем. Император Мануил в это время находился в походе. Я был обязан поднять во дворце переполох, но базилисса заплатила мне за молчание. А после, видно, не надеясь, что я буду молчать и в дальнейшем, попыталась убить. Подослала человека с кинжалом. Не поняла, с кем имеет дело, – евнух снова злобно ухмыльнулся. – Пусть я плохо владею оружием, но иногда мне его заменяют другие средства. Тот клеврет случайно упал в ров со стены Феодосия. В вонючую жижу. Базилисса узнала, всё поняла, мне пришлось скрыться. На первое время я обрёл пристанище у Андроника Комнина, двоюродного брата базилевса. Кстати, он и тебе, архонт, приходится двоюродным братом. Его мать, тоже Ирина, родная сестра твоего отца, блаженной памяти почившего архонта Владимирка.
– Можешь не напоминать об этом, грек, – сурово оборвал его Ярослав.
– Да, ты прав, о доблестный! – спохватился Птеригионит. – Извини, если я оказался слишком велеречив. Но я, поверь, хочу стать тебе верным слугой. Вернейшим. Ты оценишь меня, архонт. Я знаю, что ты умный и справедливый правитель.
– Продолжай, – потребовал князь. – Что же приключилось с тобой дальше?
– Избежав гибели от рук базилиссы, я вскоре вынужден был бежать из земли ромеев. Мой покровитель Андроник угодил в темницу, и мне пришлось уносить ноги. Так я оказался в Киеве, а потом во Владимире-Волынском. Архонт Святополк приказал мне следить за гинекеей[165]. У вас это называется – бабинец.
– И что? Ты опять не поладил с женщинами? – Ярослав рассмеялся.
– И снова ты оказываешься прав, архонт. Удивляюсь твоей догадливости! – Евнух развёл в стороны свои маленькие ручки. – Они решили: что взять с маленького Крылышка! Княгиня Евфимия за мелкую провинность ударила меня, а потом приказала высечь. Прилюдно, на площади в городе Владимире.
– В чём же ты провинился? Утащил какую-нибудь побрякушку?
– Птеригионит – не вор. Напрасно архонт так думает, – обиженно заметил евнух. – Просто я не люблю смотреть на голых женщин и прислуживать им в бане. Пусть я и не совсем мужчина, я не имею пола и желания, но снасти у меня есть. Отказался стоять перед ней и её приближёнными женщинами с корытом, за это и был наказан.
– Ну, так. Пусть я поверил тебе. Но что ты хочешь от меня? Не верю, что такие как ты вдруг являются и предлагают свои услуги. У тебя что-то есть. Такое, чего я, может, не ведаю, но что ведать важно и нужно.
– Опять в точку, архонт! Впервые вижу такого догадливого архонта! – взвизгнул от показной радости Птеригионит. – Я охотно посвящу тебя во всё то, что знаю, но…
Он замялся.
– Понял. – Ярослав достал из калиты и положил перед евнухом несколько серебряных монет. – Мыслю, эти флорины помогут тебе скорее вспомнить, что ты хотел мне сказать.
– Князь Святополк хочет занять твой престол. Он подсылал к тебе убийцу.
– Я это знаю.
– Знаю одно знатное лицо, которое приходило к нему в ночь перед битвой.
– Что за лицо?
– Его зовут Лях. Во время битвы он попал в плен.
– Полагаю, ты никому не говорил об этом в Галиче.
– Конечно нет, архонт. Ты узнаёшь первым о таком важном деле. Я помог бы тебе… У меня есть средство.
– Полагаю, яд?
– Ты снова прав.
Ярослав кивнул.
– Я должен подумать, грек. Крепко подумать. Сейчас я прикажу отвести тебя. Поселишься у одного верного мне человека. Его зовут Семьюнко.
– Красная Лисица. Слышал о нём.
– Я призову тебя в нужный час.
– Благодарю, архонт.
Евнух снова распростёрся на полу, снова говорил хвалебные слова, а затем быстро исчез, словно и не было его. Только запах неприятный остался висеть в палате. Ярославу показалось, что пахнет серой. Он истово перекрестился.
– Господи, обереги! – Ноги словно бы сами собой согнулись в коленях.
«Я окажусь сопричастным к греху, к греху тяжкому и неотмолимому! – Всё существо его противилось закравшимся в ум чёрным мыслишкам. – Нет, прочь сомнения! Мир наш жесток, а я не монах, не праведник, я – князь. О своих подданных должен я иметь заботу. Мой отец – он погиб, потому как не о Земле, но о добытках своих более радел. А я! О, Господи! Прости и сохрани! Я просто отвечу ударом на удар! Или я, или вороги мои! В конце концов, судить о нас, о князьях, о владетелях, не следует так, как о прочих смертных. Главное – какая у нас держава и что мы содеяли ради неё. Как живут в сей державе люди, хорошо ли, мирно ли. Но, о Господи! Мне страшно, Господи! Ответь мне, прав ли. Не могу, не могу по-иному!»
Князь закрыл руками лицо и горько разрыдался, повторяя шёпотом сквозь слёзы:
– Не погуби, не погуби, Господи!
…Утром он велел звать к себе Птеригионита.
– Ну вот, грек, твой наступает час. Поедешь к князю Святополку. Об остальном позаботишься сам. Думаю, ты знаешь, что делать, – объявил он сухо. – И помни: только мы двое ведаем, что и как.
Евнух кланялся, щерил в улыбке крупные зубы, послушно кивал.
В городке Корецке, невдалеке от так и не отданного Ярославом Киеву Шумска, ранним вешним утром в одночасье внезапно скончался князь владимиро-волынский Святополк Мстиславич. Отчего умер здоровый и не старый ещё владетель, так и осталось загадкой. Скорбела по почившему мужу княгиня Евфимия, плакали братья и племянники. Никто и не заметил, как в грозовую чёрную ночь из корецкого посада выехал на тощей лошадёнке некий маленький человечек. Выехал – и пропал. Больше его в городе не видели. Вряд ли когда и вспоминали при волынском дворе жалкого евнуха Птеригионита, пропавшего невесть куда. Да никто бы и не догадался, что именно он стал причиной нежданной смерти князя Святополка.