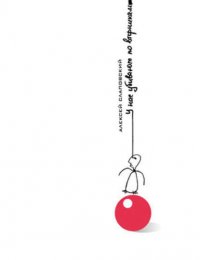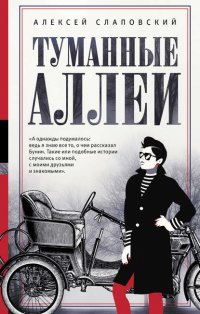
Читать онлайн Туманные аллеи бесплатно
- Все книги автора: Алексей Слаповский
Предисловие
Предвижу иронические отзывы:
«Слаповский взялся переписывать Бунина».
«Как Алексей Иванович посягнул на Ивана Алексеевича».
«С Буниным на короткой ноге».
И т. п.
В самом деле, зачем мне это нужно?
Попробую объяснить.
Меня всегда манили и раздражали «Темные аллеи» Бунина.
Манили тем, как написано, а раздражали многим. И архаичным до неловкости эротизмом. И книжностью разговорного языка. И отношением к женщине как объекту, пусть даже и поклонения.
А еще я никогда не мог забыть, что автор – барин, аристократ, и чувствовал себя плебеем, подсматривающим за господской жизнью. «Род пеплума из пунцового бархата был схвачен на левом плече рубиновым аграфом…» – читал я, мелко злясь оттого, что ничего в этом не понимаю. Будто не по-русски писано.
Бунин во многом казался и кажется мне – конечно, ошибочно – высокомерным, даже без аграфов и пеплумов, в благородной своей простоте. В простоте, пожалуй, особенно – тоже барской, недоступной для меня, потомка крестьян.
И поэтизацию смерти я не могу принять, от любви эта смерть или от войны, неважно. Я не считаю смерть, как некоторые избранные и мудрые, главным событием жизни. Мне это обидно. Да, я понимаю, что приходим мы из Небытия и уходим в Небытие, которое в миллионы и миллиарды раз масштабнее существования человечества, наше бытие по сравнению с Небытием – вспышка спички в бескрайнем космосе. Но не будь этой вспышки, этого бытия, тогда и о величественном Небытии поговорить было бы некому. Что оно есть, что его нет – без разницы.
А однажды подумалось: ведь я знаю все то, о чем рассказал Бунин. Такие или подобные истории случались со мной, с моими друзьями и знакомыми. Мне захотелось понять, что изменилось, как живут сейчас эти сюжеты. Сравнить два времени. Уловить перемены в людях, в языке, в том, что мы называем любовью, понимая под этим каждый свое.
Для чего?
Вот тоже вопрос. Не знаю. Не для соревнования, конечно, это было бы глупо. Впрочем, да, и для соревнования тоже, и пусть глупо, но если бы я утверждал, что не бываю глуп, то был бы совсем дурак.
И этим признанием я окончательно подставляюсь – особенно критикам, но я не для них пишу, а для читателей, которым, возможно, как и мне, захочется сравнить любовную сторону жизни людей, какой она бывала раньше и какой она бывает теперь.
Ваш А. С.
I
Туманные аллеи
Как это сказано в книге Иова?
«Как о воде протекшей будешь вспоминать».
И. Бунин. «Темные аллеи»
В окрестностях поселка Вербилки, что в сотне километров от Москвы, на берегу реки Дубны находится пансионат, называемый «Гелиопарк». Места там чудесные, кругом лес, река течет плавно и тихо, можно ловить рыбу и прогуливаться на лодках. Или просто сидеть на берегу и думать. Отдыхать.
Для этого сюда и приехали муж с женой, ему под пятьдесят, ей тридцать пять или чуть больше.
– У них ужин с семи до восьми, – сказал муж, изучив листок с распорядком, лежавший на столе. – Опоздали. Но есть кафе. Сходим? Или прогуляемся сначала? Или вещи разложим?
– Как хочешь.
– Ты покладистая сегодня. Даже странно.
Она действительно была какой-то задумчиво- рассеянной. Обычно женщины на отдыхе озабочены, иногда даже больше, чем на работе, это ведь дело серьезное: осмотреться, все разложить и расставить, выяснить, где тут что, составить план развлекательных мероприятий, а уж потом можно расслабиться и получать удовольствие. Но она была в каких-то своих мыслях, к которым будто прислушивалась, и муж посматривал на нее вопросительно, однако вопросов не задавал.
– Ладно, прогуляемся, – решил он.
Отправились к реке.
– Отличное название – Вербилки, – говорил он. – Так бы и назвали пансионат. Нет, «Гелиопарк», видите ли! Тогда уж – «Солнечный парк». Просто и мило.
– Тренд такой. Мода. Концерт балалаечников – не звучит. Балалайка-шоу – уже интересно.
– Кому?
– Кому-нибудь.
А вокруг стлался туман. Чем ближе к реке, тем он становился гуще, кусты обволакивало им, как ватой.
– Красиво как, – сказала она.
– Да. Вот тоже загадка, почему нам это нравится? Почему туман – красиво? С чего мы это взяли?
– Просто красиво, и все.
– Просто ничего не бывает. На самом деле нет ничего красивого или некрасивого. Всякой красоте есть практическое объяснение. Туман – влага, вода, жизнь. Поэтому нам и нравится.
– И он редко бывает.
– Умница, садись, пять. Верно. Что редко, то и красиво. Вот цунами, тайфуны. Страшно, но красиво. И тоже редко бывают.
– Но люди же гибнут.
– А ты чего хотела? От красоты всегда гибнут. Как сказал, да?
– Хорошо сказал. Это что за деревья? Стволы какие толстые.
– Кажется, липы. «Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллеи».
– Бунин, да. Хотя это не Бунина стихи.
– А чьи?
– Огарёва. И у него не так. У него: «Вблизи шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея».
– Каждый помнит, как запоминает.
– Наверно, да. Был шиповник – вблизи, и аллея – одна. А захотелось, чтобы кругом цвел шиповник, везде, и чтобы аллей было много.
– Всегда хочется, чтобы было много. Так мы устроены. И замусорены донельзя. Чего только в голове нет. Я вот Бунина вспомнил, а что за деревья – не знаю. Может, липы, а может, вязы какие-нибудь. Или клены. Нет, клены другие. Я слов знаю больше, чем настоящих вещей. Грустно. Идешь вот в тумане, нет бы просто любоваться, а в голове и сказка про ежика, который тоже в тумане, и песни всякие. «Туман, туман, густая пелена», – фальшивым баритоном пропел мужчина.
– Это что?
– Из советского времени, ты вряд ли помнишь. Какой-то ВИА пел. Вокально-инструментальный ансамбль. Нет, правда, вот вымрет человечество или трансформируется, будет какая-нибудь неорганическая цивилизация. Плазменная какая- нибудь. И для них все эти наши красоты будут звук пустой. И все наши драмы, все эти Анны Каренины, Раскольниковы, Илиады и Одиссеи, они просто не поймут эту чушь. Будут носиться по космосу, питаться кварками, размножаться молниями. А все, чем мы мучились и чему радовались, исчезнет. Но они тоже что-то любить должны, как думаешь? Интерес тоже к чему-то должен быть, не только же куски чистого разума по Вселенной шляться будут. Любовь протона к нейтрону. То есть к нейтронше. Она мерцала зеленым светом, ее бока были безупречно круглы, она летела по модной траектории изящно и волнующе, и у него сердце оборвалось… Стоп, сердца не будет. А что тогда будет обрываться? Ты чего?
Ему почудилась в том, как она на него смотрит, легкая снисходительность. Умиление матери, любующейся своим умствующим ребенком. Ребенку было бы приятно, а ему стало немного досадно.
– Все это, между прочим, не такая уж теория, – сказал он. – Мы по чужим установкам живем и по чужому примеру. И даже удобно. Вот джинсы, футболки, кроссовки. Нормально. А сто лет назад шли бы – ты в кринолине, я в камзоле каком-нибудь, за кусты цеплялись бы, но тоже считали бы, что нормально. Понимаешь? Глупо говорю, что ли, чего ты смеешься?
– Я не смеюсь.
– А что? Какая-то загадочная сегодня.
– Да нет, просто отдыхаю. Выкинула все из головы.
– И правильно. И мне надо.
Они подошли к крутому берегу, спустились по деревянной лестнице. У дощатого причала покачивались прогулочные лодки, тихо постукивая бортами и позвякивая цепями. Человек в брезентовом плаще закрывал дверь фанерной будки. Наверное, он заведовал этими лодками.
– Вы тут хозяин? – весело и громко спросил мужчина.
– Завтра приходите.
– Черт, досадно! Понимаете, штука какая? Человек как устроен? Мы даже и не собирались кататься. И если бы было можно, еще подумали бы. Но вот нельзя, и сразу очень хочется прокатиться! Просто парадокс! Но для вас тут в чем плюс? Днем скучно – вам заплатили, вы дали лодку, весла, и все. Тут же платные лодки?
– Конечно.
– Ну вот. А теперь все интересней, вы можете дать, а можете не дать. Вы уже не просто лодочник, вы – вершитель судьбы. Вы, конечно, можете не дать лодку, мы поймем. А можете сделать нас счастливыми. Не каждый день бывает возможность кого-то осчастливить!
Женщина улыбалась. В первые годы совместной жизни она стеснялась этой манеры мужа говорить витиевато в простых ситуациях и с простыми людьми. А потом привыкла. И поняла, что многим из простых людей это нравится. Их как бы приглашали в другую область отношений, им оказывали доверие, их заведомо считали достаточно мудрыми, чтобы взглянуть на обычный предмет с необычной точки зрения. Хотя встречались и непрошибаемые, которых такое приглашение к мудрости только злило, им было удобней в привычном обиходе.
Человек в плаще, похоже, не очень-то слушал, нагнулся к одной из цепей и что-то там делал. Распрямился, повернулся, оказался совсем молодым, лет двадцати пяти, не больше. Он подал мужчине замок.
– Когда вернетесь, цепь на замок и просто защелкните, он без ключа закрывается. Дальше моста не заплывайте, долго тоже не надо, а то ко мне претензии.
– Спасибо огромное! – мужчина достал бумажник, глянул. – Наличности нет, только карточки.
– Завтра заплатите. Весла потом вон туда положите, в лодке не оставляйте. И не утопите вашу спутницу, а то с меня спросят.
Говоря это, он поглядывал на женщину с иронической полуулыбкой, с легкой и веселой охальностью в глазах: знаю, знаю, зачем к нам в пансионат мужики в возрасте приезжают с молоденькими хорошенькими женщинами, ничего против не имею, хотя я, на всякий случай, молод, свободен и собой неплох!
Женщина в ответ улыбнулась, чтобы доставить ему удовольствие, но все же сказала:
– Не беспокойтесь, муж хорошо с веслами управляется.
Лицо молодого человека тут же стало подчеркнуто приличным и служебным:
– Тогда нет проблем!
Он ушел.
Муж, отталкиваясь от причала и начиная грести, добродушно ворчал:
– Благодетелем и вправду себя почувствовал, а на будке табличка – до девяти. Он всего лишь свою работу выполнил!
Лодка скользила в тишине, он окунал весла аккуратно, будто жалея, что приходится нарушать гладкость воды, берега были плохо видны в тумане, но выше все еще было ясно, и сквозь верхушки деревьев посверкивали лучи уходящего солнца.
Показался мост, высокий, железнодорожный, в треугольниках металлических ферм. Казалось, он перекинут не от берега к берегу, а от деревьев к деревьям.
– Мост, – сказала она.
Он оглянулся.
– Да. Всегда, когда вижу такой мост, вспоминаю кадры из фильма Германа. «Проверка на дорогах». Помнишь?
– Когда партизанам надо было взорвать мост, а под ним в барже наши пленные? Жуткая сцена.
– Герман вообще жуткий. Поворачиваем?
– Еще поплывем. Очень уж хорошо.
Он поднял весла, уложил вдоль бортов, лодка двигалась сама, по течению.
Она опустила руку, смотрела, как вода обтекает пальцы.
– Кувшинки, – увидел он. – Хороший знак, если есть кувшинки, значит вода чистая. И это даже странно, у них, говорят, краску с фарфорового завода сливают. Я читал, можно сходить на экскурсию, посмотреть, как это делается, сходим?
– Может быть. Знаешь, похоже, я беременна.
– Похоже – или…
– Или. Да, точно. Теперь уже точно.
Обычно очень словоохотливый, мужчина молчал.
Она смотрела на свою руку.
У него была дочь от первой жены, погибшей. А еще сын, живший со своей матерью отдельно. И у нее тоже имелся сын от первого брака. Они жили вместе уже шесть лет, о совместном ребенке речи не шло, ему, похоже, уже хватало, а она считала себя после первых сложных родов неспособной зачать. Так и врачи говорили. И – вот. И она не знала, как он к этому отнесется. Конечно, аборта не потребует, не такой добрый человек. Но будет ли рад? У него и так полно забот, да и возраст. Все уже устоялось, наладилось, и что же, в пятьдесят лет становиться опять молодым папашей? Пеленки, распашонки, детский плач по ночам?
И вдруг она услышала смех. Подняла голову, посмотрела.
Он смеялся негромко, качал головой, будто чему-то удивлялся.
– Ты чего?
– Да я все о том же, насколько голова у нас замусорена! Естественно, я тут же «Американскую трагедию» вспомнил, как там парень девушку топит. Узнал, что беременная, повез на лодке кататься и утопил.
– Я читала. Да, вовремя вспомнил, – засмеялась и она.
– А ты хорошее место нашла, чтобы такие признания делать.
– В самом деле. Знаешь, ведь даже не подумала. Он ее сначала убил, а потом утопил? Или как?
– Не помню. А тебе как лучше?
– Убивать больно. Лучше сразу утопить. Захлебнусь, и все.
Ей хотелось к нему. Сесть рядом, чтобы обнял. И ему хотелось к ней.
Но оба понимали, что это уже лишнее, что больше ничего не надо делать. И ничего не надо говорить.
Он развернул лодку, поплыли обратно. Начало темнеть.
По мосту прошел поезд, и в ровном перестуке колес было что-то успокоительное, в нем слышались упорядоченность и привычка к расписанию.
Обратно шли молча. Уже у входа в корпус он остановился.
– Черт, лодку не замкнул. Подведу человека. Пойду замкну.
– Я с тобой.
– Зачем?
Он посмотрел на нее и смутился, будто сказал глупость.
– Да, конечно, только быстро. А то уже есть страшно охота.
Курица
Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата…
И. Бунин. «Кавказ»
Приехав в Москву, я отправился к гостинице «Измайлово».
Она ждала меня у выхода из метро.
Женщина, конечно, а не гостиница.
Обняла меня крепко, молча, уткнувшись лицом в плечо. Так встречают не любовника, а мужа, вернувшегося с войны.
– Ладно, пойдем, – сказал я.
И тут увидел ряд старух, которые стояли над деревянными ящиками, накрытыми газетными листами, а на ящиках, в кастрюлях и пластиковых пакетах – картошка вареная, огурцы соленые, капуста квашеная, куры жареные и подкопченные. Тогда, а это было в середине девяностых, такая торговля с земли и едой, и вещами цвела вольно и повсеместно.
Ароматы благоухали на всю округу, а я не ел со вчерашнего вечера, поэтому купил и картошки, и огурцов, и целую курицу.
– Ты собираешься это есть? – спросила она.
– Нет, администраторшу угощу, чтобы дала хороший номер, – сострил я.
Она не улыбнулась. Смотрела по сторонам.
– Знаешь, такое ощущение, что муж за мной следит.
– Ерунда.
Мы отправились в один из корпусов, «Дельта» или «Гамма», не помню.
Номер я попросил на последнем этаже – чтобы подальше от земли. Такой нашелся, мы поднялись, долго шли длинным коридором.
Едва оказались в номере, начали целоваться.
– Извини, сначала мне в душ, – сказал я.
– У меня мало времени. То есть вообще-то я до вечера отпросилась, но еще нужно кое-куда съездить.
– Успеем.
Я принял душ, потом достал из пакетов продукты, разложил, стал есть – торопливо, жадно, но с юмором, то есть что-то говорил веселое, развлекая ее.
Она от еды отказалась, сидела на краю кровати, выглядела смущенной, почти напуганной.
– Все нормально, чего ты? – успокаивал я.
– Мы полгода не виделись. Для меня все – как в первый раз.
– Для меня тоже.
– Разве? Ты такой спокойный.
– Это кажется.
Аппетит меня одолел прямо-таки несуразный, я все ел и не мог остановиться.
– На тебя страшно смотреть, – сказала она. – Знаешь, так, наверно, какой-нибудь палач перед казнью насыщается. Чтобы сил хватило головы рубить.
– Основной инстинкт – еда, а не то, что думают. Энергия. Все на свете – виды энергии. Сейчас я ее беру, а потом отдам тебе.
Наконец я почувствовал себя наевшимся, убрал остатки в холодильник, умыл руки и лицо, почистил зубы.
Через час она, раскрасневшаяся, счастливая – как мне казалось, с улыбкой лежала рядом, глядя на меня, касаясь пальцами лица, и говорила:
– Ладно, прощаю.
– Что?
– Курицу.
– Вот ты, ей-богу.
– Для меня нет ничего более асексуального, чем едящий мужчина. Я ненавижу готовить, кормить. Муж обижается, а я сказала: что угодно, только не это.
– Не знал.
– Я хотела уйти даже.
– От него?
– От тебя. Когда ты ел. Но потом поняла – если я даже это терплю, значит отношусь к тебе очень хорошо. Мягко говоря.
– А если не мягко? – напрашивался я, целуя в ухо.
– Кокетун! – уколола она меня рафинированным словцом. Интеллектуалка, чо.
Потом она ушла.
Я жил там неделю. Мотался по Москве, делал свои дела, встречался с людьми, разговаривал – и все мне казались приятными, и я, наверное, был для всех приятен, потому что мне улыбались, говорили со мной добродушно и участливо, даже если в чем-то отказывали.
С ней мы встречались еще три раза.
Входя, она спрашивала:
– Сегодня с чего начнешь? С меня или с курицы?
– Хватит! – сердился я шутливо, целуя ее и нетерпеливо раздевая.
В последний вечер вышел ее проводить. Помню, коридор был пуст, в лифте никого, внизу тоже. Было ощущение, что мы последние, кто покидает огромный тонущий корабль.
Зато на крыльце нас ждал он, ее муж, с которым я был знаком столько же, сколько с ней, и мы даже считались отдаленными приятелями, да и были коллегами по ремеслу.
– Ничего не надо, я прошу! – тут же сказала она.
– А я и ничего, – сказал муж, человек, как я уже знал, сдержанный, мягко-интеллигентный и, главное, беззаветно любящий жену. – Я просто – поговорить.
– О чем? Не нужно!
И она пошла прочь – к метро. Остановилась. Стояла, не оборачиваясь. Ждала его. Так ждут выстрела спину, сравнил бы я, если б любил подобные метафоры.
– Я хочу, чтобы вы знали, – сказал мне муж негромко, – что у нее это бывает. Однажды она встречалась утром с … – он назвал известную фамилию, – потом поехала к … – он назвал фамилию еще более известную, – а вечером решила навестить … – он назвал еще одну фамилию, мне неизвестную, но, судя по его тону, этого человека тоже все должны были знать. – Она экспериментирует.
– И что?
– Не берите в голову.
– Чего не брать?
– Ничего.
Я укорил его:
– Понимаю ваши эмоции, но какого черта вы мне пересказываете сплетни про свою жену? Нехорошо!
– Это не сплетни. Повторяю, я просто хочу, чтобы вы знали.
– Я все знаю. Она мне рассказывала.
– И?
– Что?
– Ваше решение?
– Какое решение, вы о чем?
– То есть для вас это проходной эпизод?
Сцена была нелепая, похожая на диалог двух джентльменов девятнадцатого века, за спинами которых стоят слуги с дуэльными пистолетами, но джентльмены еще не решили, стреляться или нет, брошен ли вызов, или пока все ограничивается словесным турниром, не требующим кровавой сатисфакции. Мне надоело, я сказал:
– Эпизод, не эпизод, вам-то что? Лучше подумайте, как вы смотритесь в этой ситуации. Шпионите, советы мне даете.
– Я просто очень ее люблю.
– Я тоже.
– И?
– Что и?
– Я понял. Извините. До свидания.
Он пошел к ней. Хотел взять ее за руку, она отшатнулась, быстро пошла к метро.
Оглянулась и крикнула:
– Курица!
Эффектный финал. Но не было этого.
Мне это представилось, почудилось – как возможное, хоть и не совершённое.
Да и не могла она так меня обидеть, другого рода была женщина.
Ушла, не оглядываясь, а он шел за ней, не приближаясь, – так отец ведет домой загулявшую блудную дочь, которая согласилась с ним идти, но потребовала, чтобы тот следовал на расстоянии, чтобы никто не подумал, что ее ведут, будто под конвоем.
Года через три или четыре они все-таки разошлись, она уехала то ли во Францию, то ли в Испанию с влюбившимся в нее сотрудником посольства или каким- то переводчиком, я не уточнял.
А бывший муж впал в тихое пьянство, снимал комнату где-то в дальнем Подмосковье, куда электричкой ехать полтора часа. Там и умер и был обнаружен дня через три по запаху – довольно заурядная история.
Так получилось, что я попал на похороны, на панихиду, сначала церковную, а потом гражданскую, где пришедшие в гости к смерти немногочисленные друзья говорили о нем с большим уважением.
Она не смогла приехать, но прислала своего выросшего сына, оставшегося в Москве, который передал родным и близким покойного ее глубокие соболезнования.
Сказки
– Тем и хорошо-с, что сам не знаешь чем. Жутко.
– В старину, Машенька, все жутко было.
И. Бунин. «Баллада»
У бабушки моей в углу, между шкафом и стеной, висела икона. Когда бабушка приехала к нам жить из деревни, всех вещей было – старый сундук, обитый жестяными полосами, и эта вот икона. Бабушка повесила ее сначала на виду, у окна, но мама попросила спрятать.
– К нам разные люди ходят, мало ли.
Сундук тоже поместился в этом углу, под иконой. Раз в год бабушка открывала его, перебирала вещи. Сильно пахло нафталином. Там были платки, простыни, темно-цветастое платье, черные туфли мягкой кожи, похожие на тапочки.
– Ты ничего этого не носишь, зачем оно? – спрашивал я.
– Приданое.
– Какое приданое?
– На смерть. Отстань, шутоломный.
Время от времени она вставала перед иконой, кланялась и бормотала.
Я, всегда любопытный до слов, вслушивался и понимал, что бабушка не знает ни одной молитвы, говорит то, что в голову придет.
– Святый Боже, святый-страшный, воскреси, помоги, помилуй, Христе славный, мать и сына, во имя веков, святый-страшный, помилуй, хлеб насущный, спаси, помилуй, беду-радость сохрани, пронеси, спаси, святый-страшный, присно ныне, долги мои прости, святый-страшный…
И так далее.
Я, четырнадцатилетний, усмехался и говорил:
– Бабань, новость знаешь? Бога нет!
– Уйди, – отмахивалась она, смущенно улыбаясь, – сердиться и злиться не умела. Даже ругалась если на что, то с улыбкой.
– Нет, правда!
– Молчи, дурашный! Клеврещешь на него, вот он тебя накажет. Он все видит, все знает.
– Да? Рентген он, что ли? – умненько допытывался я.
– Сам ты рентген, отстань!
Под праздники – Пасху, Первомай, Октябрьские и Новый год – она доставала из сундука желтую свечку, ставила ее на сундук в чисто вымытую стеклянную баночку из-под майонеза или сметаны, были тогда такие маленькие баночки, и молилась дольше обычного.
А я всегда перед праздниками чувствовал себя печальным и одиноким. Люди готовятся к веселью, к совместным песням, еде и выпивке, а мне в этом чудилось принуждение. Настал день – хоть тресни, а веселись.
Однажды, под Новый год, томясь этим настроением, я подошел к молящейся бабушке. Она тут же перестала.
– Чего тебе?
– Ты говоришь, он все знает. А как это проверить? Где доказательства?
– Да хоть я тебе доказательство. Что живая.
– Это как?
– Отстань.
– Нет уж, расскажи.
Бабушка пошла в кухню, поставила кастрюлю, чтобы что-то варить, налила себе и мне чаю.
И начала.
– Это еще в голода́ было, до войны. Такой ужасный страшный голод был, что люди людей ели.
– Слышал, сказки. Антисоветская пропаганда.
– Ага, скажи еще, что голода не было.
– Был в Поволжье, я читал. Но чтобы люди людей…
– Ты слушай. Я многодетная была, восьмеро у меня было, не считая, что детством померли, а всего было одиннадцать. Голод, умираем все. И узнаём, что исполком многодетным вспомощение выделил. Крупы, еще чего-то. Нас было две осталось многодетных, я и Мария. Остальные или сами померли, или уже дети у них все полегли. А нас двое многодетных осталось. И, значит, с района телеграмму дали в сельсовет: таким-то явиться за получением, доставки не ждите, вывоз самоходом. Ну, и мы пошли в Екатериновку.
– Пешком?
– Пешком, да зимой!
– Туда километров двадцать пять?
– Не считала, много.
– А довезти никто не мог? Машин не было? Или лошади?
– Все при хозяйстве было, кто ж нам даст? Мы начальство, что ли? В общем, пошли мы с ней. Накутали на себя рогожей каких-то, пошли. Идем. Холодно, ветер. Смотрим – кто-то догоняет. Мужик. Не наш какой-то. Чего-то кричит. А Мария пуганая, говорит: не останавливайся, пошли быстрей. Ну, мы бегом. И он бегом. Мария плачет: это людоед. Я ее утешаю, а сама тоже реву – всё, смерть пришла.
– С чего вы решили, что он людоед?
– А кто еще-то?
– Может, просто хотел с вами пойти. Чтобы веселей.
– Ага, рассказывай! Ну, мы бежим. Тут Мария встает, задыхается, за грудь берется. Говорит: все, не могу, шут с ним. Пусть сожрет, один конец. А он отстал. Тоже ведь слабый с голода. Тужился, а не догнал. Мы отдышались, смотрим – а он опять. И опять чего-то шумит нам. Подманивает. Ну, мы опять бежать. А кругом пусто, только Прудовой впереди, поселок такой, а сколько до него, неизвестно. Так и пошло – то бежим, то сил нет, стоим. И он стоит, дышит. Мария говорит: у него на нас двоих опасения, что мы двое. Говорит, ежли я упаду, ты меня не брось. А то он нас поочередке съест, все равно не упасешься. И смех и грех. А Прудового все нету. Мария аж почернела вся, опять говорит: не могу, лягу, пусть ест. И тут машина. А на машине Коля мой, сын. Он в Екатериновке работал тогда и угол там снимал. Я ему: ты как тут? А он: да вот решил съездить. Меня, говорит, как кольнуло, я и поехал. А вы чего? А мы за вспомощением, крупу обещали. Ну, он развернулся и повез нас обратно.
– А этот, который за вами шел?
– Пропал куда-то. Коля сигналил ему, нет, никого не видно. Испугался, надо знать.
– Ну, допустим. И что?
– Как что? С чего бы Коле ехать к нам? А я скажу: Бог ему шепнул.
– Ерунда.
– Ну, считай, что так. А я тебе говорю: Бог все видит, все знает. Ты вот запрешься у себя, думаешь спрячешься, а нет, как на ладонке ты у него!
Она засмеялась и погрозила мне пальцем.
Я тоже засмеялся и ушел в свою комнатку.
Осмотрел ее.
В двери щелей нет.
На окнах шторы и тюль. Всегда ли я задергиваю шторы? А через тюль снаружи – можно что-то разглядеть? Я вышел на балкон, посмотрел оттуда. Видно плохо, но сейчас вечер и свет не горит. Вернулся в комнату, зажег свет, снова вышел. Теперь все на виду. Но это вблизи.
Я оделся, спустился на улицу, вглядывался оттуда, отходя все дальше. Оказался у дома напротив. Нет, при всем желании ничего нельзя увидеть.
А если в бинокль?
Но кто будет смотреть в бинокль?
Да мало ли. Подглядел что-нибудь и рассказал бабушке, вот она и грозит мне пальцем. Будто что-то знает.
Скорее всего, ничего она не знает, а только делает вид. Ошибка старших и старых в том, что они считают себя умнее детей. А хитрые дети им поддакивают, соглашаясь, – лишь бы отстали.
Утром я пошел в школу. По асфальтовой тропинке мимо дома напротив.
Из подъезда вышел Юрков из параллельного класса. Мы не дружили, у нас были разные компании. Привет-привет, и все.
Я ему кивнул, он мне кивнул, я пошел себе дальше, он за мной.
А может, подумал я, он и есть тот, кто следит за мной? Недаром же всегда ехидно улыбается. Правда, он со всеми так. Такой характер у человека, такой настрой – на все смотрит с усмешкой, все ему не нравится, вечно на что-то жалуется, но с удовольствием, будто рад, что есть на что пожаловаться. Знаю я таких людей – сами ничего интересного не делают, но любят наблюдать и прохаживаться на чужой счет.
Вот он и наблюдает.
Противно: нет бы обогнать или отстать, идет в трех шагах сзади, сопит, что-то себе под нос бормочет или напевает, такая у него привычка.
Я и потом замечал, как неловко бывает, когда два человека оказываются на улице рядом и идут с одинаковой скоростью. Будто они вместе. Глупо и странно. В таких случаях или прибавляешь шаг, или, наоборот, идешь медленнее.
Юрков шел и шел следом.
Но наконец школа, и через пару уроков я выкинул все это из головы.
А назавтра Юрков опять встретился. И опять шел сзади до самой школы.
А потом еще раз.
По вечерам, да и днем, я начал плотно задергивать шторы. Пусть теперь смотрит – ничего не разглядит.
И опять он мне встретился с утра. Причем, как нарочно, вышел чуть после, чтобы пристроиться за мной. Совсем обнаглел. Я шел, злился, не выдержал, остановился, повернулся.
– Тебе чего надо?
Он, не понимая, выпучил глаза.
– Чего?
– Это ты чего? Подсматриваешь за мной?
– Когда?
– Я вечером тебя на балконе видел, ты на меня смотрел.
– Офигел? У нас окна в квартире вообще на ту сторону!
– Как это? Сколько у вас комнат?
– Одна! И кухня! И окна туда, а не сюда!
– Ладно, допустим. А из подъезда?
– Чего из подъезда?
Я понял, что он не виноват.
И успокоился.
Хотя – не он же один живет в доме напротив!
Это был, наверное, подростковый психоз. Я постоянно ходил, как бы прогуливаясь, возле дома напротив, вглядываясь во встреченных жителей, пытаясь угадать, кому до меня может быть дело.
А потом умерла бабушка.
Через год мы переехали в квартиру, окна которой выходили с одной стороны на пустырь, с другой на высокие деревья, густые и непроглядные даже зимой.
Все решилось само собой.
Анжела
– Василий Ликсеич… за-ради Христа… за-ради самого Царя Небесного, возьмите меня замуж!
И. Бунин. «Степа»
Леня Черкунов проснулся и тут же вспомнил, как непоправимо вчера накосячил.
Конечно, и похмелье тут же навалилось, но оно, терзая тело, радовало мучающуюся душу – будто он уже частично получил по заслугам, искупил вину.
А вот за остальное придется платить по полной.
Вчера он ехал на свою дачу мимо станции Репьи, увидел Анжелу, местную пацанку, дочку продавщицы поселкового магазинчика. Эта Анжела часто заменяла сильно пьющую мамашу, стояла за прилавком, и Леня не упускал возможности перекинуться парой слов с красивенькой девчушкой, очень ладно сложенной. Недаром же она носит или облегающие брючки, тонкие, черного или алого цвета, или очень короткую юбочку – в ней, кажется, нельзя и шага сделать, чтобы не показать то, на что юбочка надета, но Анжела как-то умудрялась вполне свободно двигаться и при этом ничего лишнего не показывать.
Она шла от станции – как раз в такой вот рискованной юбочке и белом топике, обнажающем смуглую тонкую талию. С хозяйственной сумкой в руке. Леня остановился, предложил подвезти. Анжела засмеялась, впорхнула в его внедорожник, не шелохнувшийся, не почувствовавший ее невесомой тяжести.
По дороге рассказала, что мамаха, так она звала свою мать Людмилу, третий день беспросыпно пьет по причине закрытия магазина то ли на учет, то ли на санитарную обработку. А может, и навсегда, хозяевам виднее. Давно пора, торговля тут никакая, поселок маленький, дачники только летом, да и они многое везут из Москвы. А как отгрохали на пути к Репьям огромный супермаркет, то вообще весь торговый бизнес в районе рухнул.
– И куда же вы теперь? – спросил Леня.
– Не знаю. Она раньше ремонтницей или обходчицей была на железной дороге, теперь не возьмут, здоровья не хватит. Будем тут пока. У меня школа в Шипурино, закончить надо.
– Далеко.
– Две станции всего, я привыкла. И главное, меня там все знают, помогут с экзаменами, с ЕГЭ этим дурацким. А в другой школе я последней дурочкой буду, мне оно надо?
– Ты дурочкой не кажешься.
– Да я тупая вообще! – смеялась и хвасталась Анжела. – Я дважды два без калькулятора не сосчитаю!
Пухлые ее губы были ярко накрашены, глаза густо подведены, щеки чем-то подмазаны. Грубая деревенская красота, думал Леня. Но кожа на талии, на голых ногах – чистая, гладкая, это неподдельное, настоящее.
И он рискнул – рассказывая что-то смешное, приобнял ее за талию, не отводя глаз от дороги.
– Э, э, спокойно! – прикрикнула Анжела.
Но строгости в голосе не было, почудилось даже легкое одобрение.
Она и не к такому привыкла, думал Леня. Поселковые, они незамысловатые. Семки, пивасик, пацаны без лишних разговоров сомнут под забором, сорвут трусишки и сделают, что захотят. И только пикни – оторвут голову и тебе, и твоей несчастной мамахе.
Въехали в поселок. Дорога разбитая, везде хлам. Там ржавый остов машины стоит дисками на кирпичах, там брошенный тракторный кузов давно уже служит мусоросборником, а там неожиданно новенький и дорогой автомобиль нелепо торчит у хибары, которая, если ее продать, стоит не дороже одного колеса этого автомобиля. Впрочем, платят тут за землю – Подмосковье все-таки. Раньше поселковые жили дачами москвичей – летом нанимались что- нибудь ремонтировать, строить, вскапывать-пропалывать, а зимой просто-напросто воровали из дач все, что плохо и хорошо лежит. Но члены садового товарищества тряхнули мошной, сбросились на высокий забор вокруг обширного дачного массива, оборудовали въезд с охранником и шлагбаумом – и все, перекрыли кислород. Кто-то еще ездил на заработки в Москву, остальные бездельничали и спивались или получали пенсию по старости, что, впрочем, спиваться не мешало.
Тоска, безысходность, с гражданской скорбью думал Леня, глядя на безлюдную улицу и неказистые дома. И на тебе, в этом гниюшнике – такой вот цветок. Или, лучше сказать, плод. Персик.
Анжела сама предложила зайти.
Леня даже слегка растерялся, спросил:
– Зачем?
– В шахматы поиграем! – захохотала Анжела. – Да просто посидим, кофе выпьешь, если хочешь. Или чего-нибудь еще, я мамахе на неделю запас привезла, – она тряхнула сумкой, послышался стеклянный звон. – А то я с ума схожу, все разъехались, телевизор только один канал показывает, интернета нет, сигнал тут вообще почти не ловится. Как дикие живем.
Анжела не пустила его в дом, вошла одна. Слышно было, как Людмила за что-то ее ругает, а она кричит: «Молчи, дура, надоела! Нет бы спасибо сказать!»
Вышла спокойная, будто ничего не было.
Устроились на лужайке за домом, возле деревянного сарая, который Анжела назвала летней кухней.
– Я тут с весны до осени сплю. У мамахи сроду алкаши какие-то. Ну, за знакомство?
– Я за рулем.
– Тебе ехать сто метров. Ты же в дачах живешь?
– Да. Ладно, немного можно.
Выпили, поговорили, еще выпили. Анжела рассказала о школе, о приятелях, Леня о своей работе, о бывшей жене.
– Ты еще и холостой! – обрадовалась Анжела. – Ну все, тогда ты попал!
– С удовольствием, – ответил Леня, обнял ее, поцеловал, повалил, полез под топик.
– Не здесь, мы же не обезьяны какие-то, – сказала Анжела.
Повела его в летнюю кухню. Там был старый диван, который она разложила, и тот занял собой почти все пространство. Постелила простыню, кинула две большие подушки.
– Для кого держишь? – спросил Леня.
– Подруги иногда ночуют.
– Ну да, знаю я этих подруг. У тебя вообще кто-то есть?
– Слушай, не тема!
Показала она себя, как и ожидал Леня, горячей, опытной, ненасытной. Незаметно сгустилась тьма, наступила ночь.
Посплю я здесь, пожалуй, решил захмелевший от выпитого и от ласк Леня. Но под боком было что-то мокрое. Раньше не чувствовалось, горячее потому что, а теперь остыло. Он посмотрел – что-то темное. Посветил телефоном.
– Не понял. У тебя женские дела?
– Нет.
– А что?
– Что, что. То!
– Да ладно!
– Вот и ладно. Первый раз у меня.
И рассказала Анжела: все подруги над ней смеются, что она до сих пор нераспечатанная. А она просто решила – пусть первый раз будет с тем, кто нравится. Даже не обязательно любовь, но – чтобы нравился. И все никто не попадался.
– А я тебе, значит, нравлюсь?
– Еще как. Давно уже.
– Постой. А тебе сколько? Шестнадцать есть?
– Будет через месяц.
В голове Лени тут же закрутились юридические выражения: «возраст согласия», «изнасилование несовершеннолетней» и так далее. Хотел сразу же посмотреть в телефоне, но Анжела была права – сеть тут совсем не тянет.
– Ты чего? – Анжела стискивала его, тыкалась носом в щеку, лизала языком, как щенок. Дурачилась. – Думаешь, в полицию тебя потащу?
– Да нет. Просто… Неожиданно как-то.
Он вышел из сарая, выпил махом стакан водки, постоял. Запрокинул голову, чтобы посмотреть на звезды, но небо заволокло сплошными тучами. И ветер налетал холодный, отчего листья яблонь густо шелестели, и падали первые капли дождя.
Леня побрел, спотыкаясь, к машине.
Гнал так, будто очень спешил, в кого-то чуть не врезался на повороте. Не сбавляя скорости, схватил телефон, разбудил звонком приятеля и юриста их фирмы Вадю Панина, спросил, когда наступает возраст согласия и что бывает, если ты девушку до него это самое.
– От девушки зависит, – сонно ответил Панин. – Вообще-то срок, тюрьма. Главное, она заявление подала?
– Нет. И не собирается.
– И ты меня будишь по такому пустяку? Урод! – добродушно проворчал Вадя и отключился.
Как подъехал к даче, как вошел, как упал, Леня помнит смутно.
И вот видит себя в одежде на постели.
С больной головой и вопросом: что теперь делать?
Решил сделать то, к чему привык во всех жизненных обстоятельствах: договориться. Наскоро умылся, переменил одежду, выпил кофе, поехал к дому Анжелы.
Она еще сладко спала в своем сарае. Долго приходила в себя, потягивалась, улыбалась.
– Послушай, – сказал Леня. – Только внимательно.
– А в сортир можно сначала? И умыться?
– Иди.
Она ушла. Минут десять ее не было, Леня истомился ждать.
И пока ждал, осознал, что говорить будет вовсе не о том, о чем собирался.
Наконец она вернулась. Села рядом, обняла. Леня отстранил ее.
– Постой. Слушай. Ты переезжаешь ко мне. Будешь ходить в московскую школу. Через месяц, когда тебе будет шестнадцать, оформим наши отношения. Закончишь школу, потом я найму тебе репетиторов, поступишь – куда ты хочешь?
– Еще не знаю. И не надо мне так. То есть, конечно, в Москву интересно, но куда я мамаху дену? А бабу Олю?
– Какую бабу Олю?
– Бабку мою родную, она в параличе, второй год помирает, а помереть не может.
– Наймем сиделку, – растерянно сказал Леня, понимая, что все сложнее, чем он себе представлял. Казалось: будет рядом чистая и вкусная девочка, и телу приятно, и душе лестно – воспитать человечка. Но, похоже, у человечка многовато проблем.
– Сиделка не вариант, – объясняла меж тем Анжела. – Мы пробовали, и соседку звали, и еще одну женщину, а баба Оля в них калом кидается.
– Чем?
– Говном! Она во всех кидается, даже в мамаху, только меня признает. Нет, она, скорее всего, уже помрет скоро, но я все равно – не хочу.
– Почему?
– А зачем? В качестве кого? Секс на дому?
– Ты чем слушала? Я жениться хочу на тебе.
– Еще лучше! Мы разные люди, Леня! Вот у нас Татьяна Сырцова такая жила, тоже дачник ее подобрал, тоже женился, квартира в Москве в элитном доме, какой-то супер-пупер-палас, бизнес у него крутой, все дела. И что? Через год сбежала. Говорит: на хрен мне такой компот, сижу и жду его при кухне, голубцы верчу, любит он их, сучок. Раз в месяц выведет на люди, а остальное время как в тюрьме!
– Ты не будешь как в тюрьме. Я же сказал: поступишь, будешь учиться, развиваться.
– Я и так поступлю и разовьюсь.
– Дура! – не сдержался Леня. – Ты тут сопьешься! Тут дыра, помойка! Школа в Шипурино, всего две станции, ага! Вы опупели, что ли, вам нормальную жизнь предлагают, а вы рогами уперлись!
– Не ори! Кто мы-то? И не сопьюсь я, не увлекаюсь этим делом, только вот с тобой, и то за компанию. И не курю, если ты заметил. Не поняла, ты что, думаешь, я на тебя в суд, что ли, подам за изнасилование? Испугался?
– И опять дура! Я тебя люблю, если хочешь знать!
– Когда это ты успел? Даже если так – твоя проблема. Ты любишь, а я нет. Нравишься, да, но любить и замуж – другая история. Я не спешу вообще.
Долго Леня убеждал Анжелу, она отговаривалась, а потом сказала, что хватит, ей пора посмотреть, что там с Люськой. И бабу Олю кормить пора, подгузники ей менять.
– Иди меняй. Зарастешь тут калом!
– И зарасту. Противный ты оказался. Значит, правильно я решила.
После этого Леня поехал в Москву, к Ваде, рассказал ему все, опять крепко выпил по случаю субботнего дня. Вадя рад был компании, потому что в одиночку жена ему пить не разрешала.
Уже вечерело, когда они сидели на балконе, глядя с высоты двадцать третьего этажа дома Вади, стоящего крайним у МКАДа, как солнце медленно спускается за длинный гребень далекого лесистого холма, как выделяются вершины деревьев и очерчивается кромка леса на фоне примыкающего к земле багрового неба, и на пространство от домов до леса уже налегает ночь, а там, за лесами, еще вечер и даже день – им отсюда не видный.
– Другой бы радовался, – удивлялся Вадя, – а ты с ума сходишь. Жаба заела? Самолюбие уязвили? Она мудрая девочка, тебе повезло. Наверно, минет классно делает? Я заметил, – сказал он, оглянувшись и понизив голос, – чем умней девушка, тем лучше делает минет.
– Не факт! – авторитетно возразил Леня.
– Не факт, – тут же согласился Вадя. – Просто хочется найти хоть в чем-то закономерность. А закономерности ни в чем нет. Ни в природе. Ни в юриспруденции, – это слово Вадя выговаривал четко в любом состоянии. – Ни в человеческих отношениях. Но это и ценно! – заключил он.
Леня остался ночевать у друга.
Проснулся рано и почти без похмелья.
Привел себя в порядок и поехал в Репьи с твердым решением еще раз поговорить с Анжелой и добиться ее согласия.
Надежда
Она обняла меня, не спеша поцеловала в губы, отстранилась, посмотрела и, как будто убедившись, что я достоин того, закрыла глаза и опять поцеловала…
И. Бунин. «Муза»
Это было давно, в советское время, на областном семинаре молодых поэтов, куда приглашали всех желающих. Володя Корнеев пришел, хотя стихов никогда не писал. Читать их и слушать тоже не особо интересовался, но надеялся, что там будут симпатичные девушки. И прогадал, таковых не оказалось.
Мероприятие проводилось в зале Дома офицеров, похожем на театральный, – сцена, ряды красных кресел и два балкона по бокам.
Володя со скукой слушал ритмичные завывания очередного поэта, здоровенного парня с крутыми плечами и странно тонким, почти женским голосом. Сзади скрипнуло, поэт сбился. Володя оглянулся и увидел высокую, красивую девушку с длинными, волнистыми рыжеватыми волосами, в белой блузке и белых брюках. Она извинилась с улыбкой, прошла и села с краю, рядом с Володей. Мощный поэт продолжил, но Володе показалось, что он сразу же утратил весь свой пыл. До этого был упоен собой и своими стихами, а теперь в глазах появилась обиженная тоска и читалось: какого черта я занимаюсь этой ерундой, когда есть на свете такая нестерпимо красивая девушка, которая никогда не будет моей, пусть я хоть трижды гениален?
Володя украдкой вытер влажную руку о штаны, протянул ей:
– Владимир.
– Надежда.
Рука ее была легкой, сухой и теплой.
Руководитель семинара вызывал всех по порядку размещения, сначала слева направо первый ряд, потом второй, третий. Дошел черед до нее.
– Я стихов не пишу, – сказала Надежда. – Я послушать.
Володя тоже отказался:
– Извините, наизусть не помню, а тексты не взял.
– Если поэт не помнит собственных стихов, значит они написаны не душой, а буквами, – изрек руководитель, сорокалетний мужчина бухгалтерской внешности, с чахлым чубчиком, зачесанным с темени на лоб. – Когда стихи написаны душой, они сразу впечатываются в память. Навсегда!
И в доказательство прочел наизусть несколько своих стихотворений, глядя на всех общим взглядом и делая вид, что ничем не выделяет Надежду, но Володя понимал, что читает он именно для нее.
Закончив, руководитель дал возможность выступить оставшимся поэтам и поэтессам. По одному стихотворению, справа налево, по порядку размещения.
Надежда слушала спокойно, задумчиво. Потом слегка покачала головой, будто говоря: нет, не то. И спросила Володю:
– Тебе нравится?
– Нет.
– Тогда пойдем?
– Конечно.
Они вышли – без демонстрации, вежливо, чуть пригибаясь, как это делают в кино, когда уходят с сеанса и не желают мешать другим.
У здания был сквер, они сели там на скамейку старинного устройства, с чугунными завитушками. Она спросила:
– Ты в самом деле наизусть ничего не помнишь?
– Помнить нечего, не пишу я стихов.
– Но любишь?
– Нет. Я на симпатичных девушек пришел посмотреть, – весело признался Володя.
– Посмотрел?
– Не было их там. Зато сейчас вижу. Не зря пришел.
Надежда не улыбнулась, не усмехнулась, смотрела на Володю внимательно, ему от этого было немного неловко, но он храбрился, был даже нахальнее, чем обычно.
– Я тоже не пишу стихов, но люблю, – сказала Надежда. – Люблю, когда у других есть какой-то талант. У тебя есть в чем-то талант?
– Конечно. В жизни. Я талантливо живу.
– Это как?
– Делаю только то, что хочу.
– Сейчас чего хочешь?
– Много чего.
– Например?
– Тебя поцеловать, конечно.
– Да? Ну, попробуй.
Они целовались долго, вдумчиво, старательно.
Потом курили.
– Ты мне нравишься, – сказала Надежда. – Естественно себя ведешь. Немного на себя напускаешь чего-то, но напускаешь тоже естественно. Как дети хвалятся. Они хвалятся, а сами наивные такие. Ты неиспорченный, наверно.
– Надейся, надейся, – посмеивался Володя.
И опять целовались.
Надежда спросила:
– А вдруг я соглашусь? Не боишься?
– С чего бы?
– Прямо-таки не с чего?
– Абсолютно.
– Все, убедил. Надо попробовать.
– Да хоть сейчас! Вопрос – где? Можно ко мне, но скоро родители с работы придут.
– А у меня родители на юге, в отпуске. Я одна.
– Далеко живешь? – деловито спросил Володя.
– Нет, но сейчас у меня срок не тот. Через три дня.
Позже Володя узнал, что она серьезно относилась к своей безопасности, считала дни, придерживалась так называемой календарной контрацепции, о которой знали многие советские девушки. Сводилась она к формуле «пять дней до – пять дней после». Другой контрацепции в те времена не существовало или была такая, что отбивала охоту ко всему.
Наконец они встретились, чтобы осуществить задуманное.
И осуществили.
Володя был самоотвержен, старательно трудился над ее удовольствием, добился результата и начал догонять ее, а Надежда терпеливо пережидала – у нее, как она честно объяснила, была реакция мужского типа. Яркая, но одноразовая.
И тут бы начать историю отношений, но отношений не получилось. Они встречались две недели, почти каждый день, а потом Володя кем-то увлекся, Надежда кем-то увлеклась, да плюс учеба в институте, друзья, посиделки…
Надежда вышла замуж, родила дочь, развелась, сделала очень успешную карьеру в области фармацевтики, Володя тоже достиг определенных успехов. Потом она уехала в Москву, а он остался в своем постылом, пыльном, но привычном, а иногда даже милом городе, остался с женой, с двумя детьми, а теперь уже и внуками.
Он не раз рассказывал об этом случае друзьям, знакомым и попутчикам, в случайных компаниях, считая его необычным, слушавшие вежливо удивлялись, но ничего необычного не видели, у каждого в прошлом было что-то похожее.
А он все рассказывал – и рассказывает до сих пор, хотя прошло уже больше тридцати лет. Он рассказывает, все яснее понимая, что за эти долгие и разнообразные годы, за всю насыщенную большими и маленькими событиями жизнь ему никогда и ни с кем не было так хорошо и интересно. И ведь ей тоже с ним было хорошо и интересно. Он пытается вспомнить, из-за чего и почему они расстались, но не может вспомнить. Ни из-за чего, просто – так получилось.
Воскресенское кладбище
…Передо мной, на ровном месте, среди сухих трав, одиноко лежал удлиненный и довольно узкий камень, возглавием к стене.
И. Бунин. «Поздний час»
Ерничать, все вышучивать было обычным занятием для молодежи семидесятых-восьмидесятых. Оно, скажут, и сейчас так. Нет. Сейчас прикалываются, а это не одно и то же.
Мы с другом Витей любили выпивать на старом Воскресенском кладбище, уже в ту пору закрытом для захоронений. Изредка к некоторым могилам все же подселяли, то есть помещали новопреставленных рядом с упокоившимися ранее родственниками. За большие деньги. Находили места и для крупных партийно-советских чиновников, чтобы близкие не обременялись потом навещать их на жареном бугре, как выражались в народе, то есть на загородных далеких кладбищах. А в девяностые на Воскресенском выросла целая аллея черных обелисков над могилами криминальных авторитетов, чьи портреты увековечены были в мраморе – со златыми цепями на бычьих шеях и с ключами от «мерседесов» в аристократически (или воровски) удлиненных пальцах. По аналогии с соседней Аллеей Героев, где были захоронены Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, ее назвали «аллей Бандитов». Она располагалась наискосок от краснокирпичных арочных ворот. Эту арку будто бы разбирали, а потом восстановили, когда надо было провезти особенно высокий бандитский памятник. Я этого не помню. Врать не хочу, а правду говорить не умею, как высказывался с усмешкой Витя, человек остроумный, да и просто очень умный.
Мы были молодыми и мы были бездельными – я иногда, а Витя постоянно. Хотя он много читал. Одной из самых любимых его книг была «Темные аллеи» Бунина. Он хорошо разбирался в предмете, который там в основном описывается, намного лучше меня. И был по отношению к этому предмету, то есть, назовем прямо, девушкам и женщинам, легок, непостоянен, никто у него надолго не задерживался, рассказывал он о своих приключениях с юмором довольно охальным, но беззлобным.
Выпивать на этом кладбище мы любили потому, что оно все густо заросло деревьями и кустами, здесь было уютно и сюда, главное, очень редко наведывались милицейские патрули. Они знали, что тут водятся пьяницы, но им лень было искать их в тесных закоулках между оградами и деревьями.
И вот мы пришли однажды золотой осенью, в солнечный день, выпили какого-то дрянного вина – а другого тогда и не бывало в свободной продаже, – бродили среди могил. Витя постоянно что-то цитировал, декламировал, то – земную жизнь пройдя до середины, то – нет, не бывать тому, что было прежде, то – стою печален на кладбище…
А потом начал дурачиться. Читал надписи на памятниках, плитах и табличках и комментировал.
– Хохолков Петр Иванович, 1895–1972! – выкликал он командирским голосом, как сержант перед строем послушных солдат. – Наверно, Хохолков Петр Иванович, был ты хороший плотник и замечательный выпивоха! Прожил семьдесят семь лет и помер, окруженный плачущими детьми и неблагодарными внуками! И жена твоя, старуха, рыдала над тобой, Хохолков Петр Иванович, хотя и надоел ты ей своим маразмом, потому что, Петр Иванович, признайся, выжил ты уже из ума, а кто не выживет в твои-то годы? Покойся с миром, честный труженик!
– Чижинская Любовь Игоревна, 1930–1962! – продолжал он весело глумиться. – Где ты теперь, кто тебе целует твои хладные уста, изъеденные могильными червями? Почему ты так рано оставила нас? Была ты, наверно, актриса, играла Офелию, любила режиссера, а он тебя бросил, и ты отравилась уксусом! Ты надеялась, что после этого он тебя полюбит хотя бы мертвую, а он, подлец, забыл сразу же и даже не пришел на похороны!
– Рабин Яков Соломонович! – удивлялся он. – Как вас занесло сюда, Яков Соломонович?
Вопрос этот объяснялся тем, что в городе нашем было и есть отдельное еврейское кладбище. А еще татарское. И даже старообрядческое.
– Вам одиноко здесь, наверно? – допытывался Витя у скромного металлического обелиска со звездой на ржавом штыре. – Да вы ровесник Ленина, оказывается! Он помер, а вы выжили, чтобы с достоинством умереть в преклонном возрасте! Но имя Ленина живет и побеждает, Яков Соломонович, а кто помнит вас? Заросли вы сорняком и кустами, никто вас не помнит!
Следующим был деревянный крест с эмалированной табличкой: «Коля, 1945–1946». И Витя, как ни охален был, не тронул его, прошел мимо. Но веселье его не оставило.
– Жоркина Жанна Сергеевна, 1957–1976! Что же ты не пожила еще, родимая? Или вышла ты замуж за любимого человека, а он замучил тебя в первую же брачную ночь так, что ты умерла от счастья? Или был у тебя аппендицит, лучшие в мире советские врачи его вырезали, но по привычке забыли в тебе скальпель, зажим и тампон, и все – заражение крови, бесславная смерть! Или задавил тебя анонимный трамвай темной ночью на безлюдной улице?
Витя выдохся, устал, сел на лавочку у ограды. Я сел рядом. Мы допили то, что осталось. Вечерело. Солнце, листья, небо – все было одного золотистого цвета.
Хотелось сказать или хотя бы подумать что-то значительное, но в голове словно была паутина. Легкая, мягкая. Никаких мыслей, а только состояние – хорошо и немного грустно. Господи, сколько прожитых жизней вокруг! И было у них то же, что и у меня. Вставали утром в ожидании счастья или чего-то нового. Учились, любили, работали. Говорили с близкими, пили чай, играли в шахматы или карты. Читали, смотрели телевизор. И все это – где оно? И ведь, возможно, вы все, сотни и тысячи, уже знаете ответ. Но никто из вас, сотен и тысяч, не даст ответа. И главное ощущение здесь, на кладбище, – тайна. Тут есть памятники, кресты и плиты, ограды, цветы, деревья, кусты. Но на самом деле – нет ничего. Для нас, живых, да, есть. А для вас – пустота, ноль. Как представить этот ноль?
Витя вгляделся в могилу напротив.
Встал, подошел.
– Боже ты мой! – сказал он.
Я тоже подошел.
На грубом металлическом кресте, сваренном из водопроводных труб и покрашенном серебрянкой, была фотография на эмалированной овальной табличке. Фотография красивой девушки. Фотография не цветная и, наверное, обработанная – очень уж напоминала изображения легкокудрых девушек на чашках и тарелках поповского сервиза, которым перед моей мамой хвасталась одна ее аристократическая знакомая. Но те девушки были однотипны и искусственны, а эта – настоящая. Она улыбалась и глядела так, будто не понимала, что умерла.
– Боже мой, – повторил Витя.
– Что?
– Я ее знал.
– Серьезно?
Я посмотрел на даты. Девушка умерла год назад, и было ей семнадцать. Так что – вполне возможно.
Но мне известна была и склонность Вити к романтическим фантазиям, поэтому я ждал продолжения.
– Я в одной компании ее встретил. Ты меня знаешь, я хам и наглец. Но я онемел. У меня был шок. Я сразу влюбился. Я хоть раз тебе говорил, что я в кого-то влюбился?
– И даже часто.
– Это ерунда. Влюбился по-настоящему. Тебе не рассказывал. И никому вообще. Потому что о таком не говорят. Она была там с кем-то. Я думал – ее парень.
– Будто тебя это остановит.
– А вот остановило. А потом я увидел, что парня нет. Ушел. А она осталась. Думаю – сейчас подойду. А сам сижу, как окаменел. Не могу тронуться.
– Выпил много?
– Да пошел ты! Короче, я часа два решался. А квартира большая, какие-то там комнаты проходные, всю кругом можно обойти через двери. У Альки это было, знаешь ее? Алька Малинина.
– Нет.
– Неважно. И вот я понял: сейчас. Иду к ней. Главное, вижу – она в другой комнате. Иду. А ее там нет. Смотрю – она в другой. Я туда. И там нет. Я полчаса так ходил. Вижу ее, иду к ней, а ее нет. А потом совсем исчезла. Я к Альке – кто такая? Она говорит – ты про кого? Я описываю. Она говорит – понятия не имею. И никто не знает, представляешь?
– Нет. Как она пришла туда, где ее никто не знает?
– Ну, может, с парнем. В общем, я с тех пор ее искал. Она мне снилась все время. Я понял, что это та девушка, о которой я всю жизнь мечтал. Моя девушка. Везде искал, у всех спрашивал. И нашел. Вот здесь. Но я теперь никогда ее не встречу. Ты понимаешь? Никогда! Невермор!
Витя помотал головой, посмотрел на меня мутными, пьяными глазами, полными влаги. Одна слеза скатилась по щеке к губе, он машинально слизнул ее. Неподдельное горе выражалось в его лице, но я не верил.
Витя, хоть и был пьян, понял это.
– Сволочь! – выкрикнул он. – Пошел вон!
И толкнул меня в плечо.
– А по морде? – спросил я.
Витя рванулся ко мне, схватил за грудки, начал трясти меня и дергать.
– Я люблю ее, скотина, а ты смеешься!
– Перестань!
Я отцепил его от себя, усадил на лавку.
Витя сидел опустив голову, шмыгая носом.
Потом повалился на траву и заснул.
Я сел рядом, прислонившись спиной к ограде, и тоже заснул.
Спали мы недолго, проснулись шальные, но почти протрезвевшие – молодость и здоровье! – и пошли искать выход. Блуждали меж деревьев и могил. Было серо и холодно.
Вышли к оврагу, что тянулся вдоль кладбища. Спустились по травянистому откосу, чтобы справить малую нужду. Оба хмуро молчали, стояли поодаль, отвернувшись друг от друга.
Я глядел перед собой и увидел внизу ограду, лежащую боком. Или она была на краю оврага и ее подмыло, или кто-то выдернул с окончательно забытой могилы и швырнул в овраг. Спустившись еще ниже, я понял, что тут что-то вроде свалки. Кладбище кладбища, бесхозные останки гробов, оград и памятников. И кости. Много, разные, сваленные чохом в одну кучу, окончательно ничейные, окончательно безымянные. Мне напомнило это скотомогильник, который я видел однажды, когда гостил в деревне. Выбеленные черепа и кости, в которых я не мог угадать тех животных, кому они принадлежали.
Сзади зашуршало. Я оглянулся.
Витя стоял надо мной, был до синюшности бледным в свете луны, вместо глаз – тени, неровно овальные – как дыры в черепе. Мне даже стало немного страшно, будто я заглянул в будущее и увидел его мертвым. Краше в гроб кладут, вспомнилось выражение.
Что ж, зато настал и мой черед пошутить.
Я вытянул руку и возгласил:
– Имя их неизвестно, подвиг их бессмертен!
– Ох и дурак же ты! – сказал Витя.
Сказал без осуждения, с сожалением очень взрослого и очень мудрого человека. И мне стало вдруг стыдно, вернее неловко, хотя я и не подал вида.
Опоздав на все виды транспорта и не имея денег на такси, мы шли домой пешком. Шли весело, маршевым шагом, распевая где-то услышанную строевую песню:
Через горы, реки и овраги
Мы дойдем до самой до Чикаги!
Шагом, шагом, шагом, братцы, шагом —
По долинам, рекам и оврагам!
Что тут скажешь, у нас ведь тогда еще никто из родных и близких не умер, да и сами мы с Витей были живы, а теперь только я.
II
Вася Чернышевский
Кроме того, она была художница…
И. Бунин. «Руся»
В сентябре художественное училище отправили на картошку, как это традиционно называлось. На самом деле картошку в пригородном совхозе «Луч Ильича» уже собрали, поэтому трудились на плантациях помидоров, огурцов, сладкого перца.
К концу дня приезжал тарахтящий трактор «Беларусь» с прицепом-кузовом, в него грузили наполненные ящики. Тракторист, щетинистый полубеззубый мужичок в замасленных серых штанах, рваных кедах и выцветшей зеленой майке, с плоским картузом на голове, наблюдал за девушками, многие из которых были в одних купальниках, и пытался косолапо шутить, спрашивая, есть ли у них кавалеры, а то он свободен как птица, девушки посмеивались, отвечали задорно и игриво – не потому, конечно, что им нравился этот мужичок, они друг перед другом соревновались в остром слове, они не ему показывали, весело хвастаясь, свою юность, гибкость и красоту, а всему вокруг – и этому полю, и дальнему лесу, и ласковому солнцу, и белым облакам, и синему небу.
В кузове принимал ящики и устанавливал их молчаливый и хмурый парень, неказистый, костлявый, с пропыленными длинными волосами, висевшими, как сухие мочалки; девушки и с ним пробовали заигрывать, но он оставался суров и всем своим видом показывал, что цену себе знает, на дешевые подначки не ведется.
Однажды вечером трактор приехал чуть позже. Начали грузить. Оксана, подруга Даши, вдруг охнула и сказала:
– Ничего себе! Даш, смотри!
Даша посмотрела. В кузове вместо патлатого парня был юноша удивительной, какой-то фантастической красоты. Он был обнажен по пояс, и такого торса Даша никогда не видела. Разве что у античных скульптур, да еще в анатомических атласах, по которым Даша и ее сокурсницы изучали строение человеческого тела, дельтовидные, грудные, зубчатые и прочие мышцы. У этого юноши они были, пожалуй, выпуклее и мощнее, но выглядели не так, как у культуристов, где все гипертрофировано до безобразия, а гармонично, соразмерно. Волосы у него были светло-русые, глаза темно-синие, а на загорелых щеках цвели нежно-бурые пятна румянца.
– Прямо расписной какой-то, – сказала Оксана. – А фигура, мама ты моя! Чур я первая его рисую!
Но девушки, что были ближе к кузову и уже подавали юноше ящики, не терялись, наперебой спрашивали, как его зовут, откуда он такой, каким спортом занимается и не согласится ли им позировать. Юноша охотно отвечал, что зовут его Василий, живет он в совхозе, закончил девятый класс, никаким спортом не занимается, кроме школьной физкультуры, а позировать не будет, потому что некогда и неохота.
– Даже мне? – спросила подошедшая Даша.
На такой вопрос надо иметь право, и у Даши оно было – право неоспоримой красоты. Были у них девушки милые, миленькие, симпатичные и симпатичненькие, приятные и очень приятные, все друг с другом так или иначе конкурировали, но Даша была вне этого, ее превосходство признавали почти спокойно, словно она была инопланетянкой, с которой соревноваться бессмысленно. Стройная, волосы темные и длинные, глаза ореховые, современные читатели[1], чтобы не заморачиваться, могут погуглить и найти фото актрисы Нины Добрев – такой была Даша, а то и лучше. При чем тут Нина Добрев? При том, что она урожденная болгарка, а у Даши отец был болгарин. Правда, она его в глаза не видела, мать родила Дашу одиноко, а об отце рассказала дочери лишь в день ее совершеннолетия, до этого отмахивалась: «Неважно, скоротечная и глупая любовь, я его давно забыла, и ты не думай!»
Вася выпрямился во весь рост, а роста он был чуть выше среднего, и посмотрел на Дашу, улыбаясь. И она улыбалась. И все вокруг, включая щетинистого мужика, улыбались, глядя на этих красавцев, которые вели молчаливый диалог, будто были одни. Да, ты хорош, но и я хороша, говорила взглядом и улыбкой Даша. Вижу, отвечал Вася, согласен, ты меня достойна. Ну, мальчик, кто кого достоин, это мы еще посмотрим, усмехалась Даша.
– Ты, девушка, не очень возносись перед ним! – подал голос тракторист. – Он у нас не просто так, а Чернышевского сын!
– Ох ты! Николая Гавриловича? – со смехом удивилась начитанная Оксана.
– Какого Гавриловича? Нашего директора совхоза, Сергей Сергеича! У Юрки живот схватило, вот Василий его и заменил на добровольном начале. Не гордится, молодец!
– Да ладно тебе, дядь Саш! – сказал Вася. – Это роли не играет. Ну что, красавицы, работаем или что?
– Как говорит смело, гаденыш! – сказала Оксана Даше. – Девятый класс закончил, это, значит, пятнадцать ему? Или шестнадцать? А может, он с восьми в школу пошел, как я, значит, семнадцать уже. Не мальчик.
– Примериваешься? – спросила Даша.
– А ты нет?
Даша не ответила. Они грузили ящики, делая вид, что заняты только работой. Закончили, Вася закрыл задний борт, спрыгнул, подошел к Даше и спросил:
– В столовой живешь?
Он имел в виду старую совхозную столовую, где устроили общежитие для студентов, настелив деревянные нары и уложив полосатые матрасы впритык друг к другу.
– Да, – ответила Даша.
– Часов в девять зайду?
– Зачем?
– Места наши покажу. У нас красиво.
– Ладно.
– А тебя как зовут-то?
– Спасибо, что спросил. Даша.
– Очень приятно. Василий.
– Я слышала. Чернышевский?
– Чернышевский. Значит, в девять?
– Хорошо.
Странно было Даше, казалось, что все вокруг умолкло – и трактор, заведенный только что, готовый к отъезду, и девушки, и уж тем более молчали дальний лес, небо и облака. И они говорят в этой полной тишине, и весь мир прислушивается с радостным удивлением.
Когда ехали обратно, тоже на тракторе, сидя в кузове на подстеленной соломе, Оксана говорила Даше с печалью:
– Первый раз завидую тебе. Ненавижу прямо. Хотя, может, и к лучшему. Красавец, конечно, но он же кто? Он пацан и крестьянин.
– Не такой уж и крестьянин, если папа директор.
– Ну да, надейся. Тебе с ним скучно станет через пять минут. Мы обречены, Даш, любить мозгами. И тех, у кого мозги. Выучились, дуры, на свою голову. У меня вот сосед, Рома, пэтэушник, просто Ален Делон, а рот откроет – туши свет. И это не преодолеть. Если только напиться.
В девять часов все девушки, слышавшие уговор Васи и Даши, сидели на лавках у столовой, ждали. Вася пришел. В голубых джинсах, в белой рубашке, с белозубой улыбкой.
– Нет, он просто невероятный какой-то! – сказала Оксана. – Встретила бы в городе, подумала бы – наш человек.
– А разве не наш? – спросила сидевшая рядом веснушчатая девушка с маленькими блекло-голубенькими глазками.
– Не думаю. Все равно сельпо видно.
– В чем?
– Да джинсы хотя бы. Явно с папиного плеча.
– Отличные джинсы, фирменные.
– И я об этом.
– О чем?
Оксана не ответила, сама не знала, о чем она. О своей печали, наверное, которая всегда возникала у нее при виде человеческой красоты, мужской или женской, неважно. Она сама была очень привлекательна – светловолосая, глаза синие, нос прямой, губы четко оконтурены, да и все линии четкие, ясные, такое лицо хорошо рисовать карандашом, чем подруги нередко и пользовались, но Оксане этого было мало, она бы хотела быть сногсшибательной красавицей, покоряющей с первого взгляда. И лучшей художницей. И лучшего мужа себе найти.
Даша вышла. Она была тоже в джинсах, но темно-синих, и тоже в рубашке – белой, как и у Васи, мужского покроя, с засученными рукавами, ей это очень шло.
– Привет, – сказал Вася.
– Привет.
– Ну чего, пойдем?
– А куда?
– На речку хотя бы.
– А что там?
– Ну… Красиво.
И опять Даше казалось, и не только ей, что все вокруг умолкло, будто окружающий мир стих, чтобы неосторожным звуком не спугнуть важного разговора, а сам любовался красотой этих двух молодых людей.
Они пошли вдоль улицы. Он был немного выше, походка чуть вперевалку, неровная, еще не совсем мужская, она шла плавно в мягких спортивных туфлях, их называли чешками; очень разные, эти девушка и юноша все равно с первого взгляда казались не просто идущими рядом, а – парой, близкими друг другу людьми.
– Связалась с малолеткой, – пробормотала Оксана.
– Еще не связалась, – не согласилась веснушчатая подруга. – Просто здесь скучно, вот Даша и развлекается. Почему не погулять с красивым мальчиком?
– Уж да уж!
Даша и Вася пришли к речке, узкой, похожей на ручей, мелкой – сквозь воду желтело песчаное дно. Сидели на травянистом берегу. День был жарким, как летом, но к вечеру осень напомнила о себе холодными ветерками, дующими из будущего – из зимы. Тихая вода, кустарники с какими-то красными плодами – шиповник или боярышник, Даша в этом не разбиралась и вообще была равнодушна к природе, в том числе и как художница, она любила город, любила четкие очертания домов и человеческих лиц. Поэтому рисовала портреты или городские пейзажи.
Вася говорил, что школа ему страшно надоела, он чувствует себя старше, уже все запланировал – поступит в институт механизации сельского хозяйства, где у отца знакомые, но не для того, само собой, чтобы вернуться в село инженером, начальником над комбайнами, тракторами и молотилками, в институте образование широкое, даст возможность двинуться дальше.
– Куда?
– Мало ли. Комсомольская работа, партийная. Я организатор хороший, сейчас секретарь комсомола в школе. В будущем году откажусь, к экзаменам готовиться надо.
– Учишься, наверно, на одни пятерки?
– По-разному. Отвлекаюсь много.
– На спорт?
– Да нет, не очень. Хотя на соревнованиях выступаю, призы беру. По лыжам районное выиграл.
– Значит, ты от природы такой мощный и красивый?
– Да. Матуха говорит, еле родила меня, такой был большой.
– Матуха? У вас тут так мам называют?
– Ну да. А чего?
– Ничего, просто интересно. Везде по-разному. У нас сейчас мода – папахен, мамахен.
Разговор о родителях слишком напоминал детство, поэтому Вася резко сменил тему. Сказал:
– А я зимой с учительницей дружил. С Валерией Павловной. Лерочкой, – ласково сказал он, намекая.
Даша намек поняла:
– Прямо очень дружил?
– Еще как. Она практику после пединститута проходила. Отец попросил ее литературу и русский мне подтянуть, я к ней начал на дом ходить. Ну, и… Один раз после занятий так сел рядом. Так за руку взял ее. Говорю, можно вас Лерой звать? Она – нет, что ты, что ты делаешь, убери руку, ты вообще думай, я учительница, а ты молодой, мне с тобой нельзя, хотя ты мне нравишься! А я ей – спокойно, подруга, почему нельзя? Еще неизвестно, кому нельзя, ты у меня не первая, между прочим!
– Так и сказал?
– Ну. И я так ее… Ну, осторожно так… Чтобы не спугнуть… Вот так вот.
И Вася обнял Дашу за плечи.
Она засмеялась.
– Вася, не надо, ладно? Ты подружек своих так будешь обрабатывать, а я без этого обойдусь.
– Я просто показать хотел, при чем тут подружки?
– Можешь не показывать, верю, вижу, что ты все умеешь. Молодой да ранний.
– Что есть, то есть, – вздохнул Вася, как от тяжкой мужской обузы.
И вдруг засмеялся. И смеялся все громче, не мог остановиться, повалился на траву, хохотал с подростковыми привизгами, вскрикивая:
– Не могу!.. Умора!..
– Чего ты? – улыбалась Даша.
Он отсмеялся, сел, вытер слезы.
– У меня бывает, – признался с неожиданным простодушием. – Начинаю смеяться – как приступ какой-то. Иногда просто ни с чего.
– А я смеюсь редко. Мама отучила. Она у меня необычная, в церковь ходит. Когда я в детстве начинала смеяться, она сразу – смейся, дурочка, смейся, а потом над тобой бог посмеется. Я не верила, но смеяться меньше стала. И даже привыкла. Мне даже иногда неприятно смотреть, как люди смеются. Не все же смеются красиво.
– Точно. Я сейчас тоже, наверно, по-уродски ржал?
– Тебе все идет, Вася, ты гармоничный очень. А другие… Приглядись как-нибудь, как некоторые смеются. Рот раскрытый, а там зубы не всегда целые, тело трясется, а у тела и живот бывает, и грудь не очень упругая. Мне и мой собственный смех не нравится. Смеюсь, будто задыхаюсь. Вот мы с мамой и живем – без смеха. Меня из-за этого такой считают… Ну, как бы неприступной. Гордой слишком. И я такой понемногу становлюсь. Это бывает – кем тебя считают, тем и становишься. И мне так уже удобно. А это плохо, с таким характером можно одной остаться.
Даша с удивлением осознавала, что так доверительно говорит чуть ли ни впервые. И с кем – с посторонним человеком, да еще почти мальчиком! Может быть, вспоминала она потом, это шло от неосознанного желания показать ему, что она видит в нем серьезного человека, мужчину, что уважает его? Или, видя его зеленую юность, своим доверием достраивала его, делала взрослее? А Вася имел хорошую интуицию, догадался, что от него требуется, – уж точно не валяться с хохотом по траве и не лезть сразу с обнимашками, слушал внимательно, задумчиво.
– Да, – сказал он. – В жизни всякое случается. У меня вот тоже… Не у меня, у матухи с отцом. Гуляет он. И грубый бывает. Один раз пьяный ей такое сказал… А я рядом был, хотел его по морде кулаком. А сам думаю, отца кулаком по морде – как-то не это. Не того. Я тогда подушку схватил, – он коротко засмеялся – иронично, совсем как взрослый, – схватил подушку и начал его лупить. Он аж офигел, на меня вылупился: сынок, ты чего? Подушку порвешь!
Даша и Вася засмеялись – он своим тонковатым смехом, похожим на подростковый, а она прерывистым, задыхающимся, но им обоим это не показалось некрасиво.
Перестали смеяться одновременно, посмотрели друг на друга. Вася аккуратно положил руки ей на плечи, легонько потянул к себе, вопросительно глядя: да, нет? Даша прикрыла глаза, этим давая знать: да.
И они стали встречаться каждый вечер. Обнимались, целовались, знала лишь трава, как друг дружкой любовались, говоря слова, поется в старинной русской песне, и замечательно, что ничего не сказано о том, какие именно слова говорили.
Даша возвращалась за полночь, Оксана, спавшая рядом, тут же просыпалась, начинала выпытывать, как и что.
– Да ничего особенного.
– Ладно тебе! Талантливый, да? Или у него… Ну, понимаешь?
– Говорю, ничего особенного.
– А что тогда? Влюбилась, что ли, в пацанчика? Или он в тебя?
– Нет. Просто мне очень хорошо. Как-то легко и… Я зависаю будто. Такое состояние интересное. Ничего больше не надо, ничего не хочу, просто хорошо – и все. Как воде.
– Какой воде?
– В реке. Она течет – и все. Зачем течет, почему?
– Рельеф местности.
– Ну да. Я не об этом. Она просто течет, и все.
– Черт, ну тебя, теперь спать не буду.
– Я тебя не будила.
– А кто по ночам шатается? Шалава проклятая. Обними меня, что ли, пусть мне тоже достанется.
– Оксан, я спать хочу.
– Вредина. От тебя так пахнет – сдохнуть. Чем-то… Точно, водой! Ты про воду говорила, вот – водой.
– Вода никак не пахнет.
– Смотря какая!
Однажды вечером Вася не пришел. Вместо него к столовой стремительно и грозно подкатила машина «Волга» черного цвета, из нее вышел мужчина в костюме. Он велел найти ему студентку по имени Даша, которая крутит с местным парнем Васей. Дашу нашли, он усадил ее в свою «Волгу» и, не отъезжая, начал разговор.
– Мне надо понять для выяснения ситуации, девушка, вы кто?
– В смысле?
– Ну, вот была тут учительница у нас, Лера, она была приличная женщина, но увлеклась моим дурачком, я с ней побеседовал, она все поняла, уехала. А ты?
– Что я?
– Пацану шестнадцати нет, вы чего все с ума-то сходите? Он истреплется весь, изгуляется, как он взрослую жизнь потом будет жить? С семьей, с детьми? И ведь даже в армию не сдашь, малой еще. Уродился, мать его, красавцем на свою голову!
– Он не виноват.
– И я о том же! Он ребенок почти что, а вам надо ум иметь или нет? А его, как нарочно, к взрослым бабам тянет. Хотя, может, к лучшему, а то забацает ребеночка какой-нибудь однокласснице, и все, танцуй, сынок, к семейной жизни под вальс Мендельсона! Короче, давай ты езжай отсюда, хорошо?
– У нас еще неделя тут.
– Могу всех отправить.
– Не надо, я одна уеду. Когда?
– Сейчас. Вещички собери, и поехали.
Даша собрала сумку, ни на кого не глядя, отец Васи повез ее к совхозной конторе, сказал:
– У меня, сама понимаешь, работа, водитель мой отвезет, куда скажешь.
– Ладно.
– Денег не надо?
– Зачем? Водителю заплатить?
– Он мой, бесплатный.
– Тогда не понимаю.
– Ладно, извини. Сейчас пришлю водителя.
Через полтора часа Даша была уже в городе, дома.
А потом выяснилось, что она забеременела. Призналась матери.
– Поздравляю, – сказала мать. – Аборт когда будем делать?
– А надо?
– Хочешь, как я, остаться одна с ребенком?
– Ты могла бы замуж выйти.
– Могла бы, да не смогла! Не все так просто!
– Да просто, мама. Тебе никто не нужен, вот и все.
– Откуда ты знаешь? Главное – зачем нищету плодить? Тебе известно, сколько я в своей поликлинике получаю, у нас всю жизнь концы с концами еле сходятся. Я себе во всем отказываю, а тебя изо всех сил на уровне держу, ведь так? Одни джинсы у тебя полторы моих зарплаты стоят! А когда ты сама начнешь зарабатывать, неизвестно, если вообще начнешь. В общем, без обсуждений, аборт – или, как бог свят, прогоню.
– А разве не грех – аборт делать?
– Была бы ты верующая, тогда грех, а раз нет, то все равно. На себя возьму, отмолю. Подумай, без денег, без квартиры, с ребенком – как будешь жить? Только не говори, что побежишь к тому, кто тебе брюхо набил, ты ни слова про него не сказала, значит – кто-то случайный. Есть возражения?
У Даши возражений не было. Дело не в том, что она боялась остаться без денег и квартиры, хотя и в этом тоже, просто история с Васей показалась ей исчерпанной, ребенок был бы лишней добавкой, она никак его в себе не чувствовала, не могла полюбить его заранее, а ей казалось, что это необходимо. И никто не подсказал ей, что заранее никого полюбить нельзя.
И пошла на аборт. Делал его знакомый матери, хороший врач, но не повезло, началось заражение крови, дошло до реанимации, Даша вылежала в больнице почти месяц.
Через три года, когда вышла замуж, узнала, что не может иметь детей. Развелись с мужем – и из-за этого, и из-за несходства характеров.
Потом Даша работала художником-оформителем при Дворце культуры, потом взяли в издательство, там познакомилась с местным писателем-садоводом, сочинявшим поэтичные рассказы о природе в промежутках между запоями, Даша тоже стала крепко выпивать вместе с ним, он в пьяном виде ввязался в драку и умер от побоев, Даша лечилась, замуж больше не выходила, схоронила маму, сменила несколько мест работы, не будучи востребованной как художница, да и самой уже не хотелось этим заниматься, в девяностые годы ей было очень трудно, иногда просто голодала, в новом веке оказалось не намного легче, она бралась за все, что предложат, – и торговала на вещевом рынке от хозяина, и сортировщицей была в овощехранилище, и уборщицей в трамвайном депо, наконец дождалась пенсии, оказавшейся мизерной, поэтому в свои шестьдесят два соглашается на любую подработку; у них образовалось что-то вроде бригады веселых старушек, как назвала ее самая взрослая из них, семидесятидвухлетняя бодрая Ангелина.
И вот вчера Ангелина позвонила, спросила:
– Окна мыть пойдешь?
– Где, что за окна?
– Особняк какого-то олигарха, три этажа, по десять окон на каждом. Работы дня на два, не меньше. Аня согласилась, но вдвоем долго возиться будем, пойдешь?
– Пойду.
Оказалось, что дом новый, только что построенный, и окна надо не просто мыть, а очищать от краски, засохшего цемента и каких-то неведомых современных то ли клеев, то ли герметиков, которые пришлось оттирать едкими растворителями. Запах, конечно, был тот еще.
Из-за этого запаха и вышел скандал. Усердно работая, Даша услышала, как в соседней комнате мужской голос громко возмущается:
– Вы бы еще бензином окна промыли! Запах не выветрится, а у меня ребенок маленький, между прочим! Вы кто вообще, откуда? Фирма обещала нормальную бригаду прислать, а не пенсионерок!
Ангелина негромко оправдывалась. Мужчина вошел в комнату, где работала Даша, продолжая кричать:
– И пол заляпали весь мне, а это, вашу мать, дубовый паркет, чтоб вы знали! Тонированный, а вы всю тонировку испортите!
И еще что-то орал, распаляя себя, все чаще добавляя в гневную речь матерные выражения, при этом чувствовалось, что они для него привычны, вылетают легко, без стеснения.
Даша, как всегда в подобных случаях, почувствовала, что кровь приливает к вискам и начинают подрагивать губы. Хотела промолчать, но не выдержала, повернулась:
– Вы могли бы то же самое сказать, но без ора и без нецензурщины?
– А как с вами еще?! Никто, б…, работать не умеет! Никто в стране вообще!
Он был приземист, обширен и в плечах, и в животе, очень короткая седая стрижка с гладкой проплешиной в центре, хорошо видной Даше сверху, глаза-щелочки, щеки дрожат, голос тонкий, сварливый и капризный, и все же она его узнала.
– Вася? Чернышевский?
– А в чем дело?
– Не узнал?
Он вгляделся.
– Извиняюсь…
– Даша. Помните…. Помнишь – совхоз «Луч Ильича», сорок с лишним лет назад, девушки из худучилища? Помнишь?
Он вспомнил. И тут же изменился, широко заулыбался, развел руками:
– Да, вот так вот оно… Я, конечно, это самое… Увлекся… Но устал, если честно, сколько строят, столько и ругаюсь со всеми… Ну, как вы, как жизнь?
– Лучше всех, ты же видишь.
Даша стояла на широком подоконнике в грязном синем халате, голова в косынке, на ногах резиновые сапоги – самая удобная обувь для подобной работы, в руках губка и щетка.
– Да, в самом деле, – хмыкнул Вася и подал ей руку, чтобы помочь спуститься.
Но, когда подавал, чуть замешкался. Всего на долю секунды – глянул на чистую, полную свою руку с массивным перстнем на пальце, на край рукава белой рубашки, выглядывавший из-под темно-синей, с отливом, дорогой материи пиджака. Даша это заметила и спрыгнула сама – вполне легко для своих лет. Она вообще чувствовала себя телом намного моложе, чем душой (у большинства обычно наоборот); когда пришлось пару лет назад поработать в кондитерской на продаже пирожных и всякой сладкой выпечки, отстаивала двенадцатичасовые смены без чрезвычайных усилий, в то время как ее двадцатилетние подружки ныли, стонали и после двух-трех месяцев увольнялись, говоря, что это каторга. Даша работала бы и дальше, но вернулся хозяин, бывший в долгой отлучке, узнал, сколько ей лет, и поспешил распрощаться.
– Значит, так? – неопределенно спросил Вася.
– Да, вот так. Странно, что ничего о тебе не слышала, а ты большой человек, если такой дом построил.
– Ну, есть и побольше меня. И я в особой сфере обретаюсь, там не очень-то светятся.
– Не бандит, надеюсь?
Вася засмеялся. Бог ты мой, подумала Даша, сколько лет прошло, а смех такой же – тонкий и с привизгами, подростковый.
– Нет, все легально, но… Не для широкой публики.
– Ладно, темни. Мне без разницы на самом деле.
– Действительно, человек не только работой определяется, а… – Вася запнулся, ища, чем еще определяется человек. И не нашел.
Помолчали. Вася явно не хотел ни о чем расспрашивать, опасаясь узнать о жизни этой женщины что-нибудь неприятное. Даша спросила сама:
– У тебя, как я поняла, ребенок маленький? Вторая семья?
– Вторая, да… – Вася словно извинялся, что у него вторая семья, огромный дом, что он очень обеспечен и, судя по виду, вполне здоров.
А еще, наверное, он боялся, что женщина захочет встретиться с ним в другом месте, вспомнить прошлое, давно забытое, поэтому глянул на часы в золотом ободке, с тремя маленькими циферблатами внутри основного, и озабоченно сказал:
– Рад был увидеть, но… Вы же еще будете работать тут? Как-нибудь загляну, поговорим.
И пошел из комнаты.
И надо было отпустить его с миром, но Даше почему-то стало очень обидно, она сказала:
– А у меня от тебя ребенок был.
Вася остановился. Стоя боком, спросил:
– То есть? Что значит – был?
– Аборт я делала.
– Именно от меня?
– Да.
– Ну… Молодость, грехи… Не понял, у тебя какие-то претензии?
– Конечно, нет, о чем ты?
– А зачем тогда говорить? Я был сопляк, дурак, ты, кстати, старше была и могла бы головой думать. Все на равных! А то привыкли на мужиков валить все… – фраза повисла, явно не хватало привычного матерного окончания. И Даша сама его подхватила, произнесла слово громко и четко.
– Что? – не понял Вася.
– Ты хотел это сказать. По губам видела. Но удержался. И на том спасибо.
– Даша, ты… Ты зря…
Он вдруг подошел, взял ее за плечи, не боясь испачкаться.
– Я сейчас все вспомнил. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Ты меня другим человеком сделала. Я был закомплексованный весь, был какой-то… Не верил в себя.
– Да брось. А Лера, учительница, а другие?
– Они со мной баловались, как со щенком. А ты… Не знаю даже, как объяснить…
– Я поняла.
– Вот. А потом уехала неожиданно. Меня отец в город тогда посылал, я вернулся, а тебя нет. Потом узнал, что он тебя… Я поругался с ним сильно…
– Мог бы найти, если бы хотел.
– Мог бы, но… Школу надо было заканчивать… Сама понимаешь.
– Понимаю. Все нормально, Вася.
Вася смотрел на нее, улыбался. Запоздало удивился:
– А тебе сколько лет, извини? Ты же старше меня, значит…
– Да. Вслух не надо.
– Нет, но выглядишь… Максимум на пять- десят.
– Вот не знала, что выглядеть на пятьдесят – комплимент.
– В самом деле… Я просто… Разволновался, говорю чушь. Слушай, запиши мой телефон, давай встретимся. Хорошо? Все-таки не хвост собачий, лучшие дни моей жизни.
– Правда?
– Правда.
– Ну и все, и больше ничего не надо. Иди, Вася, тебе пора.
Через два дня, вечером, услышав все это, подруга Оксана сказала:
– Соврал он. Они все так говорят: лучшие дни, ты была лучшая, бла-бла-бла! Если лучшая, почему бросил?
– Он не бросал. Он тогда жизнь еще толком не начал. Я сама.
– Как это сама? Тебя его отец прогнал, забыла?
– Я не в обиде. Я понимала, что у нас ничего не будет.
– Ты себя не уважаешь и не любишь, Даша! Поэтому, прости, никто тебе правды не скажет, а я скажу, поэтому ты себя и загубила!
Оксана могла так говорить и по праву дружбы, и по праву своего положения: она многого добилась, в девяностые из челночницы превратилась во владелицу нескольких магазинов, два раза была замужем за достойными людьми, и оба раза удачно, просто первый муж умер от тяжелой болезни, потом она двинулась во власть, справедливо полагая, что это более надежный бизнес, чем торговля, до недавнего времени занимала высокий пост в областной администрации и с почетом ушла на заслуженный отдых, у нее двое сыновей, внуки и внучки, прекрасная квартира в центре, где все до мелочей продумано – лучшие дизайнеры города старались. Подруги сидели в столовой за большим овальным столом со столешницей из инкрустированного дерева, пили из антикварных фарфоровых чашек чудесный чай янтарного цвета, добавив туда немного рома, уютно пощелкивал – как бы дровами – электрический 3D-камин, с двух шагов не отличишь от настоящего, а тепло от него всамделишное, и даже запах натуральный, специальная отдушка, со скромным хвастовством объясняла Оксана.
– Почему загубила, Оксан? – успокаивала по- другу Даша. – Ну да, детей нет, печально, но… Странная мысль – зато умирать не жалко. Некого терять, понимаешь?
– Тоже верно. Мне вот заранее жаль мужиков своих, плакать будут по мамке. Из-за них и живу.
– Что ты говоришь? – встревожилась Даша. – Что за мысли у тебя?
– Да так. Пенсионное. Всегда была всем нужна, а сейчас… Ладно, это неинтересно. Просто жутко бывает, я вот недавно проснулась, не поверишь от чего.
– Ну-ка?
– Сон приснился эротический. И – оргазм во сне. Да такой яркий, Даш, с ума сойти. У меня такого даже в молодости не было. Не оргазма, а – чтобы во сне. Вот открытие в шестьдесят с лишним, да? И о вас с этим Васей вспомнила сейчас, и тоже…
– Оргазм?
– Да иди ты. Нет, просто так как-то свежо обидно стало. Будто вчера.
– На что обидно?
– На тебя, конечно. Я в этого Васю влюбилась сразу. В один момент. Прямо смертельно. Ты с ним вечером уходишь, а я в подушку утыкаюсь, будто сплю, и даже не реву, чтобы никто не услышал, а просто вытекаю вся слезами. Терзала себя, представляла, как вы… Такие красивые, такие… Вас прямо будто природа друг для друга сделала. Я с ума сходила, себя представляла вместо тебя, не себя в своем теле, со своим лицом, а будто именно была тобой. А потом понимаю, что тобой никогда не буду, и опять реву. И потом, то есть уже через много лет, тоже представляла часто и тебя, и его. С другими мужчинами была, а представляла его. Кстати, пересеклись один раз лет через двадцать – двадцать пять, но это уже не то было, он как-то быстро постервел, вышел из формы. И я этому даже порадовалась. А еще всегда радовалась, сука подлая, что у меня так хорошо жизнь сложилась, а у тебя не очень. Вот такая я тварь, Дашка. Всю жизнь эту жабу в себе носила. А ведь надо тебя благодарить, ты мне тогда будто пинка дала на всю жизнь. Я решила: умру, но докажу, что я лучше! Я этим будто мстила тебе.
– Разве? Ты мне и взаймы давала, и на работу помогала устроиться.
– В кондитерку продавщицей? Да с радостью! Это и есть месть, да еще какая! Нет, даже не спорь, я про себя все знаю, как ни странно, мы же в других лучше разбираемся, чем в себе. Одно хорошо – не завидую тебе уже. А тогда, ты даже вообразить не можешь, как я тебя ненавидела, Дашенька, ох, как же я тебя ненавидела!
И Оксана покачала головой, а лицо было светлое, радостное, будто она опять переживала эту свою лютую ненависть и любовалась ею.
Красавцы
– Это безобразие, он весь бархат на диване изотрёт.
И. Бунин. «Красавица»
На Пасху, солнечным ранним вечером, к храму Святителя Николая у Соломенной сторожки, знаменитому, деревянному, построенному по проекту архитектора Шехтеля, популярному среди местных жителей, да и всех знатоков Москвы, при этом укромному, расположенному в тихом месте, на краю парка Дубки, подъехала бесшумно и гладко, словно подплыла, новенькая машина, сверкающая боками и дисками колес, серебристый «лексус», похожий на океанский лайнер своим скошенным книзу радиатором и всей своей мощной, но элегантной массивностью.
Из него вышла молодая женщина, тоже, как и машина, новенькая, будто только что рожденная – уже взрослой и готовой, как Афродита. У нее была идеальная кожа лица и обнаженных рук, белые волосы лились плавными волнами. Золотые часики со стразами, наверняка от модного дизайнера, серый брючной костюм без единой складки и морщинки, белые туфли на высоких шпильках – все, что было на ней, показывало, что она по жизни выбирает вещи только самого лучшего качества и ни в чем не допускает отступлений от этого правила. Поэтому и машина у нее – лучшего качества, и церковь она выбрала для посещения – лучшего качества, и все близкие ее наверняка лучшего качества.
Так и оказалось: вслед за ней, чуть замешкавшись, выбрался мужчина – основательно старше, приятно полноватый, что даже шло его высокому росту, с проседью короткой стрижки на большой крепкой голове, и тоже будто новенький, словно он в прежней жизни не был ничьим мужем, а стал им только вот сейчас, при новой жене. И бежевые брюки, и легкая куртка цвета некрепкого кофе с молоком, и коричневые туфли, в которых с первого взгляда угадывались стильность, фирменность и весомая цена, – все это выглядело тоже новым.
А потом начал вылезать мальчик лет восьми, тоже новенький и красивый, в черном костюме с галстучком, похожий на маленького взрослого. Он вообще, как ни странно, казался взрослее своих спутников – выражение лица озабоченное, поспешное и испуганное; такие лица бывают у стариков, которые понимают свою никому уже ненужность, обременительность, вот и заискивают перед всеми, чувствуя свою вину.
Красавица, повязывая на голову платок и глядя на храм, упрекала мальчика ровным и презрительным голосом:
– Я говорила тебе не трогать, зачем ты туда полез? Ты тупой? Нормальных слов не понимаешь? Орать на тебя?
Мальчик не отвечал, понимая, что любой его ответ вызовет новую вспышку. Он сидел в открытой дверце, спустив ноги вниз. Будто сомневался, позволят ему выйти или нет.
– Чего застрял? – спросила женщина. – Денис, он явный тормоз, его к врачу надо.
– Да ладно тебе, – отозвался мужчина.
– Может, пусть посидит? А то там тоже что-нибудь уронит и разольет, позорище. Машину заодно посторожит, мало ли.
Она глянула на меня, подозрительно стоящего неподалеку. Подозрительно – потому что человек должен или куда-то идти, а если устал, должен сидеть. Этот же стоит и смотрит. Ладно бы на храм глядел, крестясь, тогда понятно. Нет, торчит тут непонятным столбом и пялится в неизвестность. Кто знает, что у таких на уме.
– Пусть разомнется, – сказал Денис.
И мальчик опустил ноги до асфальта.
– Нефиг делать! – возразила красавица. – И я сколько говорила: не спорь при ребенке, мы сами все должны решить! Чтобы выработать одно мнение.
Мальчик убрал ноги.
– Идешь или как? – спросил его Денис.
Мальчик пожал плечами.
– Дело твое, – сказал Денис и пошел к церкви.
Пошла и красавица, на ходу старательно осеняя себя крестным знамением, и удивительным образом казалось, что эти ее жесты – тоже новенькие, вот только что ею придуманные, а если и не ею, то они у нее, несомненно, лучшего качества.
Мальчик остался сидеть.
Он глянул на меня – как-то вопросительно, будто хотел понять, что я слышал и видел и как к этому отношусь.
Я дружески улыбнулся: все нормально, брат, все отлично, жизнь продолжается.
И он в ответ улыбнулся открыто и радостно – как родному, как единственно близкому на свете человеку.
Муж
У него было большое, плоское темя в кабаньей красной шерстке, носик расплющенный, с широкими ноздрями, глазки ореховые и очень блестящие. Но когда он улыбался, он был очень мил.
И. Бунин. «Дурочка»
Это было счастливое время: мы с женой и маленькой дочкой разъехались с моими родителями, разменом это называлось, вселились в однокомнатную квартирку, начали самостоятельную жизнь. Я перекрасил кухню и ванную, наклеил в комнате новые обои, в углу поставили детскую кроватку, у стены диван-книжку, никогда не складывавшийся, на полу был кем-то подаренный палас, ярко-синий с красными кругами, от которых рябило в глазах. Больше не было ничего, да ничего и не требовалось.
К нам приходили друзья и подруги, веселые и холостые, – мы были первой семейной парой и первыми, кто родил ребенка себе на радость и заботу. Они нам завидовали, потому что почти все жили с родителями, были зависимы и материально, и жилищно. А я тогда ушел из школы, где проучительствовал после университета три года, работал грузчиком, получая в два раза больше, чем в школе, после смен коротко спал, а потом запирался в санузле – ставил на старую стиральную машинку «Рига» пишущую машинку «Москва», садился на крышку унитаза, подстелив старое полотенце, чтобы не застудиться, и, бойко стуча двумя пальцами, сочинял рассказы, которые рвал сразу же после сочинения. Рукой писать не мог – плохо разбирал собственный почерк, он меня раздражал. А буквы машинописные, стандартные отчуждали текст, я видел его отстраненно, как не свой. Поэтому и рвал.
С бумагой была проблема. Иногда выручали папа и мама, принося с работы небольшие стопки чудесных, гладких и белых учрежденческих листов. Иногда удавалось ухватить что-то в магазине. Продавалась, помнится, дивная бумага, называвшаяся «Хозяйственная». Пятьсот листов в пачке, очень тонкая, как папиросная, серая, с видимыми в фактуре тонкими щепочками. Зато легко рвалась, а еще можно было использовать как туалетную, которая тоже была в дефиците.
Однажды я пришел с работы и увидел на кухне пожилую женщину, беседующую с моей женой. Я ее встречал до этого во дворе и в подъезде – сутулая, лицо смугловатое, глаза темные, почти черные, как у персонажей мультфильмов сороковых-пятидесятых годов, на щеке большое родимое пятно, здоровалась очень вежливо и очень тихо. Прошмыгивала мимо, словно боялась, что я начну разговор. Сектантка какая-то, почему-то думалось мне.
Увидев меня, она тут же вскочила, сказала, что ей пора. Жена оставляла ее:
– Валентина, чай не допила даже!
– Нет, нет, пора!
– Странная женщина, – рассказала жена. – Мы с ней вместе детей выгуливаем, у них тоже дочь, полтора года.
– Дочь? Она же старая.
– Да, но не совсем. Около сорока ей, просто выглядит так. Жаловалась, ребенок никак ходить не начнет, другие проблемы какие-то со здоровьем, а муж не велит врачам показывать.
– Почему?
– Не верит им. Он какой-то, наверно, двинутый. Они по знакомству поженились, представляешь? Валентина никак замуж не могла выйти, ее мамаша нашла сваху, ты знал, что сейчас свахи есть?
– Нет. А есть?
– Нашли же! И сваха отыскала этого красавца. Еще старше ее. Ты его видел, наверно, лицо такое, как у питекантропа, честное слово!
Да, я его видел. Редкостно некрасивый человек. В каракулевой серебристой шапке военного фасона, в черном пальто. Приземистый, широкоплечий, ноги очень короткие, не больше трети длины тела, особенно это заметно было сзади. А лицо если не питекантропа, то какого-то древнего человека, тоже темное, как у Валентины, с очень широким ртом, выступающими надбровными дугами. Что ж, они друг друга стоят, подумал я с молодой незлой жестокостью.
Я все чаще заставал Валентину. Не имея подруг, она прикипела душой к моей добросердечной жене, то и дело забегала попить чайку, поговорить. Как только я появлялся, она тут же спешила убраться.
– Привыкла, у нее муж терпеть не может, когда кто-то приходит, – объяснила жена. – Вообще дикий. Запрещает ей краситься, не любит, когда она что-то цветное носит, только темное, если что-то такое наденет, он сразу – для кого наряжаешься?
– Верующий, может? Баптист какой-нибудь?
– Наоборот, даже в партии. Один раз какой-то ее родственник анекдот рассказал политический, он ему: при мне больше таких гадостей не говорите! А ее называет только по отчеству, и даже не Ивановна, а – Иванна. Иванна и Иванна, отчество именем сделал. А она о нем тоже без имени. Муж. Или – он. Или – Самохин, по фамилии. Говорит, он с работы приходит, и, если ужин не готов, все, на целый вечер надулся, замолчал. Хотя и так молчит. Сидит, таблицы составляет.
– Какие таблицы?
– Лотерейные. Где номера проставлять надо.
– «Спортлото», что ли?
– Ну да. После каждого тиража записывает выигравшие номера, графики какие-то рисует. Очень хочет выиграть. Вообще нелепо, да? Такое ощущение, что в одном времени живут люди из разных времен. Вот мы, извини, конечно, но мы все-таки современные, согласись, и вот они – как в пещере у себя живут. Только вместо костра телевизор. Книг, она говорит, почти нет. Только детские, она дочери заранее покупает, на вырост, а он каждую проверяет и, если что-то не так, велит вернуть в магазин. А в магазине не принимают, она на работе продает, у кого дети есть. Смешно, правда? И хорошо еще, ей мать помогает, она совсем старушка, внучку к себе берет, Валентина работать может, а то сидела бы дома, как в тюрьме. Жуть.
Однажды Валентина преподнесла мне роскошный подарок: десяток тетрадей в клетку. 12 листов, цена 2 копейки, с рук дороже. Она работала там, где эти тетради производились, и вот выдали какое-то количество в счет зарплаты. Тогда это бывало – натура вместо денег. Я хотел заплатить, Валентина отказалась наотрез. Только просила не говорить мужу.
– С какой стати я ему скажу? Мы даже не здороваемся.
– Это да, он ни с кем не здоровается. Но – мало ли.
Она говорила так, будто извинялась за каждое произнесенное слово, ее было очень неловко слушать. Я пообещал, что не скажу ее мужу, даже если спросит. Жена улыбнулась, оценив мой юмор, Валентина не поняла, всерьез поблагодарила.
Эти тетради я расшил на листы и целый месяц печатал на них. Клетки немного мешали читать, зато помещалось больше текста, листы были длинней обычных.
Время от времени жена рассказывала новости о Валентине и разные занимательные подробности ее жизни с мужем. Оказывается, он требует от нее близости каждый вечер. При этом гасит свет и наглухо задергивает шторы, что, впрочем, соответствует и ее желаниям. Валентина должна лежать молча и дышать негромко, иначе он обижается и спрашивает: «Чего сопишь?» В дни получки, пятого и двадцатого, со смехом и удивлением рассказывала жена, Самохин предупреждает: «Иванна, сегодня дашь мне раком!»
– Тьфу, неужели так и говорит? – кривился я, очень брезгливый на выражения такого рода и всегда – и до сих пор – предпочитающий заместительные обороты.
– Так и говорит. А она этого ужасно не любит, стесняется, даже плачет. Но не при нем – в ванную запрется и там сидит, заливается. А он видит – нос красный и глаза тоже, ругается, думает, что она простудилась. Ненавидит, когда она болеет.
Как-то вечером я вернулся со смены, когда Валентина выходила из нашей квартиры, и, так совпало, в это же время поднимался по лестнице Самохин.
Казалось, Валентина упадет в обморок. Глядя на мужа со страхом, она забормотала:
– А я тут… По-соседски… Зашла вот… Сахара хотела…
Она посмотрела на свои руки, которые выставила перед собой, сложив пальцы ковшом, будто что-то держала, но там ничего не было, она тут же оправдалась:
– А у них тоже… Вот время какое, даже сахар в дефиците!
Самохин стоят, молчал и слушал. Тень усмешки промелькнула на мрачном лице: ему было занятно наблюдать, как выкручивается Валентина. Потом отдельно осмотрел мою красавицу жену и, похоже, не одобрил. Осмотрел и меня, худого, молодого, волосы до плеч, глаза веселые и наглые. Одобрил еще меньше. И пошел дальше. Валентина заторопилась за ним, на ходу оборачиваясь и разводя руками: уж извините, что так!
После этого она неделю не приходила к нам. И с дочерью своей по вечерам гуляла отдельно, посматривая на наши окна. Жена, не желая ее смущать, в это время не выходила.
А потом вдруг сказала, что Валентина и Самохин зовут в гости.
– Он узнал, что ты в школе работал, что университет закончил, почему-то заинтересовался.
– Ты тоже университет закончила и сама там преподаешь.
– Я баба, он, судя по всему, баб всерьез не воспринимает.
– Ладно, сходим.
Это было в субботу вечером. Встретили нас честь честью, с накрытым, как на праздник, столом. И курица там была, и салат какой-то, и пирожки, и даже вино. Запомнилось, что это был портвейн «Кавказ» в шампанской бутылке, народное название – «огнетушитель». Напиток жуткий, крепкий, отрада алкоголиков, но что-то получше тогда достать было трудно. Зато рюмочки Валентина подала красивые, хрустальные.
Самохин пожал мне руку, представился:
– Валерий.
Мне удивительно показалось, что у него есть человеческое имя, и я тут же, конечно, своего удивления мысленно застыдился, поэтому был с Самохиным почеркнуто вежлив.
Жена моя расхвалила их дочь, которая ползала на полу, во что-то играя, назвала красавицей и умницей, Валентина расцвела, Самохин не обратил внимания.
Чинно сели, выпили, закусили. Валентина, мечась в кухню и обратно, выглядела счастливой: надо же, гости пришли, все как у людей! Мы поговорили о том о сем, в том числе, конечно, о политике, как всегда водится в русском застолье, даже немного поспорили. Я тогда охотно спорил с любым человеком и по любому поводу, не зная еще, что истина рождается в споре лишь тогда, когда ее хотят родить, а это бывает очень редко. В большинстве случаев, как и в любовных нежных делах, важней не деторождение, а сам процесс. Мне не терпелось показать свой ум, оригинальность, широту кругозора, я очень не сразу догадался, что многих это только раздражает – у всех свой ум, своя оригинальность, своя широта.
Но Самохину не терпелось перейти к другой теме, и он перешел.
– Значит, вы на философском факультете учились?
– Нет, на филологическом. Литературу изучал.
– Иванна, ты напутала, что ли? – упрекнул Самохин жену.
Та застыла с тарелкой в руке, виновато посмотрела на меня, на него, оправдалась:
– Валера, я так и сказала, филологический!
– Ну, значит, я дурак! – весело сказал Самохин, подмигивая и как бы говоря: мы-то понимаем, кто сдурил на самом деле, но уж ладно, такой уж я великодушный, прощаю!
– Да нет, Валера… Просто… Наверно, все-таки я спутала.
– Ладно, ладно! Философия, филология, это все рядом. Это высшее образование, а оно недаром высшим называется. А сейчас, значит, грузчиком трудитесь?
– Да. Нормальные деньги.
– Понимаю. Сочувствую. Там же вокруг, наверно, безграмотные, бездуховные люди?
– Да нет, есть разные, – сказал я, вспоминая нашего бригадира-выпивоху Шкляева, который всегда находит нам самую выгодную работу, за это получая привилегию не работать руками, а только наблюдать; могучего пожилого Матвейчука, трижды сидевшего за взломы и грабежи и вставшего на путь исправления, ненавидевшего, когда рядом курят или ругаются матом; балагура Костю, который как раз охотник покурить и поругаться – не со зла, а в силу артистизма натуры; молчаливого Юру Сучкова, человека с выдающимся носом, который в тридцать с лишком лет одинок, постоянно рассказывает о неудачных попытках с кем-то познакомиться, а свои густые и длинные волосы перед зимой химически завивает, чтобы даже из-под шапки они смотрелись привлекательно.
– Нет среди работяг никаких разных! – заявил Самохин. – Я техником среди них двадцать лет кручусь, знаете, что их только волнует? Зарплата и норма! Вечно воют, что зарплата маленькая, а норма большая! И все, и больше никаких интересов. Но я не об этом. Как вы относитесь к теории вероятности?
Вопрос был неожиданным, поэтому я ответил несерьезно:
– Хорошо отношусь.
Самохин хмыкнул. Но снизошел к моей молодости, не замкнулся, не ушел в себя, продолжил:
– Значит, считаете, что всегда есть факторы, которые можно учесть и рассчитать?
– Есть, но мало, – ответила вместо меня жена. – Вон в соседнем дворе на человека сосулька с крыши упала, чуть до смерти его не убила, как это рассчитаешь? Шел себе, шел – и бац!
Самохин посмотрел на нее раздраженно. Он не к ней обращался, что за вольности такие! Валентина страшно испугалась, начала что-то накладывать на тарелку, привстав так, что заслонила собой мою жену, будто защищая ее, одновременно она глянула на мужа просительно, будто умоляла его пощадить наивную женщину, которая не соображает, что говорит. Но тот и сам решил не обращать внимания на пустяки, слишком увлеченный ходом своих мыслей, слишком желая эти мысли высказать.
– Хорошо, возьмем этот бытовой пример, – сказал он мне. – На самом деле и это можно рассчитать. Количество осадков, количество скопившего снега на крыше, температурные перепады, образование сосулек, время, необходимое, чтобы масса сосульки стала выше критической. А еще ведь статистика, количество несчастных случаев в данный период на данной территории в пересчете на душу населения! Я не хочу сказать, что вероятность высокая, но она, что главное, возможна и предсказуема! Ее можно предвидеть!
– Да бред! – воскликнула жена моя со свойственным ей прямодушием. – Дичь какая-то! Хотите сказать, что, если я подсчитаю осадки, снег – что там вы еще говорили? – статистику на душу населения, тогда смогу уберечься? Ерунда полная, простите! Это за секунды происходит, никто не способен подсчитать, в какую именно секунду сосулька рухнет! Только если не ходить там, но как не ходить, домой-то надо попасть, правильно? Вы что, и в лотерею так выиграть хотите? Подсчитать вероятность?
И она кивнула в сторону телевизора. На нем, накрытом кружевной салфеткой, лежала кипа истрепанных по краям тетрадей, из них высовывались листы с цифрами и диаграммами, прямоугольники лотерейных билетов, сверху лежали карандаши, школьный треугольник и циркуль.
Валентину как столбняком ударило, она сидела, ссутулив до горба свою спину, не поднимая глаз. Самохин крепко сжал свой длинный рот и казался жрецом, в присутствии которого надругались над капищем. Помолчав, он встал из-за стола, очень осторожно отодвинув стул. Так осторожничают люди, которые сильно себя сдерживают, боятся собственного взрыва – взять, к примеру, тот же стул и запустить со всего размаха в кого попало.
Деревянными шагами Самохин обогнул стол, пошел к двери другой комнаты, у них было две комнаты, просторно жили, пошел кратким прямым путем, экономя силы. Перед ним оказалась дочь, он отодвинул ее ногой, как неживую, как большую куклу. И девочка безропотно отползла – видимо, привыкла. Самохин скрылся в комнате и аккуратно, но плотно закрыл за собой дверь.
– Извините! – прошептала Валентина.
– Ты еще извиняешься! – возмутилась жена, тоже шепотом. – Хотя зря я, конечно, прости дуру. Испортила все. Мы уйдем, а он тебя теперь заест насмерть.
– Ничего. Я привыкла.
– Валя, если что, беги к нам или вызывай милицию. Я серьезно. Он страшный, я бы с ним ночью в одной комнате не осталась!
– Да нет, ты зря… Он немного… А так… Нормально все. Вы не сердитесь, но идите, пожалуйста.
С этого вечера мы с Валентиной не общались и, конечно, с Самохиным тоже. Она умудрялась так не попадаться на глаза, что я не видел ее неделями. А Самохин, завидев меня, демонстративно останавливался и отворачивался. Я проходил мимо, иногда подмывало сказать что-то ехидное, но хватало ума промолчать.
Потом мы уехали из этого дома, а через много лет я случайно узнал, что их дочь стала чемпионкой области среди юниоров по фигурному катанию. А ведь даже ходить не умела.
Анти-Ганна
…Кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катила навстречу к нему высокая, статная красавица…
И. Бунин. «Антигона»
Я расскажу, если смеяться не будете. Скажете, что таджик неправильно говорит. К нам в Таджикистан русский приедет, тоже будет неправильно говорить, что смешно?
Я ремонт работал, дача, коттедж, в бригада работал. Мене для отец[2] деньги надо было. Отец на грузовик авария попадал, хозяин штраф большой наложил, а отец нога и рука сломал, работать не мог. Я работал много, на отец все деньги слал. Бригада домой поехала, а я не могу ехать, работать надо, деньги надо, зимой остался. Снег чистил, водопровод чинил, все чинил, все умею, в подвал жил.
Один человек меня позвал, тоже таджик, но живет тут давно, у него гости, он меня показал. Почему я тут, а не дома, спросил. Я отца случай рассказал, он говорил, что незаконный преступлений хозяин на твой отец совершил, отец авария не сам делал, хозяин его грабит. Надо тебе туда езжай и суд подавай. Я говорю, что суд не надо, а деньги надо, суд на пользу хозяин решит, а деньги сам все решит, без всякий суд. Он с гостями возмутился, они спорить начали. А один спросил, сколько отец должен. Я сказал, он смеялся, деньги доставал. А хозяин сказал, что только испортишь человек. Надо не рыбу для человек давай, а удочку давай. И они опять спорили, а я не знаю, зачем мене удочка, кого я буду зимой ловить? Они про меня совсем внимания уже не обращали, я на выход пошел, меня там их дочка догнала. Зайчик маленький мене подарок дала. Мягкий зайчик такой.
Совсем мене плохо, для отец нечего послать, кушать мало, все мало. А потом женщина мене позвала. Маргарита. У Маргарита теплиц во дворе, очень большой, цветок и растений рос, такой тропический, знаете, да? Жарко, как у мене дома, я одна рубашка ходил. Она Саня мене звала. Я Сангин, она на русский способ сделала – Саня. Не пожилая женщина, но не молодая, средняя. Я с ней немного спал. Она мене кино нехороший смотреть показала, там мужчины и женщины секс делают, парнография называется. Они парами там, парнография потому, да? Хотя они иногда и трое там. И четверо там. Я сильно стеснялся, а она мене делать как там велела. Никогда я так не делал, а с ней сделал, она мене деньги давала. Теплица работал деньги отдельно, а это отдельно.
Потом муж ее приезжал, он командировка ездил, мене прогнал, что я не садовник. Маргарита мене квартиру в город сняла, рядом, три километра всего, ко мене приезжала, опять кино смотреть показала, мы опять, что там делают, тоже делали. А деньги совсем не давала, только кушать привозила. Я так не согласился, а она мене ругала и из квартира ночью прогоняла. Я на вокзал ночевал, в полиций ночевал, где попал ночевал, умереть хотел, так не хотел жить. Полиций начальник к себе позвал, у него тоже коттедж, ремонт я там делал, на сарай жил. Сарай холодно, у него там старый войлок рулон, я его нарезал, как кошма, три на низ постелил, три сверх на себя положил, мене тепло стал.
С домашний телефон домой позвонил, мене отец сказал, что Маида, сестра, за хозяин выходит. Как такое, Маида тринадцать лет нет! В наш места правильно считают замуж идти пятнадцать лет, шестнадцать лет, а тринадцать лет только очень раньше замуж девушки выходили, теперь нельзя так, нехорошо. Отец говорил, что загс не будет, никох[3]будет. Я подождать просил, что деньги пришлю, отец говорил, что на март уже свадьба будет.
Я дальше работал, потом полиций начальник узнал, что я Таджикистан звонил, на мене кричал, сказал, что за это штраф будет, и мене не платил совсем. А я уже вся работа кончил. Выгнал мене, ничего не дал.
Я опять без понятий, что делать, ходил, работу искал. Вижу, девушка балкон стоит, сигарет курит. Я говорю, что надо работа, она говорит, что тут нет работа. Я говорю, что все умею, и то умею, и это умею, она говорит, что и то не надо, и это не надо, давай иди. А я стою, смотрю, мене она нравится, я весь улыбаюсь. Говорю, ты мене извини, что я скажу, но послушай, я любовник хороший быть могу. Она смеяться начал. Я уходил, а она кричит – стой, сюда иди. Я иду, она мене говорит, дверь зайди с той сторона, я открою там. Встретила меня там, кухня позвала, кормила, вопрос мене говорила. А сама на мене смотрела, а потом сказала, что, Саня, красивый ты. Почему у тебе глаз не узкий, спросила, ты весь европейский, как испанец какой-то. Я говорю, что таджик внешность не китаец или киргиз, мы глаза круглый, лицо длинный, кожа от солнца смуглый, но белый.
Мы шепот говорили, она сказала, что тут один только человек живет, он шум не любит совсем. И она мене оставила там. Там много комнат, она мене отдельно повела на второй этаж. Ванна, туалет, все есть. Я очень рад, руку ей целовал. Она смеялась, кто тебя научил? Я раздевать куртка стал, из карман зайчик достал. Она опять смеялась, что ты маленький разве, зайчик игрушка карман носить? Я сказал, что девочка подарила. Все ей рассказал про мене, она грустила, даже плакала. Ночью пришла, сказала, покажи, как ты любовник, если обещал. Я показал, она шутила несерьезно сначала, потом удивилась, откуда я это могу, я ей про женщину с теплиц рассказал, она опять смеялась.
Ганна ее звали, с Украины приехала. Говорила, что она, как я, гастор-батор. Она за хозяин-инвалид ходила, образование медсестра было у нее. Я не видел хозяин, жил своя комната, Ганна мене никуда не пускала, кормила, деньги даже дала, я сказал, лучше мой отец послать, она послала.
Один раз она где-то была, а я спал. Проснулся – на меня этот инвалид сидит и смотрит. Он на лифт поднялся, коляска с мотор, сам ехал и приехал. Сердился, кто такой, спросил. Я вся правда сказал. Тут Ганна приходила, он на нее кричал. Я думал, она просить прощений будет, а Ганна сама кричала, что вещи возьмет сейчас и уйдет совсем. Он сказал, не надо, не уходи, пусть только он уйдет. А Ганна кричит, что Саня не уйдет, она тут как в тюрьме живет, одной тяжело, пусть останется и помогает. Долго ругались, но я остался.
Стал не прятаться, все помогать, узнал про хозяин. Зовут Зверев Альбер Петрович. К нему только врач ходил, адвокат ходил. Иногда он на машина город ездил, Ганна за руль сидела. А у Альбер Петрович только ноги не ходили, остальной нормально. Голова, руки, все. Они в суд ездили. Ганна рассказала, что Альбер Петрович этот дом строил, бригада дом сдала, Альбер Петрович поселился, ему сверху карниз в голову упал, он умер почти, реанимаций его лечил, он живой стал, а ноги ходить перестали, только коляска. Он клятву дал, что строители тюрьма засудит, прораб засудит, владелец компании засудит. Один раз меня взял, чтобы помогал, а потом всегда брал. Я в суд никогда раньше не ходил, кино видел, думал, там будет зал большой, а там комната маленький, судья-женщина сидит, несколько человек сидит. Адвокат за Альбер Петрович спорит, другой адвокат за строитель, прораб и владелец спорят, кричат, ругаются, Альбер Петрович злится и сердится, а в машине потом смеется.
Я удивлялся, где семья Альбер Петрович? Ганна сказала, две семьи у него было, первый жена давно развод взяла, дети большие совсем, по себе живут, второй жена его обокрала, так Ганна говорила, и за границ поехала. Альбер Петрович обиделся, весь наследство на Ганна написал. Но договор составил, что Ганна наследство получит только в случай ненасильной смерти. Ганна говорила, что наследство никогда не будет, Альбер Петрович сто лет проживет.
Один раз Ганна приходит ночью и плачет. Что такое, что плачешь? Она молчит, а потом говорит, он меня измучил совсем. Первый год ее заставлял – то так одевайся, то так одевайся. Она слушалась. Потом начал раздеться просить. Она не хочет, он деньги дал, она стала раздеваться каждый вечер. Он смотрит, а она ходит или танцует. А он как мужчина не может поступить, только смотрит. А потом просил, что ты вот тут ложись и так делай, будто мужчина с тобой, хотя никого нет. А ты одна изобрази все это, как оно бывает с мужчиной, но без него. Ганна не хотела, говорила, что ты, если так интересно, женись на мене, и все будет тебе. Он сказал нет, опять деньги ей дал. А Ганна деньги надо, мама больной, операция делать надо, родственники бедные все, она согласилась. И начала ему концерт скрипка без оркестра показывать, так она это назвала, концерт скрипка без оркестра. Юмор в виду имела. У женщины с теплиц я тоже такое кино в интернет видел, там тоже девушки сами себе все делали.
И тут она сказала, что Альбер Петрович теперь придумал, чтобы я и Ганна ему вместе секс показали, а он смотреть наблюдал. Я так рассердился, что сказал, что пойду и этот дурак убью совсем. Ганна сказала, что это всегда успеем, а пока надо соглашаться и показать. Она заметила, что Альбер Петрович плохо становился, когда он смотрел, как она все делала. Весь красный делался, сердце хватал. Ганна мене сказала, что если Альбер Петрович теперь плохо, то, когда мы двое будем, он совсем плохо будет. И будет ненасильная смерть и он умрет, а Ганна богатая станет и мене тоже деньги поделит, я отец выручаю, сестра выручаю. Мене даже больно сердце стал, как Альбер Петрович, а согласиться все равно никак не мог.
Тогда Альбер Петрович мене позвал, много говорил, спросил про отец, мама, как наша там жизнь, я все рассказал. Он мене добрый показался. Даже ласковый. Но Ганна потом сказала, что он злой, оба семья сбежали не за то, что он прогнал, а сами убежали, даже деньги его не надо, так он всех достал, она сказала. А мене деньги надо и тебе деньги надо, все наши проблемы решить можно.
Я долго думал, вся ночь не спал, согласился. Сначала ничего не получился. Я все сделал, а главное сделать никак не могу. Ганна помогала, только хуже вышло. Я вижу, что он смотрит, и совсем ничего не могу, убежать только хочу. Ганна сказала, давай кино смотреть, какой тебе женщина с теплиц показывал. Альбер Петрович тоже сказал, давай, это поможет. Стали мы смотреть, мене противно, я весь морщился, как лимон ел. Он смеялся, сказал, больше не надо, а то Саня совсем ничего не сможет.
И сколько-то время он меня не трогал. И Ганну не звал. Потом позвал с ней, сказал, ничего делать не надо, сидеть будем, говорить будем, вам привычка нужна. И весь вечер мы там сидели, что он такое говорил, я половина ничего не понял. Книжка достал, начал читать про любовь. Я не знал, что книжки такие есть, думал, это только нехорошее кино, где про мужчин и женщин. Нет, книжки тоже. Рассказ читал, Антигона. Потом еще про Антигона читал, что она очень древний женщина. Тоже за пожилой мужчина ухаживал или еще там что-то, я не помню. Сказал, что он и есть такой мужчина, имя сказал, я не запомнил, Эдик, что ли, у меня знакомый был русский Эдик, может, тоже. А этот Антигона я запомнил, он часто повторял – Антигона, Антигона. А ты, на Ганна сказал, Анти-Ганна. Ты сама себе враг, сказал, ты умная, можешь все достичь, а сидишь тут, ухаживаешь за инвалид за деньги. А деньги можно больше взять, если стать проститутка для миллионер, а ты тут ждешь, что я буду мертвый, но ты не дождешься.
Мы каждый вечер ходили, он говорил, я тоже говорил, рассказывал жизнь в Таджикистан, как я люблю там все и назад хочу. Он мене азбуку русскую начал учить, я с этого читать немного теперь могу.
А потом ночью один раз мы с Ганна лежим друг на друга, я смотрю вбок, а Альбер Петрович дверь сидит. А Ганна тоже видит, говорит, ничего, ничего, дальше давай.
Так он нас обхитрил и стал каждый вечер смотреть, как мы. Я сперва свет гасил, потом не гасил, сперва одеяло на себя крыл, потом привык, Ганна тоже привыкла, будто его там не было. А деньги хорошие дал, а потом еще дал. Каждый раз давал.
Но Ганна мучилась, что так делала. Говорил, что она христианка, что в ад попадет. Только хорошо, что Альбер Петрович раньше попадет, он ведь заставил, он больше виноват. И мене спрашивала, я верующий или нет. Я – да, мусульман, но Коран мало знаю, он арабский язык написан, нас на таджикский перевод учили, я что-то помню, что-то не помню. Мечеть давно не был, молитва не делаю, это плохо, но праздники знаю, вино не пью, свинина не ем, если не голодный совсем, не курю даже. Она спросил, правда, что ислам прощать будет, если мусульман другой веры человека убьет? Я сказал, нет, неправда, только если враг и война. Она говорит, что Альбер Петрович – это враг и война, убей его, в свой рай попадешь. Я говорю, как ты говоришь, что мене его убить, это на тебя тогда грех, ведь это ты мене делать предложила. Как в тебе уложится, что наш секс для Альбер Петрович показать грех, а убить не грех? Она сказала ладно, я тоже в ислам пойду, тогда не будет грех убить. Я спорил ей, что это не так, она не слушала. Поехала в мечеть в город, приехала очень счастливая, сказала, что все просто и что она теперь тоже мусульман. Надо только было сказать, что ашхаду ал-ляя иляяхэ иллял-ла, ва ашхаду анна мухаммадан расулюл-ла, и больше ничего не надо, и ты мусульман. Я опять спорил, она не слушала.
И Ганна вязала на голова платок и сказала Альбер Петрович, что все, я теперь мусульман и никакой секс, и голая ты мене смотреть не будешь никогда. Альбер Петрович смеялся, потом сердился. Потом сказал, что пусть голова платок, а остальное пусть без всего будет, пусть она так станцует, а он ей в два раз деньги больше даст. Ганна отказала. Тогда он сказал ей, что все, давай езжай домой, и Саня пусть тоже в свой Таджикистан езжает. Или вместе давай туда, пусть он тебя там третья жена возьмет. Я сказал, что она не будет третья жена, мене и вторая нет, и первая нет. А первая жена Ганна я взять всегда хочу, если она согласится.
Ганна сердиться стала, кричала, что будет на газета рассказать, на телевизор рассказать, в передача «Пусть разговаривают»[4] рассказать, что он ее насиловал. Альбер Петрович хохотал, сказал, что ей тогда не будет жизнь совсем, если она вообще после такой глупость жива будет. Так они ругались, потом Ганна мене сказала, чтобы я ушел.
Я ушел, они там долго были, что Ганна делала, не знаю. Вернулась, сказала, что никакой Антигона не сделала, что она сделала, что она его мужской способность почти совсем вернула. И сказала мене – ты слышал, Саня, как свидетель, он мене при тебе смерть грозил. Я право имею защита сделать себе. Он мене честь оскорбил, как мусульман.
И тут она мене говорит – завтра вечер я мотор коляска ломаю, а сам себе возить Альбер Петрович руки слабый, завтра вези его к лифт второй этаж мимо лестница, случайно колесо на ступенька, коляска вниз вместе с Альбер Петрович, пусть он шея до смерти сломает. Там здоровый не выживет, если упасть. И никто не докажет, что насильная смерть. Несчастный случай, и все. Я ей отказал и ее ругал, что так нельзя, а если она мусульман, то еще больше нельзя. Она сказала, нет, как раз мусульман можно, теперь она для Альбер Петрович объявила джихад, и если я не буду это сделать, она сама сделает. Я сказал, что сам не буду и ей не дам это сделать.
Она перестала ко мене ночью ходить. Сказала, что я для нее предатель теперь. Что она теперь закончила любовь на меня, я могу уехать теперь. Я огорчался, сказал, что только вместе уеду. Она сказал, нет, если кто мене не верит, я тот не могу любить, все, совсем прощай.
Я ночь один остался, очень тяжело мене. Даже пил немного. Я мало пил спиртной, совсем не пил, но тут немного пил. Я пил и в ванна лежал. Я там заснул, вода верх пошел, на пол полился. Я вскакивал, тряпкам-швабрам пол тер, под ванна заслонка отодвинул, там тоже вода сушил. Рука туда залез, там стеклянный банка была. Банка достал – деньги. Много деньги. Я утром ей порадовал, что деньги нашел. Она сказала, что я дурак, что эти деньги она копила и прятала. Я удивился, что тут тогда делать, на всю жизнь хватит, если скромно. Она сказала – почему другой нескромно живет, а она будет скромно? Она тоже хочет нескромно жить. И мене денег дала, чтобы я отец послал и чтобы Маида замуж за хозяин не пошло. Я послал.
День прошел или два, не помню, Ганна мене сказала, что я теперь ей должен. Деньги брал – работай тогда. И опять уговаривала, чтобы я Альбер Петрович лестница нечаянно уронил. Я отказался. Ганна сердилась очень, рассказала, как Альбер Петрович деньги заработал, что он много люди погубил и коррупций занимался, взятка брал, и что деньги не он должен иметь, а честный человек, как я и она. Я все равно отказался.
Потом домой звонил, думал, там радость, что деньги есть теперь, отец сказал, что нет радость, а только плохо, он перевод получил, но два человек из милиций приходил, спросил, откуда столько деньги, он сказал, что Сангин прислал. Они сказал, что твой Сангин, если такой деньги, бандитский группировка состоит. И они деньги взял, сказал, что это конфискаций. Отец плакал, я тоже плакал, что делать? Он сказал, надо домой езжать, там все сам решить, по-другому не получится.
Я очень грустный стал, а потом злой стал. Почему так – есть люди, кто как хозяин себя ведет, а живет хорошо, а есть люди хороший, но живет плохо. И я Ганне сказал, что буду сделать, как она велела.
Она мотор портила, потом будто больная легла, он ей сначала на внутренний связь говорил, рация у нас такая была, потом лифт поднялся, сам колеса руками в лифт катил. Они что-то говорили, Ганна мене позвала – отвези Альбер Петрович. Он сказал, что сам, а я сказал, что только помочь. Помог, его катил, до лестницы докатил, вид сделал, что нога не туда наступил, колесо ступенька попал, Альбер Петрович с коляска вниз полетел.
Потом скорый помощь приехала, полиций приехала, адвокат приехал, все приехали. Нас полиций забрали, я камера сидел. Долго сидел, мене допрашивал три человек, я сказал, что Альбер Петрович сам упал. Очный вставка мене с Ганна сделали, она то же самое говорила. Кричал мене все, угрожали, били немного. Адвокат ходил, говорил, что я дурак совсем, что Альбер Петрович живой, хоть и весь ломался, а если Ганна деньги хотела, то наследство давно переписано обратно на два семья. А потом сказал, что Ганна теперь говорит, что я его столкнул. Я не верил, сказал, что пусть Ганна вот тут еще раз говорит так на мене, давай, позови. Он не позвал. Я понял, что он мене неправду соврал.
Потом суд начался, я за решетка в суде сидел. А Ганна не за решетка сидела, в зал сидела. Альбер Петрович привезли, он такой же был, целый, только на шея жесткий воротник. На суд много адвокат говорил, обвинятель говорил, Ганна допрашивал, Ганна без платка была, я цепочка заметил с крестик, она опять христианка стала. Сказала, что ничего не видела. Адвокат ей глазом кивал, что она не так говорит, а Ганна на него даже не смотрела, на меня не смотрела, на Альбер Петрович только смотрела. А потом Альбер Петрович начал говорить. Я удивился, что он на мене не злой был. Сказал, что я неосторожность сделал, что наказать надо, но не сильно, три года поселений дать, например.
И вот суд решений приговор читал, я удивился, как Альбер Петрович угадал, три года поселений суд мене дал.
Уже год прошел, не так плохо мене тут, распорядок есть, работа есть, даже деньги есть, хоть совсем мало. А когда я два месяц тут прожил, мене сам начальник телефон принес – на, говори. А там Ганна. Сказала мене, что все в порядок теперь, не волнуйся, Саня, я не все сказать могу, только сказать могу, что на твой отец у хозяин нет претензий совсем, что милиций деньги ему вернул, Альбер Петрович большие люди из Таджикистан просил, чтобы помогли, сиди спокойно свой поселений, а потом домой езжай, встретиться никогда не будем. Сказала, что за Альберт Петрович замуж идет, вопросов не спрашивай, все, давай.
И больше не звонила. Очень мене плохо, не буду вам врать даже, но раньше думал, что три года вытерпеть не смогу, а вот уже год прошел, ничего, могу терпеть. Только мене мысль не спится, что такое случилось, не понимаю? Ганна мене спасла или погубила? Как думаете?
Литература
Правду говорит Марья Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека.
И. Бунин. «Смарагд»
Саша Качаев учился тогда на первом курсе филологического факультета. Сотня девушек и десяток юношей. Юноши причем вовсе не тихие отличники, ушибленные учебой и комплексами, – нормальные молодые люди, двое даже после армии. Просто все очень любили литературу. Много читали и до поступления, а потом сама программа к тому обязывала, много и увлеченно говорили о книгах, сами что-то сочиняли, иногда делясь друг с другом.
Был праздник Первомай, демонстрация, день выдался солнечный, по-летнему теплый. Пройдя в колоннах, собрались в одной из комнат общежития, чтобы как следует выпить и поговорить. Девушки принесли кастрюлю вареной картошки и салат оливье, которым очень гордились, хотя вместо мяса или колбасы намешали туда рыбных консервов – в ту пору ни мяса, ни колбасы в магазинах города нельзя было купить даже по праздникам.
Кто сидел на стульях, кто – на придвинутой к столу койке. Саша оказался на койке рядом с Наташей Калитиной. Он ничего о ней не знал, как и о большинстве девушек курса. Темноволосая, довольно милая, с приятным фрикативным «г» в говоре, значит, с юга откуда-то.
Парни вскоре уже бурно спорили о чем-то, о какой-то книге или о стихах популярных тогда поэтов. И Саша спорил, горячился, не забывая выпивать. Тут же и курили, чтобы не отрываться от общения, дым висел туманом, хотя окна были открыты.
– Душно здесь, – сказала Наташа. – Пойдем прогуляемся?
– А? – не расслышал Саша, увлеченный спором.
– Дышать нечем. Пойдем погуляем.
Желание девушки – закон, пошли гулять.
Ходили по опустевшим после праздника улицам. Везде валялись обрывки бумажных плакатов, обломанные древки флагов и флажков, а иногда и целые флажки, бесформенные комочки лопнувших воздушных шаров. Народ праздновал по домам, из окон слышались песни, музыка, крики.
Саша все не мог успокоиться, доказывал свою правоту Наташе. Был ли это вопрос авторства «Слова о полку Игореве», или сравнительный анализ творчества Евтушенко и Вознесенского, или достоинства и недостатки истории Иешуа из «Мастера и Маргариты», теперь уже не вспомнить.
Наташа молчала, слушала.
Дошли до городского парка, сели там на лавку. Саша протрезвел, иссяк, не знал, о чем еще говорить.
Наташа по-прежнему молчала. Потом взяла его руку и положила себе на плечи.
– Холодно? – спросил Саша.
– Немного. Вечер все-таки.
– Да. Зато в городе никогда темно не бывает. Я вот у тетки в деревне был, лесная такая деревня, там, если тучи, если луны и звезд не видно, темнота кромешная, руку свою не разглядишь. К глазам приставляешь вот так вот, вплотную – ноль. Это то самое, когда говорят – хоть глаз коли. Только с фонариком ходить можно, иначе – на ощупь, как слепой.
Напав на новую тему, Саша начал рассказывать о деревне.
Но и тут надолго не хватило.
Сидел и думал, как ей сказать, что ему пора домой. Она-то в общежитии, а его дома родители ждут, будут беспокоиться.
И руку снять пора с ее плеч, затекла совсем.
Он поднял руку, потом вторую, потянулся с веселым стоном облечения. Вроде того – занемело всё.
– Сидеть устал? А ты ложись, – предложила Наташа.
И, отодвинувшись, мягким, но сильным движением притянула, уложила спиной на скамью, а головой себе на ноги. Не на колени, а близко к животу. И Саша затылком через тонкую ткань ее платья очень явственно, очень рельефно все ощутил.
Елки-палки, подумал он, и что теперь?
Лежал, молчал.
Может, обнять ее? Но снизу это неловко, даже смешно. Так маленькие дети припадают к животу матери, обхватывая руками.
И сказать что-то надо – но что?
Стало прохладно, но оттуда, где находились его затылок и шея, ставшие словно отдельными, шло тепло. Саша был неопытен, но начитан и наслышан, он уже хорошо знал природу этого тепла. Надо так: еще немного поговорить, потом в ходе разговора приподняться, повернуться, обнять ее, поцеловать, а там видно будет. Может, и до ее сокровенного тепла дело дойдет. Когда-то и с кем-то надо же пробовать.
– А насчет авторства, я думаю, вопрос не самый главный, – начал он. – Даже, может, вообще неважный. Когда ты видишь интересного человека, тебе ведь все равно, кто его родители.
Он хотел сказать после этого, что вот Наташа, например, интересна ему сама по себе, без сведений о родителях, и заранее радовался этому замечательному переходу на личное. Но перейти не успел: Наташа встала так резко, что Саша не успел удержать голову и стукнулся затылком о скамью.
– Знаешь – что? – презрительно и холодно сказала она. – Ты меня своей литературой – … – и одним словом определила, что сделал с нею Саша своей литературой. Девушки-студентки того времени умели иногда крепко выразиться, в этом был даже некоторый шик. Но Наташа выразилась не для шика, а от всего сердца.
После этого они почти каждый день встречались в аудиториях, на лекциях и семинарских занятиях, но как незнакомые, как совсем чужие. Даже не здоровались.
Боря
И в одну минуту, со шляпой на затылок, повалил ее на сундук, вскинул подол с красных шерстяных чулок и полных колен цвета свеклы.
И. Бунин. «Гость»
Курсы повышения квалификации при одном союзном министерстве, 1988 год, Москва, осень. СССР развалится через три года, но в ту пору еще никто этого не предполагал, а сказали бы, не поверил. На курсах была полная дружба народов, съехались из захолустных российских областей и автономий, из Украины, Молдавии, Белоруссии, кавказских, прибалтийских и среднеазиатских республик. Для всех два месяца не очень напряженной учебы были отдыхом от повседневной рутины и заодно возможностью купить что-то из одежды и обуви, пусть и отстояв очередь, а также от души выпить, тоже после давки в жаждущей толпе. На окраинах страны, начинавшихся сразу же за Подмосковьем, тогда было совсем пусто, очереди выстраивались тысячные, в столице намного лучше – ну, сотня человек, две, три, несколько часов стояния, зато наверняка. Человек может сколько угодно терпеть и ждать, если знает, что дождется.
И вот собралось застолье по какому-то поводу или без повода.
Был там такой Мечников, из Ульяновска, выпивоха, балагур, знаток анекдотов. Взялся руководить, весело понуждал всех выпивать и закусывать, с добрым юмором спрашивая среднеазиатов и представителей кавказских нехристианских народов, не претит ли им, что плов со свининой? Те улыбались и отвечали, что на родине да, претит, а тут можно, тут они в гостях.
Мечников раздухарился еще потому, что к нему на побывку нагрянула жена Тася. Вообще-то она приехала за вещами для маленьких сына и дочери, но и к мужу заодно. И они уже провели вместе вечер, Мечников попросил двух своих сожителей пару часов погулять. А ночевать она собиралась поехать к родственнице. Тася была очень красива, даже странно, как заурядному внешностью Мечникову такая досталась. Волосы пышные, светлые, глаза голубые, улыбка белозубая, формы тела волнующие – та стройная гармоничная полнота, которая нравится и любителям тонких талий, и обожателям обильной телесности. Мечников ею явно гордился, все мужчины на нее поглядывали, а таджик Боря, с круглыми, наивно-любопытными кошачьими глазами, как влип горящим взором, так и не отлипал. Он на самом деле был, конечно, не Боря, но просил его называть именно так.
И вот выпивали, пели под гитару, обсуждали горячие политические события, будучи людьми весьма образованными и сведущими, рассказывали анекдоты, пытались танцевать в тесном пространстве между столом и стеной, мужчины, которых было большинство, напропалую флиртовали с женщинами, Мечников был уже хорош, но и Тася увлеклась, опьянев от вина и мужского внимания. Договорились, что она никуда не поедет, переночует в женской комнате, там одна курсистка срочно уехала по телеграмме о смерти отца.
Мечников, утомившись, сел в угол, в кресло возле телевизора, да там и заснул. Ночью как-то перебрался на кровать, где утром очнулся с нестерпимым похмельем. В комнате гадко пахло спиртным и табачным перегаром и остатками еды. Мечников осмотрел все бутылки, стаканы и рюмки и не обнаружил ни капли. Страдая, он пошел искать. Стукнулся в комнату, где спала жена. Открыл, увидел, что она лежит в комнате одна, спит, а лицо страшное, все в черных подтеках туши. Мечников разбудил ее, спросил, нет ли выпить. Тася зарыдала и рассказала: ночью две курсистки куда-то делись, и вдруг пришел Боря. И набросился.
– Я раньше думала… – прерывисто выговаривала Тася, – как это можно… женщину изнасиловать… если она не хочет? Только если убить или ударить… чтобы без сознания. А он… Так обхватил… Как удав… Сдавил… Ничего сделать не могла… Колени мне… Как рычагом раздвинул…
Тасю спасло то, что ее затошнило прямо на Борю. Тот заругался и ушел.
Мечников отправился к Боре. Постучал. Тот открыл сразу, был одет и в руках держал бутылку коньяка. Двое его друзей и земляков молча сидели у окна, делая вид, что ничего не видят и не слышат.
– Ошибка, брат! – сказал Боря. – Извиняюсь сильно, брат, не хотел, глупость получилась! Не надо сердиться, давай выпьем, брат, очень прошу! Она мне сама моргала, а я не так понял.
Мечников знал, что надо делать. Убить негодяя или хотя бы избить его. То, что те двое на него бросятся, не пугало. Но так получилось, что он за все свои тридцать пять лет ни разу никого не бил. И его не били. Уберегла как-то судьба. Ему было заранее противно, что сейчас придется тыкать кулаком в это виноватое, приторно заискивающее лицо. И он почему-то не чувствовал злости. Даже жаль было этого дурака. И очень хотелось выпить.
Он взял бутылку из рук Васи.
– С тобой я пить не буду, сволочь, понял?
– Как хочешь, брат, я сволочь, признаю, прости, давай не будем!
– Если еще раз – убью! – твердо пообещал Мечников.
Он вернулся в комнату, налил стакан, выпил. Сразу стало легче. Пошел утешать жену. С бутылкой. Налил ей, она выпила, но не успокоилась, зарыдала еще пуще, Мечников налил ей еще, она выпила и заснула. Потом заснул и Мечников. Проснувшись, жены не обнаружил. Уехала.
Они встретились уже дома.
Об этом случае не вспоминали ни разу. Будто ничего не было.
В феврале девяностого года по телевизору показывали и рассказывали, как таджики воюют друг с другом, а заодно захватывают дома русских в Душанбе, их самих выгоняя, издеваясь над ними, убивая мужчин и насилуя женщин.
– Так им и надо! – с ненавистью сказала Тася.
– Кому? – не понял Мечников.
Она не ответила.
Танцы
…Я была горячая, отчаянная, бросилась останавливать их…
И. Бунин. «Волки»
Драка была неизбежна.
В большом зале ДК «Россия» еще вполне мирно танцевали, чередуя медленное с быстрым, никто ни на кого не наскакивал, не вспыхивали ссоры по углам, но Владя видел, как ходят озабоченные парни, настороженно посматривая по сторонам, о чем-то деловито переговариваются, длинными взглядами простреливают зал, выискивая в толпе своих, идут к ним, серьезно толкуют…
Кто, с кем и почему собирался драться, неизвестно, да и неважно. Для Влади главное было – избежать этого. Он не трус, но сегодня познакомился с замечательной девушкой. Совсем юная, учится в каком-то ПТУ, веселая, простая, немного дурашливая. И видно, что легкая на отношения. Владя уже во втором танце вплотную прижал ее, тонкую, к себе, и она ничуть не смутилась. На ней был пушистый мягкий свитерок, надетый, как вскоре выяснил Владя, прямо на тело. И вот его горячая рука уже залезла под кофточку, поглаживает спину, добирается до лопаток, обнаруживает, что нет там никакой лямочки, значит, на девушке, кроме свитерка, вообще ничего нет. От этого Владя совсем теряет голову и целует ее – нежно, осторожно, бережно, при этом чуть-чуть, совсем крошечно прикоснувшись языком, давая понять, что умеет больше, но не спешит. Потом откидывает голову, улыбается своей обаятельной доброй, слегка снисходительной улыбкой, смотрит на нее взглядом неотвратимого победителя. Некоторые, бывает, теряются от такого взгляда, но пэтэушница молодец, одобрительно усмехается и покачивает головой, будто говоря: «Надо же, какой ты нахальный, ладно, ладно, посмотрим…»
Теперь уже обе руки Влади под свитерком, время от времени сжимают ее талию сильно, но не больно, чтобы ясно было – это от восхищения и от жажды. А ее руки у него на плечах – и вот она прикасается пальцами к его шее под ухом и начинает ритмично поглаживать. Оба молчат и глядят в сторону, как бы и не зная, что происходит. Получается игра в два существования, одно для всех, другое друг для друга. Так тайные влюбленные, сидя за столом в компании, участвуют в общении, беседуют, едят, а сами в это время невидимо соприкасаются ногами, ведут двойную жизнь, ничем себя не выдавая, только странные улыбки промелькивают, часто не идущие к теме разговора.
Тут важно не спугнуть, не увести девушку слишком рано. Да, она охотно пошла навстречу, ведет себя смело, но Владя человек опытный, он знает, что это может ничего не значить. Не исключено, что девушка любит динамить, – раздразнить и ускользнуть. Поэтому надо закрепить успех и заодно проверить ее готовность к согласию. Владя решает поцеловать девушку уже основательно, со всем своим мастерством.
Целует. Девушка подается вперед, хотя и податься-то уже вроде бы некуда, ее ноготки впиваются в кожу шеи. Больно и приятно.
В азарте поцелуя даже стукнулись зубами и оба прыснули смехом.
Значит, они уже заодно. Сговорились, не сказав ни слова.
– Пойдем, – шепчет на ухо Владя.
Она не спрашивает куда, Владя берет ее за руку и ведет через толпу к выходу.
Но поздно, там уже началось. На площади перед ДК кто-то с кем-то бьется, а на крыльце у дверей сгрудилась кодла человек в двадцать, встречают всех выходящих, девушек отталкивают, а парней бьют по морде. Кто-то отвечает, начинается потасовка с быстрым поражением ответившего, кто-то молча принимает плюху и удаляется. Владя не собирался драться, но и по морде получать не хотел.
Он вернулся в зал, повел девушку мимо туалетов в коридор. В конце его было окно без решетки снаружи, но с замком на ручках. Замок, однако, открывался простым отжатием дужки – секрет для посвященных. Владя снял замок, открыл окно, вылез, помог девушке. Она упала в его руки. Долго стояли и целовались. Потом пошли вдоль стены, свернули, а навстречу – разгоряченная группа парней и подростков, человек десять.
– Я же говорил! – закричал кто-то маленький детским голосом, тыча пальцем. – Они оттуда сбегают!
– Так. Баба твоя пусть идет, а с тобой поговорим, – распорядился некто широкий, коренастый.
Владя быстро оглядел их. Заметил у одного арматурный прут, у другого палку от штакетника, а у третьего в руке со спущенным рукавом что-то блеснуло, то ли кастет, то ли нож.
– Мужики, вы чего? Я же свой! – сказал он.
– Да? Кто-нибудь его знает? – спросил коренастый.
Все молчали.
– Ты еще и врешь! – обвинил коренастый. – Тогда плати. Деньги есть? Вывернул карманы быстро!
Владя колебался. Вывернуть карманы – опозориться и потерять девушку, с которой наверняка было бы очень хорошо. Ввязаться в драку – потерять здоровье, а то и жизнь.
И тут он услышал громкий крик.
Девушка метнулась к стене, где лежали обрезки ржавых водопроводных труб (ДК недавно ремонтировали), схватила один, метра в полтора длиной, начала размахивать, при этом чуть не задела Владю, и завопила голосом отчаянной пацанки:
– Щас всех расфигачу на фиг, отошли, а то бошки проломлю!
– Тормозни свою дуру, хуже будет! – заорал коренастый, отступая.
– Я щас тормозну кого-то! – закричала девушка.
И зацепила концом трубы плечо маленького, тот заверещал, схватился за плечо и побежал прочь. За ним, натыкаясь друга на друга, ломанулись и остальные, крича: «Дура! Психушка! Чеканутая!» От парня убегать стыдно, а от девушки, да еще чеканутой, – позора нет.
Она бросила трубу и рассмеялась. Владя подошел к ней, чтобы поцеловать, но не поцеловал. Ему почему-то расхотелось вести ее туда, куда намеревался, – к другу-студенту, снимавшему крошечную двухкомнатную квартирку в старинном доме; квартирка странная: под крышей, практически на чердаке, друг называл ее мансардой. Настрой изменился, при этом девушка не разонравилась, но…
И через много лет Владя не мог объяснить, что с ним случилось. Он предложил девушке еще потанцевать, влезли обратно, танцевали, потом он сказал, что отлучится на пару минут – как бы в туалет.
И ушел домой.
Конечно, на другой день жалел о своей глупости.
Шло время, он забыл имена и лица многих, с кем танцевал, кого целовал и водил к другу в мансарду, а эту девушку, эту обычную пэтэушницу, которой он даже имени не успел узнать, – помнит.
«Селфи»
Он с ненавистью страсти и любви чуть не укусил ее за щеку.
И. Бунин. «Визитные карточки»
У известного актера Глеба Демьянова образовалось четыре свободных дня между съемками, и он не знал, куда их девать. Хотелось тишины, покоя, но не дома, в московской квартире, где все напоминало о недавней семейной жизни, печально закончившейся, как и два предыдущих брака. Дома будешь валяться и смотреть все подряд по телевизору, на второй день позвонишь кому-нибудь из друзей или подруг, приедут, и пойдет карусель – разговоры, откровения, выпивка. Если подруга, то, конечно, дела постельные. Среди ночи сорвешься – в клуб, в музыку, в веселье до утра. На другой день опохмелка, выпроваживание друга или подруги, мрачное питье в одиночку, звонки бывшим женам с признаниями в неугасшей любви и сожалениями, что все так получилось. И к началу следующих съемок, где понадобится таскать на себе древнерусские военные доспехи и размахивать мечом, будешь нездоровым, тяжелым, мутным. Все-таки не тридцать лет и даже не сорок, под пятьдесят уже, хотя подтянут и моложав на зависть многим.
Глеб позвонил знакомой туроператорше Ксюше.
– На такой срок только пансионат какой-нибудь под Москвой, – сказала она.
– Не люблю. Еда столовская, со старичками на лавочке сидеть…
– Хотите оторваться? Тогда на Ибицу. Шикарно, дорого, куча красивых девушек. Но там меньше семи дней ничего нет. А на теплоходе не хотите? Вот у меня тут горячее предложение – Москва – Константиново – Москва. Есть двухкомнатная каюта, гостиная и спальня, телевизор, вай-фай, все дела. Отправление завтра, второго, возвращаетесь пятого вечером. Самое то! Берем?
– Народа много, глазеть будут.
– А где не глазеют? Сами виноваты, из телевизора не вылезаете. Я недавно ваш сериал смотрела, где вы следователь. Если честно, сериал не очень, но от вас я в восторге, как всегда. Вы классный! А народа немного, это двухпалубный теплоход, небольшой. Недавно обновили, вот, я вижу, отлично выглядит. И уютненько так. Мне вообще старые теплоходы больше нравятся. Панели деревянные, люстры. Стильно. Ссылку прислать?
– Верю на слово. И прямо завтра отплывать?
– В час тридцать дня, прибытие на теплоход за два часа. Берем?
– Берем.
И вот Глеб уже на теплоходе. Немного приятной суеты с устройством, преувеличенная вежливость персонала и, конечно, взгляды со всех сторон, перешептывания: «Демьянов? Точно Демьянов! Надо же! А правда, что он опять развелся? Правда, правда, в “Московском комсомольце” писали!» Глеб делал вид, что не замечает, напускал на себя вид отрешенности, замкнутости. На самом деле он человек общительный, веселый, доступный, но знает – публике покажи только пальчик, всю руку тут же отхватят. Надо уметь держать дистанцию.
И столик в ресторане себе выговорил отдельный, в нише у окна. Он был вообще-то на двоих, но его так задвинули, что перед ним мог поместиться только один стул.
Глеб сидел спиной ко всем, глядя в окно на медленно удаляющиеся многоэтажки Марьина, которые, возвышаясь над каналом, казались издали вполне симпатичными, и чувствовал умиротворение.
И все пассажиры прониклись плавностью и неспешностью движения, тихим, спокойным гулом моторов где-то там внизу, ходили неторопливо, говорили негромко.
Официантки разносили еду. Из-за спины чья-то рука поставила блюдечко с помидорно-огуречным салатом, миску с супом, тарелку с гречкой и куском курицы; на краю тарелки была горстка квашеной капусты с алой горошинкой клюквы. Сервис!
– Без вариантов? – спросил Глеб, косясь на синий передник официантки.
– К ужину можно заказать, а пока да, меню общее. Что-то не устраивает?
Он оглянулся и увидел, что официантка молода, стройна и красива. Глеб не уставал удивляться, когда встречал не просто красивых, а замечательно красивых девушек и женщин, заурядно работающих в магазинах, кафе и ресторанах, в салонах связи и других обыденных местах. Почему они тут, а не на обложках журналов, не на подиуме, не на сцене или экране? Они, как правило, улыбались ему, часто просили сделать с ними селфи, а потом хвастались фотографиями в «одноклассниках», «инстаграмах» и «вконтактах». С некоторыми дело заходило и дальше, что отчасти было причиной разводов.
– Здравствуйте, – запоздало сказала официантка и смущенно улыбнулась. Узнала.
– Здравствуйте, как ваше имя, царица?
– Нина.
– Ниночка, я птицу не ем, аллергия у меня. А гречку с детства не люблю.
– Хорошо, что-нибудь посмотрю.
Она ушла и вскоре принесла рыбную котлету с рисом. И капуста с клюковкой тут же, это уж само собой. Неумолимый сервис.
После обеда Глеб пошел к себе в каюту, вздремнул. Потом прогулялся по теплоходу, осмотрел салон в носовой части с плетеными креслами и роялем кабинетного размера, бар с красными шторами на окнах. Из любопытства спустился на нижнюю палубу и прошел там коридором. Несколько дверей были открыты, он увидел, что в каютах двухъярусные кровати, очень тесно, сумрачно, какое удовольствие путешествовать в подобных условиях, непонятно.
Потом поднялся на шлюпочную палубу. Здесь было пусто, сложенные шезлонги лежали стопками, никто на них не загорал – к вечеру задул сильный ветер, порывистый и холодный, будто осенью; по небу быстро, обгоняя теплоход, летели тучи, серо- голубые снизу и белые сверху.
На лавочке у перил лежала и дремала, вытянувшись, дымчатая кошка. Ветер ерошил ее пушистую шерсть, она изредка постукивала хвостом, будто отзываясь на порывы ветра, давая ему знать: да, ты дуешь, я чувствую, что дальше?
Глебу захотелось ее погладить. Он подошел. Кошка открыла глаза. Глеб протянул руку и сказал: «Кис-кис, хорошая моя!» Кошка села, подняла переднюю лапу и начала старательно вылизываться, словно показывала Глебу, что занята делом. Потом вскочила, мягко спрыгнула и неспешно пошла куда-то.
Стало скучно, Глеб вернулся в каюту. Лежал, смотрел телевизор, по которому крутили старые фильмы.