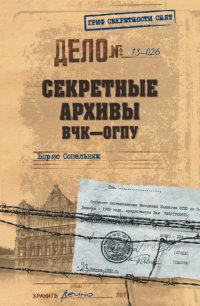Читать онлайн Восхождение бесплатно
- Все книги автора: Борис Сопельняк
© Сопельняк Б.Н., 2017
© ООО «Издательство „Вече“», 2017
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2018
Глава I
Ситуация была хуже некуда. В карманах ни гроша, башмаки прохудились, пиджак на локтях протерся. Да и спать негде – из паршивенького отеля вышвырнули за многомесячную неуплату. Что делать? Куда деваться? Не жить же под открытым небом.
«А что, можно и под открытым небом, – тоскливо думал давно не бритый господин с едва заметными следами былой элегантности и с очень заметной военной выправкой. – Благо осень в Испании теплая, а песок на пляжах мягкий… Вот только жрать нечего! – рубанул он по кустам кем-то потерянной тросточкой, и тут же скривился от боли. – Нет, шашкой владеть я разучился, – потер он разом заболевшее плечо. – Вот ведь проклятый осколок, десять лет прошло, а плечо все ноет и скрипит. Как тогда рвануло! Снаряд-то с немецкого крейсера был крупнокалиберный. На палубе два десятка трупов, и я – с дыркой в плече. Хорошо, что в Кронштадте хирург попался толковый, а то ведь поначалу руку чуть было не оттяпали.
Жаль, конечно, что с флота списали. Но зачем я поперся в пехоту, а потом в кавалерию – вот вопрос так вопрос! А впрочем, никакой это не вопрос: флота у Юденича не было, вот и пришлось взять в руки винтовку. Ну а Врангелю было не до морских сражений, надо было рубиться с большевиками. Так что судьба ваша, штабс-капитан Скосырев, делает еще один крутой поворот, – лихо сдвинув набекрень дырявую соломенную шляпу, криво усмехнулся бывший русский офицер, – шашку меняем на тросточку.
Шашку на тросточку? – споткнулся он. – Стать записным хлыщем?… Гм-м, а почему бы и нет? Ведь ходил же я с тросточкой по Лондону? Ходил. И еще как ходил! – молодцевато покрутил он когда-то тщательно ухоженные, а теперь обвисшие усы. – Всего- то три месяца, но в королевских военно-морских силах я служил. Жаль, что так быстро разоблачили: уж очень топорно был подделан мой голландский паспорт, и из подданного Ее величества королевы Голландии, который имел право служить в британском флоте, я стал персоной нон грата. Хорошо, хоть не арестовали, а просто выслали за переделы Великобритании. И уж совсем хорошо, что голландский паспорт не отняли – он мне еще пригодится…
Но где бы, что бы пожрать! – почувствовав обиженный голос желудка, прервал свои воспоминания когда-то лихой вояка, а теперь несчастный русский эмигрант, каких в те годы в Европе были сотни тысяч. – Пройдусь-ка я по набережной, быть может, натолкнусь на кого-нибудь из знакомых, кто мне обрадуется и пригласит в ближайшую забегаловку. А ты, – погладил он сделанную из железного дерева тросточку, – попробуй сыграть роль волшебной палочки и пошли мне такого знакомого. Если поможешь, даю слово офицера, что никогда тебя не выброшу. А когда разбогатею, – неожиданно добавил он, – то сделаю серебряный набалдашник».
Надо было видеть, какой беззаботной походкой, по-балетному выворачивая носки давно не чищенных туфель, двинулся по роскошной набережной штабс-капитан Скосырев. Шляпа набекрень, глаза презрительно прищурены, усы воинственно топорщатся. Обнажая мускулистую, загорелую шею, когда-то белая рубаха расстегнута, а сорванный на ходу и засунутый петлицу цветок красноречиво говорил, что этот высокий, стройный человек с прямой спиной и благородной посадкой головы обладает тонким вкусом, и ему наплевать и на дырявые башмаки, и на потертый пиджак, и на второй свежести рубаху. По всему, а особенно по тому, как он несет тросточку, видно, что этот господин – голубых кровей.
Впрочем, так оно и было. Штабс-капитан Скосырев был родом из Вильно и принадлежал хоть и к обедневшему, но старинному дворянскому роду. Видимо, поэтому, а может, и потому, что баронов в Прибалтике, как князей в Грузии, еще в гимназические годы к нему прилипла кличка Барон, которая вскоре перестала быть кличкой и его всерьез стали называть бароном Скосыревым.
И вот дефилирует наш барон по набережной, как вдруг, прямо в него врезается офицер в ладно сидящей форме капитан-лейтенанта русского флота.
– Извините, – коротко кивнул офицер.
– Пардон, – приподнял шляпу барон и слегка прикоснулся к офицеру тросточкой.
Это офицера остановило. Он снял фуражку, достал белоснежный платок, вытер вспотевший лоб, сделал шаг назад, профессионально прищурился и, округлив глаза, заорал на всю округу.
– Борька! Скосырев! Барон! Ты ли это?
– О господи! – осел Скосырев. – Костин? Командир башни главного калибра Валька Костин? Мы же с тобой из одной кают-компании, мы же оба с Балтийского флота!
– Узнал? То-то, брат…А я смотрю, плывет по набережной какой-то хлыщ, – продолжал кричать Костин, – и почему-то все уступают ему дорогу. А я решил не уступать! И своим форштевнем – тебе в борт.
– Да не ори ты. Я все слышу.
– А ты говори громче: я-то ни черта не слышу. Ты же знаешь, все артиллеристы на ухо туговаты. Слушай, Борька, справа по борту я вижу славную кафешку, давай пришвартуемся и там поорем.
– Давай, – обрадованно согласился Скосырев.
Когда как следует закусили и прикончили вторую бутылку хереса, Скосырев пододвинулся поближе к Костину, сгреб в кучу тарелки и спросил.
– На такой дистанции слышишь нормально?
– Нормально, – кивнул Костин.
– Тогда рассказывай. Я ведь о судьбе эскадры ничего не знаю. Если помнишь, из Севастополя мы драпали вместе, и до Стамбула дошли тоже вместе. А потом всех, кто не в морской форме, высадили на берег. Знаешь, сколько нас было? Триста тысяч человек, в том числе семьдесят тысяч солдат и офицеров. Хлебнули мы по первое число! Самое главное, на нас всем было наплевать, и никаким союзникам мы были не нужны. Я это понял быстро и задерживаться около Врангеля и его Российского общевоинского союза не стал.
– И что же ты делаешь? На что живешь?
– Да так, – сразу поскучнел Скосырев. – Болтаюсь…То здесь, то там. Зато свободен! – вскинул он голову и молодецки закрутил усы. – Да ладно, все это ерунда. Ты лучше про эскадру расскажи. Где она, что она, как она?
– Тебе подробно или в двух словах? – наполнил бокалы Костин.
– Подробно. Конечно, подробно! – загорелся Скосырев. – Ты же знаешь, войну я начинал на палубе, и если бы не ранение, так бы на палубе и остался. Ты вот по-прежнему в форме, значит, эскадра существует, корабли на плаву, матросы стоят на вахтах. А может, плюнуть мне на эти теплые края и податься к вам? Возьмете? Я же был неплохим штурманом.
– Эх, Борька-Борька, – вздохнул Костин, – как говорили раньше, оторвался ты от жизни. Ни газет ты, видно, не читаешь, ни радио не слушаешь. А ведь о Русской эскадре столько говорят и пишут, столько ломают копий в парламентах и министерствах, что только слепоглухой не знает, где мы стоим и что делаем. Напомню, что, когда мы пришли в Стамбул, никакой Русской эскадры не было, а была никак не организованная толпа из военных и коммерческих судов – всего 126 вымпелов. После того как вас высадили на берег и коммерческие суда разбежались, вице-адмирал Кедров сформировал Русскую эскадру, в которую помимо транспортов и даже ледокола вошли два линкора, два крейсера, десять эсминцев и четыре подводные лодки. Я был на «Алмазе». Славный вроде бы крейсер, но машины ни к черту, и в Бизерту нас притащили на буксире.
– Бизерта? Что еще за Бизерта? Я такого порта не знаю, – пытаясь вытереть лужицу из разлитого вина, еще ближе придвинулся Скосырев.
– И я не знал, пока туда не попал, – почему-то насупился Костин.
– Но где хоть он? В Италии, во Франции?
– Если бы… В Африке эта чертова Бизерта! – трахнул он кулаком по столу. – В Северной Африке.
– В Африке? – привстал от неожиданности Скосырев. – Каким ветром вас туда занесло?
– Французским, – скрипнул зубами Костин. – Ты знаешь, что удумали эти лягушатники: они заявили, что берут нас под свое покровительство и заставили поднять на грот-мачтах французские флаги. Андреевские мы, правда, не спустили и шли по Средиземному морю под двумя флагами. Позорище на весь белый свет!
– Вот сволочи! – хлестнул по столу своей тросточкой Скосырев. – А город-то хоть ничего? Жить там можно? – с надеждой спросил он.
– Какой там город?! – пренебрежительно сморщился Костин. – Он же в Тунисе, а Тунис – самая настоящая колония Франции, хотя они это называют протекторатом. Но Бог есть! – закричал на всю набережную Костин. – Есть! И он наши молитвы услышал! Вначале мы не знали, что идем в Африку, думали, что топаем в Тулон или, скажем, в Марсель. Но союзнички, черт бы их побрал, на свою территорию нас не пустили. И, знаешь, что они сделали? Окружили своими кораблями – это, мол, сопровождение, чтобы русские недотепы не заблудились – и повели в Бизерту. Проклиная все на свете, мы подчинились: не стрелять же, в самом деле. Но 13 декабря – я этот день никогда не забуду, как раз была моя вахта – французский корабль под названием «Бар-ле-Дюк», маневрируя около «Алмаза», сел на мель, да так удачно, что получил пробоину и пошел ко дну.
– Балда ты, Валька, – хмуро заметил Скосырев. – Корабль вместе с людьми идет ко дну, а ты говоришь, что он удачно сел на мель.
– Да спасли мы их, – улыбнулся Костин. – Семьдесят человек подняли на борт. Правда, командир, следуя традиции, остался в рубке.
– Слава богу! А то как-то не по-христиански… А корыто – черт с ним, корыто не жалко. Так что Бизерта-то? Как вас там встретили? Хлебом-солью или камнями?
– Арабам на нас наплевать. А вот французы… Суди, Борька, сам. Всего нас туда прибыло 5600 человек, в том числе 250 жен офицеров и их детей. На берегу нам не дали ни одного дома, ни одной казармы, ни одного отеля. Пришлось линкор «Георгий Победоносец» переоборудовать в плавучую гостиницу для семейных офицеров. Можешь себе представить, во что превратился красавец линкор: между орудиями натянуты веревки, на которых полощется белье, около торпедных аппаратов детишки играют в кегли, а юные барышни назначают свидания подле минных аппаратов.
– Романтика, – мрачно пошутил Скосырев. – Настоящая морская романтика.
– От этой романтики люди начали болеть. Появились первые могилы. Народ стал роптать…Только после этого французы начали свозить людей на берег и расселять в заброшенных бараках. Что касается кораблей, то их поставили в карантин.
– Что еще за карантин? – вскинулся Скосырев.
– А как же, – скривился Костин. – Не ровен час, немытые русские медведи привезли какую-нибудь чесотку или, не дай бог, холеру. Ты не поверишь, но все корабли обработали сернистым газом, а нас – какой-то вонючей дрянью, причем белье заставили сжечь в топках.
– Извини, конечно, – вернулся к изначальной теме Скосырев, почувствовав недовольный ропот желудка, о котором надолго забыли, – но здесь подают неплохую рыбу. Может, закажем?
– Закажем, – согласно кивнул Костин. – И бутылку бордо.
– Да вы что, господин капитан-лейтенант?! – деланно возмутился Скосырев. – Давно в ресторанах не были? Бордо же вино красное, а к рыбе полагается белое.
– Ну и черт с ним, – отмахнулся Костин. – Заказывай, что хочешь. Деньги у меня есть.
Глава II
Тут уж Борька показал себя во всей красе! Его заказ был таким изысканным, что даже официант уважительно склонил набриолиненную голову.
Пока ждали заказ, капитан-лейтенант Костин рассказал о том, что со временем, когда закончились привезенные продукты и эскадра начала голодать, французские власти разрешили всем офицерам, а потом и матросам подрабатывать на берегу: одни рыли каналы, другие собирали финики, третьи ремонтировали железную дорогу или копались в шахтах, четвертые, имеющие звания капитанов первого и второго рангов, устраивались шкиперами на портовые баржи, а один генерал получил место сторожа и с гордостью носил казенную фуражку.
– Но при всем при том, – орудуя вилкой, продолжал Костин, – эскадра жила полноценной жизнью. Дети учились в открытой на «Георгии Победоносце» школе, гардемарины проходили курс наук в Морском корпусе, экипажи готовили суда к долговременному хранению, занимаясь их покраской и смазыванием механизмов. Ты не поверишь, но мы даже проводили парусные гонки! – вдохновенно ораторствовал Костин. – А наш оркестр! Два раза в неделю он играл в сквере Бизерты, собирая толпы людей, желавших послушать русскую музыку. А хор! Даже я, с моим артиллерийским слухом, пел в хоре. Я уж не знаю кто, но кто-то из наших, придумал очень верную поговорку: «Два англичанина – футбол. Два немца – две кружки пива. Два русских – хор». Кстати, в футбол мы разделали французов в пыль и прах.
Особый разговор – о театре. Как ни трудно в это поверить, но наши офицеры и эскадренные дамы оказались настолько талантливыми, что блестяще исполнили несколько сцен из «Фауста» и «Аиды», а потом начали репетировать «Пиковую даму», «Евгения Онегина» и «Князя Игоря».
– А не заливаешь ли ты, Валька, а? – усомнился в его рассказе Скосырев. – Спеть под гитарку – это одно, это и я люблю, особенно после пары бокалов шампанского, а вытянуть Мефистофеля или Радамеса – совсем другое.
– Не заливаю! Ничего я не заливаю! – начал горячиться Костин. – Если хочешь меня оскорбить и обозвать лжецом, то я требую сатисфакции. Стреляться будем из пушек главного калибра, и так, чтобы друг друга не видеть, то есть с расстояния в три мили, – озорно улыбнулся он и потрепал Борьку по шее. – Пойдет?
– Пойдет. Но твои пушки в Бизерте, а я туда не поеду.
– И я туда не поеду, – грустно вздохнул Костин.
– Что так? – поддел его Скосырев. – Там же хор, театр, футбол, парусные гонки, духовой оркестр.
– А ну его к дьяволу, этот хор! Ты не представляешь, чего мне стоило удрать из Бизерты и оказаться в Испании, а не в Болгарии, Чехословакии или других славянских странах, где нас охотно принимают. Слушай, Борька, – наклонившись к самому уху Скосырева, произнес свистящим шепотом Костин, – ты тайну хранить умеешь?
– Военную – умею. А так – черт его знает? – честно признался Скосырев.
– Моя тайна – не военная. Это даже не тайна, а план. Не очень красивый и не очень порядочный, но план… План – как разбогатеть и выбраться из трясины убожества и нищеты, – помявшись, заметил он. – Ты-то, вон, в каком дерьме, – покосился он на драный пиджак собеседника. – Да и жрешь, поди, первый раз за двое суток, – жестко закончил он.
«А ты не прост, – до белизны в суставах сжал кулаки Скосырев. – Прикидываешься запанибрата, а сам… а сам все видишь… все видишь и оцениваешь», – потянулся к трости Скосырев.
– Во-первых, не лезь в бутылку, – нахмурился Костин. – И твоего прутика я не боюсь. А во-вторых, дело есть дело: я хочу взять тебя в долю. Кое-какой начальный капитал у меня есть, и если ты согласишься, то на ближайшее время будешь обеспечен едой, постелью и одеждой. Согласись, что это в твоей ситуации немало.
– Немало, – обреченно кивнул Скосырев. – А что хоть надо делать? Надеюсь, твой план бескровный, и старух-процентщиц убивать не потребуется.
– Нет, их надо будет не убивать, а… соблазнять.
– Что-о-о? – выпучил глаза Скосырев. – Соблазнять? Старух? Ты с ума сошел.
– Да не кипятись ты, – хохотнул Костин, – и о своей невинности не беспокойся. Во-первых, соблазнять надо не всех старух, а всего одну. А во-вторых, не такая уж она старуха: ей лет сорок, не больше.
– Так почему не дать ей дожить до пенсии, а потом вместе с престарелым мужем торжественно отправить на кладбище? – почувствовав, что предстоит забавное приключение, разгладил свои пшеничные усы Скосырев.
– Твое предложение абсолютно бесперспективно, – без тени улыбки заметил Костин.
– Почему?
– Прежде всего потому, что она вдова. И самое главное, ни в какой пенсии она не нуждается. Как думаешь, почему? Да потому, что она английская миллионерша.
– Миллионерша-а-а! – уважительно привстал Борька. – Это меняет дело. Все, Валька, считай, что я с тобой, – азартно потер он руки.
– То-то же, – похлопал его по плечу Костин. – Но сначала нужно привести тебя в божеский вид: отмыть, отчистить, откормить и прилично одеть. Вставайте, штабс-капитан, труба зовет! Я живу в одном недурственном отельчике, поселим там и тебя. Паспорт-то у тебя есть?
– А как же, голландский!
– Вот и славно. Будешь ты теперь отставным полковником, нет, лучше подполковником – для полковника ты еще молод – голландской армии, правда, русского происхождения, бароном Скосыревым. Согласен?
– Что значит «согласен»? – гордо вскинул голову входящий в роль новоиспеченный подполковник Скосырев. – Если мое имение, которое, как известно, под Вильно, разорили большевики, а мне пришлось бежать на Запад, это еще не значит, что я перестал быть бароном – этого титула меня никто не лишал.
– Ай да Борька! Ай да молодца! – протянул было руку Костин, но тут же, тоже войдя в роль, смущенно ее отдернул и, приложив руку к козырьку, самым почтительным образом отдал честь новоявленному прибалтийскому барону.
Глава III
Прежде всего, компаньоны отправились в магазин готовой одежды. Тут уж барон Скосырев показал себя во всей красе: он перемерил все, что было на виду, а потом и то, что висело на складе. В конце концов он выбрал два светлых костюма и один темный, не говоря уже о галстуках, рубашках, носках, штиблетах и даже изящных запонках.
Покряхтев и повздыхав, глава концессии капитан-лейтенант Костин, прикинув, что вложенный капитал окупится, не говоря ни слова, эти покупки оплатил. А потом, все так же молча, потащил Борьку в парикмахерскую. Когда ему вымыли голову, оказалось, что волосы у него светло-русые, да еще с невиданным в этих местах пшеничным отливом. Даже маленький, юркий и абсолютно лысый парикмахер восхищенно зацокал:
– Таких ослепительных блондинов я никогда не видел! Это же королевский цвет! Я точно знаю, что таким же диковинным блондином с ярко-голубыми глазами был Александр Македонский.
– Откуда вы это знаете? – проворчал Костин. – Вы что, его стригли?
– Господин офицер изволит шутить, – полыхнули антрацитовым огнем миндалевидные глаза немолодого мачо, а ножницы в его крохотных ручках на какое-то мгновенье стали похожи на шпагу. – Я знаю, о чем говорю. Я образованный человек и много читаю.
– Я тоже читаю, – продолжал ворчать Костин, – особенно газеты, в которых печатают объявления с предложениями непыльной работы.
– А я – исторические романы, – вздернул остренький подбородок исполненный собственного достоинства цирюльник.
– И что, там пишут, что Александр Македонский был блондином, таким как наш Борь… то есть как барон Скосырев? – заметив высунувшийся из-под пелерины кулак приятеля, поперхнулся Костин.
Тут уж испанский цирюльник запел таким соловьем, что даже Борьке стало неловко.
– Ах, простите! Ах, извините! Я совсем захлопотался. Да и в помещении несколько темновато. Чего изволите, господин барон? Какой фасон предпочитаете? Сейчас в моду входит полубокс. А можно и польку. Вам все будет к лицу… как и Александру Македонскому, – неожиданно выпалил он, – сверкнув глазами в сторону Костина.
– Полубокс – это как? – поинтересовался Борька.
– Сзади – на нет, а спереди коротенькая челочка.
– Нет, никаких челочек! – вскочил со своего места Костин. – Наш барон должен быть неотразим. Дамы должны восхищаться королевским отливом его волос, а не таращиться на голый затылок. Значит, так, – подошел он вплотную к цирюльнику. – Волосы пусть лежат гладенько, но их должно быть много. И самое главное, вот здесь надо сделать проборчик, – разделил он голову на две неравные части. – Понимаете, косенький такой проборчик.
– Понимаю, – согласно кинул цирюльник. – Господину барону такой проборчик будет к лицу.
– Тогда – за дело! – скомандовал Костин и углубился в газету.
Маленький цирюльник был мастером своего дела, он работал так изящно и виртуозно, что даже Скосырев залюбовался мельканием ножниц, расчесок и каких-то других блестящих инструментов в его маленьких руках.
– Послушайте… э-э-э, – стараясь придать голосу как можно более безразлично-беспечный тон, вымолвил Скосырев. – Как вас зовут?
– Рамос, господин барон, – почтительно склонил голову цирюльник. – Франциско Рамос.
– Что это вы, Рамос, говорили об Александре Македонском? Он что, и вправду был блондином?
– Да, господин барон, таким же ярким блондином, как и вы.
– Но как же так? Ведь он же грек, а все греки черные.
– С вашего позволения, Александр не совсем грек. Как и его отец, македонский царь Филипп II, он был македонцем. Да, в основном македонцы черные, или, точнее говоря, брюнеты, но люди царского происхождения, чтобы всем было видно, что они сродни богам, по воле Зевса были голубоглазыми блондинами.
– Ишь ты-ы, – изумился Борька. – Выходит, я тоже, как бы это сказать, сродни…
– Не богам, конечно, – с неожиданным металлом в голосе подхватил Рамос. – Нет, не богам! Тем более что как убежденный католик я считаю, что Бог один и Бог един. Но то, что таких людей, как вы, мало и что им предначертано особое предназначение, я знаю точно. Хотите убедиться в этом сами? Пожалуйста. Выберите время и загляните в нашу городскую библиотеку. Знаменитейшая, скажу вам, библиотека, одна из лучших в Европе.
– Ну что там у вас? – подал свой ворчливый голос Костин. – Сколько еще ждать-то?
– Все, господин офицер, ждать больше не надо. Можете полюбоваться, – отошел в сторону Рамос и, как закончивший картину художник, устало, но с каким-то особенным достоинством сложил на груди руки.
Как только Костин подошел поближе к зеркалу, его скептический прищур как водой смыло, и он замер в искреннем восхищении.
– Вот это да-а, вот это работа! Борька, ты хоть сам-то себя узнаешь?
– Отчасти, – скромно потупился Скосырев.
– И все же чего-то не хватает, – почесал затылок Костин. – Но чего? А вы как думаете? – обернулся он к мастеру. – Чего не хватает нашему барону, чтобы выглядеть на все сто?
– Усов, – односложно бросил мастер.
– Как это? У него же есть усы.
– Господину барону нужны не усы, а усики. Тонкие изящные усики. Знаете, как у жиголо.
– Что еще за жиголо? – подскочил Скосырев.
– Ваш товарищ сказал, что вы должны нравиться дамам. Так?
– Так.
– А дамы, особенно одинокие, от жиголо без ума.
– Почему?
– Да потому, что, как правило, это изящные и красивые молодые люди, которых дамы без всяких хлопот, но за приличную плату нанимают в качестве партнеров для танцев. А за дополнительную плату эти парни могут быть партнерами не только для танцев.
– Борь… то есть господин барон, это же то, что нам надо! – подпрыгнув на месте, захлопал в ладоши Костин. – Все, отныне ты жиголо! Делайте ему усики, только точно такие, как у жиголо, – обернулся он к мастеру.
Рамос тут же взялся за дело, а Костин, время от времени искоса поглядывая в зеркало и потирая руки, возбужденно расхаживал по салону, почему-то при этом приговаривая: «Все, леди Полли, теперь ваша карта бита. Ха-ха, ха-ха-ха, не боится, знать, греха! Берегитесь гуси-утки».
Какие гуси, какие утки – Борьке это пока что было неведомо, но из салона Рамоса он вышел совершенно другим человеком. Это был не просто изнывающий от безделья франт, нет, это был знающий себе цену аристократ, у которого немало, быть может, государственных забот, но он находит время и для прогулок по набережной, и для светских бесед, и для занятий входящим в моду спортом – по крайней мере, так выглядел он со стороны.
Глава IV
В гостинице Костин снял Скосыреву номер рядом со своим, дал ему денег на карманные расходы, а потом усадил в кресло и велел внимательно слушать.
– Запомни и намотай на свои пижонские усики все, что я тебе расскажу, – каким-то загробным голосом начал он. – Больше я говорить об этом не буду, потому что говорить об этом больно и стыдно! – сорвался он на крик.
Потом Костин встал, сбросил китель, плеснул себе и Борьке вина, поморщился, с трудом проглотил, матюгнулся, тяжко вздохнув, выдавил:
– Эх, сейчас бы водочки, да с огурчиком! – Снова рухнул в кресло и, нервно поигрывая подтяжками, продолжал: – Так вот, дорогой мой брат по палубе, рассказывая об эскадре, я сказал тебе далеко не все. Самое главное я утаил, и не потому, что не доверяю или что-то еще, а потому, что стыдно. Горько, противно и стыдно! – с надрывом в голосе воскликнул он. – Если бы ты знал, что сделали с нами французы, как они нас обидели, как унизили и втоптали в грязь! В октябре 1924-го Франция признала Совдепию и установила с ней дипломатические отношения. И знаешь, что сразу после этого удумали большевики: они стали требовать возвращения нашей эскадры. Ничего себе, да?! Мы на этих кораблях с ними воевали, омывали палубы своей кровью, потом увели в Бизерту, там сохранили их на плаву, и теперь за здорово живешь должны вернуть в красный Севастополь?!
– Чушь! – вскочил Скосырев. – Собачья чушь! А почему бы не вернуть им наши знамена, наши мундиры, а заодно и всех нас, чтобы построить у кремлевской стены и показательно расстрелять?!
– Вот именно! – хрястнул кулаком по столу Костин. – Мы-то думали, что французы от такой большевистской наглости рассвирепеют и из Парижа вытолкают их взашей, но они на требование вернуть корабли согласились.
– Ну уж это ни в какие ворота! – всплеснул руками Борька. – Мы же все-таки союзники по Первой мировой, они же нам помогали и во время Гражданской.
– Забыто. Все забыто и, я бы сказал, предано анафеме… А дальше события развивались так. 29 октября 1924 года – запомни, Борька, этот день на всю жизнь, это самый горький и самый позорный день русского флота – на всех кораблях эскадры состоялся спуск Андреевского флага. Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах русские моряки не спускали Андреевского флага, шли на дно, но флага не спускали, – шмыгнул носом, а потом навзрыд заплакал капитан-лейтенант Костин, – а тут – сами. Мы прятали друг от друга глаза – и плакали. Плакали все – матросы, офицеры, адмиралы. Но громче всех заливались гардемарины, они же совсем дети и слез не стеснялись.
И перед кем спускали флаг? Кому сдавались на милость победителя? Каким-то убогим штафиркам в фуражках и котелках. Я их видел, они приехали из Москвы в составе какой-то комиссии. Мы чуть с ума не сошли, когда узнали, кто ее возглавляет: этому трудно поверить, но принимать корабли приехал родной брат командующего нашей эскадрой контр-адмирала Беренса. Нет, ты представляешь, какой неправдоподобный зигзаг истории! Потомственный дворянин, выпускник Морского корпуса, штурман «Варяга», участник легендарного боя с японцами у Чемульпо, один из руководителей Морского генерального штаба – и вдруг неистовый сторонник большевиков и командующий их Морскими силами!
Наш Беренс с братом встречаться отказался. А тот деловито осмотрел эскадру, старые корабли предложил списать на металлолом, а себе выбрал линкор, крейсер, шесть эсминцев и четыре подводные лодки. Ничего себе добыча, а?! Просто так, за здорово живешь, отхватить такой жирный куш!
И тогда мы решили: чем отдавать это добро большевикам, лучше его растащить.
– Как это? – не понял Скосырев.
– А разворовать! – с каким-то отчаянием в голосе воскликнул Костин. – Ты же знаешь, на кораблях много чего сделано из меди, бронзы и латуни, а этот металл достаточно дорог – вот мы и тащили что ни попадя на берег и продавали перекупщикам. Я уж не говорю о генераторах, динамо-машинах, паровых котлах и тому подобном – это у нас брали, так сказать, оптом, в собранном виде.
– Теперь все ясно, – погладил усики Скосырев.
– Что тебе ясно?
– Откуда у тебя деньги.
– И что, тебе неловко их тратить? Ты считаешь, что они грязные?
– Ни в коем случае, – успокоил его Скосырев. – Лучше потратим их мы, нежели большевики.
– Так-то оно так, – досадливо почесал за ухом Костин, – но все же какая-то заноза вот здесь, – ткнул он себя в грудь, – сидит. Хочешь, верь, хочешь не верь, но раньше мне такими делами заниматься не приходилось.
– О господи, Валька, а кому приходилось? Но жить-то на что-то надо. Ты знаешь, сколько лет я искал более или менее приличную работу – ведь я знаю четыре языка, но ничего, кроме сторожа или уборщика, не предлагали.
– Стоп, это важно! – перебил его Костин. – Какие у тебя в активе языки?
– Английский, голландский, французский, испанский. И, кроме того, командный и матерный, – хохотнул он.
– Прекрасно! Теперь – о моем плане. Как ты понимаешь, деньги, которые я выручил от продажи меди и латуни, рано или поздно закончатся. И что тогда, переселяться на пляж? Спать под тентом? Нет уж, дудки! И вот что я придумал. В прошлом году, когда к нам приезжали представители Красного Креста, я познакомился с одной миленькой англичаночкой. Она еще ребенок – ей всего двадцать, но хороша чертовски. Не буду рассказывать, как мне это удалось, но в душу я ей запал. Честно говоря, я думал, что все обойдется романчиком, но когда узнал, что она наследница приличного состояния, решил на ней жениться.
– А она, она твое предложение приняла? – привстал от любопытства Борька.
– Она-то согласна, – досадливо отмахнулся Костин. – А вот ее опекунше, то есть родной тетке, я не понравился.
– Врешь! – округлил глаза Скосырев. – Не может этого быть! Чтобы такой красавец, как ты, и не понравился какой-то там тетке?!
– Не ерничай, Борька, не тот случай. Тетку зовут Полли Херрд. Я уже говорил, что она вдова и к тому же миллионерша. Короче говоря, тетку ты должен взять на себя. Надо, чтобы она втюрилась в тебя, как кошка, и чтобы ты стал для нее авторитетом не только в постельной, но и в деловой жизни. Постепенно, день за днем, месяц за месяцем ты будешь ей внушать, что лучшей партии для племянницы, чем я, не найти. Когда она от твоих ухаживаний потеряет голову и ей на все, кроме тебя, будет наплевать, к тому же она будет бояться тебя потерять, а ты помаленьку будешь ее шантажировать своим возможным уходом, она прислушается к твоему совету и отдаст за меня мою дорогую, причем дорогую во всех отношениях, Мэри.
– Ну, и пла-а-н, ну, ты и стратег! – восхищенно воскликнул Скосырев. – Я бы до такого никогда не додумался, это уж как пить дать. Ладно, Валька, по рукам! Так и быть, старушку я беру на себя. Но как быть с дивидендами? Ты получаешь богатую наследницу – и это прекрасно. А я, что получаю я?
– Миллионершу, – хмыкнул Костин. – К тому же тебе не надо на ней жениться. Станешь тратить ее фунты и жить в свое удовольствие: все рестораны, казино, ипподромы, пляжи и театры будут в твоем распоряжении. Не так уж и плохо, а?
– Во всяком случае, лучше, чем сейчас, – почему-то невесело ответил Борька.
Два дня концессионеры присматривались к ресторану, куда время от времени заглядывала Полли Херрд. Так как Костин был с ней знаком, то, в принципе, можно было бы без всяких церемоний подойти к надменной англичанке, поздороваться и познакомить ее с Борькой. Но вот ведь незадача: леди Полли приходила в ресторан только по утрам – она там завтракала, а во время завтрака представлять незнакомых людей не принято.
Черт его знает, где эту норму светского обращения вычитал Костин, но он стоял на своем и к англичанке не подходил.
– А она вполне ничего себе, – протирая где-то раздобытый монокль, сиял неотразимой улыбкой Борька. – Кстати говоря, держу пари, что она никакая не аристократка: в своей предыдущей жизни эта дамочка была секретаршей, гувернанткой или даже продавщицей в одном из магазинов Херрда. Посмотри, как она держит вилку, как вытряхивает из пачки сигарету, как не промокает, а вытирает губы. Ой-ой, а как старательно мы оттопыриваем мизинчик, как хмурим бровки. Тьфу, ты! – почему-то разозлился Борька. – Как говаривал мой незабвенный партнер по висту поручик Гостев: «Видали мы таких ледей». Давай я пришвартуюсь к ней сам, клянусь честью, все пройдет без сучка и задоринки.
– Ни в коем случае! – шипел на него Костин. – Представить барона Скосырева должен я: это для того, чтобы со временем она стала испытывать ко мне чувство благодарности. Но где же, черт возьми, Мэри? Не морит же эта зараза ее голодом? – не находил себе места Костин.
– Да не кипятись ты, – успокаивал его Борька. – Может, прихворнула, а может, решила похудеть и села на диету.
– Какая там диета, куда там худеть! – загудел Костин. – И так коленки, как мои локти. Нет, – убежденно отчеканил он, – лучше русских баб никаких мадемуазелей, синьорин и леди нет и не может быть на свете!
– В чем в чем, а в этом я с тобой согласен, – поддержал его Борька. – Эх, какие были женщины! Закатишься, бывало, в номера и гудишь там… пока не закончатся деньги, – со вздохом добавил он.
Этот день никаких результатов не дал. От досады и отчаяния вечером Костин напился. Он купил бутылку коньяка, плеснул чуть-чуть Борьке: «Тебе нельзя, ты должен быть в форме!» – наставительно сказал он, а за остальное взялся сам.
– Эх, жизнь наша, жестянка! – пьяновато шумел он. – И куда нас, сирых, занесло?! На кой мне ляд этот курортный городишко под названием Сантандер? Нет, ты мне скажи, какого рожна мне тут надо, что я тут не видел, если, – сделал он очередной глоток, – если где-то там, делеко-о-о, есть Петроград? Я настаиваю, – поднял он палец, – что этот город надо называть именно так. Никаких там немецких Петербургов, да еще «Санкт», а просто и четко, по-русски, город Петра. А что означает этот самый «бург»? Скажи мне, ведь ты же этот, как его, ну, который знает много языков.
– Полиглот, – подсказал Борька.
– Кто-о-о? – захохотал Костин. – Полиглот? Это значит, что ты наглотался много слов?
– Наглотался, – завистливо посмотрел Борька на не до конца опорожненную бутылку. – А «бург» – это значит крепость, замок или оплот.
– Ага, выходит, что Санкт-Петербург – это крепость или оплот святого Петра. Почему крепость, а не город? Там же уже есть крепость – Петропавловская. Тогда получается, что Петропавловская крепость – это крепость в крепости? А это чистой воды дребедень, или, по-научному, о-о, я это слово знаю – тав-то-ло-гия, то есть повторение того же самого другими словами, ну, как «масло масляное».
– Ай да Валька! – искренне восхитился Скосырев. – Вот уж чего не ожидал, так не ожидал! Ты у нас, оказывается, не только артиллерист, но еще и грамотей.
– А ты как думал, – отпарировал Костин. – Как-никак, а три курса Петроградского университета окончить я успел. И хотя учился на филологическом, тяготел почему-то к точным наукам, и бегал на лекции по математике. Это и определило мою судьбу. Когда началась война, я бросил университет и подался в артиллеристы, да еще морские, там знание математики – первое дело.
– Да, пушкарем ты был знатным, – уважительно подхватил Скосырев. – Я помню, как на корабле говорили, что у капитан-лейтенанта Костина глаз – ватерпас.
– Да уж, прицелиться я умел, – сделал очередной глоток Костин и, страдая от жары, расстегнул рубаху и подошел к окну.
Борька так и онемел! Через всю Валькину грудь шел широкий багрово-синий шрам. А когда ветер приподнял и растрепал рубаху, Борька увидел, что начинавшая оплывать спина тоже в шрамах. Но держался Валентин уверенно, а вся его невысокая, но крепкая фигура источала силу циркового борца. Его бритая, прекрасно вылепленная голова с высоким лбом, орлиным носом и густо-черными глазами выдавала какую-то нерусскую, быть может, татарскую или кавказскую породу.
«Надо же, как ему досталось, – с каким-то щемящим чувством подумал Борька. – И я хорош: держу Вальку за солдафона, а он, оказывается, и филолог, и математик, и просто герой. Могу себе представить, что творится в его душе, если он дошел до того, что стал воровать корабельное имущество, подбивать клинья под какую-то англичанку да и меня втравил черт знает во что».
– Паршивый, должен тебе сказать, коньяк, – закрывая окно, совершенно трезвым голосом сказал Костин. – Выхлестал почти что целую бутылку, а ни в одном глазу. Знаешь, что я тебе скажу: наш план придется скорректировать. Надо любой ценой узнать, где наша леди проводит вечера. Не сидит же она, в самом деле, в гостинице и не вышивает гладью.
– И как мы это сделаем?
– Деньги решают все, – усмехнулся Костин. – В каком отеле она живет, мы знаем? Знаем. Значит, надо не поскупиться на бакшиш швейцару, а может быть, и портье, чтобы узнать, куда ездит по вечерам леди Полли: ведь машину-то она заказывает через них.
– Все гениальное просто, – почтительно склонил голову Борька. – Только взятку будешь давать ты. Я не умею, – почему-то смутился он.
– И правильно! – хохотнул Костин. – Барон взятки должен не давать, а брать. – Но в нашем случае это не взятка, а чаевые, так что ваша честь, штабс-капитан Скосырев, не пострадает.
На том и порешили… А утром, свеженький, как только что из массажного салона, Борька отправился в известную ему гостиницу.
Увидев вышедшего из такси высокого, белокурого господина в изящно заломленной шляпе и небрежно наброшенном персикового цвет пальто, швейцар хоть и неловко, но поспешил сбежать вниз, открыл дверь автомобиля, а потом, припадая на обе ноги, вскарабкался по ступеням вверх и неожиданно ловко распахнул зеркальные двери отеля. Сверкнув моноклем, визитер, не глядя, сунул ему какую-то банкноту и прошествовал в вестибюль.
– Ого, – взглянул на банкноту страдающий ревматизмом швейцар, – синьор, видно, американец! По нынешним временам только у них куры денег не клюют.
Между тем Борька прямым ходом направился в бар. Там он заказал чашку кофе, к нему – рюмку ликера, потом попросил утреннюю газету, и не какую-нибудь, а «Нью-Йорк таймс». К тому же те полосы, на которых сообщалось о новостях политики или культуры, он демонстративно скомкал, а те, на которых были столбцы цифр, характеризующие состояние дел на Нью-Йоркской бирже, принялся изучать самым внимательным образом.
Само собой разумеется, это не осталось не замеченным. Немногочисленные посетители бара, не в силах оторвать восхищенных взглядов от господина в персиковом пальто, уважительно цокали языками и разводили руками.
«Да, мои милые, – как бы говорили они друг другу, – именно так должен выглядеть современный деловой человек, – и как бы мы ни надували щеки, нам до него далеко».
А Борька, отложив газету и изысканно покуривая американскую сигарету, все чаще стал поглядывать на часы. В конце концов он досадливо пожал плечами и направился к выходу.
Швейцар, по мере своих сил, быстро метнулся к двери. Проявивший неслыханную щедрость господин совсем уж было вышел, но вдруг остановился, вставил монокль и обратился к швейцару.
– Послушай-ка, э-э-э, любезный, – начал он. – У меня тут сорвалась деловая встреча. Видимо, синьора Херрд еще спит. Ну и пусть себе спит, может, увидит во сне принца, – ослепительно улыбнулся он. – Встретимся вечером. Но я только что приехал, причем издалека, и не знаю, где ее можно найти. Ты, случайно, этого не знаешь? – достал он портмоне.
– Ну как же, – все понял швейцар и даже попытался молодцевато разогнуть спину, – знаю, конечно, знаю. Каждый вечер синьора Херрд заказывает машину и едет в ресторан «Спрут»… Иногда ее сопровождает племянница, – почему-то добавил он.
А потом, уже выйдя на улицу, таинственный господин поманил награжденного еще одной хрустящей банкнотой швейцара, наклонился к его уху и свистящим шепотом дал медицинский совет.
– Попробуй пчелиный яд. От ревматизма – первое средство. Не поможет, перейди на змеиный. А то ведь в гроб придется ложиться, скорчившись! – хохотнул он и величественно удалился в сторону окончательно проснувшейся набережной.
Когда Борька рассказал, с какой легкостью узнал название ресторана, куда по вечерам ездит леди Херрд, да еще не одна, а с племянницей, Валентин Костин взял да и расцеловал компаньона.
– Все, леди Полли! – потирая руки, забегал он по номеру. – Начинаем осаду крепости по всем правилам военного искусства. Будут подкопы, подкупы, десанты, так что рано или поздно вам придется сдаться. Смотри, Борька, – погрозил он ему кулаком, – теперь судьба крепости в твоих руках.
– Да ладно тебе, – отмахнулся Скосырев. – Какая там крепость?! Как только дело дойдет, гм-м, – разгладил он усики, – до ближнего боя, ей не устоять. Да, Валька, – поднял он палец, – давно хочу тебя спросить, почему ты называешь ее по имени – леди Полли? Ведь надо же по фамилии – леди Херрд.
– А черт его знает! – фыркнул Костин. – Может быть, потому, что она так представилась. А может, и потому, что так ее называет Мэри: она же к ней обращается по имени.
– А ты к ней так обращался? Разговаривая с ней, называл ее леди Полли?
– Конечно.
– И она тебя ни разу не одернула?
– С чего бы ей это делать? – пожал плечами Костин.
– Все ясно, – махнул рукой Борька. – Я же говорил, что никакая она не аристократка. Никогда, – с нажимом сказал он, – никогда истинная аристократка не позволит едва знакомому человеку называть себя по имени. Только по фамилии: леди Гамильтон, леди Астор, или, как в нашем случае, леди Херрд.
– Вот как? А я этого не знал. Но раз уж так повелось, к тому же она не возражает, буду и дальше называть ее леди Полли.
– А мне этого придется добиваться, – задумчиво заметил Борька. – Ведь я же барон, и в отличие от некоторых, – сверкнул он мгновенно вставленным моноклем, – правила светского тона не только знаю, но и соблюдаю.
– Слушай, пока не забыл, – хлопнул себя по лбу Костин, – у меня тоже есть вопрос. Что это за поручик, которого ты как-то вспомнил?
– Поручик? Какой поручик? – не понял Борька.
– Ну, тот, который был партнером по висту.
– А-а, Гостев! – вскочил с кресла Борька. – Витька Гостев. Мировой парень! Сперва мы вместе кормили вшей в окопах, а потом драпали с Перекопа.
– Ну и что он, где он?
– Ошивается где-то в Париже. Устроился то ли таксистом, то ли вышибалой – я точно не знаю. А чего это ты о нем вспомнил? – почуял что-то неладное Борька.
– Человек-то он надежный? – продолжал гнуть свою линию Костин.
– В каком смысле?
– Тайну хранить умеет? В огонь за друга пойдет?
– Насчет тайны не знаю, – развел руками Борька. – Военную, как и все мы, конечно же, хранить умеет. А другую – черт его знает, жизнь-то вон как обернулась. Ну, а в огонь пойдет, за это ручаюсь. Я его в штыковой видел: от красных только пуговицы летели!
– Ты, Борька, не удивляйся, что интересуюсь твоим поручиком, – почесал за ухом Костин. – Есть у меня одна идея, хорошая идея. Но о ней – потом, когда закончим с леди Полли. Но в любом случае, независимо от того, женюсь я на Машке или нет, – неожиданно произнес он имя девушки по-русски, – с тобой я этой идеей поделюсь. Она тебе понравится, вот увидишь, очень понравится! Но для ее реализации понадобятся люди – умные, сильные и, главное, надежные люди. Так что между делом ты своего поручика разыщи, он нам может пригодиться.
– Разыщу, – согласно кивнул ничего не понявший Борька. – Это не проблема.
Много лет спустя, когда у него появится много свободного времени, Борис Скосырев будет часто вспоминать этот разговор и станет корить себя на недальновидность, авантюризм, а также за то, что так безоглядно поверил в блистательную, но сумасбродную идею капитан-лейтенанта Костина.
Глава V
На следующий день Борька снова отправился в отель под названием «Лагуна». Он не шел, а, можно сказать, плыл по набережной, покуривая ароматную сигарету и помахивая своей волшебной тросточкой. Перед этим он заглянул в салон Рамоса, где относящийся к своему делу как к искусству горделивый парикмахер тщательно его побрил, поправил височки, набриолинил волосы и так отточил пробор, что он стал похож на бритву.
В заключение, привстав на цыпочки, чтобы еще раз поправить пробор, Рамос поинтересовался, предстоит ли сегодня господину барону встреча с дамой.
– Возможно, – буркнул Борька. – А вам-то что за дело?
– Я, конечно, извиняюсь, но от этого зависит, каким вас освежить одеколоном. Неудачно подобранный одеколон – и все, баста! – как саблей, рассек он воздух зажатыми в руке ножницами. – Успеха в этот вечер кавалеру не видать.
– Да-а? – удивился Борька. – Первый раз слышу. То, что женщины любят ушами, это я знаю. – Хотя, – добавил он, – сначала все-таки глазами: не будет же какая-нибудь синьора слушать завиральные речи мужчины, если он ей не понравился внешне. Но чтобы, пардон, носом?
– Еще раз говорю: первый раз слышу.
– О-о, господин барон, – с оттенком сочувствия вздохнул Рамос, – сразу видно, что в Испании вы недавно и не успели изучить нашу историю. А между тем рецепты соблазнения женщин с помощью ароматов в Испании знали еще в Средние века. В старинных книгах подробно описано, как действует на женщин аромат сандалового дерева, увядшей розы, молодого кипариса и даже скошенного луга.
– Вы это серьезно? – заинтересованно привстал Борька. – Это не сказки?
– Серьезно, господин барон. Очень серьезно, – нравоучительно заметил Рамос. – Это, если хотите, азбука покорения женских сердец. Скажем, на молоденьких, романтического склада девушек безотказно действует пьянящий аромат виноградной лозы; на синьор постарше, которые уже несколько устали от жизни и нуждаются в покое, нет ничего лучше только что скошенной травы, которая еще не сено, но уже и не трава, – закатив глаза, не говорил, а прямо-таки пел Рамос. – Но есть один аромат, – вдохновенно продолжал он, – который бьет наповал абсолютно всех – блондинок и брюнеток, аристократок и простолюдинок, молодых и не очень – это тончайший, едва уловимый и потому особенно ценный аромат пиренейского снега. Сейчас я вам дам понюхать этой божественной влаги, – полез в потайной шкафчик Рамос, – и вы узнаете, как пахнет снег. Ручаюсь, что господин барон не знает, как пахнет снег.
Услышав это, Борька с размаху, едва его не сломав, грохнулся на антикварный стульчик, вскочив, по-русски матюгнулся и дико захохотал.
– Это я-то не знаю, как пахнет снег?! – вытирая слезы, то стонал, то кричал он. – Это я-то, свои молодые годы проживший в России! Да знаешь ли ты, что такое зима, настоящая русская зима, когда сугробы под крышу, а мороз за двадцать? А что такое русская тройка, ты знаешь? Тройка – это когда по дороге, а то прямо по полю несутся три вихря, три гривастых и хвостатых тайфуна! Заливаются колокольчики, по-разбойничьи свистит кучер, снег летит за воротник, а рядом, хоть и испуганно жмется, но вся горит от восторга, словно сошедшая с небес, настоящая русская красавица. Эх, Рамос, Рамос, – огорченно махнул рукой Борька, – южный ты фрукт и о том, что такое валенки, соболья шапка или шуба на бобровом меху, понятия не имеешь. А голышом нырнуть в сугроб – после бани, слабо, а? Так что байки про запах снега рассказывай другим.
Самое удивительное, от гневно-возмущенного монолога барона Рамос нисколько не оробел, а наоборот, выслушав его с приличествующим случаю почтением, вернулся к теме ароматов.
– Я, конечно, южный фрукт, – поджав губы, начал он, – но о русской зиме читал, в том числе и воспоминания Наполеона. Правда, он от русской зимы не в таком восторге, как вы, но про снег и трескучий мороз написал немало. В Пиренеях зима другая: в горах снег лежит круглый год, а весной немалая его часть тает и устремляется в долины удивительной красоты водопадами. Именно в это время воздух пропитывается тем неповторимым ароматом, о котором я говорил.
– Да? – удивился Борька. – Никогда не думал, что здесь есть снег.
– Есть, господин барон. Но не здесь, не в Испании, а в соседней Андорре.
– Где-где? – не понял Борька.
– В Андорре. Это хоть и крошечное, но самостоятельное государство. До недавнего времени там ничего, кроме гор, овец и пастухов, не было. Сейчас, правда, начали прокладывать дороги и даже тянут линию телеграфа.
Так Борис Скосырев впервые услышал слово «Андорра» – слово, которое сыграет решающую роль в его судьбе. Но пока что он об этом не подозревал и думал только о том, как поэлегантнее подъехать к английской миллионерше.
– Вот что, – сказал он Рамосу, – свидания с дамой у меня, пожалуй что, не будет, поэтому освежи меня чем-нибудь нейтральным, вернее, таким, чтобы деловые партнеры испытывали ко мне доверие, почтение и… не могли ни в чем отказать, – хохотнул он.
– Я знаю, что нужно господину барону! – метнулся к шкафчику поэт своего дела Франциско Рамос. – Аромат ливанского кедра заставит ваших партнеров быть покладистыми, уступчивыми и сговорчивыми.
И вот, источая аромат ливанского кедра, покуривая американскую сигарету и помахивая волшебной тросточкой, барон Скосырев не шел, а, можно сказать, плыл в хорошо знакомую «Лагуну». Еще вчера он предложил Костину, как ему казалось, хитроумный план проникновения в среду проживающих в «Лагуне» богатеев.
– В идеале мне надо было бы поселиться в этом престижном отеле, – поглаживая тросточку, размышлял он вслух. – Но на это понадобится много денег, а их у нас на такие глупости нет. Я правильно говорю? – навис он над сидящим в кресле Костиным.
– Правильно, – согласно кивнул Костин, – на глупости у нас денег нет.
– Тогда надо сделать так, чтобы, не проживая в отеле, я стал там своим человеком, чтобы запросто мог туда приходить и чтобы леди Херрд услышала обо мне от своих знакомых, постояльцев этого отеля.
– И как ты это сделаешь?
– А вот так! – наклонился к его уху Борька и что-то жарко зашептал.
– Гениально! – воскликнул Костин и согласился финансировать его план.
Вальяжно шествующего господина в персиковом пальто швейцар заметил издалека. Он, чуть ли не вприпрыжку, сбежал по ступеням и, приветливо улыбаясь, залихватски приложил руку к форменной фуражке.
– Здравия желаю, господин барон! – попытался он стать по стойке «смирно».
– Ого! – искренне удивился Скосырев. – Да ты и впрямь почти что вылечился. Неужто последовал моему совету?
– Последовал, господин барон. На мою спину посадили десять пчел, было очень больно, но наутро я смог нагнуться и самостоятельно завязать шнурки.
– Ишь ты, – изумился Скосырев. – Я-то думал, что ты купишь мазь, сделанную на основе пчелиного яда, а ты решил действовать напрямую. Молодец! Только если дело дойдет до яда змеиного, не вздумай сажать на спину клубок гадюк! – хохотнул он и, протянув швейцару хрустящую банкноту: «Это тебе на поправку», прошествовал было в вестибюль, но вдруг, хлопнув себя по лбу, остановился и поманил к себе швейцара.
– Послушай-ка, директор двери, – сострил он, – а откуда ты знаешь, кто я такой? Я же прибыл сюда инкогнито.
– Это не составило труда, – заулыбался швейцар. – Когда вы курили, господин барон, то случайно оставили на столике коробок спичек с вашим титулом и вашим именем.
«Сработало! – мысленно поздравил себя Скосырев. – А Валька жадился на расходы. Подумаешь, сотня коробков лично для меня изготовленных спичек – и результат налицо. Ни у кого именных спичек нет, а у барона Скосырева есть!»
– Скажи-ка мне, будущий чемпион города по танцам, – продолжал острить Борька, – а что за человек ваш портье? Дела с ним иметь можно?
– Еще как! – ухмыльнулся швейцар. – Само собой, за приличные чаевые.
– Не подскажешь, как его зовут?
– Хименес, господин барон. Хуан Хименес.
Когда Борька Скосырев, как бы между делом, подошел к стойке, портье тут же поднялся навстречу и, любезно улыбаясь, спросил:
– Что угодно господину барону? Может, вы желаете у нас поселиться? Как раз сегодня освободился «люкс» с видом на море.
– Нет, Хименес, – небрежно бросил Скосырев. – «Люкс» мне не нужен, потому что я остановился у моего друга. Его вилла так просторна, а ему так одиноко… ну, вы знаете, после развода, – вспомнил Борька прочитанную в газете заметку о разводе какого-то миллионера, – что если я перееду к вам, он очень огорчится.
– Да-да, конечно, – согласно кивнул портье, – в такой ситуации оставлять друга одного было бы не по-товарищески.
– Но есть одна маленькая проблема, – продолжал Борька. – В Штатах у меня серьезный бизнес, поэтому я должен постоянно следить за курсом валют и котировкой ценных бумаг. А как я об этом узнаю в Испании? Только из газет. Выписываю я их чертову прорву: одни приходят утром, другие днем, третьи вечером. Представляете, что будет, если на вилле три раза в день будет появляться почтальон и бренчать в дверь: мой несчастный друг просто-напросто сойдет с ума!
– До этого лучше не доводить, – понимая, к чему клонит барон, несколько фамильярно улыбнулся многоопытный портье.
– Так вот у меня просьба, – достал Борька портмоне. – Нельзя ли сделать так, чтобы все эти газеты приходили сюда? В городе я появляюсь каждый день, хлопот с хранением у вас не будет, а я стану вашим постоянным посетителем… в том числе и в ресторане, – добавил Борька, – надо же мне где-то обедать, – ослепительно улыбнулся он.
– В принципе, оно, конечно, почему бы нет, но, – начал было портье, прикидывая, сколько содрать с барона и сколько тот оставит в ресторане.
– Что касается компенсации за хлопоты и за причиненные неудобства, – перебил его Борька, – то я попросил бы вас, Хименес, – положил он на стойку пачку новеньких банкнот, – необходимую сумму выбрать вам самому.
Это было нечестно! Это было таким ударом по самолюбию и гордости несчастного портье, что его лицо стало малиновым, а залысины покрылись горячим, как кипяток, потом. Но он взял себя в руки, здраво прикинув, что барон появляться здесь будет часто и с него всегда можно будет получить приличные чаевые.
А Борька, все видящий и все понимающий Борька, глумливо поглядывая на портье, не без иронии наблюдал за происходящей в нем борьбой и ждал, что же в конце концов победит – жадность или расчетливость? Когда Хименес взял всего пятьдесят долларов, Борька понял, что имеет дело с достойным партнером, небрежно добавил двадцатку и отправился на почту оформлять подписку на американские газеты.
Глава VI
Не прошло и недели, как барон Скосырев в «Лагуне» стал настолько своим и настолько уважаемым человеком, что многие обитатели «люксов» стали искать возможность быть представленными обаятельному блондину. С мужчинами барон сходился запросто: несколько слов о скачках или о футболе, потом дорогая сигарета, солоноватый анекдот – и готово: какой-нибудь английский лорд или немецкий граф считали большой удачей, что имеют возможность запросто пожать руку и перекинуться парой слов с таким интересным собеседником.
А вот с женщинами барон держался строго. Прекрасно замечая их зазывные взгляды и целуя ручки, барон почему-то оставался печальным, а его глаза выражали неизбывную грусть. И уж что совсем странно, он ни разу ни с кем не станцевал! А ведь оркестр в ресторане был прекрасный, и входящее в моду танго буквально всех сводило с ума. Всех, но не барона Скосырева!
И тогда по ресторану пополз неведомо откуда взявшийся слух, что в далекой России большевики расстреляли невесту барона, представительницу древнего рода Долгоруких. Когда графиню Долгорукую спросили о последнем желании, она попросила, чтобы в последний путь ей позволили взять фотографию жениха. Ей это разрешили. У стенки графиня стояла, прижимая к груди незабвенный образ барона. Пули, выпущенные комиссарами, сначала «пробили» грудь барона, а потом сердце его невесты.
– Поэтому он такой грустный, поэтому не может найти себе места, поэтому с мужчинами барон оживлен и весел, а женщины навевают ему воспоминания о графине, – шел по «Лагуне» шепоток.
Надо ли говорить, что этот слух очень умело, через случайных знакомых, был запущен старшим концессионером, то есть Валентином Костиным, который изредка появлялся в «Лагуне». Результат сказался быстро: все женщины стали жалеть барона и искали случая выразить ему свое сочувствие. А некоторые, в том числе и леди Херрд, которая была вдовой и знала, что значит потерять любимого человека, совершенно непроизвольно пытались выступить в роли то ли матери-утешительницы, то ли подруги, способной стереть мрачные воспоминания и заменить графиню.
К тому же барон источал такой тонкий и такой волнующий аромат, что женщин к нему тянуло неудержимо: ведь Борька каждый день брился у Рамоса, и тот не жалел для него ни «скошенной травы», ни «пиренейского снега». Однажды, когда леди Полли проходила мимо барона и случайно коснулась его руки, ее как будто током ударило! А потом она до самого утра не могла избавиться от волнующего кровь наваждения: ей казалось, что барон где-то рядом, так сильно и так призывно благоухал рукав ее платья.
Наутро она решила: это ее судьба, с бароном надо познакомиться во что бы то ни стало. Но не может же она, леди Херрд, ни с того ни с сего подойти к барону и сказать: «Здравствуйте, господин барон. Я хочу с вами познакомиться». Это неприлично, в их среде это не принято. Надо сделать так, чтобы все было наоборот, чтобы кто-нибудь ей помог и представил барона леди Херрд.
Приняв это решение, леди Херрд почему-то впервые за долгие годы перекрестилась и попросила не кого-нибудь, а самого Христа, оказать ей эту маленькую услугу. Много позже она совершенно искренне будет убеждать своих подруг, что если, обращаясь к небесам, о чем-то просить, то просить надо только Христа: он поможет, если, конечно, просить настойчиво и с верой в его силы.
– Ведь помог же он однажды мне! – стыдливо опуская вспыхнувшие воспоминаниями глаза, восклицала она. – Причем не через год или два, а в тот же день.
Да, все произошло в тот самый день, когда леди Херрд, перекрестившись, спустилась к завтраку. Как только она вошла в ресторан, откуда ни возьмись перед ней вырос – леди поджала губы и даже хотела вернуться в номер – этот противный русский капитан.
«Никогда ему не видать руки Мэри! – возмущенно подумала она. – Хорошо, что я девчонку на время отправила в Лондон, там есть вполне приличные молодые люди, которые помогут ей забыть капитана».
Капитан-лейтенант Костин мгновенно прочитал эти мысли и не придал им никакого значения.
«Посмотрим, как ты запоешь через минуту-другую, – внутренне усмехнулся он. – Силки расставлены, и деваться вам, леди Полли, некуда».
– Доброе утро, леди Полли, – церемонно раскланявшись, поприветствовал ее Костин. – Рад вас видеть. Не могу не заметить, что легкий средиземноморский загар вам очень к лицу.
Деваться, действительно, было некуда, и леди Херрд протянула ему руку для поцелуя.
– Вы позволите проводить вас до столика? – как можно более учтиво предложил ей руку Костин. – Только до столика, – продолжал он с нажимом. – Тем более, что мне по пути: сегодня я завтракаю со своим старым другом.
– Ну что ж, капитан, – смягчилась леди, – проводите. Но только до столика, – почему-то игриво добавила она, – возможно, я тоже буду завтракать не одна.
Как в воду глядела леди Херрд! Не успели они войти в зал, как у леди закружилась голова, и от каких-то предчувствий сжало сердце.
«Господи, опять этот запах!» – успела подумать она и, не веря своим глазам, увидела, как, широко шагая и белозубо улыбаясь, навстречу им буквально летел тот, о ком она, не смыкая глаз, думала всю ночь.
– Валентин, дружище! – обнял барон Костина. – Сколько лет, сколько зим! – шумно приветствовал он друга. – Куда ты запропастился? Я же ищу тебя по всему свету: и в Африку писал, и в Америку и к черту на кулички!
– Да здесь я, здесь! – до треска в костях обнял барона Валентин. – Уже несколько месяцев в Испании. А ты? Что ты, где ты, как ты?
– Я-то ничего, у меня все в порядке… А вот новость, которая пришла из России, – достал он платок, – меня чуть не убила. Хорошо, что боек у револьвера стерся, а то бы… а то бы мы с тобой не обнимались.
– Слышал, – подыграл ему Костин. – Новость – хуже некуда. Несчастье, конечно, большое. Но что же теперь делать? Помнишь, как говорили на фронте: «Живым – жить, а мертвым – хлопотать за них на небесах».
Леди Херрд стояла, как приросшая к полу. Мужчины оживленно беседовали, обнимались, хлопали друг друга по плечам, а ее как будто не было, ее совершенно не замечали. Но она все слышала и впитывала каждое слово. Когда она услышала про револьвер, то чуть не шлепнулась в обморок.
«Боже правый! – ударило ее в висок. – Он стрелялся. Кто может сейчас так любить?! Счастливая вы, графиня Долгорукая. Хоть вас и расстреляли, но как же вас любили! Меня так никто не любил… Как же его, беднягу, жалко… Как хочется его утешить!»
Наконец леди Херрд пришла в себя и как-то не сразу поняла, что Валентин Костин обращается к ней.
– Прошу прощения, – сдержанно поклонился он, – мы с другом так давно не виделись, что от радости встречи у меня слегка помутилось в голове. Я же должен его представить! Прошу любить и жаловать, – сделал он шаг в сторону, – мой давний друг барон Скосырев.
Леди Херрд, как во сне, протянула руку, барон ее изысканно поцеловал и, не выпуская руки, метнул в ее глаза такой сине-голубой огонь своего страстного взгляда, что бедная леди готова была хоть сейчас идти за бароном хоть на край света.
Костин все это видел и решил из этой ситуации извлечь кое-какую выгоду и для себя.
– Леди Полли, – напевно начал он, – если позволите, я хотел бы поинтересоваться, как поживает ваша племянница? Что-то давно ее не видно.
– Она сейчас в Лондоне, – не отнимая руки, околдованная ароматом пиренейского снега, отвечала леди Херрд. – Но она скоро приедет, – почему-то добавила она. – Я ей завтра же напишу, – совсем не ожидая от себя этого, закончила леди Херрд.
– Вот и славно, – неожиданно одобрил ее слова барон и так нежно пожал руку, что леди Херрд почувствовала себя на седьмом небе.
А потом был завтрак… Они так весело и так непринужденно провели это утро, что расставаться никому не хотелось. Но барон все чаще стал поглядывать на часы, да и Костин время от времени лез в жилетный карман и доставал серебряный «брегет».
– Все! – на этот раз не вытерла, а промокнула губы развеселившаяся леди Херрд. – Встретиться вечером мы условились, а теперь мужчин ждут дела. Я это понимаю и с легким сердцем вас отпускаю, – картинно-милостиво взмахнула она рукой. – Желаю всяческих удач.
Мужчины, так же картинно делая вид, что идут на это нехотя, встали из-за стола, попрощались и, непрерывно оглядываясь, удалились из зала.
Была ли в этот миг женщина счастливее леди Херрд?! Едва ли. Леди Херрд как попала на седьмое небо, так оттуда и не возвращалась.
«Я ему понравилась, – пело ее растревоженное сердечко. – Неужели это правда, неужели то, о чем я еще вчера не смела мечтать, стало явью?! Еще не стало, – подсказывал здравый рассудок. – Но станет! – стукнула кулачком по столу влюбленная женщина. – Барон Скосырев будет моим!»
Знай Борька об этом решении леди Херрд, он бы цинично подумал: «Кто бы возражал?» – и без лишних слов сдался бы на милость победителя, вернее, победительницы с миллионным счетом в банке.
Между тем наши компаньоны вернулись в свою гостиницу, придвинули кресла к открытой двери балкона, откупорили бутылочку хереса, коротко чокнулись и стали подводить итоги только что проведенной операции.
– Итак, – деловито рассуждал Костин, – леди Полли сражена. Она хоть сейчас готова прыгнуть к тебе в постель. Но ты с этим делом не торопись: помаринуй ее денек-другой, а потом сдайся. У нее должно сложиться впечатление, что это не ты завоевал ее, а она тебя, – наставлял своего друга Костин. – В какой-то мудрой книге я читал, что если женщина чувствует себя победительницей, вернее, покорительницей неуступчивого мужчины, она им дорожит, как полководец взятой крепостью, и будет делать все от нее зависящее, чтобы эту крепость не потерять.
– Ты хочешь сказать, – самодовольно попыхивая не сигаретой, а настоящей кубинской сигарой, которой по случаю успеха угостил его Костин, уточнил Борька, – что леди Херрд будет стараться удержать меня подле себя и, следовательно, потакать всем моим слабостям?
– А ты, – подхватил Валентин, – не будь дураком и одними слабостями не ограничивайся.
– То есть? – привстал Борька.
– Ты о будущем когда-нибудь думал? – по-артиллерийски прищурив глаз, жестко спросил Костин. – Какие у тебя планы? Ты же гол как сокол. Что будешь делать, когда я, дай бог, – перекрестился он, – женюсь на Мэри? Не думаешь же ты, что я буду содержать тебя до самой пенсии?
Первой реакцией Борьки было: треснуть кулаком по столу, заорать: «Да как ты смеешь?!», обматерить обнаглевшего Вальку и хлопнуть дверью. «Но куда я пойду? – тоскливо подумал он. – И в чем? Заберет Валька мое персиковое пальтецо, заставит снять шляпу и штиблеты, лишит карманных денег – и все: ни побриться у Рамоса, ни пойти в „Лагуну“, ни предстать пред глазами Полли. Нет уж, Борька, – сказал он сам себе, – попусту не ерепенься и о гордыне забудь».
– Так что ты там о слабостях? – стараясь быть спокойным, переспросил Борька.
– А то, – делая вид, что ничего не заметил, и мысленно поздравив Борьку с великолепным самообладанием, гораздо мягче продолжал Костин, – что положение наше шаткое. План-то мой в любой момент может рухнуть. А ну как леди Полли догадается, что никакой ты не барон? А ну как мою Машку, пока она была в Лондоне, охмурил какой-нибудь юный лордик? Что тогда? То-то, брат, – пустил несколько сигаретных колец Костин. – Поэтому ты, – резко придвинулся он к Борьке, – должен думать не о слабостях, которым будет потакать старушка, а о том, как с ее помощью сколотить капитал. Он нам еще понадобится, – глядя куда-то вдаль, глубокомысленно закончил Костин. – И в дело мы его вложим стоящее. В такое дело, о котором будут говорить во всех столицах Европы! – вскочил он. – А наши имена будут печатать на первых полосах газет! – возбужденно забегал он по номеру.
– Ты это о чем? – чувствуя, что у него пересохло в горле и почему-то онемели колени, уточнил Борька.
– О чем? – остановился около него Костин. – О моей мечте! О таком грандиозном плане, который никому и не снился! Если мы его реализуем, я вам ручаюсь, барон Скосырев, что о нас будут говорить во всех столицах. Я уже как-то обмолвился, что с тобой этим планом поделюсь. Обязательно поделюсь! Но вот буду ли в нем участвовать, – развел он руками, – как ни странно, зависит от леди Полли, а значит, и от тебя.
– Не понял, – привстал Борька.
– Если она отдаст за меня Машку – а уговорить ее должен ты, я от рисковых дел отойду, погружусь в семейный бизнес и в тихую семейную жизнь с детишками, цветочками и собачками. Тогда этот план я подарю тебе, и европейской знаменитостью станешь ты. Если же старушка упрется, то мне ничего не останется, как реализацией плана заняться самому, – лукаво посмотрел он на Борьку, – а тебя держать на подхвате.
– Так я, – откашлялся Борька, – я что… я, как договорились… И не такая уж она старушка! – с вызовом воскликнул он. – И вообще…Ты же слышал, что твоя Машка на днях приедет: леди Полли обещала ее вызвать.
«Ага, зацепило! – мысленно потер руки Костин. – Делиться славой он уже не хочет. Хорошо, Борька, очень хорошо! Мы такую заварим кашу, что расхлебывать ее будут короли и президенты!»
Глава VII
Закончился этот странный разговор совершенно неожиданной просьбой Скосырева.
– Слушай Валька, – начал издалека Скосырев, – если я не ошибаюсь, вечером мы идем в ресторан?
– Ну да, мы пригласили на ужин леди Полли.
– А в чем мы пойдем? Ведь ни у тебя, ни у меня нет ни фрака, ни даже смокинга.
– Ну и что?
– А то, что вечером принято надевать либо фрак, либо смокинг. Представляешь, что будет, если всем известный барон Скосырев явится к ужину вот в этом клетчатом пиджаке?
– И что же будет?
– То, что все мгновенно поймут, что никакой я не барон, и тем более не богач.
– Черт возьми! – запаниковал Костин. – А ведь ты прав. И что же нам делать? Я фрака в жизни не надевал. Да и где его взять?
– Тебе он и не нужен, – милостиво разрешил Борька. – Офицеры имеют право являться к ужину в своих мундирах, так что твой, хоть и не парадный китель, вполне сойдет.
– Слава богу, – облегченно вздохнул Костин.
– А вот мне, прибалтийскому барону, фрак просто необходим. В крайнем случае смокинг, – добавил он. – К нему, само собой разумеется, белый жилет, галстук-бабочку и лакированные штиблеты.
– Ну ты, брат, загнул! – возмутился Костин. – Это же каких деньжищ стоит?!
– Ничего, господин будущая европейская знаменитость, – вошел в роль Борька, – рано или поздно вложенный капитал окупится. Так что, пока смокинги не расхватали, пошли-ка, братец, в магазин.
Кряхтя и чертыхаясь и в то же время восхищаясь Борькиной предусмотрительностью, Костин достал портмоне, пересчитал его содержимое, пробурчал, что, мол, на смокинг и ужин не хватит, поэтому надо зайти в банк и снять со счета сотню-другую долларов.
Когда друзья вышли из самого роскошного магазина Сантандера, их было не узнать! Смокинг на бароне Скосыреве сидел как влитой, жилет подчеркивал гибкую талию, бабочка отливала жемчугом, а лакированные штиблеты зеркально сверкали. Так же шикарно выглядел и Валентин Костин. Дело в том, что, пока Борька примеривал перед огромным зеркалом то галстук, то жилет, Валентин крепился-крепился, а потом, взглянув на свой поношенный китель, завистливо крякнул и требовательно заявил.
– Я тоже хочу смокинг! И все остальные причиндалы, – подумав, добавил он.
Что тут началось! Магазин в буквальном смысле слова перевернули вверх дном: таких придирчивых и, главное, состоятельных покупателей здесь давным-давно не было. Да и вкус у господ отменный, они решительно браковали то, что, по их мнению, было не в тон или не соответствовало последним требованиям моды. Зато когда с покупок были сдуты последние пылинки, перед глазами изумленных продавцов предстали два таких элегантных джентльмена, что ни мужчины, ни женщины не могли оторвать от них восхищенных глаз.
Заплатить, правда, пришлось немало, но вошедший в раж Костин не стал мелочиться.
– А-а, – махнул он рукой, – однова живем!
– Ну вот, – одобрительно оглядел его Борька. – Совсем другое дело. Теперь твоей Машке никуда не деться.
– Ты так думаешь? – горделиво вздернув подбородок, любовался своим отражением в зеркале Костин. – Может, ты и прав, – не без иронии продолжал он. – Не зря же древние греки говорили, что красота – это страшная сила. Слушайте, барон, хоть до вечера еще далеко, давайте не будем переодеваться, – неожиданно предложил он. – Старое барахло отправим в гостиницу с посыльным, а сами сомкнутым строем двинемся на набережную. Сейчас как раз время послеобеденного променада: пусть эти буржуи и их покупные дамочки зайдутся от зависти, видя, какими могут быть русские офицеры.
– Хорошая идея, – поддержал его Скосырев. – У меня тоже давным-давно вырос зуб на этих бездельников, так что умыть их – это святое дело.
– А ничего, что среди бела дня мы в вечерних костюмах? – засомневался Костин.
– Ничего, – успокоил его Борька. – Пусть думают, что у нас праздник. А для этого, – подошел он к цветочнице, – давай-ка вставим в петлицу по белой гвоздике.
И вот два шикарных джентльмена, пуская дым дорогих сигарет и сдержанно раскланиваясь со знакомыми из «Лагуны», отправились в рейс по живописной набережной. Глядя на этих беззаботных и умопомрачительно элегантных красавцев, никому и в голову не могло прийти, что под великолепно сидящими смокингами скрываются выброшенные на чужой берег, никому не нужные русские офицеры, которые от безысходности пустились во все тяжкие и затеяли не совсем честное, подловатенькое дело и что весь этот маскарад – ради успеха этого дела.
Как бы то ни было, показной променад наших компаньонов не остался незамеченным, и к вечеру, когда барон Скосырев и его представительный друг появились в «Лагуне», там все, как один, говорили об их необычной прогулке. Чтобы снять вопросы, барон Скосырев подошел к стойке бара, постучав тростью, попросил тишины и громко объявил:
– Господа, сегодня у всех русских людей необычный день, – на ходу придумал он. – Сегодня – день рождения нашего покойного императора. Как вы, наверное, знаете, император и его семья были зверски убиты большевиками. Но для нас, убежденных монархистов, он жив. Поэтому в день его рождения, по старому русскому обычаю, мы с утра одеваемся как на праздник, а потом весь день пьем русскую водку, – с улыбкой закончил он. – Позвольте и вам, господа, в память Его Императорского Величества Николая II, предложить выпить по рюмке доброй русской водки.
Мгновенно сориентировавшийся бармен тут же наполнил рюмки, а растроганная патриотичным поступком русских офицеров публика с удовольствием отведала где-то раздобытой, еще дореволюционного изготовления, «Смирновской».
Надо ли говорить, что в числе восторженных и даже прослезившихся дам была и леди Херрд. Она стояла неподалеку от барона и не могла оторвать глаз от его статной фигуры, а когда он подошел и, печально улыбнувшись, поцеловал ей руку, леди Херрд пронзило таким сладостным током, что она не удержалась и легким прикосновением руки погладила его по голове. Этого было достаточно, чтобы попасть под новый удар – на этот раз таинственно-зазывного аромата пиренейского снега.
Слава богу, из-за спины барона появился весьма привлекательный мужчина, который поздоровался с ней, почему-то назвав ее «леди Полли».
«Батюшки! – внутренне изумилась леди Херрд. – Да ведь это претендент на руку Мэри. Ай да капитан! В таком виде шансов на успех у вас куда больше. Тем более что вы – друг барона, – не могла не добавить она, – и знакомством с ним я обязана вам. Ладно, чего уж там, – вздохнула леди Херрд, – на днях Мэри будет здесь, а там посмотрим, не забыла ли она своего бравого капитана».
Ужин для леди Херрд прошел как в тумане. Она что-то ела, что-то пила, а когда дело дошло до танцев и барон закрутил ее в нежном вальсе, а потом и в томном танго, она поняла, что погибла, что ради этого обворожительного мужчины готова на все.
Так оно и случилось… Утром, сладостно утомленная леди Херрд обнаружила себя в объятиях барона, и на всем белом свете не было женщины счастливее ее. Надо сказать, что и барон, то есть Борька Скосырев, неожиданно для себя почувствовал к этой женщине что-то вроде влечения, причем не столько сексуального, сколько душевного.
«Дурочка, ты моя дурочка, – почти что с нежностью думал он, гладя ее пушистые волосы, – и что мне с тобой делать? Жалко ведь тебя, ей-богу, жалко. Если бы не твои чертовы миллионы, увез бы я тебя куда подальше и жили бы мы припеваючи! Но без денег никого и никуда не увезешь, а без миллионов припеваючи не проживешь. Заколдованный круг. Эх, как говорит Валька, жизнь наша жестянка! Стоп! – оборвал он сам себя. – Еще ничего не решено с Мэри. Вальке надо помочь – это кровь из носу. Да и план у него какой-то…Что за план, понятия не имею, но чем черт не шутит, а вдруг и вправду попаду на первые полосы газет?! Так что извини, моя дорогая, но…Стоп! – еще раз сказал он самому себе. – Чтобы не путаться в именах, я всегда своим женщинам придумывал какое-нибудь прозвище. Птичка – леди Херрд не подойдет. А может, Ласточка? Нет, не то. Надо что-нибудь про любовь, и обязательно горячее, испанское, чтобы она каждый раз вздрагивала. О, нашел! Ламорес. Если перевести с испанского, это будет примерно то же, что по-русски – Любимая. Именно так, Ламорес, – решил он. – Что может быть приятнее, если женщину каждый раз будут называть Любимой? Ни-че-го! Молодец», – похвалил он себя и решил вставать.
– Ламорес, – прошептал он на ухо леди Херрд. – Пора вставать. Уж полдень на дворе.
– Не хочу, – сладко потянулась леди Херрд. – Пусть этот сон продолжается вечно.
– Пусть, – согласился Борька. – Но сначала неплохо бы позавтракать.
– Позвони в ресторан, пусть завтрак принесут сюда.
– Сюда? – удивился Борька. – По-моему, как-то неудобно.
– Наплевать, – потянулась к халатику леди Херрд. – Дорогой, я что-то не расслышала, как ты меня назвал?
– Ты не поверишь, – начал заливать Борька, – но я проснулся с первыми лучами солнца и с первым щебетом птиц. И думал я только об одном: какое тебе придумать имя, причем такое, чтобы в нем, как в капле росы, отражалось мое непреходящее чувство и чтобы его никто не знал, а я мог произносить его только в минуты страсти, только тогда, когда мы вдвоем.
– И что? – замерла леди Херрд. – Ты придумал?
– Да, дорогая, придумал. Это будет нежное и горячее испанское имя Ламорес. И по-русски, и по-английски оно означает – Любимая.
– Ты тоже Ламорес! – бросилась ему на шею леди Херрд. – Ты мой желанный, мой любимый Ламорес!
Пришлось Борьке о завтраке на время забыть… Зато потом он позвонил в ресторан и, немного стесняясь, заказал такой обильный завтрак, что Ламорес понимающе улыбнулась.
– Не стесняйся, дорогой. Я тоже готова съесть быка. – И как-то пошловатенько, не так, как принято у светских дам, добавила: – Потрудились-то мы на славу, так что калории надо возмещать.
«Еще одно доказательство, что никакая она не аристократка, – меланхолично подумал Борька. – Но это не имеет никакого значения. Главное, что она миллионерша, – цинично заключил он».
Глава VIII
Когда Мэри появилась в Сатандере и Борис Скосырев впервые ее увидел, у него возникло такое острое чувство жалости и к ней, и к Валентину, что он несколько дней не находил себе места. Представьте себе худенькое, довольно высокое, нескладное существо, с гладко зачесанными, бесцветными волосами, острым носиком, глазами величиной с блюдце и явно нездоровым румянцем.
«Господи Боже правый, – со щемящим сердцем подумал он. – Черт с ней, с внешностью, но она же больна. У нее что-то с легкими. Ей надо в санаторий, и как можно быстрее».
Когда он как можно деликатнее поинтересовался у леди Херрд, что с ее племянницей, та зарылась в подушки и целый день рыдала. Так ничего и не узнав, Скосырев пригласил к себе Валентина – а теперь Борька жил в «люксе» рядом с номером леди Херрд – и попытался расспросить об этом капитан-лейтенанта. Но тот вместо членораздельного ответа потащил Борьку к себе, сказал, что без стакана говорить об этом не может, мгновенно осушил один за другим два стакана водки и тоже заплакал.
– Да что это с вами? – чувствуя, что и у него защемило в глазах, всплеснул руками Борька. – Леди ревет, ты плачешь. Валька, да ты что? Ты же боевой офицер, чего-чего, а крови насмотрелся.
– При чем тут кровь?! – всхлипнул Костин. – Если бы кровь, я бы свою отдал, до последней капли. А тут… Она же двадцать часов провела в ледяной воде. Она была на «Титанике», совсем ребенком. Отец и мать на ее глазах пошли на дно. А она… она не утонула. И знаешь почему? Потому, что отец отдал ей свой спасательный жилет. «На, – сказал, – дочка, держи, двоих он не выдержит. Живи за нас с мамой. И помни, что, когда ты будешь тонуть еще раз, появится человек, который в трудный момент обязательно тебя спасет. Мы с мамой попросим об этом Бога, вот увидишь, он нам не откажет. Мы будем за тебя молиться».
– Откуда ты это знаешь? – не верил своим ушам Борька.
– От нее, от Мэри, – чуть не взвыл Костин. – Ей же было десять лет, она все помнит. Так, бедняжка, помнит, что и по ночам не спит, и с легкими нелады. Нет-нет, это не чахотка, – отрицательно покачал он головой, – просто какая-то часть легких, грубо говоря, отморожена, и дышит она тем, что осталось.
– Извини за глупый вопрос, – проглотил Борька застрявший в горле комок, – но что это их всей семьей понесло на это корыто? На кой черт им сдался этот «Титаник»?
– Все проще простого, – достал Костин платок и вытер покрасневшие глаза. – Ее отец был крупным бизнесменом, и все его предприятия располагались в Канаде. Вот они туда и отправились, чтобы проверить, что там да как, а заодно и отдохнуть на проклятом Богом лайнере. Тогда ведь погибло полторы тысячи человек, а около тысячи спасли. Мэри была в их числе.
– Да-а, брат, – вздохнул Скосырев, – дела, что сажа бела. И что же теперь делать?
– Для начала – напьюсь! – закатал рукава рубашки Костин. – А там – посмотрим. Живым – жить! Но одно я тебе скажу, как на духу, – схватил он за грудки Борьку. – Молитвы отца Мэри до Господа Бога дошли: тем человеком, который должен ее спасти, буду я. Такое мое предназначение! Так мне велено Богом! – рванул он на груди рубаху, под которой, прикрывая флотскую душу, полосато змеилась тельняшка.
Борька тоже сбросил ненавистный смокинг, засунул под кровать узконосые штиблеты, босиком прошлепал в ванную и пустил струю холодной воды.
– О-ох, – постанывал он, подставляя под струю то одну, то другую ногу, – до чего же это тяжкая работа – разыгрывать из себя светского бонвивана. Выпить толком нельзя, все время думать о том, чтобы не брякнуть чего-нибудь непристойного, вещи носить только модные, а они почему-то, как правило, неудобные, вроде этих проклятых штиблет. И, что самое мерзкое, все время держать в голове, сколько в кошельке денег, да еще не в моем, а в твоем, и хватит ли их на одеколон, цветы и прочую дребедень.
– Да ладно тебе, – примирительно откликнулся Костин. – Деньги пока что есть, а через неделю-другую у тебя появятся свои.
– Откуда? – с удовольствием разминая пальцы, прошлепал в обратном направлении Борька. – У меня ведь под рукой нет ни крейсера, ни даже эсминца, – уколол он Костина, – и ни паровой котел, ни пушку продать не могу.
– Ты это брось, – против ожидания, не взорвался, как-то вяловато отбрил его Костин. – Рассматривай это не как хищение, а как антибольшевистскую акцию: не отдавать же, в самом деле, краснопузым комиссарам то, что принадлежало не им, а царю-батюшке, которого они подло расстреляли. Флот, Борька, всегда был гордостью России, – наставительно продолжал он, наливая в покрытые инеем стаканы кристально чистую «Смирновскую». – Кстати, господин барон, запомните на всю оставшуюся жизнь: охлаждать нужно не водку, а стаканы. Так вот, – полюбовался он своей работой, – пока есть флот, есть и Россия. А без флота она ничто, большущий кусок суши – и не более того. Так что, угнав корабли, а потом, распродав все, что можно, и тем самым приведя их в негодность, мы внесли свой вклад в борьбу с большевизмом.
– Ишь ты, как повернул! – восхитился Борька. – Поли-и-тик. Только эти господа могут черное представить белым, и – наоборот.
– Да ну их всех к черту, – отмахнулся Костин. – Давай-ка дерябнем по первой. Знаешь, за что? За Родину. За нашу умытую кровью Россию! – воскликнул он. – До дна!
Когда выпили по второй, а потом и по третьей, потянуло на разговоры.
– Ты знаешь, о чем я все чаще думаю, – пуская кольца табачного дыма, – начал издалека Костин. – Какого черта мы ввязались в войну? Ну, шлепнул этот сербский недоумок Гаврила Принцип австрийского эрцгерцога Фердинанда, ну, выставили австрийцы сербам совершенно справедливый ультиматум, но мы-то что туда полезли? Немцы ведь поначалу предлагали никому в этот конфликт не вмешиваться: пусть, мол, Сербия и Австро-Венгрия разбираются в своих делах сами. Даже когда австрийцы обстреляли Белград и объявили сербам войну, Германия заявила, что выступит на стороне Австро-Венгрии только в том случае, если Сербию поддержит Россия. Ну и помалкивали бы мы себе в тряпочку. Так нет же, объявили всеобщую мобилизацию. Тут уж немцы не выдержали и решили нанести упреждающий удар, объявив России войну. Потом в это дело ввязались французы, англичане, итальянцы, бельгийцы, румыны, болгары – всего около сорока стран. Кошмар, если вдуматься во всю эту историю!
– А меня больше всего удивляет другое, – подал голос Борис. – Как это три кузена не могли договориться и с таким удовольствием лупцевали друг друга? Ведь наш Николай II, английский Георг V и немецкий Вильгельм II – двоюродные братья. Чего они не могли поделить? Как хочешь, но я не верю, что мировая бойня была затеяна из-за какого-то паршивого Фердинанда!
– Конечно, нет, – согласился с ним Костин. – Десять миллионов убитых и двадцать миллионов калек – слишком высокая цена за одного подстреленного человека, даже если он наследник Венского престола. А кузены, которые похожи друг на друга, как две капли воды, какой навар со всего этого получили они? Одного расстреляли, другого вынудили отречься от престола и бежать в Голландию, и только Георг V пока что при короне.
Пока наши герои пьют «Смирновскую» и предаются воспоминаниям, думаю, самое время поведать о том, чего ни Костин, ни Скосырев, ни другие русские офицеры не знали и что стало достоянием гласности много лет спустя. Знаете, каких денег стоила России эта никому не нужная война? Только суточные расходы на войну составляли от 24 до 55 миллионов рублей! Казна таких денег не имела – и пришлось влезать в долги. К 1917 году государственный долг России составлял около 50 миллиардов рублей.
Куда девались эти деньги, одному Богу ведомо, но на фронт вместо винтовок присылали иконы, а вместо патронов – медали. Посетив передовую, председатель Центрального военно-промышленного комитета Александр Гучков, не скрывая ужаса, телеграфировал в Петроград: «Войска плохо кормлены, плохо одеты, вконец завшивлены, в каких-то гнилых лохмотьях вместо белья».
О моральном духе и говорить нечего. На одном из секретных заседаний в августе 1915 года военный министр Поливанов, не скрывая горечи, сказал: «На театре военных действий беспросветно. Отступление не прекращается. Деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры. Сплошная картина разгрома и растерянности. Уповаю на пространства непроходимые, на грязь непролазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси».
И все же эта обескровленная и преданная командованием армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, то есть половину всех сил противника. Порой она даже предпринимала наступательные операции, вроде Брусиловского прорыва в Галицию или удара по Восточной Пруссии генерала Самсонова, но заканчивались они почему-то крахом и позорным отступлением.
В еще более странном положении находился флот. Как известно, Ставка во главе с императором располагалась в Могилеве, поэтому нет ничего удивительного в том, что везде и всюду говорили, что флотом командуют из болот Полесья, и командуют по-болотному. Например, Николай II запретил какую бы то ни было активность Балтийскому флоту, и это несмотря на то, что всю войну в распоряжении русских моряков был германский морской шифр, благодаря чему все намерения командующего германским флотом принца Генриха были известны заранее. Немцы об этом не догадывались, а русские адмиралы не придумали ничего лучшего, как передать этот шифр англичанам.
Я уж не говорю о фактах измены. И в Петрограде, и на фронте главной предательницей считали императрицу, которая все более активно влезала в военные дела, требовала, чтобы ей показывали штабные карты, которые на несколько дней куда-то исчезали, а потом всплывали. Не случайно в те дни чрезвычайно популярным стал анекдот, который рассказывали как в казармах и на заводах, так и в роскошных гостиных.
Приехал будто бы с фронта на доклад к государю старый боевой генерал. Идет по коридору Зимнего дворца и вдруг видит за портьерой плачущего царевича. Остановился. А царевич то плачет, то не плачет, то плачет, то не плачет. «Что с тобой? – удивился генерал. – Почему ты так странно плачешь?» «А я не знаю, когда мне плакать, – ответил мальчик. – Потому что, когда бьют русских – плачет папа, когда бьют немцев – плачет мама. Когда же все-таки плакать мне?»
Так надо ли удивляться, что при первой же возможности солдаты воткнули штыки в землю, а потерявшие почву под ногами офицеры потянулись к Деникину, Юденичу и Колчаку. Но не все! Далеко не все. Немало офицеров, надев буденовки, стали командовать полками и дивизиями Красной Армии.
Но Борису Скосыреву и Валентину Костину такой фортель не мог даже прийти в голову: они были уверены, что воюют с взбунтовавшейся чернью, которая намерена погубить Россию. Для них и для многих тысяч других офицеров самой большой загадкой было то, как это они, профессиональные военные, профукали Россию и проиграли войну каким-то голодранцам. Этот комплекс преследовал их многие годы. А так как жить на что-то надо, а они, кроме как воевать, ничего не умели, господа офицеры, зачастую забыв о чести, пускались во все тяжкие.
Наши герои были не худшими из них и, чтобы остаться на плаву, использовали не самые скверные средства.
Тем временем Борис и Валентин прикончили очередную бутылку, но если и опьянели, то самую малость. Потом Костин встал, зачем-то надел китель, задумчиво походил по номеру, придвинул кресло поближе к Борьке и очень серьезно сказал:
– А теперь я поведаю о том, какой из всей этой кровавой катавасии сделал вывод. Жить надо не в больших, а в маленьких, я бы даже сказал, карликовых государствах, таких, как Лихтенштейн, Монако, Андорра или Сан-Марино. Там всегда мир и покой, они ни с кем не воюют, а у некоторых, таких, как Лихтенштейн или Андорра, даже нет армии. Правда, Сан-Марино в Первую мировую выступило на стороне Антанты и выставило аж пятнадцать солдат, но в боевых действиях они участия не принимали и все, как один, вернулись домой.
– И что с того? – не понял Борька.
– А то, что правят там князьки, сбросить которых – плевое дело! Раз нет армии, то кто их будет защищать?
– Как «кто»? Соседи: французы, немцы или испанцы.
– А вот и нет! – торжествующе воскликнул Костин. – Я знаю, что надо сделать, чтобы соседи в это дело не встревали… А впрочем, сейчас не до этого, сейчас не время, – остановил он сам себя. – Но мы к этой теме еще вернемся, – пообещал Костин. – А пока что, дружище, давай пить! Мы же хотели напиться? Хотели. Так что нам мешает?
– Мешает нам только то, что осталась всего одна бутылка, – заглянул в настенный шкафчик Борька.
– Если бы все проблемы решались так же легко, как эта! – хохотнул Костин и снял трубку телефона.
Пили господа офицеры смачно, вкусно и весело. Они рассказывали анекдоты, вспоминали смешные истории, Костин пробовал бренчать на откуда-то взявшейся гитаре, Борька неожиданно приятным тенором пытался ему подпевать. Потом оба всплакнули: ведь где-то далеко, за десятком границ, остались их родственники, о судьбе которых они ничего не знали, там же были могилы предков, разоренные имения, в которых они родились, гимназии, в которых учились, театры, на галерках которых проводили почти все вечера, иначе говоря, там была Родина.
– Э-эх! – взял многострунный аккорд Костин. – Давай-ка, брат, споем любимую… Вернее, – прихлопнул он струны, – любимый. Это романс. Может, вытянем? – неуверенно улыбнулся он.
– Романс? Нет, романс не вытянем, – тряхнул головой Борька.
– А мы попробуем, – подтянул пару струн Костин и, откашлявшись, не столько запел, сколько напевно заговорил хрипловатым баритоном.
- Не пробужд-а-й воспо-о-минаний
- Минувших дне-ей, минувших дней…
«Господи, боже правый, да это же о нас, о наших минувших днях!» – пронеслось в мгновенно протрезвевшей голове Скосырева, и он потихоньку пристроил свой тенорок к баритону Костина:
- Не возроди-и-шь былых жела-а-ний
- В душе-е моей, в душе-е моей.
Валентин одобрительно кивнул Борису, и тот, окрыленный похвалой, повел первым голосом:
- И на меня-я свой взор опас-а-сный
- Не устремляй, не устремля-я-й,
- Мечтой любви-и, мечтой прекра-а-сной,
- Не увлекай, не у-у-влекай.
«Какой там, опасный, – билась грустная мысль в висок Валентина. – Взор, как взор, скорее, печальный… Машка, ты моя Машка, бедняжечка моя дорогая, – вздохнул он. – Вот ведь блажь какая: думал, что отхвачу богатенькую англичаночку и так решу все свои проблемы, а их стало еще больше. Попала ты мне, Маруся, в самое сердце, и чего там больше, жалости или любви, не знаю, но прикипел я к тебе крепко».
- Однажды сча-а-стье в жи-и-зни этой
- Вкушаем мы-ы, вкушаем мы-ы, —
зарокотал окрепшим баритоном Костин, а все понявший Борька тут же ушел в тень. «Дай-то тебе Бог, – с неожиданной теплотой подумал он, – уж чего-чего, а счастья ты заслужил».
- Святым огне-е-м любви согре-е-еты,
- Оживлены, ожи-и-влены, —
грянули друзья! Потом понимающе друг другу улыбнулись и, уже не сдерживаясь, ликующе и во весь голос пропели последний куплет:
- Но кто ее ого-о-нь священный
- Мог погасить, мог погаси-и-ть,
- Тому уж жи-и-зни незабве-е-нной
- Не возврати-ить, не во-о-звратить.
– И еще раз, – кивнул Костин.
- Тому уж жи-и-зни незабве-е-енной
- Не возврати-ить, не во-о-звратить.
Отзвучала последняя нота, отзвенела высокая струна, а два русских офицера еще долго сидели в безгласной тишине.
– Ай да мы! – подал наконец голос Костин. – Дуэт получился, что надо.
– Да-а, – вздохнул Скосырев, – будто дома побывали. – Эх-хе-хе, дом… Где он, наш дом? Знаешь, Валька, давай дадим друг другу слово – и непременно за это выпьем, что где бы ни был наш дом сегодня, завтра или через десять лет, вопреки тому, что мы пели, воспоминания пробуждать! Ведь что мы такое без минувших дней, тех дней, что прожили в России? Ничто. Перекати-поле.
– Ты прав, – налил полные стаканы Костин. – За воспоминания грешно не выпить. Но, – поднял он палец, – зацикливаться на них не надо. Ни в коем случае! Иначе пойдешь на дно. Надо ежечасно говорить себе: «Впереди у меня целая жизнь, и я сделаю все возможное и невозможное, чтобы она была счастливой!»
– Отлично сказано, – поднялся штабс-капитан Скосырев. – Капитан-лейтенант Костин, предлагаю выпить за это стоя.
– Ура! – воскликнул Костин и, чокнувшись с другом, выпил до дна.
Потом он закурил сигару и, пьяновато улыбаясь, спросил:
– Ты что-нибудь понял?
– О чем? – уточнил изрядно захмелевший Борька.
– О странах-карликах?
– Понял, – мотнул головой Борька. – У них нет армии.
– И все?
– И все.
– Тогда ты ничего не понял.
– А ты растолкуй.
– Растолкую. Потом. Сейчас я немного того… Рассольчику бы, а?! Капустного, – мечтательно закатил он глаза.
– Скажешь тоже. Его здесь днем с огнем не сыщешь.
– Тогда – на боковую. Утро вечера мудренее.
– А я? – как-то по-бабьи всплеснул руками Борька. – Куда деваться мне? Не может же барон Скосырев в таком виде предстать пред леди Херрд. Можно я у тебя, на диванчике?
– Валяй, – разрешающе кивнул Костин. – Только имей в виду: после выпивки я храплю.
– А я – нет. Черт с тобой, храпи на здоровье, – свернулся калачиком Борька и тут же захрапел.
Глава IХ
Утро было настолько мудренее вечера, что Борька целый час отмокал в ванне, а потом дал зарок водку больше не пить.
– Перехожу на вина, – сказал он. – Водка – не для здешнего климата. Пить водку в Испании – это все равно что среди бела дня, да еще с самоваром, чаевничать в Сахаре.
Всю следующую неделю Борька играл роль по уши влюбленного барона, который рад бы ни на минуту не покидать свою Ламорес, но дела на бирже складываются так скверно, что все чаще приходится отвлекаться на проведение финансовых операций. В отель он возвращался все более мрачным, обязанности пылкого любовника выполнял кое-как, а однажды, что уж ни в какие ворота, забыл побриться и освежиться чудно пахнущим одеколоном.
Леди Херрд не на шутку встревожилась.
– Что с тобой? – тормошила она барона. – Чем ты озабочен?
– Ох, Ламорес, – вздохнул барон. – Дорогая моя Ламорес, тебе этого не понять. Все дело в падении курса акций. Мое состояние вот-вот исчезнет, как дым. И что тогда? Что делать, куда деваться? Поправить ситуацию еще не поздно, но для этого нужны свободные деньги, а их у меня нет – все вложены в дело.
– Только-то и всего?! – с покровительственной улыбкой потрепала его вихор леди Херрд. – Дурашка ты мой, дурашка, разве можно из-за такой ерунды расстраиваться самому и расстраивать меня? Сколько там тебе надо: тысяч сто, двести?
– Пятьдесят, – неожиданно для себя брякнул Борька. – Но не песо, а фунтов стерлингов, – в последний момент решил не продешевить Борька.
– Естественно, – со знанием дела кивнула леди Херрд. – На песо ничего путного не купишь. Одевайся, мой дорогой, и пойдем в банк: я сейчас же переведу на твой счет пятьдесят тысяч фунтов стерлингов. И чтобы такой кислой физиономии я больше не видела! – шутливо щелкнула она барона по носу.
Когда с финансовыми делами было покончено и барон Скосырев снова стал самим собой – веселым, энергичным, нагловатым и, конечно же, неотразимым, когда вся фланирующая по набережной публика, не скрывая восхищения, раскланивалась с элегантно-обворожительной парочкой, леди Херрд вдруг потянула барона к витрине ювелирного магазина.
– Дорогой, – промурлыкала она, – я давно хочу сказать, что в твоем изысканном туалете не хватает одной детали.
– Да? – удивился Борька и на всякий случай проверил, все ли у него застегнуты пуговицы. – И что это за деталь?
– Вот она, – указала Ламорес на жемчужную заколку для галстука. – Я хочу ее тебе подарить.
«Дожил, – тоскливо подумал Борька. – Баба меня содержит, баба открывает счет в банке, баба дарит заколки. И за что, за какие заслуги? А за то, что я ее выгуливаю и ублажаю в постели. Альфонс! Типичный альфонс, черт бы тебя побрал! Стыдно, господин штабс-капитан? А вот и нисколечко. В конце концов, не последние же она на меня тратит. Хотя заколку не приму! – почему-то взъярился он. – Не приму, и все! Но от подарка не откажусь: пора подумать о моей верной подруге, я же ей обещал».
– Я тебе очень благодарен, моя дорогая Ламорес, – как можно любезнее улыбнулся Борька. – Вкус у тебя потрясающий! Жемчужина великолепна! Но, раз уж ты так добра, не могла бы ты сделать подарок не мне, а моей подруге?
– Что-о?! – скандально воскликнула леди Полли. – Подруге? Какой еще подруге? – поджала она губы. – Ты с ума сошел!
– Нет, дорогая, я в здравом уме, – заглянул в зеркальную витрину барон Скосырев, не забыв проверить на месте ли сделанный Рамосом пробор. – Когда-то волею случая мне досталась вот эта тросточка, – продолжал он. – И я сказал, что как только встречу женщину, которую полюблю, – врал напропалую Борька, – я украшу мою верную подругу серебряным набалдашником. С этой тросточкой я никогда не расстаюсь, и если набалдашник будет подарком любимой женщины, то, сжимая это серебряное украшение, я буду думать о той, которая его подарила.
– Боже, как это романтично! – воскликнула леди Херрд. – Никогда не думала, что доживу до такого прекрасного мгновенья. А можно я сделаю подарок и тебе, и твоей подруге? – робко спросила сбитая с толку миллионерша. – Уж очень мне нравится эта жемчужина.
– Можно, – милостиво разрешил барон, и они вошли в магазин, чтобы купить жемчужину и заказать набалдашник.
Эта, если так можно выразиться, акция стала началом хитроумнейшего плана Бориса Скосырева. То утром, то вечером он делал капризно-кислую физиономию, и на встревоженный вопрос леди Херрд, что с ним, глубокомысленно отвечал, что у него никудышный портсигар, отстающие на две минуты часы, плохонькие запонки, что ему на это наплевать, но это никак не гармонирует с вечерним или пляжно-прогулочным туалетом его дорогой Ламорес и что он, барон Скосырев, испытывает из-за этого чувство неловкости, граничащее с комплексом неполноценности.
Как только леди Херрд слышала это страшное слово «неполноценность», на нее накатывало чувство вины – ведь ее дорогой барон страдал из-за нее, из-за ее расточительной привычки три раза в день менять платья и костюмы, и, чтобы загладить это чувство и вернуть барону присущее ему радостное расположение духа, тащила его в ювелирный магазин. А Борька, для приличия посопротивлявшись, выбирал самые дорогие часы и такие же дорогие запонки.
Когда же он оставался один, то доставал эти побрякушки, прикидывал их стоимость и с удовлетворением отмечал, что если их продать, то денег хватит надолго. Он даже несколько раз ездил в Барселону, продавал часть не нужных ему побрякушек, а деньги клал на свой банковский счет.
Так он выполнял недвусмысленный совет Валентина Костина не рассчитывать до самой старости на деньги леди Херрд, а постараться сколотить собственный капитал.
Все шло прекрасно, пока однажды его Ламорес не заказала ужин в номер, а сама объявилась во всем черном и, что больше всего его поразило, без какой бы то ни было косметики.
– Что с тобой? – не на шутку встревожился Борька.
– Сегодня день траура, – скорбно ответила леди Херрд. – Сегодня ровно три года, как не стало моего дорогого Чарльза. Он был прекрасным мужем, и я его никогда не забуду.
– Ах вот оно что, – потупился Борька. – Поминки… Надо бы сходить в церковь, заказать молебен. Или у протестантов это не принято?
– Почему же «не принято»? Принято. Но Испания – страна католическая, и в городе всего одна протестантская церковь, да и та где-то на окраине. Но я туда поеду. Несколько позже, – как-то отчужденно добавила леди Херрд.
– Я закажу такси, – бросился к телефону Борька.
– Нет-нет, не беспокойся, – остановила его леди Херрд. – Я это уже сделала. И вообще, – непривычно решительно продолжала она, – я поеду одна. Мне надо побыть с Чарльзом наедине: я хочу с ним посоветоваться.
– Как это – посоветоваться? – поперхнулся Борька.
– Мне надо с ним посоветоваться о том, как жить дальше, – жестко отрезала леди Херрд. – У меня такое ощущение, что я все делаю не так, как надо.
«Ну и ну, – еще больше встревожился Борька, – чего ей там этот покойник насоветует? Что-что, а роман с липовым бароном он не одобрит. Надо как-то ему понравиться. Но как? – заметался Борька. – Как можно понравиться покойнику? Стоп! Кажется, знаю. Я где-то читал, что чем чаще их вспоминают живые, чем чаще проявляют интерес к их земной жизни, тем они сговорчивее и добрее. Чушь, конечно, полнейшая, но усыпить бдительность леди Херрд это поможет».
– Извини меня, дорогая, за мою толстокожесть, – начал издалека Борька, – но во всем виноват я. Да-да, я! – протестующе поднял он руки, заметив, что леди Херрд хочет что-то сказать. – Я был так поглощен развитием наших отношений, так радовался, видя, как ты прямо на глазах расцветаешь, что ни разу не поинтересовался твоим прошлым. А оно было, хорошее или плохое, но было. Прошлое никогда не проходит без последствий, оно обязательно оставляет свой след не только на настоящем, но и на будущем. Я видел, как ты иногда, казалось бы, ни с того ни с сего становишься грустной, но вместо того, чтобы расспросить о подлинной причине, переадресовывал это на себя – дескать, был к тебе недостаточно внимателен. Но дело-то в другом, дело в твоем прошлом, которое всегда с тобой и которое, как бы ты ни старалась, дает о себе знать. Могу ли я попросить тебя, моя дорогая Ламорес, – приложил руку к сердцу Борька, – приоткрыть дверцы того сейфа, в котором ты хранишь свои самые дорогие воспоминания?
Надо ли говорить, что после такой речи леди Херрд рухнула в кресло и залилась горючими слезами.
– Ах, барон, мой дорогой барон, – сквозь слезы восклицала она, – так со мной еще никто не разговаривал! Этого не делал даже незабвенный Чарльз. Ну, что ж, – сбросила она траурную шляпку, и Борька с грустью заметил, что ее рассыпавшиеся по плечам волосы начали седеть. – Ты прав, когда-то надо расставить все точки над «i». Да, мы неровня. Да, ты аристократ, ты барон, а я простолюдинка, – с каким-то отчаянием продолжала она. – Мой отец работал на железной дороге, он был диспетчером или что-то вроде того. Но образование и мне, и старшей сестре дал: я получила диплом учительницы начальных классов, а Кэтрин – медсестры. Плесни-ка мне глоток виски, – неожиданно попросила леди Херрд, – а то виски́ как тисками стиснуло, – скаламбурила она.
– Разбавить содовой? – уточнил Борька.
– Ну уж нет уж! – разошлась леди Херрд. – В чистом виде, – сделала она основательный глоток. – А потом началась война. Ее иногда называют Англо-бурской, но на самом деле англичане воевали с переселившимися на юг Африки голландцами. Кэтрин была ярой патриоткой и отправилась в Трансвааль. И надо же так случиться, что там она спасла жизнь майору Генри Херрду: его так сильно ранило, что он погибал от потери крови, и Кэтрин дала ему свою. Майор был не только порядочным человеком, но и немножко романтиком, поэтому не мог допустить, чтобы в нем текла кровь посторонней женщины, и сделал Кэтрин предложение. Через год у них родилась Мэри… А ты знаешь, – отодвинула она предложенный Борькой стакан, – что Мэри мне не только племянница, но и дочка?
– Как так? – не понял Борька. – Разве такое возможно?
– Еще как возможно, – усмехнулась леди Херрд. – После гибели Кэтрин и Генри на этом проклятом «Титанике» младший брат Генри – Чарльз Херрд – решил взять чудом спасшуюся девочку в свой дом. Взять-то он ее взял, но присматривать за ней было некому: малограмотные экономки и приглашенные гувернантки общего языка с ребенком найти не могли. И тогда он позвал меня: я-то девочку хорошо знала, и проблем с установлением контакта у нас с ней не было. Мы с Мэри очень дружили и жили душа в душу. А если чего и боялись, то женитьбы Чарльза на какой-нибудь знатной и, конечно же, высокомерной даме, которая установит свои порядки, и нам будет несдобровать. Чарльз-то был богат, очень богат: у него было имение в Уэльсе, суконная фабрика под Ливерпулем, огромные лесные угодья и что-то еще в Канаде, так что невесты вокруг него вились хороводом. Но он ни на ком не женился! А через два года сделал предложение мне.
– Вот так фокус! – не выдержал Борька. – Ты же ему вроде родственница? По-русски это называется «свояченица».
– Ну и что?! Мы же не кровные родственники, так что препятствий для заключения брака не было. Правда, со стороны Чарльза было одно условие: он признался, что в юности неудачно упал с лошади и врачи сказали, что детей у него не будет, поэтому он настаивал на том, чтобы мы удочерили Мэри. Что касается Мэри, то, конечно же, я с радостью согласилась. А ту строптивую кобылу прокляла на веки вечные! – стукнула она по столу и залпом выпила предложенный бароном виски.
– Ах вот оно что, – проронил Борька, – теперь мне понятно, почему ты ни на шаг не отпускаешь от себя Мэри.
– Да, – жестко отрубила леди Херрд. – Не отпускаю. Потому что охотников за ее приданым не меряно, а ей нужен не какой-нибудь фанфарон, а чуткий и надежный человек, который бы уверенно вел ее по жизни.
– Я такого человека знаю, – вспомнил о своем обещании Борька.
– Знаю, на кого ты намекаешь, – отмахнулась леди Херрд. – Уж не твой ли это капитан?
– Да, Ламорес, да! – с небывалым энтузиазмом воскликнул Борька. – И если мое мнение для тебя что-нибудь значит, выслушай меня, пожалуйста, до конца. Да, это капитан-лейтенант Костин. Я его знаю давно и со всей ответственностью заявляю, что он – достойнейший человек, он – русский дворянин, он – офицер, прошедший две войны, он – человек, для которого понятие чести превыше всего, он – рыцарь, он – мужчина в высшем смысле этого слова, он, наконец, человек, который искренне любит Мэри и который, кстати говоря, понятия не имеет о ее приданом, – решил немного приврать Борька. – Отдай ее без копейки – и он будет счастлив! Он будет ее лечить, он будет за ней ухаживать, а вместе они подарят тебе внуков.
– Ни в коем случае! – подскочила леди Херрд. – Не внуков, а внучатых племянников. Не такая уж я старая, так что пусть называют меня не бабушкой, а тетей, – мельком заглянула в зеркало леди Херрд.
– Договорились! – захохотал Борька и закружил Ламорес по комнате. – Когда скажем об этом молодым?
– Завтра. А сейчас я еду в церковь, – надевая траурную шляпку, заметила леди Херрд. – Англиканской здесь нет, так что сойдет и лютеранская. С Чарльзом все-таки надо поговорить, – решительно закончила она.
– Извини, но ты так и не сказала, отчего он умер, – напомнил Борька.
– От газов, – односложно бросила леди Херрд.
– Каких еще газов?
– Ты про иприт что-нибудь слышал?
– Конечно. Но на самом деле это был хлор, который немцы применили в районе реки Ипр и города под таким же названием.
– Так вот полковник Херрд наглотался этой гадости сверх меры. Потом три года болел, но так и не поправился. Он, кстати, оставил кое-какие записи, – достала она из стола довольно толстую тетрадь. – Я в этом ничего не понимаю, но тебе как военному человеку это может быть интересно. Пока меня не будет, оставляю тебя наедине с записями Чарльза, – поцеловала он Борьку в щеку и выскользнула за дверь.
Штабс-капитан Скосырев был человеком далеко не робкого десятка, он не раз ходил в штыковые атаки, рубился сначала с немцами, потом с красногвардейцами, казалось бы, чего пугаться какой-то тетрадки, но, сам того не понимая, почему, оказавшись наедине с тетрадкой полковника Херрда, он буквально похолодел.
«Ну что, красавец, – подошел он к зеркалу и отхлестал себя по щекам, – в штаны-то еще не наложил? Чего ты скуксился, чего дрожишь, как осиновый лист? Неужто боишься встречи с благородным полковником Херрдом? Да, боюсь, – сказал он сам себе. – Он честно воевал, а потом три года умирал. Он благороден, он – не чета мне, самозваному барону, обирающему его жену. Но в то же время ваша жена, господин Херрд, никогда не была такой счастливой, как сейчас, – нашел себе оправдание Борька. – А кто вернул ей радость жизни? Я, штабс-капитан Скосырев. Ну а то, что выдаю себя за барона, так это нужно не мне, а ей, вашей жене и моей Ламорес: уж очень она тщеславна, и скажу вам по чести, я не знаю, кого она любит больше – меня или мой титул.
Так что давайте знакомиться: как-никак во время войны мы были союзниками. Вот вам моя рука, рука русского офицера. А ваша рука передо мной: почерк у вас, полковник Херрд, отменный», – закончил виртуальную беседу с полковником Херрдом штабс-капитан Скосырев и раскрыл тетрадь.
«Как же не хочется верить, что Бог создал человека по своему образу и подобию! – буквально с первой строки чуть не подпрыгнул Борис Скосырев. – Неужели наша жестокость, кровожадность, бесчеловечность, черствость, лютость и даже склонность к самоуничтожению от Бога?! Если подсчитать, сколько человек создал нужного и полезного и сколько гибельного и вредного, то едва ли чаша весов перетянет в сторону того, что делает нас более мудрыми и счастливыми.
Одним из таких дьявольских изобретений стало химическое оружие. Сейчас его накопилось так много, что всех нас можно уничтожить не одну сотню раз. И не только людей, но и все живое – от травинки до баобаба и от бабочки до носорога. И вот ведь что странно: придумали эту гадость не преступники и подонки, а лучшие умы человечества.
Многие думают, что изобрели химическое оружие и первыми применили его на поле боя немцы. Глубочайшее заблуждение! Полистав старинные книги, я был буквально ошарашен, когда узнал, что первыми на эту злодейскую тропу вышли…древние греки.
Да-да, оказывается, они не только писали гекзаметром и вытесывали из мрамора Венер, Гераклов и Афродит, но и со знанием дела выводили формулы самых мерзких отрав, которые в страшных мучениях отправляли их противников в царство Аида. Еще в 600 году до нашей эры афинский военачальник Солон заразил водоемы города Цирра настоем из корней черемицы и, как сказали бы теперь, взял город без единого выстрела. Правда, он получил выговор за то, что не привел оттуда ни одного раба: все жители просто-напросто погибли.
А спартанцы, те самые благородные спартанцы, которые стали символом верности, мужества и храбрости! Эти вояки пошли еще дальше. Спартанцы придумали, как брать города, не обнажив меча. Они раскладывали у стен огромные костры, в которых горели поленья, пропитанные смолой и серой. Двух-трех вдохов этого дыма было достаточно, чтобы защитники валились замертво, а храбрые спартанцы входили в город по их трупам.
Много позже, когда наступила эпоха просвещенного Возрождения, об этом изобретении греков вспомнили завоеватели африканских и южноамериканских колоний. Представители цивилизованных и, что особенно важно, христианских стран, не моргнув глазом, уничтожали газами целые племена. Был шанс войти в историю и моим соотечественникам. Во время хорошо известной Севастопольской кампании англичане, которым надоело упорное сопротивление русских, решили их отравить, для чего завезли в Крым огромное количество баллонов с хлором. Спасло защитников Севастополя только то, что в день назначенной атаки ветер изменил направление и стал дуть не в ту сторону.
А вот в Первую мировую войну химическое оружие показало себя во всей „красе“. Первыми, как известно, начали немцы. 22 апреля 1915 года они выпустили на наши и французские части, стоявшие во Фландрии, в долине реки Ипр, 180 тонн хлора. Так случилось, что больше всего пострадал мой полк. Я пытался отвести солдат на вторую линию обороны, но облако двигалось слишком быстро, и люди гибли на бегу. Чтобы не встать, достаточно было сделать два-три вдоха, это я испытал на себе.
Потери были чудовищные: за 5 минут газовой атаки погибло 15 тысяч человек. Кто меня вытащил из этого ада, я не знаю, но то, что в тот день я родился во второй раз, это точно.
Придя в себя, я решил не покидать поле боя: мне было совершенно ясно, что как только развеется облако хлора, в атаку пойдет немецкая пехота. Так оно и случилось. Но я собрал оставшихся в живых солдат, и мы встретили бошей плотным пулеметным огнем. Судя по всему, они этого не ожидали и откатились на исходные позиции.
Но немцы на этом не успокоились и после усиленной бомбардировки атаковали газами наших соседей – французов. Я видел, как на их позиции стала надвигаться густая пелена желтого дыма, выпущенная из германских окопов. Французы не сразу поняли, в чем дело, и покидать свои окопы не спешили. Все они там и погибли. Перестала существовать целая дивизия.
Самое же ужасное заключалось в том, что газовыми атаками был до основания подорван боевой дух войск. Никто не знал, как бороться с газами, где немцы применят их снова, поэтому тревожное настроение охватило весь фронт. Именно поэтому прекрасно задуманная операция на Сомме не дала ожидаемых результатов. Ведь мы там собрали 32 пехотных и 6 кавалерийских дивизий, нас поддерживало около 300 самолетов и более 2 тысяч орудий, там же мы впервые применили новое чудо техники – танки. И что это дало? Прорвать немецкую оборону мы так и не смогли, потеряв при этом 800 тысяч убитыми и ранеными.
Ни для кого не секрет, что немцам тогда помогли газы. А вот то, что именно на Сомме удушающие газы впервые применили и мы, до сих пор большой секрет. Но фосгена, а использовали только его, у нас было мало, поэтому атаки производились, как правило, внезапно и только ночью. Успех зависел от концентрации газа и от благоприятного направления ветра. Надо было видеть восторг наших генералов, когда захваченные в плен немцы подтверждали смертельное действие британских газов. Еще дальше пошел маршал Хегг, который отправил в Лондон восторженную телеграмму, тут же опубликованную в газетах:
„Армия должна благодарить ученых – химиков, физиологов и физиков, не щадивших своих сил, чтобы дать нам возможность превзойти противника в искусстве применения средств поражения, появление которых оказалось неожиданностью для всего мира“.
Такого рода восторженных телеграмм с обеих воюющих сторон было много – ведь за годы войны около полутора миллиона человек получили тяжелейшие поражения, в том числе сто тысяч со смертельным исходом.
Я, полковник Херрд, один из этих полутора миллионов. То, что я видел и что пережил сам, не поддается описанию. Проживу я, судя по всему, недолго, но на тот свет уйду убежденным пацифистом. Если бы была организация, которая бы срывала попытки военных конфликтов в самом зародыше, если бы нашлись люди, целью жизни которых была бы борьба за мир, если бы появились врачи, которые еще при рождении ребенка научились бы уничтожать затаившийся в мозгах центр насилия и агрессии, я бы завещал этим людям и этим организациям все свое состояние.
Но ничего подобного на горизонте я не вижу. „Господи, просвети нас! – все чаще восклицаю я. – Сделай так, чтобы все страны стали нейтральными, чтобы у них не было армий, чтобы исчезли границы и чтобы мы перестали коситься на соседа, который больше работает и поэтому лучше живет. Исправь, Господи, свою ошибку и создай человека заново – на этот раз, действительно, по своему образу и подобию!“»
Потрясенный прочитанным, Скосырев отложил тетрадь и надолго задумался.
«Так вот вы какой, полковник Херрд, – мысленно беседовал он с автором записей. – Не простой вы человек, очень не простой. Вам бы не военным быть, а философом, таким, как Руссо, Вольтер или Дидро. Революцию-то французы сделали, начитавшись этих классиков, так, может быть, прочитав ваши труды, нынешние короли, президенты и премьер-министры распустили бы свои армии. Но этого не будет: что-что, а армии были, есть и будут. И коситься на соседа, который лучше живет, человек будет всегда, потому что легче отнять, нежели, проливая пот, заработать. Не слышали вы, видно, полковник такого мудреного слова – экспроприация. А ведь на нем построена вся русская революция. „Не заработать, а отнять!“ – такой лозунг провозгласили большевики, и вся крещеная Русь занялась экспроприацией.
Нет, без медиков тут, видно, не обойтись: центр агрессии нужно уничтожать, пока ребеночек лежит в колыбели. Но это, как я понимаю, невозможно: где он, этот центр, никто не знает, да и ковыряться в мозгах опасно – того и гляди, сделаешь из ребенка идиота.
Так что вы, полковник Херрд, утопист, самый настоящий утопист. Чтобы реализовать ваши мечты, надо переделать человека, а он почему-то Господу Богу нужен именно таким: жестоким, кровожадным, лютым и, что самое странное, склонным к самоуничтожению.
Жаль, полковник, искренне жаль, что я не знал вас при жизни: наверное, с вами интересно было бы дружить, да и поговорить, судя по всему, было бы о чем. Я ведь тоже немало чего повидал. И кстати, о газах. В мае 1915-го немцы применили хлор и на нашем фронте, причем на участке моего родного полка. Народу погибло – не меряно. Меня спасло только то, что накануне я был ранен и находился в лазарете, а это довольно далеко от передовой. Так что мы с вами, господин полковник, чуть было не стали друзьями по несчастью.
А за леди Херрд не беспокойтесь. Не вам мне объяснять – вы там наверху все знаете – что эту игру я начал по подсказке Валентина Костина, преследуя две цели: одну благородную, другую – не очень. Благородная – это женитьба Костина на вашей племяннице; а та, что не очень – разжиться деньжатами за счет вашей жены, вернее, вдовы. Дело с женитьбой продвигается семимильными шагами – и это прекрасно, потому что мужем Валька будет хорошим и наследством распорядится умно, достойно и прибыльно. Я же, как это ни покажется странным, к леди Херрд отношусь все лучше и лучше. Да и она раскрывается все новыми гранями: видимо, из-за вашей болезни она была несколько зажата и не позволяла себе быть самой собой.
И все-таки две занозы не дают мне покоя. Первая – таинственный план Костина, которым он меня основательно заинтриговал. Вторая – что будет, когда леди Херрд узнает о моем липовом баронстве. Чует мое сердце, что тогда мне ничего не останется, как заняться первой занозой», – подвел итог Борька, плеснул себе коньяка и выпил за грядущие успехи.
Глава Х
Из церкви леди Херрд вернулась умиротворенной и, как показалось Скосыреву, какой-то просветленной.
– Как дела? – спросила она с порога. – Осилил ли ты записи Чарльза?
– Осилил, – вздохнул Борька. – Их бы опубликовать, а то ведь о его размышлениях так никто и не узнает.
– Ты думаешь, они того стоят?
– Безусловно! Уж если я, прошедший две войны, открыл для себя много нового, то что говорить о тех, кто не сидел в окопах. И вообще…Ты знаешь, – задумчиво продолжал Борька, – мне кажется, что полковник Херрд был очень интересным человеком. Должно быть, ты была с ним счастлива и всех знакомых мужчин невольно сравниваешь со своим Чарльзом. Я не прав? – без тени лукавства спросил Борька.
– Мой дорогой барон, – игриво растрепала его прическу леди Херрд, – счастье – оно ведь бывает разное, особенно женское. Жить подле умного человека и набираться от него ума-разума – это, конечно, счастье. Но когда на его фоне ты ежеминутно чувствуешь себя дурой, то это как-то не радует. Жить все время с прямой спиной и бояться ляпнуть глупость, поверь мне, это выматывает. Иногда так хочется не посмеяться, а похохотать, не скушать омара, а, извини, сожрать, обсуждать не результаты поименного голосования в палате лордов, а перемыть косточки их женам, но это неприлично, этого себе позволить нельзя, – сняла наконец свою траурную шляпку леди Херрд.
Тем временем Борька достал бутылку коньяка, плеснул понемногу в рюмки, сказал:
– Помянуть-то надо. – И они, не чокаясь, выпили до дна.
– Может, я действительно дура, а может, мешало мое железнодорожное происхождение, – забравшись с ногами в кресло, продолжала леди Херрд, – но, честное слово, порой я готова была сорваться с места и удрать куда-нибудь в Индию или Африку, туда, где жизнь попроще и где я могла бы учить ребятишек грамоте, а их родители считали бы меня самым уважаемым человеком в своей деревне. Но на руках был больной Чарльз, так что ни о каком побеге не могло быть и речи. К тому же постепенно я ко всему привыкла, втянулась в тот образ жизни, который был принят в нашем окружении, и даже чувствовала себя счастливой. Особенно остро я это поняла, когда не стало Чарльза. Только тогда до меня дошло, с каким редкостным человеком жила все эти годы. И, ты прав, всех мужчин я невольно сравнивала с Чарльзом, само собой разумеется, не в их пользу.
– А что я говорил! – чуть ли не торжествующе воскликнул Борька и снова наполнил рюмки.
– Так было до тех пор, – теперь уже чокнувшись, осушили они рюмки, – пока на моем пути не встретился один русский офицер, – шаловливо продолжала она. – Он не только аристократичен, умен и благороден, но и просто неотразимый мужчина. Разве можно было в него не влюбиться?! Вот я и влюбилась. Я даже рассказала об этом Чарльзу, – понизив голос, продолжала она. – Ты знаешь, в той церкви я сегодня была одна, совершенно одна. Вначале было жутковато, но потом я освоилась, и мне даже стали чудиться какие-то голоса. Я-то ведь с Чарльзом разговаривала молча, так что эхо возникнуть не могло, но, ручаюсь тебе, голоса были.
Голоса Чарльза я в этом хоре не различила, но то, что хор звучал слаженно и ликующе-радостно, навело на мысль, что Чарльз меня не только услышал, но и одобрил нынешний образ моей жизни.
Потом она попросила барона наклониться поближе и заговорщическим шепотом произнесла ему в самое ухо:
– Он даже одобрил мое решение отдать нашу приемную дочь за капитана Костина.
– Ура-а! – подпрыгнул чуть ли не самого потолка Борька.
Потом он подхватил свою Ламорес на руки и закружил ее по комнате.
– Ай да Чарльз, ай да молодец! – приговаривал он. – Я чувствовал, нет, я знал, что Валентин ему понравится!
– Угомонись ты, сумасшедший! – шутливо отбивалась леди Херрд, в то же время не пытаясь вырваться из его крепких объятий. – Все ребра мне переломаешь. Первый раз вижу, чтобы кто-то так неистово радовался счастью другого человека. Повезло твоему Костину с другом, очень повезло… А уж как повезло мне! – после паузы сладостно пропела Ламорес и, перестав отбиваться, позволила отнести себя на широченную кровать.
Много позже, когда на прижавшийся к морю Сантандер опустились подкрашенные багрянцем сумерки, барон Скосырев выбрался из постели и начал тщательно одеваться.
– Ты куда? – сладостно потягиваясь, поинтересовалась Ламорес.
– Как это «куда»? – завязывая галстук, бросил Борька. – К Валентину. Надо же обрадовать человека.
– Не забудь заколку, – приподнялась на подушки Ламорес, – ту, жемчужную, она к этому галстуку будет в самый раз.
– Конечно, конечно, – засуетился Борька. – Только куда я ее подевал? Что-то не найду, – похлопал он по карманам. – А-а, ладно, к Вальке можно и без заколки, – густо покраснев, махнул он рукой.
Сказать, что заколку он давно продал, Борька, конечно же, не мог, но чувство стыда пока еще испытывал.
До отеля, где жил Костин, Борька домчался за несколько минут и, ворвавшись в его номер, закричал, как ему казалось, на всю вселенную.
– Виктория! Победа! Наше дело правое! С тебя причитается!
– Да? – все понял побледневший Костин. – Она согласна? Ты ее дожал?
– Согласна! – крутился волчком по номеру Борька. – Но дожал ее не я, а полковник Херрд.
– Как это, Херрд? – еще больше побледнел Костин. – Ты не того? – покрутил он пальцем у виска. – Не сошел с ума?
– Не-э, – хохотнул Борька, – не сошел. Все было проще простого: леди Херрд поговорила с мужем, и он дал согласие на брак своей приемной дочери с храбрым русским офицером.
– И ты утверждаешь, что не сошел с ума? – взяв себя в руки, иронично улыбнулся Костин. – Как леди Полли могла говорить с мужем, если он давным-давно там, – ткнул он в потолок, – в раю?
– Скучный ты человек, – прыгнул наконец в кресло Борька. – Воображения у тебя – ни вот столечко, – оттопырил он кончик мизинца, – а еще разрабатываешь какие-то планы, – не мог не уколоть его Борька. – Ответь, только с одного раза: где можно поговорить с покойником?
– На кладбище, – буркнул Костин.
– А еще?
– Еще? – почесал затылок Костин. – В морге.
– Дурак, ты, братец! – крякнул от досады Борька. – Даю подсказку: где люди обращаются не только с небесами, но и с самим Богом?
– В церкви, что ли? – неуверенно бросил Костин.
– Ну, наконец-то! – деланно артистично всплеснул руками Борька. – Наконец-то до нашего капитан-лейтенанта дошло, – деловито придвинул он свое кресло к столу. – Закажи-ка ты, братец, хорошего коньяка, лучше всего – «мартеля», и я тебе все расскажу.
Когда выпили по одной, а потом и по второй рюмке, Борька рассказал о походе леди Херрд в церковь, а также о ее воображаемом разговоре с мужем, не преминув при этом отметить, что все это бабские бредни и что с нервами у леди Херрд не все в порядке.
– Молодец, Борька, – пожал его руку Костин. – Я тебе этого никогда не забуду, – улыбнулся он. – Отныне я у тебя в неоплатном долгу. Хотя нет, в оплатном, – многозначительно поднял он палец. – Но об этом – позже. А теперь…Что же делать теперь? – вопросительно взглянул он на Борьку.
– Как «что»? – хлопнул тот по плечу Костина. – Бежать в цветочный магазин, а оттуда прямым ходом к леди Херрд. Предложение-то делать еще не раздумал?
– Еще как не раздумал! – радостно воскликнул Костин и, подпрыгивая от нетерпения, начал облачаться в так идущий ему смокинг.
Когда Борька чинно постучал в дверь номера леди Херрд и попросил аудиенции для одного крайне заинтересованного в беседе с ней господина, Ламорес не сразу поняла, о каком господине речь. Но когда, вкрадчиво улыбаясь, Борька отступил в сторону и на пороге вырос бледный от волнения русский капитан, который положил к ее ногам охапку чайных роз, а сам встал на колено, леди Херрд всплеснула руками, велела Костину подняться и дружески потрепала его по щеке.
– А откуда вы знаете, что всем другим я предпочитаю именно чайные розы? – кокетливо поинтересовалась она.
– Интуиция, – скромно потупив взор, ответил Костин.
Не мог же он, в самом деле, сказать, что розы покупал по подсказке ее дорого барона, который хорошо знал слабости леди Херрд и, дергая за веревочки, использовал их по своему усмотрению.
– Леди Полли… то есть леди Херрд, – почему-то осипшим голосом начал заранее заготовленную речь Костин, – будучи хорошо знакомым с вашей племянницей, а одновременно и с дочкой, то есть с приемной дочкой, – смешался от волнения Костин, – и испытывая к ним… к ней чувство искреннего уважения и большой любви, я прошу у вас как у тетушки и как у матери руки вашей дочери и вашей племянницы.
– Так чьей же вы все-таки просите руки? – расхохоталась леди Херрд. – Племянницы или дочери?
– Я… право, не знаю, как лучше сказать, – окончательно смутился Костин.
– Отдай ему обеих, – пришел на выручку Борька. – Пусть будет первым в этих краях многоженцем.
– Хорошая идея, – подыграла ему леди Херрд. – И мне забот меньше: не надо будет искать второго жениха.
– Ну, ладно, хватит, – как-то по-хозяйски вмешался Борька, – того и гляди, доведем парня до обморока. На Руси в таких случаях говорят так: «У вас есть товар, у нас есть покупатель. Может, сговоримся?»
– А чего ж не сговориться? – совсем по-русски уперла руки в бока леди Херрд. – Если не постоите за ценой, то и сговоримся.
– Товар-то не худо бы посмотреть, – лукаво подмигнул Борька. – Не залежалый ли?
– Я тебе дам – залежалый! – погрозила леди Херрд кулачком. – Товар что надо, английского качества.
– И все-таки! – настаивал на своем Борька.
– Ну, ладно, будь по-вашему, – смилостивилась леди Херрд. – Как говорится, покупатель всегда прав. – Мэри! – громко позвала она. – Выйди, девочка, к нам, тут какие-то господа хотят тебе что-то сказать.
Когда из соседней комнаты робко выплыла пунцовая от волнения Мэри, Костин, издав рыдающий звук и махнув рукой на условности, грохнулся на колени и, прижав руки к сердцу, не то сказал, не то пропел:
– Мэри, моя дорогая Мэри, я пришел за тобой. Я пришел, чтобы предложить тебе идти по жизни вместе. Я клянусь, как пред Богом, – перекрестился он, – что никогда и ничем тебя и не обижу, что буду хорошим, очень хорошим, мужем.
– А я буду хорошей женой, – неожиданно смело улыбнулась Мэри. – Встаньте, Валентин, – протянула она руку. – Я согласна… Если, конечно, не возражает тетушка Полли, – добавила она, стрельнув глазами в сторону леди Херрд.
– Тетушка Полли не возражает, – войдя в роль озорной и доброй родственницы, расцеловала она Мэри, Валентина, а заодно и, правда, не так формально и торопливо, своего дорогого барона.
Надо ли говорить, что после этого чуть ли не до самого утра шампанское лилось рекой, что, начавшись в номере, веселье продолжалось в ресторане, что к нему подключились как знакомые, так и совершенно незнакомые люди, что все искренне поздравляли молодых и желали им счастья.
Но под самое утро, когда вынырнувшее из-за моря солнце позолотило небо, совершенно неожиданно возник вопрос, который чуть было не испортил так счастливо начавшийся вечер. И этот вопрос был нешуточный! Когда начали размышлять, где лучше отпраздновать свадьбу и в каком соборе венчаться, вдруг выяснилось, что молодые, хоть и христиане, но принадлежат к разным ветвям этого вероисповедания: Валентин Костин принадлежит к православной церкви, а Мэри – к протестантской, а точнее, к англиканской.
Так где же им венчаться: в православной церкви или в протестантском соборе? Но какое бы решение они ни приняли, и жених, и невеста должны принадлежать к одной церкви, а это значит, что кто-то из них должен перейти в другую веру.
Спор на эту тему разгорелся такой серьезный, что компания разделилась на два далеко не равных лагеря: православных-то было всего двое – Скосырев да Костин. Но они стояли насмерть! Их главным аргументом было то, что все немецкие принцессы, перед тем как стать царицами и выходя замуж за великих князей, обязательно переходили в православие и получали русские имена: скажем, Марта Скавронская стала Екатериной I, Софья Фредерика Августа – Екатериной II, а последняя русская императрица Александра Федоровна до замужества была Алисой Гессен-Дармштадтской. Мэри Херрд имя менять не надо, так как оно интернационально и по-русски звучит как Мария, но чтобы стать Марией Костиной или, по-английски, Мэри Костин, ей надо перейти в православие, иначе ни один священник венчать их не согласится.
Мэри была в полной растерянности, и пример русских императриц никак ее не вдохновлял. И тут неожиданную мудрость проявила леди Херрд.
– Девочка моя, – сказала она, – какая тебе разница, какой священник будет тебя венчать и колокола при этом будут звучать или орган? Главное, венчать тебя будут именем Христа. И твои родители, которые давным-давно в раю, об этом узнают, – смахнула она набежавшую слезу, – и за тебя порадуются. К тому же ты как была христианкой, так ею и останешься. И еще, моя дорогая, раз уж ты выходишь замуж за русского, то не могу тебе не напомнить хорошо известную русскую поговорку: «Куда иголка, туда и нитка». Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Да, понимаю, – решительно тряхнула головой Мэри. – Я должна идти за мужем, и я за ним пойду. Валентин, – взяла она за руку Костина, – я согласна перейти в православие. Что я для этого должна сделать?
– Не бойся, – слегка приобнял ее Костин, – это не больно. Но вот где это сделать – большой вопрос, – досадливо наморщил он лоб. – Насколько мне известно, в округе нет ни одной православной церкви.
– Зато есть в Париже! – воскликнула леди Херрд. – Это я знаю точно. Там же и отпразднуем свадьбу! Кто-нибудь возражает? – игриво поинтересовалась она.
Громкие аплодисменты и шумные возгласы одобрения были ответом леди Херрд. Громче всех хлопал и от восторга даже притопывал ногами Борис Скосырев. Он был искренне восхищен поведением своей Ламорес и пришел к выводу, что знает ее совсем мало и что эта, на первый взгляд, взбалмошная женщина – с двойным, а то и с тройным дном.
А потом начались, в самом прямом смысле слова, горячие дни. Нужно было выбрать фасон платья невесты, придумать ей новую прическу, составить список гостей, выбрать ресторан, определиться с меню – всем этим занимались леди Херрд и барон Скосырев. Они даже два раза съездили в Париж, где леди Херрд прошлась по ресторанам, пока не остановилась все на том же «Максиме», а Борька мотался по пригородам, выбирая подходящую православную церковь.
Когда наконец нашел то, что надо: скромную внешне, но богатую внутри церковь (как тут же выяснилось, ее богатство, включая необычайной красоты иконостас, проистекало от именитых прихожан, в число которых входили даже члены дома Романовых), возникло множество вопросов, на которые Скосырев не мог ответить.
С самим венчанием проблем не было. Но когда речь зашла о переходе невесты в православную веру, священник начал ссылаться то на митрополита Макария, то на патриарха Никона, то на премудрого Марка Ефесского, объясняя, что дело это непростое, как кажется, что чин принятия в православную веру, тем более протестантов – это особый ритуал, который состоит из исповеди, покаяния в грехах, причем всех, которые помнишь с юности, затем – так называемого оглашения, состоящего из отрицания от всех прежних заблуждений, в которых пребывал, и лжеучений, которым следовал, а также таинства миропомазания.
Но и это не все. После молитвы, встав с колен, присоединяемый к православной церкви должен произнести обещание исповедовать православную веру «до кончины живота своего», в уверение чего поцеловать Евангелие и крест. И только после этого дает соответствующую подписку, которая заносится в специальную книгу.
– Готова ли ваша невеста на все это? – спросил в заключение священник? – Искренне ли откажется от лжеучения, в котором до сих пор пребывала? Сможет ли быть послушной Святой православной церкви?
– Да сможет, все она сможет, – бодро начал Скосырев. Но потом подумал и развел руками. – А впрочем, не знаю. Тем более, что это невеста не моя, а моего друга.
– Тогда я бы вам посоветовал, – мягко молвил батюшка, – рассказать, что вы услышали от меня, и вашему другу, и его невесте. Пусть хорошенько подумают, и если они искренни в своих намерениях, Святая церковь с радостью примет новообращенную в свои объятия и станет ей заступницей и исповедальницей.
Так Скосырев и поступил. Вернувшись в Сантандер, он пригласил в номер леди Херрд, Мэри и Валентина и с очень серьезным выражением лица рассказал им о беседе со священником. Пока Валентин выжидательно молчал, а Мэри, нахмурив лобик, размышляла, совершенно неожиданно в атаку пошла леди Херрд.
– Это почему же она пребывала в заблуждениях и следовала лжеучениям? – напористо начала она. – Впрочем, и я тоже… Это что же получается: выходит, что все протестанты заблуждаются и попадут в ад, а православные – прямиком в рай? И о каких лжеучениях речь? Почему они лжеучения, кто это доказал? Не намек ли это на то, что наши пастыри, включая настоятеля Вестминстерского собора, дураки, а православные священники – умницы? И не просто умницы, а хранители истины, которую они носят в карманах своих риз, сутан или что там они надевают поверх штанов и пиджаков?
Борька от этой атаки просто онемел. «Эк ее! – подумал он. – Училка – она и есть училка. Начиталась, видно, в юности каких-то завиральных книжек, вот ее и понесло. А может быть, и другое: обидно стало за англичан, не дураки же они, в самом деле, чтобы сотни лет следовать каким-то лжеучениям. Да и наши хороши, вместо того чтобы найти общий язык с католиками и протестантами, следуют когда-то провозглашенной доктрине: кто не с нами, тот против нас. А ведь в Евангелии же есть другой вариант: кто не против нас, тот с нами. Это куда терпимее, мудрее и стратегически привлекательнее.
Как их бишь называют, фанатиками? Нет, догматиками – это точнее. А впрочем, какое нам дело до всех этих поповских споров: кто из них святее, разберутся на небесах. Нам же надо остудить пыл Ламорес и уговорить Мэри без слез и рыданий пройти обряд перехода в православие. А потом – с радостью и ликованием церемонию венчания! Да и Вальку надо поддержать, что-то он у меня сник, даже слова сказать не может».
– Вот что я вам скажу, дорогие мои братья и сестры, – чуточку ерничая, начал Скосырев. – Пусть попы носят в своих штанах, сутанах и ризах, что хотят, – бросил он двусмысленный взгляд на леди Херрд, – а истина ли это, разбираться не нам, а их шефу, который откуда-то сверху все видит и все знает. Нам же надо следовать его завету, – неожиданно вспомнил Борька гимназический курс богословия, – и даже не столько завету Христа, сколько его отца, то есть Творца, или, как его еще называют, Создателя, который, создав мужчину и женщину, сказал: «И оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть».
– Ай да Борь… то есть барон! – подскочил Костин. – Ай да голова! И как здорово сказано! – оживленно продолжал Костин. – Нет, просто замечательно сказано: они уже не двое, но одна плоть! Мэри, дорогая моя Мэри, – прижал он руку к сердцу, – ну что же ты молчишь? Скажи наконец, что тебя смущает?
– Почему ты решил, что меня что-то смущает? – мягко улыбнулась Мэри. – Я слушаю ваши умные разговоры, а думаю только об одном, – обезоруживающе улыбнулась она, – какой длины должно быть свадебное платье: в пол или чуточку короче?
Тут все так и покатились со смеху! А Борька кинулся к патефону, поставил какую-то пластинку и закружил прильнувшую к нему леди Херрд в стремительном вальсе!
Все, вопрос о переходе в православие, так и не будучи поставленным, был решен сам собой. Чуточку дурачась и по-флотски раскачиваясь, Валентин подплыл к Мэри и церемонно пригласил ее на танец. Сделав вид, что не знает, как ей поступить, Мэри оглянулась на тетушку. Поняв игру, леди Херрд разрешающе кивнула. Только после этого послушная племянница подала Валентину руку и, сшибая стулья, они понеслись в головокружительном вальсе.
Глава ХI
Рассказывать о венчании и о взбудоражившей весь Париж свадьбе нет никакого смысла, так как отчеты о них были опубликованы во всех столичных газетах, и при желании читатель может поднять подшивки того времени и погрузиться в этот бесподобный праздник. Но одно событие репортеры, если так можно выразиться, прошляпили, а ведь оно сыграло ключевую роль в развитии всей дальнейшей истории, связанной с фантасмагорической судьбой Бориса Скосырева.
Все началось с того, что у входа в ресторан свадебный кортеж встретил оркестр балалаечников. Они так лихо наяривали то «Барыню», то «Камаринскую», то какое-то невообразимое попурри из русских народных песен, что кое-кто тут же пустился в пляс, а если учесть, что бывших русских офицеров, а также разорившихся баронов, графов и князей собралось великое множество, то хоровод получился грандиозный.
Не удержался от нескольких замысловатых карамболей и Борька. Совершенно забыв, что он во фраке и ни вприсядку, ни вприпрыжку этот костюм плясать не позволяет, Борька подхватил какую-то бывшую графинюшку и, взбрыкивая ногами и размахивая руками, понесся с ней по кругу. И вдруг у самых дверей он с размаху налетел на какого-то важного господина, одетого то ли в генеральский, то ли в адмиральский мундир.
– Пардон, – бросил на ходу Скосырев и поскакал дальше.
А то ли генерал, то ли адмирал, вместо того чтобы снисходительно кивнуть, сгреб Борьку в охапку и заорал на всю округу:
– Борька! Скосырев! Барон! Чертов сын, откуда ты взялся?!
Самое удивительное, что барон Скосырев, вместо того чтобы презрительно оттолкнуть разодетого, как петух, незнакомца, начал его колотить то по плечам, то по спине, то куда придется, а тот, смеясь во весь рот, упоенно давал ему сдачи.
– Витька! Гостев! – не скрывая радости, тискал он незнакомца. – Ты, я смотрю, служишь. В каком звании?
– Какое там звание?! – хохотнул Гостев. – Ты что, без очков ни черта не видишь? Это же ливрея, – одернул он свой расшитый мундир. – А служу я директором двери, – театрально приосанился он, – или, по-нашему, швейцаром.
Борька отступил на шаг, окинул оценивающим взглядом статную фигуру бывшего однополчанина и ни с того ни с сего вспомнил слова Костина о том, надежный ли человек поручик Гостев и умеет ли он хранить тайну.
– Иди-ка сюда на минутку, – отвел он в сторону Гостева. – Когда этот бедлам закончится, – обвел он руками свадебную процессию, – надо будет поговорить. Приватно! – многозначительно добавил он.
– Есть! – по старой привычке вытянулся во фрунт Гостев.
– Где это можно сделать?
– Лучше всего у меня дома. Я тут неподалеку снимаю квартирку, под самой крышей, – черканул он адрес на бумажке. – Соседей нет, так что никто не помешает.
– Добро, – пожал его руку Борька. – На днях загляну. А пока что давай гулять! – сбросил он флер таинственности. – Сегодня женится мой большой друг. Ты Вальку Костина знаешь? Хотя откуда, – махнул он рукой, – он же моряк, а мы с тобой – пехота. А раз он женится, то… Короче говоря, предстоят большие дела. Но придется сбросить ливрею. Ты к этому готов?
– Да пропади она пропадом эта ливрея. И пошла она! – матюгнулся Гостев. – Я же все-таки офицер, а не какая-нибудь инфузория или амеба обыкновенная, – неожиданно вспомнил он гимназический курс физиологии. – Если надо пострелять или что-нибудь в этом роде, я всегда готов.
– Рад это слышать, – шутливо козырнул Скосырев. – До встречи… Да, чуть не забыл, – неожиданно вернулся он. – Ты с кем-нибудь из наших видишься?
– Ты об однополчанах? – уточнил Гостев.
– Не только. Вообще об офицерах, которым осточертело быть таксистами, балалаечниками, вышибалами и еще черт знает кем.
– Десятка два таких ребят знаю. По выходным мы собираемся в русской забегаловке под названием «Трактир».
– Добро, – еще раз взял под козырек Борька. – Честь имею.
Самое удивительное, беседуя с Гостевым, Борис не имел никакого представления, что за великие дела их ждут и какая роль в них отводится бывшим русским офицерам и ему самому. На что намекал Костин, какой грандиозный план намеревался ему подарить, Борис и понятия не имел. Но, как бы то ни было, просьбу Костина он выполнил, и связь с однополчанами установил.
Когда отгремела свадьба, и наши герои вернулись в Сантандер, Валентин Костин пригласил Бориса в старый гостиничный номер и, собирая свой нехитрый скарб, завел разговор о самом главном.
– Я буду говорить долго, – начал он, – поэтому ты наберись терпения и слушай. Вопросы – потом, на какие смогу – отвечу. Так вот, дорогой мой друг и собрат по палубе, – плеснул он отборного коньяка. – Как я тебе и обещал, от дел я отхожу. Мы с Мэри долго думали, где нам жить и что делать дальше, и пришли к выводу, что будет самым разумным, если мы уедем в Канаду. Да-да, в Канаду! – заметив вопрос в глазах Бориса, с нажимом продолжал он. – И тому немало причин, в том числе и та, что именно в Канаде размещен основной капитал, который Мэри унаследовала от отца. Лесоразработки – это не главное, куда важнее то, что ее отец контролировал почти все производство алюминия, никеля и цинка. На алюминии, как ты знаешь, держится самолетостроение, а без никеля и цинка не обойтись ни тем, кто делает автомобили, ни тем, кто строит корабли.
Доходы все это приносит немалые, но вот ведь закавыка: в последние годы алюминия, цинка и никеля выпускалось все больше, а прибыль почему-то падала. Подозреваю, что тут не обошлось без воровства: прощелыги-менеджеры наверняка решили, что девчонка в их делах ничего не смыслит и обвести ее вокруг пальца проще простого. Но я наведу порядок! – трахнул он кулаком по столу. – Я это ворье выведу на чистую воду и башки им поотрываю!
Еще одна причина нашего переселения в Канаду в ее климате. На днях я говорил с врачами, у которых лечилась Мэри, и, как это ни странно, все, как один, сказали, что климат Средиземноморья ее легким противопоказан, а вот настоянный на хвое воздух Канады – это то, что надо.
А теперь, Борис Михайлович, – неожиданно назвал он Скосырева по имени-отчеству, – о тебе. Моя благодарность тебе – безмерна. Без тебя мне Мэри не видать бы, как своих ушей. Вспомни, как подловатенько мы начинали это дело, как по моей наводке ты охмурял леди Херрд, как морочили головы местной публике, как… Э-э, да что там говорить! – махнул он рукой. – Но у нас была цель, и мы ее достигли. А теперь вопрос: кому-нибудь от этого стало плохо? Ни в коей мере! Госпожа Мэри Костин счастлива, леди Херрд – на седьмом небе, мы с тобой, как говорят картежники, тоже при делах.
– Должен тебе признаться, – все-таки перебил его Скосырев, – что на каком-то этапе я забыл о нашей, так сказать, игре. Как-то само собой получилось, что я искренне привязался к леди Херрд, и если бы не разница в возрасте, то я бы…
– А вот этого не надо! – вскочил Костин. – Ни в коем случае! Тебя ждут великие дела, и ты не имеешь права связывать себя узами брака. Ты посмотри за окно, – несколько успокоившись, продолжал он. – На дворе 1933 год, в Европе творится черт знает что, и самое время приступить к исполнению моего плана. Впрочем, теперь он не мой, а твой. Так что в газетах будут писать не обо мне, а о тебе, и вся слава достанется не мне, а тебе, – не без сожаления усмехнулся он. – Налей-ка, брат, еще по рюмашке, и я поделюсь с тобой моим сверхнаглым и сверхдерзким планом.
Когда Борис наполнил рюмки, Костин почему-то пить не стал, а, возбужденно расхаживая по номеру, приступил к изложению плана:
– Моя идея родилась не вдруг и не на голом месте. Еще в 1922-м, когда в Италии к власти пришел Муссолини, я был просто поражен, что переворот он осуществил практически бескровный и что поддержали его не только низы, но и верхи, в том числе финансовые тузы, и даже Ватикан. Но ведь не мог же он самолично явиться во дворец короля, сказать ему: «Пошел вон!» и стать главой правительства, а потом и дуче, то есть вождем нации. Значит, кто-то ему помогал, на кого-то он опирался. А опирался Муссолини на созданную им фашистскую партию.
Кстати, слово «фашизм» – это его изобретение, происходит оно от итальянского fascio и переводится как «связка», «пучок» или «объединение». Иначе говоря, это организация, которая объединяет единомышленников, то есть людей, исповедующих те или иные идеалы. А вот найти эти идеалы, сделать так, чтобы люди в них поверили и были готовы отдать за них жизнь, это, брат, дело серьезное, и мозги тут нужны первостатейные.
Но еще больше, чем бескровность переворота, меня поразило то, что люди охотно отказались от того, что на Западе называют демократией, и передали всю полноту власти одному человеку, то есть своему дуче. Значит, вся эта многопартийность, а также выборы, парламенты и прочая дребедень народу осточертела, и он хочет диктатуры, то есть неограниченной власти вождя и его фашистской партии.
Ты можешь спросить: как это сказалось на жизни народа? Я отвечу: хорошо, потому что исчезла безработица, началось массовое строительство недорогого жилья, гораздо гуще стали дымить трубы заводов и, что особенно важно, чтобы защищать эти достижения, молодежь охотно идет служить в армию.
– Погоди, – перебил его Скосырев, – а от кого им эти достижения защищать? Нападать на Италию как будто никто не собирается.
– Да? Ты так думаешь? – ехидно прищурился Костин. – А Париж, а Лондон, а Брюссель! Неужели ты думаешь, что они смирятся с диктатурой Муссолини? Ведь пример Италии может оказаться заразительным, и те же французы, у которых большой опыт революций и переворотов, вышвырнут из страны своего никчемного президента и поселят в Елисейском дворце авторитетного, сильного и могущественного вождя.
Ведь произошло же это в Германии? Произошло. Если даже законно избранный президентом фельдмаршал Гинденбург не смог противостоять главе фашистской партии ефрейтору Шикльгруберу, более известному как Адольф Гитлер, и назначил его рейхсканцлером, то есть главой правительства, то это значит, что в Европе настала эпоха диктатур. Правда, в Испании у руля пока что республиканцы, но я думаю, ненадолго: там уже создана фашистская партия, которая рано или поздно захватит власть, и страной станет править их вождь или, как они говорят, каудильо. Напомню, кстати, и о России: там диктатура большевистской партии медленно, но верно перерастает в диктатуру их вождя – Иосифа Сталина.
И что из этого следует? А то, что ни Париж, ни Лондон спокойно смотреть на это не будут и, я тебя уверяю, поддержат любую антидиктаторскую акцию. Значит, надо ловить момент, – наклонился он к уху Скосырева, – и, выдавая себя за ярого сторонника демократии, захватить власть.
– Ты с ума сошел! – подскочил от неожиданности Скосырев. – Где? Какую власть?! На кой черт она нужна?!
– Власть нужна ради власти, – снисходительно пояснил Костин. – А когда она есть, то можно употребить ее во благо народа.
– Но ведь для этого нужны люди, нужна партия, которая стала бы пудрить народу мозги, обещая всеобщее счастье и безмерное благоденствие.
– Ты, парень, не ерничай, – осадил его Костин. – Я все продумал. Если умело сыграть на неприятии Парижем, Лондоном и Мадридом диктатур как таковых, то можно, – проглотил он застрявший в горле комок и впервые назвал страну, на которую имел виды, – то можно стать президентом Андорры.
– Все ясно, – потрогал его лоб Скосырев. – Ты рехнулся.
– Ничего я не рехнулся! – сердито оттолкнул его Костин. – Просто я хорошо изучил ситуацию, сложившуюся в карликовых государствах. Сан-Марино или Монако нам не подходят, а вот Андорра – в самый раз. У них там сейчас что-то вроде революции. Сами свои дела они решить не могут, значит, самое время появиться человеку со стороны. Ну, как, скажем, когда-то в нашей горемычной Руси: ведь тоже увязли в междоусобицах, и в конце концов наши пращуры позвали варягов – приидите, мол, и володейте. Вот и пришли к нам Рюрик, Трувор да Синеус. Как ты знаешь, последним Рюриковичем был Иван Грозный, а потом пошла такая чертовщина, что в конце концов на русском престоле стали сидеть немцы: и в трех Александрах, и в двух Николаях русской крови было не больше одной тридцать второй, а то и одной шестьдесят четвертой.
– Валька, – жалостливо посмотрел на него Скосырев, – уж не себя ли ты видишь президентом Андорры?
– Себя! – вскинул голову Костин. – Но теперь, когда на мне ответственность не только за жену, но и за ее капитал, президентом я вижу тебя!
– Мне-то это зачем? – пожал плечами Скосырев. – Революции, перевороты, восстания – это не для меня. Я человек мирный, мне достаточно того, что я всегда сыт, пьян и нос в табаке.
– Дурак ты, Борька! – крякнул от досады Костин. – Неужели жизнь подле бабьего подола – это то, ради чего Господь произвел тебя на белый свет?! Окститесь, штабс-капитан Скосырев, оглянитесь вокруг! Европа бурлит, без основательной перетряски не обойтись ни одному государству, и под бабьим подолом отсидеться не удастся никому. Так что лучше: ждать, когда тебе дадут по башке, или наносить удары самому? Президент страны, пусть даже карликовой, это фигура, это член Лиги наций, это человек, который на заседаниях Ассамблеи простым поднятием руки может влиять на судьбы любой из сорока четырех стран, объединенных под знаменем этой международной организации. Я уж не говорю о том, что ездить в Барселону, чтобы продать очередной подарок леди Херрд, больше не придется.
Все мог стерпеть Борька, все, но только не правду, которая, как правильно говорят, глаза режет! От обиды он чуть было не дал Костину по морде, но быстро остыл, сказав себе, что, в принципе, Валька прав. Ведь если серьезно задуматься, то что он такое? Жиголо – это мягко сказано. Наемный партнер по танцам за дополнительную плату может стать одноразовым партнером в постели – и в этом нет ничего предосудительного, такая у него работа. Но сидеть на шее стареющей женщины, да еще при этом ее обирать – это совсем другое. И то, что толкнул его на этот путь Костин, ничего не значит: Валентину нужно было получить согласие леди Херрд на его брак с Мэри и с помощью Бориса он этого добился.
Костин теперь богач, и то, что он уезжает в Канаду, не предложив при этом последовать за ним и другу, говорит о том, что на друга ему наплевать. А ведь друг-то остается в подвешенном состоянии! Пока леди Херрд жива, здорова и пока акции полковника Херрда котируются на рынке, ее любовник не пропадет. А ну как произойдет такой же обвал, как в Штатах, когда чуть ли не в течение дня пол-Америки стали нищими, что тогда? Куда бежать, что делать?
О другом сценарии не хочется и думать: не приведи бог, старушка заболеет и отправится вслед за своим мужем, наследницей-то будет Мэри, а барон Скосырев останется ни с чем. Какое-то время можно протянуть на деньги, вырученные от продажи побрякушек. А что потом? Профессии никакой, крыши над головой нет, паспорт липовый…
Поразмыслив над всем этим, Борис решил, что план Костина – не самое плохое дело, и, чем черт не шутит, быть может, действительно, удастся, хотя бы частично, воплотить его в жизнь. Тем более, что в Европе начался такой раскардаш, что великим державам не до какой-то крошечной Андорры. Раз Гитлер начал требовать пересмотра Версальских соглашений, добром это не закончится: ни Англия, ни Франция пересматривать итоги Первой мировой войны ни за что не согласятся, а это значит война. И куда тогда деваться липовому барону Скосыреву? На чьей стороне воевать? «Нет уж, дудки, – решил он, – я на своем веку навоевался!»
После этого, не мудрствуя лукаво, Борис протянул Костину руку и бросил, как о чем-то само собой разумеющемся:
– Я твое предложение принимаю.
– Давно бы так, – обрадованно улыбнулся Костин. – Как ты понимаешь, мне на весь этот балаган наплевать, тем более что жить я буду на другом берегу Атлантики. Но уж очень хороший план, я его вынашивал не один год и продумал во всех деталях. Вот увидишь, – азартно потер он руки, – если не отступишься от него ни на шаг, эта невиданная авантюра удастся. Честное слово, мне даже жаль, что все это пройдет без меня. Но я буду за тобой следить, – шутливо погрозил он пальцем, – и когда о твоем президентстве раструбят газеты, я примчусь, чтобы поздравить тебя с успехом.
Эх, если бы Борис остался верен слову и, действительно, не отступал ни шаг от тщательно разработанного плана, как знать, быть может, его судьба сложилась бы совсем иначе!
– И что же мне теперь делать? – озабоченно поинтересовался Борис.
– Для начала – смотаться в Париж. Ты своего поручика нашел?
– Нашел.
– И что? Он в наше дело входит?
– И он, и десятка два сослуживцев, которым надоело крутить баранки таксомоторов, готовы на любую авантюру.
– Та-а-к, – снова потер руки Костин, – двадцать бывших фронтовиков, которым сам черт не брат, это немало.
– Но у них нет оружия, – начал было Скосырев.
– И не надо, – посмотрел на него, как на больного, Костин. – Никакого оружия нам не надо, мы же не собираемся штурмовать столицу Андорры – крошечный городок Андорра-ла-Вьеха. Да и сопротивляться там некому: как ни странно это звучит, но в Андорре нет армии.
– Тогда зачем нам Гостев? – пожал плечами Скосырев.
– А затем, что он и его ребята станут ядром Демократической партии Андорры! – победно воскликнул Костин. – Я же говорил: все надо делать под личиной демократических преобразований. Ты пойми, – начал горячиться Костин, – народом Андорры уже несколько сотен лет правят князья-соправители: когда-то король, а теперь президент – со стороны Франции, и епископ Урхельский – со стороны Испании. Чушь, бред и абсурд! И хотя вся Андорра – это 48 километров с севера на юг, и 32 – с запада на восток, и на этом пятачке живет 3 тысячи овец, 25 тысяч коз и 30 тысяч горцев, мириться с этим положением нельзя: на дворе двадцатый век, а одна из стран Европы не имеет собственного правительства. Я уж не говорю о конституции, парламенте, всеобщих выборах и тому подобном.
– Три тысячи овец?! – брезгливо сощурился Борис. – Всего-то? Неужели эти овцы, козы и бараны стоят того, чтобы устраивать там революцию?
– Стоят! – подскочил Костин. – Козы – это прикрытие, они бродят по лугам, а чуть ниже, под травой, немалые запасы меди, свинца, угля и железной руды. Я уж не говорю о чистых реках, красивых водопадах и круглый год не тающем снеге – а это, как ты понимаешь, туризм, лыжные трассы, горные курорты и как следствие бо-о-льшие деньги. Да, чуть было не забыл, – хлопнул он себя по лбу, – ты к своему цирюльнику, как бишь его зовут, еще ходишь?
– К Рамосу? Конечно, хожу. А что?
– Если мне не изменяет память, он говорил, что в Сантандере прекрасная библиотека.
– Говорил. И что с того?
– Запишись в эту библиотеку, – наставительно поднял палец Костин. – То, что тебе рассказал, это практически все, что я знаю об Андорре. А этого мало: об истории Андорры, ее народе, обычаях и тому подобном ты должен знать все, думаю, что это можно узнать из старинных книг. Представляешь, в какой восторг придут андоррцы, если на каком-нибудь митинге ты поведаешь им о том, что, мол, в таком-то веке простые пастухи отстояли свою независимость, прогнав со своих земель вооруженных до зубов испанцев, мавров или французов!
– Хорошо, – согласно кивнул Борис, – в Париж я съезжу, партию сколочу, в библиотеку запишусь… Но ведь на все это нужны деньги и, как я понимаю, немалые, а у меня такой суммы нет.
– Этого вопроса я ждал, – ехидно усмехнулся Костин. – Не тушуйся, Борька, и о деньгах не думай, – похлопал он его по плечу. – Когда я начал обдумывать план захвата власти, то первое, что сделал, это создал неприкосновенный фонд революции – так я его назвал. Не волнуйся, эти деньги чистые, – прижал он руки к сердцу, заметив немой вопрос Скосырева, – в основном это те тугрики, которые мы не отдали большевикам в Бизерте… И еще кое-где, – добавил он после паузы. – Держи-ка, брат, чековую книжку, – протянул он увесистый конверт. – В банке я все формальности уладил, так что отныне эти деньги твои. Если позволишь, дам всего один совет: трать деньги разумно, и только на то, ради чего создан фонд. К делу, господин штабс-капитан! – наполнил он бокалы. – Труба зовет!
– Мы их победим! – вскочил с загоревшимися глазами Скосырев и порывисто обнял друга.
Потом он метнулся в прихожую, схватил свою неизменную трость и, как шашкой, с размаху, рассек ею воздух!
– Ну, Валька, берегись! – хватил он полный бокал коньяка и шандарахнул его об пол. – Если что не так, если твой план – полное дерьмо и сочинил ты его от безделья, я тебя найду и отделаю вот этой тростью. Ты меня в такое втравил, что вся моя жизнь теперь пойдет либо вверх, либо наперекосяк. Но в одном я уверен точно, – хохотнул Борис, – скучно мне не будет, и за бабий подол я цепляться не стану.
Глава ХII
Пароход на Монреаль отходил из гавани Ливерпуля, поэтому наши герои перебрались в Англию и некоторое время жили в имении леди Херрд. Как ни странно, оказавшись дома, леди Херрд почему-то загрустила и буквально не находила себе места: она то неприкаянно бродила по комнатам, то слонялась по саду, то часами, не раскрывая книгу, сидела в кресле-качалке, забыв при этом – чего никогда с ней не было раньше – снять очки.
– Что это с ней? – недоумевал Борис. – Уж не заболела ли?
– Хандра, – успокаивал его Костин. – Самая обыкновенная хандра, или, как говорят англичане, сплин.
– Климат, что ли, такой? В Испании-то ни о каком сплине не было и речи. Встряхнуть бы ее как-нибудь, но как? – разводил он руками.
– Ну, ты даешь, – усмехался Костин. – Никогда не поверю, чтобы барон Скосырев не знал, как встряхнуть женщину!
– Да знаю я, все знаю, – досадливо отмахивался Борис. – Но она меня к себе не подпускает, и в спальне даже запирается на ключ.
– Это что-то новенькое, – терялся в догадках Костин, – и на мою тещу совсем не похоже, – не мог не съязвить он. – А может, ты ее чем-нибудь обидел? Или, не дай бог, проболтался насчет Андорры? – сузил глаза Костин.
– Ты знаешь, – не обращая внимания на реплики Костина, начал издалека Борис, – я иногда думаю, что у женщин есть какой-то особый орган, который позволяет им предчувствовать несчастья, беды, расставания и другие удары судьбы. Что касается расставания с Мэри, то здесь все ясно, и впадать в хандру из-за того, что ее приемная дочь будет жить на другом берегу Атлантики, леди Херрд не станет. Значит, здесь что-то другое. Но что? Ты не поверишь, но иногда я ловлю на себе какой-то странный взгляд: то ли она меня жалеет, то ли сострадает, то ли чему-то сочувствует, то ли, – проглотил он неожиданно застрявший комок, – за что-то прощает. А иногда, – наклонился он к самому уху Костина, – смотрит, как… как рентгеновский аппарат: просвечивает насквозь, все видит, все знает и все понимает.
– Ну, это ты хватил, – успокоил его Костин. – Какой там аппарат? Просто моя теща понимает, что годы уходят, что ее время прошло, что она стареет, что… Слушай! – хлопнул он себя по лбу. – А может быть, у нее этот… как его… ну, в определенном возрасте это бывает у всех женщин?
– Климакс?
– Ну да, климакс. Своди-ка ты ее к врачу, пусть ее обследуют по женской части.
– Нет, – решительно замотал головой Борис, – это неудобно, этого я не могу.
– Тогда уговори ее вернуться в Испанию, и вся недолга.
– А вот в этом ты прав! – вскочил Борис. – В Испанию надо возвращаться, причем в любом случае: стартовать-то мне придется оттуда. Да и к Рамосу пора наведаться, – потеребил он заметно отросшие усы. – Про библиотеку я не забыл, – успокоил он привставшего Костина. – Но библиотека библиотекой, она может и подождать. А вот усы! Усы – это, брат, святое. Усы требуют ухода и внимания, тем более если они – усики, – деланно серьезно продолжал Борис. – Не зря же Козьма Прутков говорил, что волосы и ногти даны человеку для того, чтобы с приятностью заниматься легкой работой.
– Слава тебе, господи, – перекрестился Костин. – Вот таким ты мне нравишься! Роль барона Скосырева идет тебе куда больше, чем амплуа задумчивого страдальца.
– Ладно, проехали, – махнул рукой Скосырев и деловито направился к воротам. – Ты извини, но мне надо съездить в город: мелькнула одна мыслишка.
– Что еще за мыслишка?
– Я все думал, какую бы свинью подложить тебе на прощанье, – явно скоморошествуя, бросил Борис, – и вот наконец придумал. Ты еще меня попомнишь! – шутливо погрозил он своей тростью. – Так попомнишь, что плакать захочется!
Что он там придумал, до некоторых пор одному Богу было ведомо. Но то, что уже на пароходе Валентину Костину пришлось не то что плакать, а рыдать и рваться к леерам, чтобы выброситься за борт и плыть к берегам, омываемым холодной Балтикой, – это факт. И если бы не неожиданная цепкость Мэри, неизвестно, чем бы закончилось знакомство Костина с этой самой «свиньей».
А пока что молодые укладывали чемоданы, паковали сундуки и корзины, не забывая при этом о картинах, хрустале и фарфоре: Мэри хотела, чтобы ее окружали вещи, к которым она привыкла с детства. Леди Херрд не возражала, говоря, что ей все это не нужно, и если Мэри хочет, то может забрать не только картины и гобелены, но даже стены, на которых они висят.
Надо сказать, что к этому времени Борису удалось достучаться до сердца своей Ламорес и помочь ей победить тот чертов сплин, который не по дням, а по часам превращал ее в унылую старуху. Как оказалось, причиной навалившейся на нее хандры было пребывание в доме полковника Херрда, в который много лет назад она вошла молоденькой воспитательницей его и своей осиротевшей племянницы.
– Не знаю, почему, но этот дом в Ковентри мне всегда казался обреченным, – комкая мокрый от слез платочек, объясняла она Борису. – И хотя с виду он крепок, но я ощущаю себя в нем, как моя незабвенная Кэтрин в каюте тонущего «Титаника». Вот увидишь, – округлила она глаза, – рано или поздно дом рухнет и, как «Титаник», похоронит под своими обломками его обитателей. Потому-то я здесь и не живу, – шипяще продолжала она. – Боюсь. Боюсь быть раздавленной стенами и потолками. Давай отсюда уедем, а? – как-то по-детски попросила она. – И побыстрее, а я то сойду с ума.
– Ламорес, моя дорогая Ламорес, – задыхаясь от жалости, гладил ее седеющие волосы Борис. – Ты не бойся, пожалуйста, ничего не бойся. Я же с тобой? С тобой. А это значит, что рядом с тобой надежный защитник. Не забывай, что я шесть лет провел в окопах, а фронтовой опыт чего-то да стоит. Конечно же, мы отсюда уедем, проводим молодых и тут же уедем. К тому же в Сантандере меня ждут дела, интересные, скажу тебе, дела! – растрепал он ее прическу. – Послушай, Ламорес, а не сходить ли тебе к парикмахеру и постричься как-нибудь иначе? – неожиданно предложил он. – А то все пучок да пучок. Я обратил внимание, что парижанки стали носить короткие прически, а мы чем хуже, а?! И вообще, я где-то слышал, что женщине, чтобы исправить скверное настроение, надо вымыть голову и сделать маникюр. Я не прав?
– Прав! – обняла его леди Херрд. – Ты, мой дорогой барон, как всегда, прав.
– Тогда – к делу! – вскочил Борис. – Одевайся – и махнем в город!
– Как «прямо сейчас»? – растерянно привстала леди Херрд. – Я не готова.
– Чего там, не готова?! – потащил ее к автомобилю Борис. – Все лошади, а их в этом авто сорок голов, бензином накормлены и рвутся в бой. Я тебя отвезу, и, пока над твоей прической будут колдовать цирюльники, пробегусь по магазинам: мне нужен хороший чемодан и кое-что, что можно положить в этот чемодан.
– Чемодан? Зачем? – удивилась леди Херрд.
– Ты только не проболтайся, – заговорщически зашептал Борис, – я хочу сделать Валентину прощальный подарок, да такой, что в далекой Канаде ему будет что вспомнить.
– Да? – загорелась леди Херрд. – А что это? Ты скажи, я не проболтаюсь.
– Э-э, нет! – решительно возразил Борис. – Знаю я вас, женщин: под большим секретом, мол, между нами, женщинами, расскажешь все Мэри, та не выдержит и поделится секретом с мужем. А у меня будет условие, – азартно продолжал Борис, – чемодан можно будет открыть не раньше, как пароход выйдет в нейтральные воды.
– Ну, а я-то, я-то когда узнаю, что в этом чемодане? – сгорала от любопытства леди Херрд.
– Ты? – деланно безразлично переспросил Борис. – Ты об этом узнаешь из первого же письма, которое Мэри пришлет из Канады.
– Нет, дорогой, я до этого не доживу, – заломила руки леди Херрд, – я умру от любопытства.
– Если это и произойдет, то с новой прической ты будешь выглядеть лучше живых, – мрачновато пошутил Борис и чуть ли не силой усадил леди Херрд в машину.
Когда часа через три они вернулись в имение, то и прислуга, и Валентин, и Мэри на какое-то время потеряли дар речи: из машины вышла совершенно незнакомая, коротко стриженая платиновая блондинка и, что больше всего их поразило, в ярко-лиловом платье выше колен и в серебристых туфельках на высоченных шпильках. Она так легко и так стремительно, пританцовывая на ходу, дефилировала по залитой оранжевым закатом дорожке, что все буквально оцепенели от этого захватывающего зрелища.
А незнакомка, игриво помахивая изящной сумочкой и обворожительно улыбаясь, как ни в чем не бывало и почему-то по-хозяйски направилась к двери, бросив на ходу прислуге:
– Чемоданы, пакеты и коробки – в мою гардеробную.
И только тут до всех дошло: да ведь это хозяйка, это помолодевшая на двадцать лет леди Херрд! А когда следом за ней появился победно улыбающийся барон Скосырев, всем стало ясно, что без него феноменальное перерождение леди Херрд не обошлось.
– Так-то вот, – подмигнул он Костину. – А ты говоришь, сплин. Плевать мы хотели на этот сплин.
– Да-а, Борька, – восхищенно развел руками Костин, – беру свои слова обратно. Что-что, а как встряхнуть женщину, ты знаешь.
– И не только женщину, – делано-надменно изрек Скосырев. – Ты еще в этом убедишься, – бросил он многозначительный взгляд на перетянутый ремнями коричневый чемодан.
Что касается Мэри, то она ни на шаг не отходила от тетушки, пытаясь понять, как ей удалось так решительно преобразиться, каким волшебным средством она воспользовалась.
– Средством? – усмехнулась леди Херрд. – Ты удивишься, но это средство хорошо известно и называется оно – любовь, – поделилась она секретом. – Ни один парикмахер, ни один портной, ни один ювелир не могут сделать того, что может сделать любовь. Запомни, девочка, запомни на всю жизнь: преобразить женщину, дать ей вторую молодость и вторую жизнь может любовь, и только любовь. Все остальное – ерунда! Ни новая прическа, ни новое платье не зажгут глаза тем сиянием, а весь облик тем внутренним светом, которые исходят от влюбленной и, что немаловажно, любимой женщины. Так что, – потрепала она племянницу по щеке, – скажу тебе как бывшая учительница: любовь первична, любовь – это бриллиант, а все остальное – прически, платья и тому подобное, вторично, а проще говоря, оправа. Ну, что такое сама по себе оправа? Ничто. А бриллиант – он всегда бриллиант, даже и без оправы. Я не очень умничаю? – несколько стесняясь, поинтересовалась она. – Ты что-нибудь поняла?
– Да, моя любимая тетушка и моя дорогая мама, – обняла ее Мэри, – я все поняла. И вообще, – как-то по-девчоночьи хлюпнула она носом, – ты так много для меня сделала. Я буду вечно, я буду всегда тебя помнить. Я тебе обещаю, – залилась Мэри слезами, – что первую же дочку назову твоим именем, и будет у тебя маленькая, толстенькая внученька Полли. Ты согласна?
– Господи, боже правый, – залилась счастливыми слезами леди Херрд, – что ты такое говоришь? Толстенькая ли, худенькая ли, но моя кровиночка. Ведь моя же, моя! – в голос зашлась она. – Мы с твоей мамой родные сестры, а это значит, что мы с тобой, а значит, и с крохотулькой Полли одного роду-племени.
Когда в комнату вошел Борис, а за ним и Костин, то, ничего не понимая, от неожиданности оба прилипли к стене. Леди Херрд и ее племянница сидели на диване и, рыдая в голос, заливались горючими слезами. При этом они нежно обнимались, а их глаза сияли. Когда Костин открыл было рот, чтобы узнать, что случилось, обе плакальщицы так энергично замахали руками, что мужчины бочком, бочком и выскользнули за дверь.
– Ты что-нибудь понимаешь? – растерянно спросил Костин.
– Конечно, – хлопнул его по плечу Борис. – Тут и понимать нечего. Им хорошо, и плачут они от счастья. Ты когда-нибудь от счастья плакал?
– Нет, – коротко бросил Костин.
– Стало быть, ты никогда не был по-настоящему счастлив, – подвел итог Борис. – И я тебе в этом завидую, – сделал он неожиданный вывод, – так как это значит, что все у тебя впереди – и истинное счастье, и ликующая радость, и очищающие душу слезы.
Чего-чего, а слез Костин пролил немало. Это случилось на борту идущего в Канаду парохода, когда, уточнив у капитана, вышли ли они в нейтральные воды и, дрожа от нетерпения, он открыл перетянутый ремнями коричневый чемодан.
– Посмотрим, посмотрим, – приговаривал он, – чего насовал туда Борька. Тяжеленький, однако, чемоданчик-то, уж не книги ли в его утробе? Ба, да это патефон! – воскликнул он, доставая отливающее перламутром последнее достижение техники. – Мэри, – позвал он жену, – ты только посмотри, что презентовал нам барон!
– Патефон! – захлопала в ладоши Мэри. – И какой красивый! А пластинки есть? – заглянула она в чемодан.
– Есть, – развернул Валентин довольно плотную коробку. – Раз, два, три… пять штук! – воскликнул он.
– И что на них? – сгорала от любопытства Мэри. – Наверное, одни фокстроты? А танго есть?
Когда Валентин достал из конверта пластинку и прочитал, что на ней записано, то не сразу поверил своим глазам. Подумав, что ошибся, выхватил вторую, потом третью, четвертую, пятую.
– Ты знаешь, – проглотив откуда-то взявшийся комок, просипел он, – это не фокстроты.
– Неужели танго?! – прижала руки к сердцу Мэри. – Ох, это танго! Я обожаю танго.
– Вынужден тебя разочаровать, – почему-то с металлом в голосе бросил Валентин. – Это не танго. Это Шаляпин.
– Шаляпин?! – изумилась Мэри. – Великий Шаляпин?! И на всех пластинках – он?
– Да, – с проснувшейся гордостью ответил Валентин, – на всех пластинках великий русский певец Федор Иванович Шаляпин. Между прочим, я несколько раз слушал его в Мариинке – это такой театр в Петербурге, – пояснил он. – Какой это был Годунов! А Мефистофель, а Олоферн, а Дон Кихот! А как он пел романсы! Я уж не говорю о русских песнях, одна «Дубинушка» чего стоит!
– Ставь! Быстрее ставь первую попавшуюся пластинку, и будем слушать, – предвкушая наслаждение, забралась с ногами в кресло Мэри.
Пока слушали арии из опер, все шло нормально, и Валентин даже пытался что-то мурлыкать себе под нос. Но когда зазвучали романсы, в душе Костина что-то оборвалось, и он перестал что-либо понимать. Он не чувствовал ни рук, ни ног, он не знал, дышит ли, видит ли что-нибудь. Он стал туго натянутой струной, нет, не струной, а мембраной, звучащей в унисон с голосом Шаляпина:
- Не искуша-а-й меня без ну-у-жды
- Возвра-а-том нежности твое-ей:
- Разочаро-о-ванно-ому чужды
- Все обольщен-е-енья пре-ежних дней!
Каюта была довольно просторной, но в какой-то момент Валентину показалось, что рокочущему басу в этих стенах тесно, что они не выдержат могучих раскатов органоподобных рулад и начнут трескаться по швам. Валентин вскочил, рывком открыл иллюминатор – и, перекрывая крики чаек, шаляпинский бас вырвался на просторы Атлантики:
- Уж я не верю увере-е-ньям,
- Уж я не ве-е-рую в любо-овь
- И не-е могу преда-а-ться вно-овь
- Раз измени-и-ившим сновиде-е-е-ньям.
– Нет, не могу! – решительно снял пластинку Костин. – Всю душу выворачивает.
– А о чем он поет? – поинтересовалась Мэри. – Я же по-русски не понимаю. Чувствую, что о чем-то грустном, но о чем?
– О любви, моя дорогая. О давным-давно прошедшей любви и о том, что другой такой больше не будет.
– Это – не о нас, – шаловливо улыбнулась Мэри. – А что-нибудь о любви взаимной, красивой и возвышенной он поет?
– А как же! – выхватил Валентин новую пластинку и, не глядя, поставил на диск патефона.
Лучше бы он этого не делал! Как только зазвучали первые аккорды сопровождения, Валентин рухнул в кресло и, чуть ли не наяву увидев расплывшуюся в ухмылке довольную физиономию Скосырева, не в силах сдержать слезы, закрыл глаза руками. А всю каюту, да что там каюту, всю вселенную наполнил бархатисто-печальный голос Шаляпина:
- Не-е пробужда-а-й воспо-о-минаний
- Минувших дне-е-й, минувших дне-е-й,
- Не возроди-и-ишь былых жела-а-а-ний
- В душе-е мое-ей, в душ-е-е моей.
Валентин вспомнил, как они пели этот романс вместе с Борькой, как заливали нахлынувшую печаль отборным коньяком, как обещали друг другу, где бы они ни были, несмотря ни на что, воспоминания пробуждать и никогда не забывать своей горемычной России.
Пока Шаляпин просил не устремлять на него взор опасный и не увлекать мечтой любви, Валентин еще как-то держался, но безоговорочно сдался, когда зазвучало грустно-наставительное:
- Одна-а-жды сча-а-стьте в жи-и-зни этой
- Вкушаем мы-ы, вкушаем мы,
- Святым огне-ем любви со-о-греты,
- Оживлены-ы, ожи-и-влены.
«Однажды! – билась пульсирующая мысль в висок Костина. – Все бывает однажды! Одна истинная любовь, один верный друг, одна настоящая Родина. А что есть у меня, любовь? Любовь, можно сказать, есть. Это немало. Но ни друга, ни, тем более, Родины нет».
– Эх, жизнь моя, жестянка, – сквозь рыдания воскликнул он по-русски, – напиться бы сейчас… и набить кому-нибудь морду!
– Что-что? – встревоженно вскочила Мэри. – Ты что-что просил? Может, воды? Господи, да ты плачешь! – всплеснула она руками. – Почему? Неужели так расстроил Шаляпин? Да ну его, – сняла она пластинку, – я же говорила, что лучше бы барон подарил нам танго или, в крайнем случае, фокстроты.
– Глупышка ты, Мэри, – успокаивающе гладил ее по голове Костин, – фокстроты – это музыка для ног, а романсы – для души. Когда же поет Шаляпин – это… это, как целебные ванны, как какой-нибудь Баден-Баден: вся короста – с души долой, и ты становишься будто новорожденным и чистым, ну, как после исповеди и причастия.
Больше они романсы не слушали. Но Валентин, тщательно уложив в чемодан патефон и пластинки, пообещал открывать его почаще, и уж что-что, а Новый-то год обязательно встречать с Шаляпиным.
Тем временем помолодевшая на двадцать лет леди Херрд и ее элегантный спутник барон Скосырев решили наверстать упущенное и, если так можно выразиться, ударились в светскую жизнь. Их видели в самых дорогих ресторанах, на выставках модных художников, на громких премьерах в «Ковент-Гардене» и «Глобусе», на регатах в Хенли, на теннисных состязаниях в Уимблдоне, на аукционах «Кристис» и «Сотбис» и, уж конечно, на скачках в Аскоте, Ньюмаркете и Донкастере.
Леди Херрд в лошадях ничего не понимала, зато хорошо разбиралась в шляпках. А ведь во все времена главным для светских леди было не выиграть в тотализаторе, а продемонстрировать специально для этого случая изготовленную шляпку. Каких здесь только не было шляп – и в виде цветочной клумбы, и аэроплана, и линкора, и каких-то абстрактных нагромождений! Леди Херрд сразила светских львиц сделанными из цветов главными часами Лондона, причем с двигавшимися стрелками.
А вот барон Скосырев в лошадях разбирался и угадывал победителей чуть ли не каждого заезда. Деньги потекли рекой! Именно это позволило ему, не ставя в известность леди Херрд, нанять фотографа из «Дейли телеграф»: шустрый парнишка по имени Джозеф за приличное вознаграждение должен был по возможности незаметно следовать за бароном и, как только увидит барона рядом с известными всей Англии личностями, немедленно делать снимок. За публикацию в «Дейли телеграф» – отдельный гонорар.
Не прошло и недели, как в «Дейли телеграф» появилась серия фотографий министра иностранных дел Энтони Идена, пожимавшего руки посетителям Британского музея. Наиболее удачным был снимок, на котором Иден одной рукой приобнимает, а другой пожимает руку изящно одетому джентльмену с тросточкой под мышкой. Еще через неделю в этой же газете читатели увидели бывшего министра колоний, а потом министра финансов Уинстона Черчилля, который в эти годы занимался журналистикой, рядом с уже известным джентльменом, помогавшим будущему премьеру раскурить сигару.
Но вершиной успеха был фоторепортаж в «Санди Таймс», посвященный открытию сезона скачек на ипподроме в Аскоте. На переднем плане, неистово болея за любимую лошадь, размахивал своим неизменным цилиндром Невилл Чемберлен, тот самый Чемберлен, который в качестве премьер-министра Великобритании в скором времени подпишет с Гитлером печально известное Мюнхенское соглашение. За спиной Чемберлена горделиво улыбалась платиновая блондинка с цветочными часами на голове, а чуть правее, в унисон с премьер-министром, размахивал шляпой все тот же аристократично выглядящий джентльмен.
Надо ли говорить, что Борис скупил чуть ли не весь тираж этих газет, мудро решив, что со временем они станут хорошей визитной карточкой. Щедро расплатившись с фотографом, Борис начал было собираться на Хенлейскую гребную регату, где должны были выйти на старт традиционно соперничающие «восьмерки» из Оксфорда и Кембриджа, как вдруг Джозеф, хитро прищурившись, но как бы между прочим, спросил:
– Разве сэр не идет сегодня в «Глобус»?
– В «Глобус»? – переспросил Скосырев. – Нет, я там был на прошлой неделе.
– Но ведь сегодня там премьера.
– Да? И что дают коллеги Шекспира?
– «Макбета».
– О господи! Премьер «Макбета» я видел десятка три.
– Но сегодня премьера премьер, – делая вид, что собирается уходить, бросил фотограф. – На спектакле будет король.
– Как «король»?! – чуть не подпрыгнул Скосырев. – Что же ты, балда, молчишь?!
– Если считать мою непрерывную болтовню молчанием, – усмехнулся Джозеф, – то что же тогда?…
– Стоп! – перебил его Скосырев. – Ты там будешь?
– Всенепременно, у меня задание редакции.
– Тогда регату – к чертям собачьим! – азартно потер руки Борис. – За снимок, где я буду рядом с Эдуардом VIII, тройной гонорар. По рукам?
– Сделаем, – хмыкнул Джозеф. – Но деньги вперед! Хотя бы половину, – смягчился он.
Как там было дальше, одному Богу ведомо, но на следующий день все газеты Англии вышли с отчетами о премьере «Макбета» и о посещении театра королем Эдуардом VIII. Среди множества фотографий, на которых король то аплодирует, то задумчиво смотрит на сцену, то пожимает руки исполнителям главных ролей, одной из самых удачных была та, на которой король оживленно беседует с почтительно склонившим голову джентльменом в безупречно сидящем фраке и с неизменной тросточкой под мышкой.
Надо сказать, что для короля этот репортаж был одним из последних. Дело в том, что очень скоро ему придется отречься от престола в пользу своего брата – Георга VI. И дело не только в том, что он решит жениться на разведенной американке, главная причина была в его прогерманских настроениях. Когда его, теперь всего лишь как герцога Виндзорского, отправят губернатором на Багамские острова, по дороге он остановится в Португалии.
К тому времени Англия уже будет в состоянии войны с Германией. В Лиссабоне герцога перехватит бригадефюрер СС Вальтер Шелленберг и от имени Гитлера предложит ему прилететь в Берлин и выступить по радио с обращением к английскому народу прекратить борьбу и заключить мир с Германией. За эту радиопередачу бывшему королю предлагался неслыханный даже для королей гонорар в 50 миллионов швейцарских франков. Но осуществить этот план Шелленбергу не удалось – слишком плотно герцог охранялся агентами английской секретной службы.
Немалую роль этот снимок сыграет и в судьбе Бориса Скосырева. Но это будет потом, через несколько чрезвычайно насыщенных и совершенно фантасмагорических лет. А пока что он продолжал наслаждаться жизнью светского бонвивана…
Так продолжалось до наступления холодной и дождливой осени. Леди Херрд все чаще стала простужаться, в имение зачастили врачи – и Борис поставил вопрос ребром.
– Вот что, моя дорогая Ламорес, – расхаживая по спальне, озабоченно начал он, – я понимаю, что Англия твоя родина, что здесь у тебя много друзей, что здесь могилы твоих предков и все такое прочее. Но я не хочу, чтобы ты раньше времени встретилась с этими предками. Я этого просто не допущу! – со свистом рассек он тростью воздух. – Поэтому давай-ка, дорогая, уложим чемоданы и отправимся в Сантандер. Там возле тебя я не видел ни одного врача, а тут они бродят толпами.
– Я и сама об этом подумывала, – вздохнула леди Херрд, – но не решалась сказать.
– Почему? – удивился Борис.
– Боялась тебя огорчить, – обезоруживающе улыбнулась леди Херрд. – Уж очень ладно ты вписался в лондонскую жизнь, мне казалось, что от всех этих скачек, театров и регат тебя не оторвать.
– А вот и оторвать! – снова рубанул воздух Скосырев. – Запросто! Ради тебя готов вместо виски пить херес и вместо овсянки есть мясо по-испански, – хохотнул он.
– Раз ты идешь на такие жертвы, – подхватила леди Херрд, – то я готова, – вскочила она с дивана и закружила барона в ликующем вальсе. – В Испанию, в Испанию, в Испанию, – напевала она в ритме танца. – Туда, где нас ждет солнце, море и… и что-нибудь еще, но обязательно восхитительное, бесподобное и прекрасное.
Как тут не вспомнить хорошо известную пословицу: «Человек предполагает, а Бог располагает»! Знали бы наши герои, что кроме солнца и моря их ждет такое «что-нибудь», что и в голову не могло прийти, то, хоть и на овсянке, но сидели бы себе пусть в туманном, зато стабильном и безопасном Альбионе. А впрочем, как знать, ведь Борис уже вкусил той отравы, которой поделился с ним Костин, и рвался вперед, рвался туда, где его ждала известность, слава и, самое главное, власть.
Глава ХIII
Первое, что сделал Скосырев по приезде в Сантандер, отправился к своему цирюльнику. Каково же было его удивление, когда вместо неизменно учтивого и подобострастно любезного Рамоса он встретил надменно горделивого и даже высокомерно чванливого человечка в какой-то странной униформе.
– Рамос, мой дорогой Рамос, – изумился Борис, – что с вами случилось? В какой орден вы вступили? Или правительство велело всем парикмахерам облачиться в эту петушиную униформу?
– Извольте взять свои слова обратно! – вспыхнул парикмахер. – Не думайте, что если вы барон, то вам все позволено. Я этого не потерплю, и оскорблять Испанскую фалангу не позволю!
– Хорошо, – развел руками Скосырев, памятуя о том, что когда он сядет в кресло, то будет абсолютно беспомощен, а Рамос вооружен бритвой, ножницами и всякого рода щипчиками, – беру свои слова обратно. Но я в самом деле вас не узнаю. И о какой фаланге вы говорите?
– Об Испанской фаланге, – выставил вперед ножку Рамос, – так называется наша фашистская партия.
– Да-а? – еще больше изумился Скосырев. – В Испании есть фашистская партия, такая же, как в Италии и Германии?
– Именно так! – вскинул голову Рамос. – Идеалы у нас такие же, но если в Италии и Германии наши братья уже у власти, то нам еще предстоит ее завоевать. И мы ее завоюем! – взмахнул он сверкнувшими, как стилет, ножницами.
– Ну-ну, – миролюбиво кивнул Борис, – может, и завоюете. А стричься-то будем? И побриться бы неплохо, – провел он рукой по отросшей щетине. – Я ведь недавно из Англии: так вот там никто не умеет стричь и брить так превосходно, как вы, – решил он сыграть на профессиональной гордости Рамоса. – Я уж не говорю об одеколонах: никому и в голову не придет поинтересоваться, на свидание я иду, на скачки или в парламент – льют на голову, что под руку попадет, и вся недолга.
Надо было видеть, как будто дождем смыло заносчивость и кичливость новообращенного фашиста Рамоса и как в нем проснулась профессиональная гордость испанского цирюльника. Он снова стал услужливым и обходительным, снова разливался соловьем, рассказывая о пополнениях своей коллекции ароматов, снова не стриг и брил, а священнодействовал, порхая вокруг клиента.
– Ну вот, совсем другое дело, – щедро расплачиваясь с Рамосом, удовлетворенно разглядывал себя в зеркало Скосырев. – А теперь вопрос на засыпку, – лукаво прищурился он, – есть ли в вашей коллекции такой аромат, который бы вызвал ко мне интерес?…
– Все понял, – усмехнулся Рамос, – у вас новая дама.
– И не одна, – решил подыграть ему Скосырев. – Но все эти дамы… как бы вам сказать… не очень дамы.
– Неужто школьницы? – опешил Рамос.
– Еще чего! – крякнул от досады Борис. – Эти дамы – синие чулки. Они очень умные, много чего знают, но ходят в поношенных кофтах и терпеть не могут денди, мачо и разных других красавцев.
– Это что-то новенькое. Господин барон, – сочувственно посмотрел на него Рамос, – вам надо есть больше фруктов. Английская овсянка действует на вас дурно.
– А вот и не дурно! – хохотнул Борис. – Именно в Англии я решил заняться самообразованием и записаться в библиотеку.
– О-о, господин барон не пожалеет, – восхищенно подхватил Рамос. – В Сантандере такая библиотека, такая библиотека! И хотя она всего лишь филиал еще более знаменитой Барселонской библиотеки, записавшись в нашу, вы сможете наведываться в Барселону и пользоваться тамошним абонементом.
– Так вот, – продолжал Скосырев, – я хочу, чтобы библиотечные дамы встретили меня, как своего человека, чтобы давали даже те книги, которые берегут как зеницу ока и никому не выдают. Такого рода приворотный аромат найдется?
– Для вас, господин барон, найдется, – открыл заветный шкафчик Рамос. – Тем более, что цель у вас благородная. Вот, – достал он восьмигранный флакончик, – вам этот аромат не понравится, так как в нем есть что-то от запаха пыли и давно не раскрываемых фолиантов, но для библиотеки – это то, что надо. Уверяю вас, господин барон, что успех вам обеспечен: библиотечные дамы будут от вас без ума.
Как в воду смотрел новообращенный фашист и настоящий кудесник своего дела Франциско Рамос. Стоило скромно одетому, интеллигентной внешности, синьору появиться на пороге библиотеки, как вокруг него образовался водоворот из женщин в очках и поношенных кофтах. А когда он представился не бароном, а санкт-петербургским доцентом, изучающим историю карликовых государств, библиотечные дамы пришли в неописуемый восторг: оказывается, никто и никогда не интересовался историей Сан-Марино, Лихтенштейна, Монако или Андорры. То, что они нашли в подвалах, полуподвалах и других потаенных уголках, составило целую гору старинных книг, толстенных фолиантов и даже пергаментных рукописей.
Так в жизни Бориса Скосырев начался совершенно новый этап, смириться с которым пришлось и леди Херрд, и его многочисленным друзьям. В библиотеке Борис пропадал с утра до вечера, а возвращаясь домой, поражал леди Херрд необычной просветленностью и беспощадным самобичеванием.
– Какой же я был дурак! – казнился он. – Балбес, медный лоб и олух царя небесного! Что я знал, нет, ты мне скажи, – взывал он к леди Херрд, – ну что я знал? Ведь я же ничего, кроме биржевых сводок и отчетов о скачках, не читал. А в книгах, да еще старинных, мудрость человечества. Ты не поверишь, но сейчас у меня будто короста с глаз спадает: весь мир я вижу по-другому. Даже мое окопное прошлое предстало совсем в другом виде. Ведь о войне-то я судил с позиций своего полка, а что творилось за нашей спиной – в Генштабах Петрограда, Вены или Берлина, ни я, ни мои однополчане понятия не имели. А большевики, эти изгои рода человеческого, откуда они взялись, и почему эти лапотники победили нас, офицерскую касту России? Как это ни странно, но всерьез этим вопросом никто не задавался. А я ответ на эти вопросы нашел: правда, для этого пришлось перелистать кучу немецких, английских, французских и русских газет того времени.
– Но зачем тебе это нужно? – робко интересовалась леди Херрд. – Все это в далеком прошлом.
– Чтобы строить будущее, надо знать прошлое, – изрек он где-то вычитанную мысль. – Честно говоря, на документы, касающиеся России, я наткнулся случайно, а когда вчитался, уже не мог оторваться. Но, по большому счету, меня интересует совсем другое…Что именно, я расскажу, – после паузы добавил он, – но несколько позже, когда… когда нам придется на некоторое время расстаться.
– Это еще почему? – насторожилась леди Херрд. – Надеюсь, тебя не соблазнила испанка в поношенной кофте?
– Какая еще испанка?! – отмахнулся Борис. – Сейчас мне не до этого. Ты пойми, Ламорес, пойми самое главное: так жить дальше нельзя, и даже если захочется, то не получится. Европа сейчас, как перегретый паровой котел, еще чуть-чуть огня – и все взорвется: взорвется и полетит к чертовой матери! А огня подбросят диктаторы – это может быть Гитлер, Муссолини, а может, и Сталин. В Испании, кстати говоря, тоже не все ладно: если фашистом стал даже мой цирюльник, то можно представить, что творится в среде предпринимателей, торговцев и, возможно, в армии. Короче говоря, как писал пролетарский вождь Ленин: низы не могут, а верхи не хотят жить по-старому. И этой ситуацией нельзя не воспользоваться! – многообещающе закончил он.
– Вот уж не думала, что барон Скосырев станет цитировать Ленина, – усмехнулась леди Херрд. – Ты же с ним воевал и чуть было не победил.
– Если бы, – вздохнул Борис. – То-то и оно, что не победил… Но зато буквально вчера я узнал такое, – оживился он, – о чем не имеет понятия ни один москвич: я знаю родословную Ленина, а она до сих пор является одной из величайших тайн Советского Союза.
И Борис рассказал леди Херрд о найденных им в хранилищах библиотеки документах. Оказывается, происхождением Ульянова-Ленина газетчики начали интересоваться еще в начале века, но и он сам, и окружавшие его большевики это тщательно скрывали. Кто он такой, этот Ульянов-Ленин? Какого он роду-племени? Какая у него профессия? На какие деньги он живет сам и содержит партию? Почему он желает зла России и мечтает об ее поражении в войне? Почему среди его окружения так много евреев? Эти и многие другие вопросы задавали не только журналисты и политические деятели, но и те, кого называют обывателями.
Одно время ходил слух, что Владимир Ульянов чуть ли не столбовой дворянин, то есть дворянин старинного рода. Это далеко не так. Дворянского звания был удостоен его отец – Илья Николаевич Ульянов, который был директором народных училищ Симбирской губернии: право на это ему давало награждение орденом Святого Владимира III степени. Кстати говоря, новоиспеченный дворянин был не совсем русским: его бабка по фамилии Смирнова была калмычкой. Отсюда и несколько монголоидный тип лица его сына, будущего вождя революции Владимира Ульянова-Ленина.
Но если бы только это! Как оказалось, в жилах его матери, Марии Александровны, вообще нет ни капли русской крови. По материнской линии она полушведка-полунемка, в ее роду были перчаточник и золотых дел мастер по фамилии Орстед, шляпочники Новелиус и Борг, их жены из рода Нюман и Арнберг. А вот дочь прибалтийского немца Иоаганна Гросшопфа, Анна, вышла замуж за врача, Александра Дмитриевича Бланка. От этого-то брака и родилась Мария Бланк – впоследствии жена Ильи Николаевича Ульянова и мать будущего борца с царизмом.
Самое странное, что в собственноручно составленной родословной Мария Александровна ни слова не пишет о своем отце: кто он, что он, какого роду-племени – об этом ни слова.
Когда Скосырев, так и не выяснив, кто же он такой, Александр Бланк, уже готов был сдаться и сказал об этом синьоре в когда-то синей кофте, та как-то загадочно улыбнулась и кивком пригласила неотразимо привлекательного читателя в комнату с огромным сейфом.
– Здесь то, что до поры до времени не подлежит оглашению, – заметно волнуясь, не просто сказала, а изрекла она. – Здесь – государственные тайны, разглашение которых может привести к непоправимым последствиям. Поэтому без указания из Барселоны я не имею права выдавать ни одного документа, – поджав вчера еще бесцветные, а сегодня хоть и немного, но все же подкрашенные губы, закончила она.
Борис все понял и, внутренне усмехнувшись, мол, и ты туда же, полез вроде бы за носовым платком, а сам незаметно приоткрыл флакончик, предназначенный отнюдь не для библиотечных дам. Когда синьора оказалась в облаке, состоящем из аромата ливанского кедра, настоянном на горном эдельвейсе, у нее задрожали колени и, не вытирая жарко повлажневших глаз, она решилась на должностное преступление.
– Но ведь синьор не журналист, – неожиданно мелодичным голосом продолжала она, – и с этим документом в редакцию не побежит?
– Ни в коем случае! – прижал руку к сердцу Борис. – Наука, которую я представляю, – решил он врать до конца, – не терпит никакой огласки.
Тут же загремели ключи, и через мгновение пребывавшая в счастливом волнении синьора и готовая отдать обаятельному читателю не только бумаги из сейфа, но и то, что свято хранила долгих тридцать лет, раскрыла стальные дверцы и протянула Скосыреву убористо исписанный листочек.
То, что прочитал Борис, повергло его в неподдельное изумление! Оказывается, деда Ленина звали вовсе не Александр, а Израиль, а еще точнее – Сруль. Родился он на Украине, в простой мещанской семье. Его отец был мудрым человеком и понимал, что детям надо дать образование, поэтому отправил Сруля и его брата Абеля в Житомир, где они поступили в уездное училище. Учились братья хорошо и, конечно же, мечтали о получении высшего образования, но мешала так называемая черта оседлости: ни в один университет евреев, вернее, иудеев, не принимали.
И тогда их дядя, известный столичный купец, посоветовал отречься от своей веры и принять христианство. Поразмышляв и испросив согласие отца, братья крестились и стали правоверными христианами, а проще говоря, выкрестами.
Этого было достаточно, чтобы устранить какие бы то ни было препятствия для поступления в университет. Но Сруль, а теперь Александр Бланк, решил стать врачом и поступил в Медико-хирургическую академию. По окончании академии Александр Бланк некоторое время работал земским врачом в Смоленской губернии, а потом в петербургской больнице Святой Марии Магдалины.
– Теперь ты понимаешь, – горячился Борис, бегая вокруг леди Херрд, – почему в окружении Ленина было так много евреев! Рыбак рыбака видит издалека – тут уж, как говорится, из песни слова не выкинешь. И то, что во время войны его называли немецким шпионом, тоже понятно: он же на четверть немец. Эх, не поймали его тогда! – досадливо вздохнул он. – Будь Керенский порасторопнее и поставь Ленина к стенке, вся наша жизнь сложилась бы иначе. Я уж не говорю о России: никакой Совдепии не было бы и в помине… А-а, ладно, – махнул он рукой, – проехали. Хотя, конечно, жаль, что все это нельзя опубликовать, скажем, в той же «Правде» – вот было бы переполоху!
Для леди Херрд все эти изыскания, переживания, рассуждения и рассказы были чем-то вроде китайской грамоты: ни о Ленине, ни, тем более, о Керенском она понятия не имела, и уж совсем не могла постигнуть ликования своего барона, когда тот обнаружил следы еврейской крови в большевистском вожде. А когда через пару дней Борис ворвался в номер с криком: «И не было никакого опломбированного вагона!» – она даже испугалась.
– Какого вагона? О чем ты? Мой дорогой, – успокаивающе погладила она его по голове, – не кажется ли тебе, что ты слишком увлекся, что все эти библиотечные изыскания не идут тебе на пользу? Ну, что с того, что ты станешь чуточку умнее? Ведь изменить-то ты ничего не сможешь.
– Смогу! – даже притопнул Борис. – Еще как смогу! Ты в этом убедишься, причем очень скоро, – многозначительно пообещал он.
Всю следующую неделю Борис посвятил изучению истории Андорры. Каким же было его удивление, когда в одной из исторических хроник он нашел упоминание о том, что поселения людей на территории нынешней Андорры относятся еще к ледниковому периоду. Со временем эти люди стали называть себя иберийцами и из горных пещер переселились в небольшие деревеньки: именно там были найдены осколки керамики, поделки из камня, наконечники стрел и даже бронзовые изделия.
Но самое удивительное, эти мирные пастухи стали союзниками Ганнибала и оказали ему неоценимую помощь во время 2-й Пунической войны. Дело в том, что основные силы Ганнибала, в том числе и боевые слоны, были сосредоточены на юге Испании, и чтобы добраться до Рима, надо было перевалить через неприступные Пиренеи. Римляне были уверены, что ни 60-тысячному войску, ни тем более слонам это не по силам: на узких горных тропах и двум солдатам не разойтись. Но иберийцы знали другие, неизвестные римлянам, тропы и по ним провели и воинов, и слонов Ганнибала.
Впереди был еще более сложный переход через Альпы, но проводники нашли верный путь – и армия Ганнибала совершенно неожиданно для римлян появилась в Северной Италии. Победоносные сражения следовали одно за другим: сперва у реки Тицины, потом у Тразименского озера и, наконец, впоследствии вошедшая во все учебники битва при Каннах.
Правда, несколько позже римляне перехватили инициативу и нанесли Ганнибалу ряд поражений, в результате чего он вынужден был бежать в Сирию. Угрожая войной, Рим потребовал его выдачи. Но Ганнибал врагам не дался и принял яд.
Что касается иберийских пастухов, то досталось по первое число и им. Для начала римляне прошлись по их территории огнем и мечом, а потом установили там не только свои законы, но и свой язык: за разговоры на иберийском наречии можно было потерять не только язык, причем в самом прямом смысле слова, но и голову. К тому же Рим коренным образом изменил весь уклад жизни горного народа, заставив иберийцев не пасти стада овец, а заниматься хлебопашеством.
С каким же облегчением вздохнули иберийцы, когда после падения Римской империи они попали под власть германского племени вестготов, потом и арабов: им снова разрешили заниматься скотоводством.
Так продолжалось до конца VIII века нашей эры. В те годы король франков, а впоследствии император Карл Великий не на живот, а на смерть бился с арабами. В решающей битве, когда чаша весов могла склониться и в ту, и в другую сторону, совершенно неожиданно с гор, подобно лавине, скатились вооруженные чем попало пастухи, ударили во фланг и загнали арабов в пропасти.
Карл Великий был не только благородным, но и благодарным человеком: собрав у своего шатра участников битвы, он объявил все 788 человек суверенным народом под своим покровительством. Страна была названа Андоррой и включена в состав Урхельского епископства. Больше того, Карл Великий освободил андоррцев от каких бы то ни было налогов, но, так как был известным любителем рыбных блюд, символическую дань выплачивать обязал: две форели в год из самой чистой в Пиренеях реки Валиры.
Несколько позже император пошел еще дальше и в 819 году даровал жителям Андорры Великую хартию свободы (эта дата официально считается годом основания Андорры), о которой после распада империи урхельские епископы забыли и превратили Андорру в свое феодальное владение. Дань, которую они собирали с андоррцев, а их тогда жило в горах чуть более двух тысяч человек, была по-прежнему символической: 4 окорока, 40 хлебов и 10 бочонков вина в год. Кроме того, на Рождество они должны были угощать праздничным обедом своего сюзерена и сто его гостей.
Такая идиллия продолжалась недолго: владелец обширных земель в Южной Франции граф де Фуа решил присоединить к себе и Андорру. Урхельские епископы попробовали сопротивляться, но граф разбил их наголову, а собор разрушил. Но так как епископов поддерживал папа, а ссориться с ним граф не хотел, то в 1278 году враждующие стороны подписали так называемый «Акт-пареаж», то есть соглашение, по которому в Андорре устанавливалось совместное правление епископа Урхельского и графа де Фуа, проще говоря, один правил по четным годам, а другой – по нечетным.
Самое удивительное, что епископы – с испанской стороны, и потомки графа – с французской, еще в начале ХV века не возражали против создания в Андорре выборного органа, так называемого Совета земли, который вскоре превратился в Генеральный совет, то есть фактически первый в Европе парламент, состоящий из 24 депутатов, избираемых на четыре года.
Но когда грянула Французская революция, все полетело вверх тормашками. Республиканская Франция тут же отказалась от своих соправительских функций в Андорре, а когда началась война с Испанией, двинула свои войска в Долины – так иногда называли Андорру. И лишь Наполеон специальным декретом объявил о восстановлении в Андорре действия «Акт-пареажа», то есть о совместном правлении главы Франции и урхельского епископа.
Так продолжалось до середины ХIХ века, когда в Долинах была принята конституция, по которой власть епископа свелась к чисто церковным делам, а страной стал управлять Генеральный совет, по-прежнему состоящий из 24 выборных депутатов. Правда, выбирал их не народ, а так называемые синдики, то есть князьки местных общин. Забавно, что одним из первых законов, принятых членами Генерального совета, был закон, запрещающий… строительство дорог.
Логика депутатов была до наивности проста: так как в Андорре нет армии, то защитить страну от внешнего вторжения, особенно в случае войны между Францией и Испанией, может только полное отсутствие дорог: по тропам ни конница, ни артиллерия не пройдут. Еще более забавным было решение изолировать Андорру от тлетворного влияния буржуазной цивилизации: когда французские власти решили связать страну с внешним миром и начали прокладывать в Долины телеграфную линию, андоррцы этому так бурно воспротивились, что много лет спиливали по ночам столбы и срезали провода. И лишь когда французы додумались вкапывать бетонные столбы, да такие, что по ним не вскарабкаешься наверх и не дотянешься до проводов, андоррцы сдались.
Но это было только началом конца патриархальной жизни горцев. Следом за телеграфом пришел телефон, потом – электричество, за ними – почтовая связь, а когда страну разрезала сквозная магистраль, связывающая Испанию и Францию, стало ясно, что европейской цивилизации пастухам не избежать.
А уж когда геологи нашли железную руду, уголь, медь и свинец, когда в горах появились какие-то странные люди в вязаных шапочках на голове и с рюкзаками за спиной, которые только и делали, что ахали и вздыхали, любуясь снежными вершинами и бурными водопадами, андоррцы поняли, что началась новая эра и что из всего этого надо извлекать выгоду, тем более что эти люди не скупились на восторги. Вот как описывал свои впечатления от посещения Андорры один знатный путешественник:
«Нагромождения скал, горные леса по склонам, могучие хребты с яркими шапками снега на вершинах, бурные горные речки и шумные водопады, кристально чистые ледниковые озера в глубоких котловинах горных цирков, самая дикость, первозданность природы этих мест – вот что, прежде всего, запечатлевается у попавшего сюда человека.
Высоко в горах более полугода всегда бело. Когда взойдешь на перевал Энвалира, всюду перед тобой слепящая яркость снежного покрова. Везде снег, снег и снег… А летом, в июне-августе, когда почти весь снег в горах растает, оставаясь лишь на самых высоких макушках гор, обширные площади склонов превращаются в зеленые, ярко раскрашенные альпийскими цветами луга.
Жители Андорры – добродушный, гостеприимный и трудолюбивый народ, выносливый и крепкий. Жизнь в суровых условиях гор веками заставляла людей бороться за свое существование, ведя в течение многих столетий натуральное хозяйство, чтобы в условиях почти полной изолированности от внешнего мира обеспечивать себя всем необходимым. Для них характерно чувство взаимной поддержки и помощи».
Еще более эмоционально выразил свои впечатления от посещения Андорры французский писатель Альфонс Додэ, который, если так можно выразиться, воскликнул на страницах одной из газет: «Как, вы не были в Андорре? Какой же вы тогда путешественник?!»
Туристы туристами, дороги дорогами, но вот газеты…Газеты-то и сыграли роковую роль в истории Андорры начала 1930-х годов. Именно из газет жители Долин узнали, что во всех странах Европы давным-давно введено всеобщее избирательное право и лишь в одной Андорре депутатов Генерального совета избирают синдики, а проще говоря, князьки местных общин.
Нашлись люди, которые знали, что такое митинги, забастовки и даже восстания. В горах начались народные волнения, тут же получившие название Андоррской революции. Судебные власти вынуждены были распустить Генеральный совет и назначить новые выборы. А до этого была проведена реформа избирательной системы: право голоса получили все мужчины старше 25 лет. Избранный по новым правилам Генеральный совет немедленно отменил существовавшие еще с феодальных времен законы и предоставил андоррцам ряд льгот в пользовании лугами, водами и лесами.
Но народ на этом не успокоился, он хотел большего! Он хотел бесплатного образования, бесплатного медицинского обслуживания, хотел владеть природными ресурсами, хотел отмены частной собственности на землю: она должна принадлежать либо государству, либо местным общинам, которые будут сдавать ее в аренду. Справедливости ради надо сказать, что с этими требованиями были согласны далеко не все – и это привело к стычкам, свалкам и столкновениям.
– Все ясно, – закрывая дверь библиотеки, сказал сам себе Борис. – Андоррцы так жить больше не хотят. И они правы! Значит, им нужно дать горячие лозунги, сплотить вокруг партии и… назвать имя вождя. Вожди сейчас в моде, так что потомки пастухов меня поймут. А не поймут, так объясним! – рубанул он тростью по ближайшему кусту. – С помощью тех же вождей.
И тут Борис оглянулся, чтобы сказать спасибо так много давшей ему библиотеке. Оглянулся – и чуть было не кинулся обратно! Прижавшись к зеркально чистому стеклу окна, стояла изящно сложенная и довольно прилично одетая синьора, теперь уже с тщательно подведенными глазами и ярко накрашенными губами. К груди («Черт возьми, к прекрасной груди! – отметил Борис. – И эти губы ей очень идут. Эх, если бы не дела! – сдвинул он на затылок шляпу. – Ведь конфетка, к тому же явно не надкушенная!») она прижимала розу, ту самую алую розу, которую минуту назад ей подарил благодарный читатель и которую она получила впервые в жизни.
Она сохранит эту розу и будет хранить ее засушенные лепестки даже тогда, когда вспомнить Бориса Скосырева будет уже некому.
Глава ХIV
Не прошло и недели, как Борис засобирался в Париж.
– Я ненадолго, – пряча глаза, объяснял он леди Херрд. – У фронтового друга проблемы со здоровьем: мало того, что попал в больницу, так еще и диагноз какой-то сложный.
– Ай-ай-ай! – не на шутку разволновалась леди Херрд. – Конечно, поезжай. Обратись к самым хорошим врачам, – наставительно продолжала она, – и денег на это святое дело не жалей. Тебе помочь?
– Да не мешало бы, – глубокомысленно изрек Борис. – Мало ли что? Вдруг понадобится операция, а это удовольствие дорогое.
– Конечно, конечно, – достала она чековую книжку.
Когда Борис взглянул на пятизначную цифру, то чуть не зашелся от радости.
«Ого, – внутренне присвистнул он, – этого хватит на всю нашу ораву».
– Я мигом! – схватил он шляпу. – Надо заказать билет.
И хотя чувство смущения его не покидало, и он готов был сквозь землю провалиться, в душе Борис ликовал – ведь он приступал к реализации так долго вынашиваемого плана. Дело в том, что Борис беспардонно врал: никакой фронтовой друг в больницу не попадал и никакая операция ему не грозила. Все было проще простого: накануне он позвонил поручику Гостеву, спросил, готов ли тот распрощаться с ливреей, а его сослуживцы – с баранками такси, и, получив утвердительный ответ, сказал, что на днях приедет в Париж, и как быть дальше, они решат на месте.
Каково же было удивление Скосырева, когда, выйдя из вагона, он увидел двадцать стоящих во фрунт молодцов. А когда они вздернули подбородки и дружно отчеканили: «Здравия желаем, господин штабс-капитан!», Борис непроизвольно взял под козырек и дал команду: «Вольно!»
«Вот ведь как глубоко сидит муштра, – досадливо подумал он. – Неужели до конца дней будем жить по казарменным привычкам? А впрочем, ничего плохого в этом нет, офицер – он и в Африке офицер!»
Потом он прошел вдоль строя, и Гостев, на правах старшего, представил каждого офицера. По старой привычке Скосырев отметил, что все они подтянуты, животы не отпустили, одеты вполне прилично и, что самое главное, глаза горят ожиданием чего-то захватывающе необычного.
«Ну, прямо, как перед атакой, – подумал Борис, – когда не знаешь, ты ли поднимешь на штык супостата, или супостат поднимет тебя».
– Господа, – стараясь быть таинственно-строгим, чуть ли не по слогам произнес Борис, – дело, которое нам предстоит, не подлежит огласке, поэтому для его обсуждения надо собраться в таком месте, где постороннее ухо нас не услышит.
– Может, в «Трактире», – подал кто-то голос, – под утро, после закрытия?
– Нет, – решительно возразил другой, – там полно полицейских, в любой момент могут нагрянуть и поинтересоваться, что это у нас за сборище.
– Тогда в гараже, – предложил начинающий лысеть поручик Маркин. – Ночью там ни души, один я сижу у ворот и гоняю вконец обнаглевших кошек.
– Кошек? – удивился Скосырев. – Они-то вам чем мешают?
– Подают дурной пример, – двусмысленно улыбнулся Маркин.
– То есть?…
– У них там что-то вроде места свиданий, бордель – одним словом. Так нет бы зажать в углу свою кошку и заниматься ею одной, эти мерзкие коты устраивают в гараже самую настоящую коллективную оргию. А как они при этом орут – с ума сойти можно! Овчарку бы на них хорошую, так нет же, хозяин жадится и денег на собаку не дает.
Все так и грохнули со смеху, но предложение назначить встречу в гараже одобрили. Не откладывая дела в долгий ящик, собраться решили той же ночью. Поручик Маркин как мог прибрался в гараже, вместо стульев расставил старые сиденья от машин, а вместо стола – бочку из-под бензина.
– Извините, – виновато улыбнулся он, но ни венских стульев, ни чиппендейловских диванов не нашлось, так что придется обойтись, чем бог послал.
– Ерунда, – благодарно пожал его руку Скосырев. – Крыша над головой есть, посторонних ушей нет, а все остальное не имеет значения. Будем считать, что к работе приступаем в полевых условиях.
Когда все расселись, Маркин попросил воздержаться от курения: вокруг, мол, полно бензина, масла и солярки – и тайная вечеря началась.
– Господа офицеры, – понизив голос, начал Скосырев, – мы приступаем к делу, которое, с одной стороны, требует конспирации, а с другой – полной открытости. Поэтому, обращаясь к вам «господа офицеры», я это делаю в последний раз. Отныне вы – члены Демократической партии Андорры, и называть мы друг друга будем не братьями, не коллегами и не товарищами, а соратниками. Напомню, что это старинное русское слово происходит от слова «рать», что значит «войско», боевая сила или ополчение, и соратники – это люди, которые ратуют, то есть борются за одно и то же дело.
Не удивляйтесь моим мудреным речам, – повысил голос Борис, заметив, что кто-то из соратников фыркнул, – все дело в том, что к этой встрече я серьезно готовился и не один месяц провел в библиотеке – вот и нахватался не совсем понятных господам окопникам слов, – обезоруживающе улыбнулся он.
– Ладно, шпарь дальше! – крикнули из дальнего угла. – Разберемся. А чего не поймем, спросим у Старшего соратника. Тебя-то, поди, так надо величать?
Чего угодно ожидал Скосырев, но только не такого поворота событий: с этой минуты кличка Старший соратник прилипла к нему намертво, и ни по имени, ни по званию его никто не называл.
– Ну, Старший так Старший, – согласно кивнул он. – А теперь я вам кое-что напомню. Все вы прошли и Первую мировую, и Гражданскую, поэтому хорошо знаете, как дурили народ большевики. А задумывались ли вы о том, почему большевики, будучи самой малочисленной партией, захватили власть? Да потому, что вбросили в народ понятные каждому мужику, простые и привлекательные лозунги. «Мир – народам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим!» Что может быть лучше?! Мир – это значит, штыки в землю и айда по домам. А то, что поражение в войне чревато колоссальными контрибуциями, никого не волновало. Насчет фабрик и земли – это прямо по пословице: «Не было ни гроша, да вдруг алтын», то есть прийти и чисто по-бандитски отобрать фабрики и поместья у истинных хозяев.
Отобрать-то отобрали, а что дальше? Теперь, как мы знаем, нет ни фабрик у рабочих, ни земли у крестьян. Но первое-то время они лозунгам верили, большевиков поддерживали и власть захватить помогли.
Как ни цинично это прозвучит, но в нашей операции я решил использовать опыт большевиков: то есть дать народу Андорры лозунги, за которыми они пойдут, поголовно вступят в созданную нами Демократическую партию и с восторгом отдадут ей власть. Если же учесть, что народ Андорры – это в основном крестьяне, а проще говоря, пастухи, живущие за счет животноводства, надо им пообещать бесплатные пастбища, помощь правительства в случае стихийных бедствий – а снегопады и проливные дожди – там обычное дело, не говоря уже о том, что они получат всеобщее избирательное право, смогут выбрать своего президента и перестанут зависеть от Франции и Испании одновременно.
Главные лозунги дня: «Хватит жить на задворках истории!» и «Богатства Андорры – каждому андоррцу!». А богатства, я вам скажу, там немалые: в земле Андорры большие запасы меди, никеля, свинца, угля, железа и многого другого.
– Это меняет дело! – раздался восторженный голос из заднего ряда. – Пардон, но по образованию я горный инженер, и знаю, о чем говорю. Надо привлечь иностранный капитал, создать мощный трест и начать добычу этого добра. Деньжищ можно заработа-ать! – закатил он глаза.
– А что, – подхватил еще кто-то, – соратник Зуев прав! В чем-чем, а в угле я разбираюсь: до войны работал на шахтах Донбасса. Если создать горный трест и научить пастухов орудовать отбойным молотком, только на одном угле можно сделать большие деньги. О никеле и меди вообще не говорю – и то и другое оторвут с руками.
– Вот видите, – победоносно улыбнулся Скосырев, – как многого можно добиться, если помочь андоррцам сделать свою страну промышленно развитой. А для этого она должна стать свободной, независимой, суверенной и, что очень важно, полноправным членом Лиги Наций: тогда мы будем под защитой этой могущественной организации, и нас не посмеет тронуть никакой прожорливый сосед. Итак! – повысил он голос. – Наша задача, не откладывая дела в долгий ящик, проникнуть в Андорру, добраться до каждого села, взбудоражить пастухов, заставить их выйти на митинги, разбить пару витрин, сжечь какой-нибудь дом и для острастки пострелять из ружей в воздух. После этого от имени Демократической партии Андорры я предложу им план выхода из кризиса и программу, которая приведет андоррцев к всеобщему благоденствию. Самое главное, – наставительно поднял он палец, – власть мы должны не захватить, а получить из рук народа, то есть все должно произойти демократическим путем. Только тогда ни республиканская Франция, ни Испания, в которой совсем недавно в результате революции была свергнута монархия, и власть захватил Народный фронт, нас не только не тронут, а даже поддержат.
– Поддержат ли? – усомнился кто-то. – Ведь раздавить нас – раз плюнуть.
– Не раздавят! – рубанул воздух тростью Борис. – Я все предусмотрел. Против таких деятелей у меня есть секретное оружие: все будут знать, что за нашей спиной одна из самых могущественных держав Европы.
– Это меняет дело! – снова закричали из заднего ряда.
– Тихо, – остановил их восторги Борис. – И не спрашивайте, что это за держава. Придет время, и каждый из вас получит документы, подтверждающие мои контакты с руководителями этой державы.
– Ура! – крикнул кто-то.
Его тут же поддержали остальные и грянули такое «Ура!», что блудливых кошек, которые терпеливо ожидали своего часа, будто ветром сдуло, и они навсегда покинули уютные и обжитые стены гаража.
Так началась беспрецедентная акция по восхождению Бориса Скосырева на трон Андорры. Да-да, я не оговорился, именно на трон, и это стает роковой ошибкой вчерашнего штабс-капитана по кличке Барон. А ведь не закружись у него голова от успехов и придерживайся он первоначального плана, как знать, быть может, вся эта история закончилась бы совсем иначе и имела бы благополучный финал.
А пока что члены немногочисленной Демократической партии Андорры пересекли границу и разбрелись по городкам и селам Долин. Одну из таких групп возглавил Виктор Гостев. Под видом представителей страховой компании они ходили от дома к дому и огорченно качали головами, видя, как бедно и во многом примитивно живут андоррцы. Потом они осторожно, как бы невзначай, заводили разговоры о том, что искренне удивлены долготерпением гордых и свободолюбивых горцев, что их ангельское непротивление и тихое всепрощение – с одной стороны, искренне восхищает, а с другой – вызывает недоумение. Ведь на дворе двадцатый век, век просвещения, свободы и демократии, а забывшие о своей природной гордости андоррцы прозябают в нищете и терпят унижения со стороны каких-то абсурдных соправителей, живущих за рубежами Долин.
Такие речи вызывали в людях праведный гнев.
– Но что мы можем? – вопрошали они. – Ни Францию, ни Испанию нам не одолеть. К тому же у нас нет армии.
– А никого одолевать не надо, – отвечал Гостев. – Время военных переворотов прошло. Теперь все решают не пушки, а избирательные бюллетени. Самый яркий пример – соседняя Испания: там без единого выстрела свергли короля Хуана III и установили республику.
– Но за кого голосовать? У нас нет ни партии, ни вождя, который бы повел народ к свободе, а страну к процветанию.
– Есть! В Андорре все есть! – восклицали страховщики. – Просто вы об этом не знаете. Уже несколько месяцев в стране действует Демократическая партия Андорры, и возглавляет ее офицер, прошедший две войны. Он, правда, русский, но делами Андорры болеет искренне.
– Русский? Что-то мы о таком не слышали.
– Еще услышите! Зовут его Борис Скосырев. Он, и только он, приведет вас к свободе и процветанию. Так что вступайте в Демократическую партию Андорры и голосуйте за Бориса Скосырева.
– В партию-то вступить можно, – чесали затылки пастухи. – Но голосовать за русского… Какой он хоть из себя-то?
– Какой? – торжествующе переспрашивал Гостев. – Сейчас увидите! – восклицал он и доставал то самое секретное оружие, о котором говорил Скосырев: это были английские газеты с фотографиями, сделанными то на теннисных кортах, то в театре, то на бегах.
– Где он тут, где? – разглядывая снимки, нетерпеливо спрашивали пастухи.
– А вы смотрите, – небрежно бросал теперь уже не страховщик, а агитатор Демократической партии Андорры Виктор Гостев, – может, и сами догадаетесь.
– Так-так-так… Это Иден, министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, – внимательно разглядывал снимок местный грамотей и одновременно глава местной общины. – Где это он? Ага, тут написано: в Британском музее. А что это за красавец, которому он так сердечно пожимает руку? Раньше я его в газетах не встречал.
– Стоп! – перебил его сосед. – Смотри сюда. И в этой газете на первом плане все тот же красавец, а рядом с ним… черт его знает, кто рядом с ним: какой-то лысый толстяк с сигарой в зубах.
– Деревня! – щелкнул его по лбу синдик, то есть глава общины. – Это же Черчилль. Он был у англичан министром финансов. А вот это скачки, – развернул он другую газету. – Ух ты-ы, какие лошади! – восхищенно зацокал он. – Ну и болельщики что надо: смотри, как размахивает шляпой этот джентльмен. О-о, я его узнаю, это Чемберлен, английский премьер-министр. А рядом с ним – опять тот же элегантный парень. Кто он? – обернулся синдик к Гостеву. – Английский лорд, министр или президент какой-нибудь страны?
– Пока еще не президент, но обязательно им будет, – глубокомысленно ответил Виктор. – А вы смотрите дальше, там есть снимки еще интереснее.
– Ага, это театр, – догадался знаток лошадей. – Видна часть сцены, ложа, и в ней… Господи боже, да это же король Англии Эдуард VIII! Как увлеченно он аплодирует! А рядом с ним так же увлеченно аплодирует все тот же то ли лорд, то ли президент. На соседнем снимке король уже не аплодирует, а о чем-то с ним беседует. Вот бы узнать, о чем? – мечтательно вздохнул он.
– О будущем Андорры, – как бы между прочим, бросил Гостев.
– Как? – чуть ли не в один голос воскликнули горцы. – Этот обаятельный джентльмен и есть тот русский, о котором вы говорили?
– Дошло наконец… Да, если вы пожелаете и на выборах отдадите за него свои голоса, то это – ваш будущий президент Борис Скосырев. Ну, а что за страна и что за люди его поддерживают, объяснять, я думаю, не надо: фотографии, которые вы видели, говорят сами за себя.
– Решено! – сверкнул глазами синдик. – В партию вступаем всей общиной.
– Это сколько же вас будет? – деловито достал блокнот Гостев.
– Считайте сами, – начал загибать пальцы синдик. – В общине шесть сел, в каждом селе по тридцать-сорок мужчин, так что человек двести наберется.