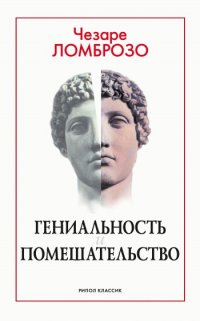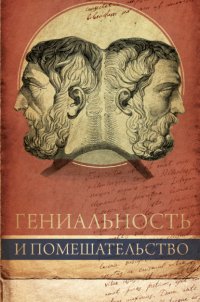Читать онлайн Анархисты бесплатно
- Все книги автора: Чезаре Ломброзо
Предисловие ко второму изданию
Я рад снова, уже более спокойно, вернуться к моему труду, чтобы пополнить его и, кстати, воспользоваться случаем ответить на те замечания, которые были сделаны по поводу этой книги почтенными известными критиками.
Такой, например, действительно авторитетный критик, как профессор Анджело Майорана, представил мне следующее возражение: «Выдаете скорее индивидуальную патологию, чем социальную. Ведь вы намерены были рассуждать о психиатрии социальной, а не индивидуальной. Так каким же образом случилось, что те люди, которые в иных условиях места и времени сделались бы грабителями, или пиратами, или разбойниками на больших дорогах, при настоящих условиях становятся анархистами в худшем смысле этого слова?»
Ответ на этот вопрос можно найти в главе 1 этой книги, где я старался охарактеризовать условия жизни современного общества, погрязшего во лжи и доходящего до безумия в фанатизме своей экономической борьбы.
Уже в эпоху варварства, да и во все исторические эпохи существовали люди психически больные, преступники с альтруистическими тенденциями, фанатики. Но сначала их фанатизм проявлялся на религиозной почве, а затем как участие в политических партиях и заговорах. Сначала мы видим их участниками крестовых походов, затем мятежниками, далее странствующими рыцарями, мучениками веры или неверия, как Бруно, Арнольдо ди Брешиа, или трибунами, как Марсель{1}, Кола ди Риенци, или цареубийцами, как Брут, Дамьен, Равальяк.
Но когда в настоящее время появляются такие фанатики альтруизма, в особенности среди народов латинской расы, то для их страсти не представляется иного выхода, кроме социальной или экономической борьбы, по крайней мере при нормальных условиях. В Германии или Англии возможен еще другой выход – в религиозном пиетизме, в кастовом духе или, во всяком случае, в святой и истинной благотворительности (см. главу 1).
На это указывал Ферреро. Он говорит так: «Религия – это самая удобная сфера для проявления фанатизма. И действительно, в Англии религия рекрутирует в свои ряды тысячи фанатиков, которые под самыми различными названиями, со всевозможными теориями лихорадочно стараются вырвать души из когтей порока. У них огромный простор для деятельности, для организации церквей, для дел благочестия, для проповедей и прочего. В странах же латинских, где сильна власть католической церкви, религия уже перестает быть этим громоотводом для фанатизма. Это не следствие отсутствия религиозности или скептицизма народа (который, кстати сказать, гораздо меньше овладевает человечеством, чем это обыкновенно принято думать, даже хотя бы и в стране Вольтера) – нет, это происходит благодаря твердой организации католической церкви. Католическая церковь – это огромное дисциплинарное учреждение, род войска, основанного на повиновении и послушании, где каждый член имеет свое место, свой образ жизни и поведения, свои мнения, регламентированные строжайшими законами. Активные фанатики, как Казерио, не могут в таких условиях чувствовать себя свободно, они всегда немного анархисты и склонны к восстаниям; среди же протестантских сект с их несколько анархистским характером, независимых, свободных, автономных как кланы варварских времен, они чувствуют себя прекрасно. В Англии Казерио нашел бы себе место в Армии Спасения генерала Бута{2}; там нашла бы выход его потребность деятельности и его фанатизм. Но в католической церкви он не нашел бы себе места, разве только в роли миссионера – это единственная область, где католическая церковь оставила еще некоторую независимость и свободу личной инициативы.
Другой выход для фанатизма, столь распространенный среди германских наций, и в особенности в Англии, но почти совершенно отсутствующий у наций латинских, – это филантропия. Лондон – это столица филантропов. Мужчины и женщины всех классов и общественных положений, богатые и бедные, образованные и невежественные, здоровые и ненормальные – упорно стремятся исцелить социальную болезнь и искоренить из общества одну из форм зла – бедность. Один заботится о детях, которых истязают их родители; другой о слепых стариках; третий об умалишенных, с которыми плохо обращаются в их лечебницах; четвертый – о заключенных и выпущенных из тюрьмы. И все они работают не покладая рук, издают журналы, произносят речи, организуют общества, и иногда им удается вызвать целую эпидемию сентиментализма и сильное движение в общественном мнении в сторону какой-либо гуманной реформы. Этот род деятельности может дать выход тому политическому фанатизму, который приводит при иных условиях к динамитным крушениям.
Но в странах латинских нельзя даже и повести агитацию в этом направлении; да она была бы бесполезной. Существует традиция, в силу которой благотворительность считается делом администрации и выполняется общественной властью или церковью, и эта традиция так сильна и глубока, что никому и в голову не приходит лично бороться с общественной нищетой.
Если родители в больших городах часто дурно обращаются с детьми, и хотя газеты неустанно будят общественное мнение, не надо, однако, забывать, что для предотвращения этого зла потребовалось бы издание закона, да и тот вряд ли стал бы применяться. Но ни у кого не является мысли основать частное общество, которых столько в Англии. Общества эти вовремя являются на помощь и вырывают из рук жестоких родителей их маленькие жертвы. Заметьте, что в Италии, как и во Франции, никогда не удается вызвать серьезный взрыв морального протеста против какого-нибудь из наиболее печальных общественных зол. Мы, итальянцы, почти не знаем общественных движений, которые в Англии беспрерывно следуют одно за другим. И вот, натуры деятельные, склонные к энтузиазму, должны искать другую сферу для приложения своей энергии.
Наконец, необходимо отметить, что как во Франции, так и в Италии некоторые специальные формы фанатизма, и, надо сказать, довольно сильные, несколько лет тому назад ослабли; упал прежде всего патриотический фанатизм, который увлекал столько умов и был, без сомнения, менее опасной формой, чем фанатизм анархический. В народных кругах в Италии патриотический дух, вызванный войной за независимость, угас благодаря главным образом ужасному экономическому кризису, переживаемому нами в последнее время. Во Франции патриотический подъем, вызванный несчастной войной 1870 года, вылившийся в такие разнообразные формы вплоть до буланжизма{3}, в данное время быстро падает вследствие отсутствия новых стимулов.
Из этого нельзя еще заключать, что энтузиасты легче впадают в фанатизм на социальной или экономической почве, потому что в этой сфере рамки более неопределенны, а относящиеся сюда теории могут обещать гораздо более того, что фактически является достижимым; или потому, наконец, что те миражи, которые анархистские партии развертывают перед глазами массы обездоленных, вселяли бы уверенность, что с исчезновением общественных несчастий прекратятся и все личные беды.
Если фанатизм религиозный, филантропический, патриотический является почти всегда безопасным, фанатизм политический или экономический всегда оставаться таковым не может. Политика всегда – борьба. Итак, если энергичный фанатик принимает участие и весь отдается этой борьбе, он доходит в ней до высшей степени экзальтации и находит в себе достаточно решимости, чтобы следовать своей любви или ненависти, даже предвидя на этом пути роковые последствия.
Но разве мы не видим также и религиозных фанатиков, которые становились убийцами в тех случаях, когда религия требовала страстной борьбы с враждебными сектами, как, например, это было во времена Реформации? То же самое роковым образом происходит и в политике, только с большей легкостью, так как политика всегда и всюду есть борьба идей, стремлений, интересов. Живой, страстный фанатик при малой культурности легко отождествляет политическую партию или учреждение с единичной личностью. Эта тенденция, такая сильная и столь свойственная человеческому духу, достигает еще больших размеров у эпилептиков или просто у субъектов, предрасположенных к насилию, о котором, благодаря нашему классическому образованию, создалось представление, как о поступке добродетельном и героическом».
С другой стороны, один журналист (по-видимому, сочувствующий моим взглядам) спрашивает меня: «Как могло случиться, что Казерио, невежественный крестьянин, мог додуматься и исполнить с таким хладнокровием, мужеством и настойчивостью преступление, от которого отшатнулся бы в ужасе самый закоренелый преступник? Все, что вы сказали, – очень хорошо, потому что, действительно, наследственная эпилепсия, пеллагра братьев и собственная экзальтированность могут обусловливать такую необычайную перемену. Но для профанов этого объяснения недостаточно, чтобы понять весь психологический процесс и основные причины».
Я могу ответить на это так. Профаны не знают, что психологией доказано следующее явление: страстный темперамент и эпилептическая и пеллагрическая наследственность, так сказать, предрасполагают ум к более крайним стремлениям, повышают, сказал бы я, уровень средней чувствительности, концентрируют, сосредоточивают чувства в одном определенном направлении и этим уничтожают огромное расстояние, отделяющее апатичного крестьянина от страстного сектанта, – не говоря уже о том, что чрезвычайно тяжелые условия жизни ломбардского крестьянина должны были заставить его горячо сочувствовать чужому горю, хотя бы проявление этого сочувствия было бы и неразумным. Я буквально упал духом, живя в одних с ними условиях в течение 30 лет, когда я изучал среди них пеллагру. На эти условия я не раз указывал, но, к сожалению, безрезультатно. Ужасное положение ломбардских крестьян вызвано самими помещиками, которые совершенно безнаказанно продают крестьянам испорченную кукурузу.
Конечно, те, которые не знают, в каких формах может проявляться наследственная эпилепсия и пеллагра, не поймут, какая связь существует между этими болезнями и политическим преступлением, и вместо того чтобы искать причину этого непонимания в собственном невежестве, найдут более удобным высмеять чуждую им (по невежеству) точку зрения.
Тем же, которые заявляют: «Преступление совершено, стало быть, преступник должен понести наказание», и при этом полагают, что экспертиза психиатров не должна смягчать вину преступников, мы можем ответить только следующее: мы исполняем наше дело, вы – ваше. Вы хотите вынести приговоры или даже вновь обратиться к пыткам? И поступайте так, но тогда уж не обращайтесь к нам и не требуйте, чтобы мы извращали факты ради вашего удобства.
Как в свое время осуждали и сжигали истеричек под видом ведьм или святых, так и теперь, разумеется, можно убить сумасшедшего, если проявление его безумия вызывает настолько сильное негодование, что для удовлетворения необходимо пролитие крови. Но это ни в коем случае не должно смущать психиатра, ставящего диагноз, точно так же как нельзя требовать от ботаника, чтобы он исключил из флоры аконит или цикуту, потому что они ядовиты и не так красивы, как роза и фиалка. Не может же, в самом деле, ботаник отнять у них их свойств как цветов потому, что они некрасивы и лишены аромата.
Что же касается тех лиц, которые не могут оправдать свое незнание тем, что они журналисты, а не ученые, и в то же время осмеливаются утверждать, что я в своей книге объявляю всех анархистов эпилептиками, я отвечу им следующее: их отзывы наводят меня на печальное размышление о том, как низко упала наука в Италии, если ученые, которые должны дать отзыв о популярной книге в несколько страниц, усматривают в ней как раз обратное тому, что там говорится! Чего же мы должны ждать от людей, так грубо ошибающихся в столь простом случае, если им в руки попадется вопрос более сложный?
Ч. Ломброзо.
Турин, 4 сентября 1894 г.
Глава 1. Позиция и причины анархии
В то время как государственный механизм все более и более дифференцируется, появление такой теории, как анархизм, теории, которая призывает к возвращению в первобытное состояние, ко временам до появления pater familias[1], – можно почесть только огромным шагом назад.
Однако как во всякой сказке есть доля правды, так и всякая теория, как бы нелепа она ни была, раз она имеет многочисленных последователей, должна содержать в себе элемент справедливости. Сама по себе мысль о возвращении в первобытное состояние не должна отталкивать нас от этой теории, потому что только само воплощенное тщеславие может утверждать, будто наши культурные стремления непременно всегда представляют шаг вперед. Наоборот, наш прогресс не может быть выражен постоянной восходящей кривой, а скорее зигзагообразной линией, которая часто бывает направлена как раз в противоположную сторону, и (вспомним «multa renascentur quae jam cecidert»[2]) поэтому поворот назад не всегда означает регресс. Возьмем хотя бы развод: это ведь до известной степени есть возвращение к доисторическим обычаям. Или гипнотические теории, которые выдвигают вновь вопрос о многих пророчествах и чудесах, отнесенных нами к детским вымыслам древнего мира. То же можно сказать и о теории монизма, о борьбе за существование, о праве наказания и даже, если хотите, о всеобщем избирательном праве и референдуме.
Впрочем, объяснение того, каким образом могла возникнуть эта странная партия, можно найти в расследовании современных условий нашей жизни. Если, например, мы спросим чиновника, получающего хороший оклад, или какого-нибудь крупного собственника с узким умом и еще более узкой духовной жизнью, в каком положении, по их мнению, находится современное общество, – они не задумываясь ответят: «Мы живем в лучшем из миров». Им живется хорошо, – кому же в самом деле может быть плохо? Но если тот же вопрос мы зададим людям с другим, более развитым моральным чувством, например Толстому, Рише, Серджи, Гюго, Золя, Нордау, Де Амичису, то они скажут, что наш fin de siècle[3] представляется им весьма плачевным.
Один из самых серьезных и способных к правлению людей латинской расы, Токвиль уже много лет назад заявил: «Наши правительства делают ошибку, опираясь исключительно наличные интересы и эгоистические страсти одного класса; когда правительство теряет свою популярность, тот самый класс, которому оно давало столько привилегий, начинает клеветать на него, вместо того чтобы спокойно наслаждаться полученными привилегиями.
Если вникнуть и разобраться, какое огромное многообразие в настоящее время существует не только среди наших законов, но и среди принципов законодательства, если рассмотреть, какие разнообразные формы уже приняло и продолжает принимать наше аграрное законодательство, то можно прийти к выводу, что мы вообще склонны отстаивать те учреждения, с которыми больше всего свыклись. Так и в области общественных организаций реформы должны быть гораздо многочисленнее, чем это вообще принято думать».
Прежде всего люди страдают от недостатков нашего экономического строя. Не потому чтобы условия жизни были тяжелее в настоящее время, чем они были во времена наших предков: голод, который уносил раньше тысячи жертв, теперь уносит только сотни, и одеваются наши рабочие лучше, чем любой придворный древнего мира. Но зато и потребности людей нашего времени возросли непропорционально доходу, а удовлетворять свои потребности, прибегая к обычной благотворительности, к монастырской милостыне, теперь стало для людей прямо невыносимо. Эта филантропия гораздо больше способна оскорбить природное человеческое достоинство, чем хоть сколько-нибудь удовлетворить человеческие нужды. Кооперации тоже не достигают своей цели уже потому, что сфера их деятельности крайне ограничена, а в деревнях они почти и вовсе не встречаются.
Пусть даже оба этих средства – кооперация и общественная благотворительность – будут действительны и достигнут своей цели, все равно ими нельзя было бы умиротворить страну, так как возникший на развалинах религиозного и патриотического фанатизма фанатизм социальный и экономический по существу так же слеп и необуздан, как всякий другой: он надвигается и рушит все на своем пути. На наших глазах падают идеалы религиозный и патриотический, исчезает национальный дух, рушатся основы семьи, падает корпоративный и кастовый дух.
Если мы примем во внимание, что человек не может жить без всякого идеала, то мы увидим, что люди поставили перед собой тот идеал, который более соответствовал их стремлениям выбиться из экономической зависимости, идеал более положительный – экономический. И этот идеал, вполне отвечая потребностям времени, не так легко может разрушиться под действием неумолимой логики современного научного анализа. И вся энергия, которая раньше была направлена в различные стороны, сосредоточилась теперь на достижении этого идеала. К этому надо прибавить, что однажды развенчанные идеалы (великодушие, терпимость, безропотное страдание) хотя уже и не могут бороться с новыми, все же обломки их препятствуют свободному движению вперед по намеченному пути. Над двумя социальными периодами – религиозным и феодальным – история действительно уже произнесла свой приговор, но время еще не изгладило их вредных последствий, от которых мы и по настоящее время страдаем. И теперь еще встречается во многих местах тщеславное властолюбие феодализма, его нетерпимость и религиозное ханжество. В настоящее же время к этому присоединилось еще владычество третьего сословия.
Власть церкви давно уже исчезла из наших правовых отношений; по крайней мере, так оно кажется на первый взгляд. Но попробуйте-ка затронуть какой-нибудь вопрос, так или иначе имеющий отношение к религии, хотя бы вопрос о разводе, или антисемитизме, или вопрос об упразднении церковных школ, и вы увидите, какую встретите оппозицию, само собой разумеется, под всякими благовидными предлогами: индивидуальная свобода, уважение к женщине, защита детей и т. д. и т. п.
Ведь и владычество военного сословия тоже, кажется, исчезло уж много веков тому назад; но стоит только затронуть эту струнку, как против вас поднимутся целые полчища, правда, не настоящей «публики», но людей из всевозможных официальных и полуофициальных сфер. А в бюджет государственных расходов входят миллионные статьи по содержанию сотен франтов, шалопаев и никому не нужных генералов.
Несчастным же учителям остаются гроши да бесполезные похвалы с обманчивыми посулами. Так маскируется государственное банкротство, а измученный крестьянин разоряется вконец от повышения цен на жизненные продукты.
В таком же положении находится и вопрос об идеалах патриотических и эстетических: правда, они забыты, но предложите французам отказаться от своей ненависти к итальянцам, англичанам – к половине мира; или попробуйте растолковать итальянцу среднего класса, до какой степени смешно его деланное поклонение классикам, которыми, по существу, он наслаждаться не может, которых он совершенно не понимает, а только приносит им в жертву лучшие годы жизни своих сыновей, – он не захочет вас и слушать или глубоко возмутится!
Четвертое сословие уже восстает против жажды наживы разного рода промышленных предпринимателей; оно протестует против превосходства трех остальных сословий и считает, что отношение между работой и прибылью трех высших классов и трудом и прибылью его – четвертого – слишком неравно.
Это чувствуется, об этом раздаются голоса и всего смелее там, где четвертое сословие находится в наименее стесненном положении и легче поэтому может оказать сопротивление. Несчастные индусы миллионами мрут от голода и не в силах реагировать на свое положение, так же как и наши ломбардцы, вымирающие от пеллагры. Наоборот, крестьяне Германии и Романьи, как и австралийские рабочие, находятся в сравнительно лучших экономических условиях, чем прочие, и поэтому у них больше сил, чтобы оказать сопротивление, и больше инициативы. Они протестуют и за тех, кому живется хуже, чем им. Анархисты оказываются далеко не самыми бедными, а многие даже богаты[4].
А потом, нельзя же отрицать, что почти все общественные и правительственные институты, существующие как в республике, так и в монархии, – не что иное, как величайшая условная ложь. Так это, по крайней мере, обстоит среди латинских рас. Все мы носим внутри себя эту ложь, хотя на словах и не признаем ее.
Ложь – вера в парламентаризм, бессилие которого открывается с каждым днем все больше и больше; вера в непогрешимость стоящих у кормила правления – ложь, ложь и вера в правосудие, которое наказывает едва ли 20 % истинных виновников преступления. Большей частью наказанию подвергаются только дураки, а кто поумней, тот остается на свободе, этими восхищаются и служат им те, которые слабее и совершенно невинны.
В наших руках лишь очень незначительная полоса берега, и в то время как наши поля остаются необработанными, мы, как дети, с жадностью набрасываемся на какие-то совершенно пустынные земли, которые стоят нам стольких жизней и вдобавок совершенно не окупаются той ничтожной выгодой, которую они могут принести.
А такие глубокие язвы нашего общественного организма, как пеллагра, целая масса предрассудков, алкоголизм, вошедшее уже в обычай беззаконие, схоластическое невежество, – мы стараемся залечить разными театральными представлениями, риторическими фразами, и как только мы вообразим, что кое-что уже сделано, так сейчас же все бросаем, особенно если нам самим это не доставляет особого удовольствия.
Если мы внимательно присмотримся к нашему столичному обществу, которое, подобно тому как в Японии, подчинено микадо и тайкуну{4}, то мы заметим, в нем те же недостатки, что и в остальной Италии, правда, в меньших размерах. Духовенство, хотя и слабое в теории, пользуется de facto огромным влиянием на два противоположных класса: плебеев и патрициев. Но духовенство, унаследовав власть того и другого класса, не унаследовало их престижа; при этом оно не умнее и не энергичнее их обоих. Это посредственность, царящая над всем, не сознающая своего ничтожества и судящая о фактах только с утилитарной точки зрения; посредственность, у которой нет впереди ни идеалов, ни даже заранее намеченной цели. Повсюду памятники и торжества заменяют учреждения; слепая любовь к своему углу и нетерпимость к чужому заменяют любовь к отечеству; в конце концов – грустная тишина, как покой океана, нарушаемая лишь изредка короткими бурями. Их поднимают обыкновенно люди скорее храбрые, чем честные, которые растрачивают свое непрочное влияние на маловерный народ.
Наше воспитание не только не уменьшает, а скорее увеличивает это зло; мы живем в эпоху, когда дни часто равносильны годам, а года – векам; нашим же юношам мы хотим создать искусственную атмосферу, в которой жили наши предки тысячу лет тому назад. И в настоящее время даже сильные умы не имеют достаточно времени, чтобы усвоить необходимые для всех знания (как, например, отечественная история, гигиена, живые языки, статистика), а мы все хотим, чтобы наше юношество убивало свое лучшее время на то, чтобы выучиться с грехом пополам болтать на мертвых языках о давно умерших предметах, – и все это чтобы выработать хороший вкус; а между тем мы нашли бы смешным, если бы в течение десяти или пятнадцати лет их обучали делать цветы или сольфеджио? Поток современной жизни, столь тревожной и богатой событиями, несется вперед, а мы как будто не замечаем этого движения. Максим д’Азелио пишет со своей обычной удивительной откровенностью: «С ужасом вспоминаю, что провел пять или шесть лет за изучением латыни в том возрасте, который наиболее способен к восприятию новых языков, и что вместо того, чтобы кое-как знать греческий и латынь, которые мне совершенно ни к чему, я мог бы знать хорошо необходимые для меня английский и немецкий; воспитание мое было все проникнуто иезуитской закваской. Задача, которую себе ставит иезуитский принцип и которую он всегда великолепно выполняет, состоит в следующем: продержать юношу до двадцати лет в своих руках за постоянным изучением, но при этом сообщать ему такие сведения, которые впоследствии не пригодились бы ему, и все это для того, чтобы образовать характер, ум и убеждения взрослого человека». Воображаю, как будут смеяться над нами наши внуки, когда узнают, что в наше время миллионы людей вполне серьезно полагали, что зазубренный по принуждению отрывок из древних классиков, забываемый скорее, чем это обыкновенно полагают, или какие-нибудь сухие грамматические правила вернее поведут юношу по пути умственного развития, чем изложение фактов и их неумолимая логика. И кто через несколько лет поверит, что когда-то латынь вполне серьезно считалась необходимым знанием для врача, инженера, моряка или офицера? А ведь стратегические, гигиенические и математические доктрины уже сильно изменились, и наиболее нужные технические сведения теперь гораздо легче почерпнуть из литературы новых языков! Между тем воспитываются поколения, ум которых долгое время питался формой, но не сущностью, и еще больше, чем формой (которая должна была бы выразиться в каком-нибудь художественном произведении), слепым преклонением перед нею, тем более сильным, тем более слепым и бесплодным, чем больше был промежуток времени, погубленный на эту бесполезную работу. Когда же мы убеждаемся, что достаточно уже забили эти бедные умы классической чепухой, то сверх нее мы набиваем еще археологическую и метафизическую ерунду. Слава богу, что наше арийское происхождение было доказано сравнительно поздно, иначе мы наверное имели бы две или три кафедры объяснения Mana-dharmasastra (законов Ману){5}; а не то признали бы необходимым для наших юношей восьми– или девятилетнее изучение санскритского языка. На этом стали бы особенно настаивать представители министерства народного просвещения, и больше всего те из них, которые не знают этого языка, – они наверняка стали бы утверждать, что эти вещи необыкновенно способствуют изощрению юношеского ума.
Вот почему, не имея, таким образом, прочных основ, наше юношество жадно набрасывается на первое новшество, самое нелепое, даже зачастую совершенно не соответствующее времени, лишь только оно напоминает ему плохо понятую древность. Тот, кто думает об этом предмете иначе, пусть вспомнит классицизм революционеров 1789 года и прочитает «Инсургент» Валлеса; тогда он увидит, в какой степени именно это воспитание, как совершенно не соответствующее эпохе, способствовало образованию типа сбитого с толку бунтаря. Такое усиленное проведение классицизма сделало то, что теперь мы с большей охотой воздвигаем монументы, устраиваем всевозможные помпезные торжества, чем учреждаем промышленные предприятия, осушаем болота или строим школы.
И вот, как следствие такого воспитания, и получается то, что в основании деятельности наших революционеров, начиная с Кола ди Риенци и кончая Робеспьером, лежит насилие. «Что такое наше классическое образование, как не сплошное прославление самых разнообразных проявлений насилия?» – пишет Ферреро. Начинается оно с восхищения перед убийством Кодра и Аристогитона{6} и заканчивается цареубийством Брута. Да и вся история Средних веков, Новая история и история нашей эпохи Возрождения в устах наших преподавателей принимает вид какого-то прославления грубых актов насилия.
А вот стихи поэта, которого считают пророком морали новой Италии, стихи, встреченные всеобщими рукоплесканиями{7}:
- Железа и вина я жажду…
- Железа, чтоб тиранов уничтожить.
- Вина, чтоб на их трупах тризну править.
Деморализация уже столь глубоко проникла в общество, что стала общей всем партиям. Клерикалы аплодируют убийству Равальяка, консерваторы приветствуют расстрелы коммунаров 1871 года, республиканцы восторгаются бомбистом Орсини, но все они сходятся в одном: все аплодируют насилию, когда оно в их пользу. А герой нашего недавнего прошлого, кто он? Это не знаменитый исследователь и не великий артист, это Наполеон I.
К чему удивляться после этого, что в обществе, так сказать, насыщенном насилием, оно прорывается время от времени, как молния прорезывает тучи? Нельзя безнаказанно объявлять насилие священным даже при условии, что оно должно применяться в строго определенных случаях. Рано или поздно проповедь насилия перейдет из одной политической партии в другую. В противовес всем этим фактам человечеству следовало бы углубиться в свою совесть и перестать служить жестокому культу грубой силы; пора бы понять наконец, что принцип насилия всегда является безнравственным, пусть даже это насилие будет восстанием против насилия же. То, о чем я говорю, не болезненная сентиментальность: это принцип морали, возникшей из неустанного наблюдения над жизнью. Надо усиленно проповедовать новую религию нравственной силы, чтобы ускорить переворот, созревающий в глубине современной цивилизации; иначе европеец со всеми своими знаниями и цивилизацией докажет, что он немногим выше австралийца, отвечающего на вопрос о добре и зле следующим образом: «Добро, когда я отнимаю у другого жену; зло, когда другие отнимают мою».
Весьма важно то обстоятельство, что основы представительного правления не оправдали надежд. Некоторое время думали, что чем больше будет число людей, между которыми разделена власть, тем менее деспотично, тем более разумно и нравственно будет управление. Однако не подумали о том, что было известно уже в век Макиавелли: всякая форма правления носит всегда зародыши своего собственного разрушения; а наша форма правления как нельзя более оправдывает это мнение. У нас власть опирается на толпу, а толпа, пусть она будет даже в высшей степени однородна и состоит из избранных людей, все же при своих решениях не суммирует мысли отдельных людей, а отвергает негодные ей суждения, образуя, таким образом, то, что называется мнением большинства.
Формы наших учреждений неудовлетворительны даже в своих мельчайших деталях, а именно: люди, стоящие во главе правления, должны бы быть наиболее опытными техниками, а оказывается на поверку, что они менее всего техники, так как парламент требует в данный момент то демократа, то ломбардца, то венецианца. Кто может верить в правоведение или доверять компетенции морского министерства, если, быть может, оно взято из рыболовов; компетенции министерства народного просвещения, составленного из моряков? Парламентаризм не только не является гарантией честности, но, наоборот, он становится орудием политического шантажа: он играет роль ложного рубца, который скрывает нарыв и не дает выхода гною; больше того, он нередко вызывает преступление. Последние банковские процессы в Италии и Франции открыли нам, как много государственных мужей принимает участие в неблаговидных спекуляциях, стараясь набить свой карман или оказать давление на выборы, как это было во Франции во время борьбы с буланжизмом. Стать мошенником ради пользы государства многим уже не кажется преступлением; так точно в Средние века не считалось преступлением отравить политического врага, и этим пользовались не только Борджиа, но и венецианский Совет десяти{8}. Можно помочь газете из общественных средств, а отсюда легко перейти к помощи другу; еще одна ступень – и можно помочь себе. Этот переход не труден особенно для того, кто недостаток таланта старается возместить отсутствием честности. Парламентаризм расширяет сферу безответственности. Такого рода преступления существовали во все времена. В Риме причиной многих войн была расточительность и праздность какой-нибудь маленькой финансовой аристократии, в Англии и во Франции два или три века назад считалось вполне нормальным, если первый министр, а иногда и сам король получали пенсию от иностранных держав; министры и фавориты в короткое время составляли себе капиталы часто посреди всеобщей нищеты, дающей себя знать даже и при дворе.
То, что теперь попадает в банки и предприятия á lа Панама, при деспотическом правлении клали себе в карман королевские фавориты и любовницы. Теперь, если им и мало перепадает, зато господа депутаты получают достаточно (и перемена ролей, признаться, произошла не к лучшему). Депутаты считают себя непорочными и менее ответственными, чем короли, руководствуясь той мыслью, что они не государственные чиновники. В крайнем случае они рискуют потерять свой пост, после чего они могут безопасно наслаждаться жизнью на общественные деньги, которые они успели накопить во время отправления ими гражданского долга. А поэтому весьма естественно, что они и не сдерживают себя, тем более что их нравственное чувство находится в зачаточном состоянии. Тогда как несчастные короли, если бы они решились поступать так же, прежде всего потеряли бы уважение страны, а с ним в конце концов и трон, а быть может, и имущество и самую жизнь.
Заставьте через руки безответственных и почти недоступных контролю людей проходить огромные богатства и попробуйте-ка устроить так, чтоб они остались целы! Зло в наше время оттого-то так и велико, что хотя королей мало, зато много депутатов и сенаторов.
Теперь за злоупотребления этих лиц расплачивается все возрастающими и возрастающими лишениями и непосильным трудом обездоленный низший класс.
Верные мысли некоторых анархистов
Хотя и после всего сказанного нельзя оправдать, но можно по крайней мере понять, как в некоторых наивных или пылких умах родилась идея анархизма, идея протеста души против лжи и несправедливости, идея борьбы за честь и истину. Таким образом, можно будет понять и те фразы анархистов, которые выражают глубоко справедливые мысли. Вот, например, мысли Мерлино и Кропоткина:
«По какому праву существуют государства?
Зачем отдавать в руки нескольких лиц свою свободу и инициативу? Зачем допускать, чтоб они силой покорили себе всех? С согласия или против воли каждого отдельного лица они располагают им по своему желанию? Разве это какие-нибудь особенно одаренные люди, чтобы за ними была бы хоть тень права занимать места многих? Разве эти люди в состоянии блюсти интересы остальных лучше, чем это делали бы сами заинтересованные? Разве они так уж непогрешимы и беспорочны, чтобы имело хоть каплю здравого смысла вверить судьбу всех их мудрости и благости?
Да пусть даже и найдутся такие люди бесконечной доброты и мудрости, допустим гипотезу (которая в истории фактически никогда не осуществлялась), что власть вручена самым способным и самым лучшим людям, то что дала бы им эта власть, что прибавила бы она к благодетельному влиянию этих людей? Власть скорее парализовала бы это влияние: этим людям пришлось бы заниматься целой массой вещей, которых они не понимают, и прежде всего тратить лучшую часть своей энергии на то, чтобы удержать за собой эту власть, чтоб удовлетворить друзей, чтоб держать в узде недовольных и усмирять бунтовщиков.
Далее: каковы бы они ни были, добрые или злые, мудрые или невежественные, кто вручил им их высокую миссию? Или они овладели ею сами при помощи войны, победы или революции? Но тогда где же гарантия общества, что они будут проникнуты желанием общего блага?
Таким образом, все дело сводится к узурпации, и если порабощенные недовольны, то им остается только одно: прибегнуть к силе. Всякая теория, при помощи которой оправдывают себя правительства, покоится на предрассудке, будто бы необходима сила, стоящая над всеми, чтобы заставить одних уважать интересы других.
Но лучше обратимся к фактам.
В течение всей исторической жизни народов, да и в современную нам эпоху, всякое правительство есть грубое, насильственное, самовольное владычество немногих над массами, или же орудие, приспособленное для того, чтобы те, кто силой, хитростью или по наследству завладели всеми средствами к жизни, могли бы упрочить за собой власть и эти преимущества; прежде же всего землю, при помощи которой они и держат народ в рабстве и заставляют его работать на себя.
Людей угнетают двумя способами – или непосредственно, грубой силой, физическим насилием; или путем отнятия у них средств к существованию. Первый способ есть начало власти, или, лучше, политических привилегий; второй – родоначальник власти и привилегий экономических.
Прежде всего неверно то положение, что вместе с изменением социальных условий меняется природа и форма государства. Орган и его функции нераздельны. Отнимите от органа его функции, и он или умрет, или же функция должна восстановиться. Поместите войско в страну, где нет ни повода, ни опасности войны, и оно или вызовет войну, или распадется. Там, где нет необходимости расследовать преступления и излавливать преступников, полиция прекратит свое существование.
Во Франции, например, веками существует учреждение – louveterie[5], на обязанности которого лежит заботиться об истреблении волков и других вредных животных. Никто не удивится, что именно благодаря этим учреждениям волки и до сих пор водятся во Франции, и очень опасны в течение зимних месяцев. Публика не интересуется волками, потому что существует louveterie, обязанная думать о них. А учреждения устраивают охоты, но разумно и осмотрительно: они щадят молодое поколение и обходят период размножения, чтобы доходное животное не вымерло вовсе. Французские крестьяне, по существу дела, мало доверяют этим учреждениям и, скорее, считают их охранителями волков. И это понятно: что делали бы чиновники этого ведомства, если бы волков вдруг не стало?
Правительство, которое представляет собой известное число лиц, издающих законы и распоряжающихся силой всех, чтобы заставить каждого в отдельности уважать эти силы, есть привилегированный класс народа. Конечно, эти люди инстинктивно стараются расширить область своего влияния и избавиться от народного контроля.
Но предположим на минуту, что правительство могло бы служить всему обществу, не составляя само привилегированного класса, что оно может жить, не создавая около себя нового класса привилегированных и оставаясь представительным. Что произошло бы от этого?
Вечно повторяется старая история с колодником, который, продолжая жить, несмотря на кандалы, думает, что он и живет-то именно благодаря кандалам. Мы привыкли жить под гнетом государства, которое овладевает всеми силами, всеми умами, подчиняет себе волю всякого, заставляет служить себе все, что только может быть ему полезным; с другой стороны, уничтожает, парализует то, что оно считает для себя опасным или бесполезным. Мы же воображаем, что все, что происходит в обществе, происходит благодаря государству, что без него в обществе не было бы ни силы, ни ума, ни доброй воли. Так (мы это уже говорили) собственник, присвоивший себе землю, возделывает ее для своей личной пользы, оставляя рабочему только самое необходимое, чтоб тот мог и хотел продолжать работать, – порабощенный же работник думает, что он не может жить без господина, как будто бы господин создал землю и силы природы».
Обычаи всегда следуют за потребностями и желаниями большинства. И обычаи эти пользуются тем большим уважением, чем дальше они отстоят от санкции закона, потому что заинтересованные в их соблюдении лица сами заботятся о том, чтобы сохранить к ним уважение. Для каравана, путешествующего через африканскую пустыню, разумное, экономное пользование водой является вопросом жизни или смерти.
И в этих условиях вода становится священным предметом, и никто не осмелится обращаться с ней небрежно. Конспираторы нуждаются в сохранении тайн, и тайна хранится, иначе несмываемый позор падает на голову открывшего ее. Долги игроков не охраняются законом, зато среди игроков уплата этих долгов – дело чести.
Быть может, кто-нибудь воображает, что не будь жандармов, число убийств сейчас же возросло бы. Но большая часть итальянских общин почти никогда не видит жандармов. Миллионы людей ходят по горам и долам вдали от бдительного ока власти, и всякий, кто захотел бы, мог бы убить их совершенно безнаказанно, а между тем они подвергаются ничуть не большей опасности, чем те, которые живут в центрах. Статистика показывает, что число преступлений не зависит от репрессивных мер, тогда как с переменой экономических условий и состояния общественного мнения оно быстро меняется. Здесь уместно будет заметить, что новая итальянская школа наказаний, устами Э. Ферри, давно уже указывала на ничтожность влияния наказаний, но с предусмотрительностью, свойственной латинским народам, тотчас предложила заменить наказание социальными, законодательными предупредительными мерами: например, она предлагает развод как предупредительную меру против адюльтера, общественные бани – в предупреждение действия жары на убийц, и т. п.
«…Революция при существовании государства и частной собственности не создает никаких новых сил сверх тех, которые уже существуют; но она дает выход уже существующим силам и способностям».
Это заключение не лишено верности. Как мы видим из примера Флоренции и Афин, ослабление государственной власти повлечет за собой развитие на просторе тех индивидуальных сил, которые раньше были задавлены государством; однако, как только толпа возьмет перевес, индивидуальность вновь будет подавлена.
Вот сводка понятных теоретических идей анархистов:
1. Счастье – это право и объективная цель жизни человека.
2. По своей природе человек добр (психологи думают как раз обратное) и достоин и способен быть счастливым.
3. Абсолютная свобода, возможность для каждого делать беспрепятственно все, что он захочет, – вот условия счастья. (При этом совершенно упускают из виду, что желание одного может быть во вред другому: изнасилование, воровство и т. п.)
4. Все ограничения, внешние или социальные, внутренние или моральные, созданы искусственно и должны быть рассматриваемы как причины несчастий и печали людей. (А что же делать с прирожденными преступниками, с сумасшедшими человекоубийцами?)
5. Вся система законов, противоречащих человеческой природе, была создана одним классом людей, желающим руководить остальными и использовать их в свою пользу; весь этот класс в целом ответствен перед нами за настоящее искусственное и печальное положение вещей.
6. Быть может, для установления хорошего и счастливого порядка необходимо порвать со всем прошлым не только так, как этого хотят социалисты, т. е. уничтожить класс экспроприаторов, но окончательно разрушая оковы, как социальные, так и моральные. (Между тем внезапный разрыв со всем прошлым уже делает человека несчастным: ведь большая часть диких племен потому и погибла, что завоеватели слишком внезапно приводили их в соприкосновение с новой для них цивилизацией.)
Что же касается их практических целей, то они были сформулированы недавно следующим образом:
1. Создание пролетарского владычества над всеми средствами. (В слове всеми скрывается общая преступность.)
2. Создание общества, свободно основанного на коммунальном владении всеми благами. (Этот возврат к первобытным временам совершенно неосуществим.)
3. Простейшая организация производства.
4. Свободный обмен равноценных продуктов при помощи производственных товариществ, без всякого посредничества и без извлечения прибыли.
5. Организация воспитания на научных основах, без участия религии и одинакового для обоих полов. (Раз природа создала их разными, никакой закон не сделает их одинаковыми.)
6. Обсуждение всех общественных нужд при помощи свободных докладов общин и союзов, основанных на федеративных началах.
Критика идей анархизма. Их нелепость
Ни одна из этих идей не осуществима; впрочем, не все они невозможны. И среди мыслей анархистов попадается несколько базисов, не лишенных будущности; к таковым относится, например, идея большей индивидуальной свободы, критика совершенно бесполезной системы репрессий. Но, за исключением этих мыслей, все здание анархии рушится как в своей основе, так и в своем применении. Когда Кропоткин проповедует необходимость возврата к древнему коммунизму, я не стану ужасаться из одной скрупулезности, раз я увижу, что он нашел путь к практическому осуществлению своей мысли; но ведь он советует автору самому заняться издательством и печатанием своей книги, совершенно игнорируя, что разделение труда – есть истинная находка современности, которая никакими теориями не будет разбита; наконец, за неимением ничего лучшего он рекомендует предоставить народу разделить то, в чем он нуждается, позволить ему броситься на толпу, как стадо волков бросается на добычу; он как будто бы не подозревает того, что если добычи не хватит, то люди, подобно волкам, пожрут друг друга; он игнорирует то обстоятельство, что если коллективные предприятия до сих пор оказывались вредными, то потому, что в таковых пороки отдельных индивидов суммировались, а не уничтожались.
Если б наши коллективные учреждения не представляли из себя малочисленных групп, каковы, например, комиссии, институт присяжных, а состояли бы из всей массы народа, они были бы во сто раз бесплоднее, опаснее и преступнее, чем сейчас; и тогда-то уж они наверняка задушили бы всякое индивидуальное проявление, которому так мало покровительствует наше государство и которое совершенно справедливо выдвигает анархизм, – и разрушили бы его не постепенно, а сразу.
Старая истина, что чем многочисленнее собрание, тем менее мудры и справедливы его заключения, вошла уже в пословицу; индивидуальные пороки, сдерживаемые культурой в отдельных личностях, с большей силой дает себя знать в толпе.
Это верно и в тех случаях, когда затронуты денежные интересы, где человек оказывается наиболее чувствительным; общество же почти всегда делает ошибки в подобных случаях. Чего же ждать в тех случаях, когда личные интересы остаются в стороне, – в вопросах политических, административных, коммунальных? Вспомним старую пословицу: «Danari del commune, danari di nessuno»[6]. И как метко замечание Мольтке, что парламентское собрание, члены которого не несут полной ответственности, скорее согласится на войну, чем любой властительный князь или министр; депутат же дает свое согласие с легким сердцем потому, что он не несет ответственности.
Наконец, несмотря на некоторые заманчивые предложения анархизма, немедленное введение его сделало бы его нелепым и нежизнеспособным. Всякая реформа должна быть проводима чрезвычайно медленно, иначе она вызовет реакцию, которая разрушит всю предыдущую работу. Ненависть к всякому новшеству так глубоко коренится в человеке, что выступление насилием против установившегося уже строя, против старого, является преступлением: оно оскорбляет взгляд большинства. А если это необходимо нужно угнетенному меньшинству, то и тогда этот переворот есть акт антиобщественный и, стало быть, – преступление. Сверх того, часто это преступление бывает бесполезным, вызывая реакцию в сторону мизонеизма.
Мизонеизм властвует над всеми, начиная от дикаря, слабый разум которого утомляется всякий раз от новых впечатлений, и кончая ребенком, который выходит из себя и плачет, если не увидит ту же самую картинку или не услышит ту же сказку, рассказанную теми же самыми словами; и начиная женщиной, которая более упорно, чем мужчина, сохранила древние обычаи, и кончая современным академиком, который, несмотря на высоту своего развития, скептически относится ко всякому новому открытию, мизонеизм проявляется повсюду: в костюмах, в религии, в морали, в науке, в искусстве, в политике.
Этот же консерватизм обусловливает то, что всякий новатор встречает на своем пути столько противников.
И не только толпа, но и большинство образованной публики ненавидит новатора. Академии, эти последние прибежища отживших эпох и вкусов, не признают истинных ученых.
Даже гении не избегли мизонеизма, упорно отстаивая те мысли, за которые они боролись, и не допуская в них перемен, тех самых, которые они произвели над идеями старыми. В этом смысле Спенсер и говорил, что всякий данный прогресс является регрессом для будущего.
Итак, можно с уверенностью сказать, что большинство с фатальной необходимостью подвержено мизонеизму: оно с недоверием встречает все новое и отталкивает все, что задевает его слишком глубоко.
В этом мизонеизме, в боязни нового скрывается, быть может, великий бессознательный голос наследственного инстинкта, который, верный своей миссии сохранения вида, протестует против всякого, кто хочет навязать ему что-либо новое.
Итак, если органический и человеческий прогресс совершается только очень медленно и если человек и общество инстинктивно консервативны, то сам собой напрашивается вывод, что всякие попытки к прогрессу, вводимые путем насилия, вызывают бурю негодования и являются основанием политического преступления.
Если же, наоборот, реформа, введенная не слишком энергичными мерами, принимается большинством, это значит, что она должна была явиться как раз в тот момент, когда явилась; принятие ее большинством есть верный признак того, что она не идет вразрез с мизонеизмом, не насилует инерции большинства; она, следовательно, явление физиологическое, а не патологическое. Одним словом, этим уже доказывается, что в действительности революция не есть политическое преступление.
И в самом деле: первое условие того, чтобы какой-нибудь акт был антисоциальным, это чтобы он был делом меньшинства. Нормальным он становится тогда, когда его одобрит большинство.
Но политическое преступление становится общим преступлением тогда, когда из области теории, открытой для всякого обладающего здравым рассудком, оно переходит к практике. Как мы видели, анархисты всеми средствами стремятся достигнуть цели. Грабежами и убийствами они хотят привлечь на свою сторону адептов, которых им не удалось привлечь при помощи литературных и ораторских приемов; они убивают совершенно невинные жертвы, что, конечно, влечет за собой сильную реакцию со стороны большинства. Здесь преступление и нелепость сливаются в одно; если же и достигается что-нибудь, то как раз обратное тому, чего желали. Таким путем анархисты становятся лишь непопулярными в низших слоях и вызывают к себе отвращение в высших; как нетерпеливые лодочники, они вместо того, чтобы привести ладью к берегу, удаляются от него.
Я знаю, анархисты возразят мне следующее: «Но если зло существует, разве мы не обязаны бороться с ним, хотя бы страдающие от него и отказывались от нашей помощи?» Однако я должен возразить, что подобная попытка облегчить страждущих перестает быть обязательством и становится преступлением, потому что подобное средство излечения не принимается публикой и не идет ей на пользу, а, наоборот, только настраивает ее и против больного, и против врача. Масса похожа на тех женщин из народа, которых бьют их мужья, но которые всякую попытку вступиться за них встречают такой фразой: «А если нам нравится, чтоб нас били, чего же вы суетесь не в свое дело?» И верно, кто подобными средствами хочет заплатить за всех, мешается не в свое дело – все равно, будет ли он в истории носить имя Марселя, Кола ди Риенци или Помбала{9}. Тот самый народ, которому они хотели помочь, возмущался их жизнью и их делами и тем самым подтвердил суровый закон истории.
Революции и бунты
Отсюда ясна разница между революцией и восстанием. Революция в собственном смысле слова есть явление медленное, подготовленное, необходимое, самое большее – ускоренное каким-нибудь нервозным гением или исторической случайностью. Восстание же или бунт можно сравнить с искусственно произведенным эмбрионом, плодом чрезвычайно приподнятой температуры, обреченным на смерть.
Революция – это историческое выражение эволюции; она движется спокойно, но уверенными шагами, охватывая широкие круги; ее движение медленно, постепенно, но успех ее гарантирован; постепенно она становится все шире и шире; вызвана она чаще гениальными или страстными людьми, а не прирожденными преступниками; случается же революция чаще среди цивилизованных народов (среди рас германской и саксонской).
Революции подобны кризисам в индивидуальной жизни. Отрок, прежде чем стать мужчиной, переживает кризис возмужалости; народ же, чтобы стать одной ступенью выше на длинном пути человеческого развития, должен пройти через революцию. Итак, революция не болезнь, а необходимая ступень в развитии вида.
Восстания же, наоборот, дело рук немногих и вызваны часто маловажными, или даже местными, или личными причинами; случаются часто среди малоцивилизованных народов, например среди жителей Санто-Доминго, в средневековых республиках, в Южной Америке; в них принимают участие преступники и сумасшедшие, которых вовлекает в восстание их болезненная потребность думать и чувствовать иначе, чем другие, честные и здоровые; благодаря своей природной импульсивности они не испытывают ужаса перед совершением таких актов для достижения своих целей, как цареубийство, пожары, от которых всякий другой отшатнулся бы в ужасе и которые по существу всегда бесполезны, преступны и всегда противоречат господствующему мнению и этическому чувству.
Глава 2. Преступность среди анархистов
После всего сказанного в первой главе понятно, что самыми деятельными адептами анархизма должны быть по большей части или преступники, или сумасшедшие, или и то и другое вместе. (Исключение составляют такие люди, как Ибсен, Реклю, Кропоткин.)
Лучше всего доказывает это таблица лиц, приложенная к «Политической преступности и революции». Из нее видно, что цареубийцы, как, например, Фиески, Каммерер, Рейнсдорф, Гёдель, Штелльмахер, и фении{10}, как Брэди и Фитцгаррис, имеют вполне преступный тип; жестокие преступники 1789 года во Франции представляют тот же преступный тип: например, Марат, Журдан, Каррье; в то время как истинные революционеры, как Корде, Мирабо, Кавур, и большинство русских революционеров, Осинский, Михайлов, Засулич, Соловьев, Иванова, представляют вполне нормальный тип, даже более красивый, чем нормальный.
Один юрист, почтенный адвокат Спиньярди, доставивший мне много интересного материала для этого очерка, говорил мне: «Я еще ни разу не видал анархиста, который не был бы или горбатым, или хромым, или не с асимметричным лицом».
Среди парижских коммунаров я констатировал преступный тип у 12 %. Среди 41 парижских анархистов тот же тип я нашел у 31 %; среди 43 анархистов Чикаго – у 40 %; из 100 туринских анархистов 34 % имело преступный тип. В это же время среди наших революционеров преступный тип выражается всего лишь в 0,57 %, т. е. ниже нормы (2 %), среди русских революционеров тот же тип выражается в 6,7 %.
Жаргон
Доказательством распространенности преступного типа среди анархистов служит употребление ими специального жаргона преступников.
Довольно прочесть сборник их песен и их любимый журнал «Pére Peinard», чтобы увидеть, что анархисты пользуются жаргоном совершенно так же, как преступники. Например, они называют друг друга «copains» вместо «compagnons», а своих главарей именуют на жаргоне «trimardeurs», от слова «trimard» — большая дорога. Даже в квитанциях их абонентов у них получили права гражданства такие жаргонные выражения, как «Reçu galette»[7], «Reçu 4 balles pour la propagande»[8].
Татуировка
Этот, такой характерный, признак прирожденного преступника тоже часто встречается у анархистов. Во время анархистских беспорядков 1888 года в Лондоне один очевидец насчитывает много татуированных среди демонстрантов – признак, с известной достоверностью говорящий об их преступности. «На наружной стороне кисти у многих были изображены сердца, мертвые головы, скрещенные кости, якоря и разные узоры». На лбу у одного юноши был вырезан лавровый венок, а на лбу другого – слова: «I love you»[9].
Этическое чувство
Преступность анархистов обусловливается отсутствием у них морального чувства, что делает для них такими естественными убийства и грабежи – преступления, приводящие других в ужас.
Вот как один анархист ответил, когда ему было указано на то, что итальянские крестьяне всегда будут возмущаться против антиконсервативных теорий: «О, об этих не приходится особенно долго думать; хороший заряд картечи сразу введет их в узду!» И кто же другой, кроме преступника, станет бросать бомбы в ресторанах, в театрах, в мирных граждан, вся вина которых состоит в том, что они «буржуа