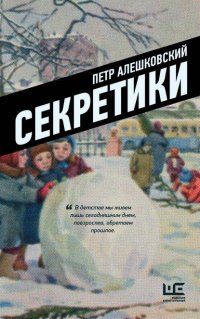Читать онлайн Арлекин бесплатно
- Все книги автора: Петр Алешковский
Словесность наша… и Увещательница,
и Преклонительница, и Утешительница,
и Ободрительница, и законов Положительница,
и от зверския нас жизни Отвратительница.
В. К. Тредиаковский
© Алешковский П. М., 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Часть первая
Астраханский попович
1
Первая русская газета «Ведомости». Первый номер 2 января 1703 года:
«На Москве вновь ныне пушек медных, гоубиц и мартиров вылито 400. И еще много форм готовых, великих и средних к литью пушек, гоубиц и мартиров. А меди ныне на пушечном дворе, которая приготовлена к новому литью, больше 40 000 пудов лежит.
Повелением его величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили.
В математической штюрманской школе больше 300 человек учатся и добре науку приемлют.
На Москве ноября с 24 числа по 24 декабря родилось мужска и женска полу 386 человек.
Из Персиды пишут. Царь послал в дарах великому государю нашему слона и иных вещей немало. Из града Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путем.
Из Сибири пишут. В Китайском государстве иезуитов вельми не стали любить за их лукавство, а иные из них и смертию казнены.
Из Олонца пишут. Города Олонца поп Иван Окулов, собрав охотников пеших с тысячу человек, ходил за рубеж в свейскую границу и разбил свейские заставы. А на тех заставах шведов побил многое число и взял рейтерское знамя, барабаны и шпаг, фузей и лошадей довольно, а что взял запасов и пожитков он, поп, и тем удовольствовал солдат своих.
На Москве 1703 генваря в 2 день».
2
Кирилла Яковлев, священник астраханского собора Живоначальной Троицы, долго обсуждал со своим приятелем отцом Иосифом дела строительные. В кровле над дьяконником обнаружилась течь. В прошлый дождь натекло изрядно, теперь бы в сушь и починить. Крыть надлежало белым олифеным железом, отец Иосиф обещался уговорить митрополита, чтобы отпустил, – запасено было на Успенский, но там вроде выходили излишки. Затем спустились в подклет, где хранился воск, и, как назло, чуть лоб не рассадили на лестнице: кирпич искрошился от постоянного хождения. Кирилла Яковлев упросил и лестницу переложить. Кирпич договорились взять с того же Успенского.
Пока уговаривал, пока ходили – недоглядел, рясу свечным салом закапал. А тут еще непорядок – крысы воск учуяли. Все четыре тюка оборвали, крашенину растащили по полу. Вызвал послушников. Тюки разбирали, увязывали по новой, перекладывали: что порчено – к порченому, что сохранилось – к сохранному. Носили наверх все по той же лестнице. Сложили пока в келарской, а там уж пускай начальство монастырское решает – только эти твари везде нос сунут, не убережешься.
Так утро прошло. К матушке не наведывался. Сегодня опять – пироги пекла, прислонилась к печке, голова кругом. Со дня на день родит, пузо, как море Хвалынское, ходуном ходит, а все к печи. Упросил повитуху на эти дни дома посторожить. Мария маленькая за подол цепляется, дела домашние стоять не могут: и пеки, и стирай, отец старый едва с постели встает, а тут гляди – не сегодня завтра…
Вышел во двор, сразу жаром дохнуло – солнце в самой вышине. У собора нового на лесах тишина, не кричит никто. У известковой ямы ведра стоят полные, а мужиков нет, зато на дворе губернаторском суета – ворота настежь распахнуты, караульные из будок вышли, а люди все, как сговорились, бегут к Пречистенским воротам из крепости, на Большую. Не пожар ли, не приведи Господь? Прошлый год горели, так и не все еще дома новые поставили, головешек полно по слободам. Такого огня, как в том году, давно в Астрахани не было.
Нет, не пожар вроде – весело бегут. Селитренный мастер Ефим Степанович на дворе встретился – разъяснил: в город слон шествует! Серокан-бек, сокольничий шахский из Шемахи, ведет слона государю царю в подарок. Весь город с утра у заставы.
Дивный зверь слон!
Хотел домой зайти, Ефим Степанович отговорил. Вот-вот посольство покажется, а может, и идут уже по Большой, музыканты с час назад к заставе отправились. Сам Тимофей Иванович Ржевский – губернатор, с товарищем – Никитой Ивановичем Апухтиным – с музыкой выехали.
Домой не пошел, заспешил к воротам.
Персидский двор, Индийский, ряды торговые – все закрыто, как вымерло, только ишаки на скотных дворах орут – не напоили их с утра, а может, слона почуяли?
В городе толпа сама навстречу высыпала. Ребятишки плетни облепили. Толпа напирала, валила изгороди. И вдруг все разом подались еще вперед, как за бечеву корабль потянули, и все смешалось окончательно: гомон, толчея базарная, сюртуки, халаты стеганые, платья, пузатые сарафаны, редкие немецкие шляпы утонули в море тюбетеек, тюрбанов, войлочных шапок и просто голов бритых и голов патлатых; мелькали моржовые армянские усы, калмыцкие козлиные бородки и холеные восточные бородищи, иссиня-черные, тщательно покрашенные и расчесанные самшитовым гребнем; пыль из-под ног поднялась до неба, как на лошадиных состязаниях, а языки, языки – Вавилон астраханский!
– Идет! Идет!
Расступились, вжались в плетни, повалились в обочины, забрались на крыльца.
Сначала стрельцы проехали верхами, дорогу расчищать, но уже и не надо было. Показался оркестр – флейтщики, гобоисты, барабанщики во главе с капитаном Вагенером чеканят шаг под немецкий марш. Двух иноходцев персидских, как смоль вороных, солдаты под уздцы провели. Кони коврами покрыты разноцветными, ворс пушистый, нечесаный. За жеребцами три телеги, тоже коврами застелены. На них клетки огромные с птицами: в первой и второй – попугаи по парам подобраны, самец с самочкой. Попугаи на толпу кричат, волнуются, по клеткам прыгают, а в третьей – одна клетка на всю телегу с чудо-птицей-жар: огнем вся горит, как смарагд переливается. Не видали таких птиц в Астрахани. Ни персы, ни индийцы, ни бухарцы их не привозят, кто же тут на такое диво раскошелится – царская птица, ей и полагается у царей жить.
За птицами – слон-зверь. Плывет над морем голов, чуть покачивается, а на шее человек в чалме – всадник. Правит без узды. В руке орудие чудное, согбенное крюком на конце, – как ишака палкой по шее подгоняют, так он слона своим крюком покалывает в затылок.
Идет слон. Ноги – четыре бревна тяжелых, толстотелесен, бесшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, ступанием медведеподобен, от верхней губы нос имеет, или губу, или хобот, что, как рукав на ризе, до земли висит. Носом сим и еду, и питье забирает и, согнув змеею, в уста маленькие свои отдает. От верхних зубов два превеликих зуба наружу торчат: один остер, как у единорога рог, да только не крученый, другой на конце потесан и меньше первого. На главе тяжелой – бусинки-глаза и уши великие, как заслоны печные, при ходьбе болтаются. Сзади хвост сухой, подобен воловьему, жилистый.
Народ от страху друг в друга вжался, не кричит, все больше вполголоса, да глаза у всех горят. Только калмыки пронзительно по-своему лопочут.
Идет слон. Дышит тяжело. Бока западают, как меха кузнечные. Хобот-губа чуть подымется, снова опустится, а то в кольцо свернется. И человек на нем, как воробей маленький, умостился и не боится.
Налево и направо от слона губернского полка астраханского солдаты идут, на зверя косятся – как что вдруг, успеть бы убежать.
Идет слон. Головой мотает, пыль от ног ему в глаза летит, да слепни лезут в рожу, норовят в губу укусить. И дух от слона тяжелый, мощный, под стать его росту и силе.
За слоном колесница позлащенная. В ней сам сокольничий Серокан-бек, шаха персидского посланник. Красномордый, чернобровый, усы пышные, аж до ушей, а борода в четверть аршина ниже бритого подбородка висит. На голове белая шелковая чалма с сапфировым аграфом, сам в кафтане расшитом, перепоясанном золотой парчи кушаком, а за него кинжал в богатых ножнах заткнут. Чуть позади два арапа стоят с большими саблями, на поясы навешенными, и с блестящими трубами за спиной.
Рядом с колесницей, верхами, губернатор с помощником, полковник Лаврентий де Винь и толмач – купец с Индийского подворья.
За колесницей верблюды с поклажей посольской: хурджины, как два горба, набиты, тюки, кули, ковры скатанные к спинам приторочены.
Вслед за верблюдами – войско астраханское. Полк де Винев во главе с двумя майорами, а там уж в строю выделяются по чинам: капитан, поручики, прапорщики, сержанты, капралы – в полной амуниции великое посольство до Персидского подворья провожают.
У подворья встали. Из свиты персидской вышел вперед кызыл-баши в тюрбане с красной верхушкой, а с ним толмач Сухананд Дадлаев, всегдашний губернаторов переводчик.
Перс в тюрбане от Серокан-бека команды ждал – речь приветственную перед астраханцами начинать. Сокольничий шахский махнул платком, и глашатай сразу поклонился губернатору и свите и заголосил распевно, обрывая речь в самых неожиданных местах, чтобы наполнить грудь воздухом. Кончил он так же неожиданно, словно голос потерял: мотнул головой, как мул на привязи, и замер, сдерживая дыхание, только щеки загорелись под цвет верхушки его тюрбана. В ушах астраханцев еще стоял его чудной говор, когда выступивший вперед Сухананд начал переводить. Индус говорил спокойно, уверенно, словно держал перед глазами лист, но никакого-то листа не было, и тем удивительнее было слушать пышнозвучное величание, и тому изумлялись, как сумел индиец запомнить все точно и не ошибиться в переводе. А говорил Сухананд так:
– Божиею милостью возвеличенный и благословением Небесного Царя преобразующий отблеск Бога, обладатель целого мира, глава земного шара, всех царей царь, средоточие, перед которым преклоняются все народы, самодержец высокопрославленной в целом свете Персидской монархии, наследник Дария и храброго Хозроя, содержащий в себе врата Неба, всепресветлейший и наивысочайший шахиншах султан Хоссейн-ас-Софи, следам коня которого все правоверные должны приносить жертвы, посылает через своего сокольничего Серокан-бека царю и государю российскому Петру Алексеевичу в подарок слона, клетки с попугаями-птицами и чудесную птицу-жар, а также шелка гилянские, керманскую бязь, а также штуку жижиму, штуку бурмету, штуку аладжи, а также горский мед, изюм, инжир, дыни ширванские, сорочинского пшена и персидского гороха, да будет между двумя державами мир, благоденствие и благодатная торговля.
Сухананд Дадлаев кончил так же резко, как персиянин, сложил руки лодочкой у лица, поклонился.
Арапы вынули из-за спин длинные медные трубы-карнаи, резкие, рвущиеся звуки вылетели из их начищенных до блеска расходящихся горловин и понеслись ввысь, до самого неба. Рев их был слышен, наверное, далеко за Кутумом, в полях, на виноградниках.
Непривычные русские кони чуть присели, прядая ушами, но наездники быстро их успокоили. К командным воплям карнаев присоединился писк дудки, забил барабан, и вся пышная иноземная свита потянулась на Персидское подворье. Слон, то ли привыкший к этой языческой музыке, то ли уставший от необычного путешествия из далекой Шемахи, равнодушно зашагал на внутренний двор. Морщинистая кожа и воловий хвост его показались в воротах и пропали, как и все это цветастое наваждение.
– Старый он какой-то, слон-зверь, – заметили в толпе, – еле бредет.
Толпа вздохнула разом и начала расходиться, подгоняемая солдатской командой. Мужчины спешили в «Спасительский» – питейный дом, названный так в просторечье из-за близко расположенного надвратного образа Спаса на убрусе.
3
Грозноокий Спас, казалось, поглядел на него осуждающе: ряса погибла окончательно – кроме утренних сальных, на ней прибавилось несколько еще пятен, происхождения совершенно непонятного. Подол и правый рукав были надорваны, но как это случилось, Кирилла Яковлев вспомнить не мог. Когда появился слон, толпа отпрянула, и его затянуло в подворотню, из которой, усердно работая локтями, он все же сумел выбраться. На него все время наваливался грузный армянин, в какой-то миг они чуть не поцеловались, спутавшись бородами: так сильно жали со всех сторон.
Он спешил домой, надеясь, что неопрятный вид священнослужителя горожане, встревоженные сегодняшним происшествием, просто не заметят.
Перед самой дверью нос к носу столкнулся с повитухой: та будто специально выходила во двор высматривать. Схватил ее за плечи, затряс: «Что? Что случилось?»
Толстое лицо старухи расплылось в улыбке.
– Ты, батюшка, никак из кабака, рваный такой? Отлучился, а тут сын у тебя на свет Божий появился!
– Сын?! – рванулся к двери, но старуха опередила, заслонила проход:
– Поостынь маленько, батюшка Кирилла Яковлевич, твоя-то спит, умаялась, а ты как медведь топочешь.
– Как она?
– Тяжело ей пришлось, рожала быстро. Ну да меньше бойся, батюшка, мальчик здоровый вышел, крикнул. Большой, головастый, так напролом и лез – упрямый, видно, будет.
Приметив, как он враз присмирел, старуха властно схватила его за руку и потянула к двери:
– Охолонул малость, теперь и пойдем тихонечко.
Ввела в избу, подвела к зыбке.
Маленький красный носик виднелся из свивальника и умиротворенно сопел. Кирилла Яковлев побоялся до него дотронуться, только перекрестил воздух над головкой.
И почему она говорит, что большой? Подозрительно глянул на нее, но, счастливый безмерно, тут же отмел сомнения. Раз говорит, значит, так и есть.
Приятно и лестно было довериться ее опыту. Он молча сжал грузную повитуху своими большими ручищами и, не в силах сдержать чувства, поцеловал в самый лоб. И, совсем уже сконфузившись, понимая, что богомольная бабка ждет другого, снял с полки тяжелый литой серебряный крест и благословил, вмиг возвратив себе уверенность и потерянное еще во дворе достоинство. Повитуха облегченно вздохнула, поймала его руку, уголком рта приложилась к кресту, затем к держащим его пальцам.
Вскоре она засобиралась, заторопилась, с благодарностью приняла плату и, поклонившись не раз, ушла. Оставила его одного с обессиленной спящей роженицей и довольным, угревшимся в своей норке новорожденным. Марию, старшую дочку, и старика отца, как только все началось, взяли к себе по уговору соседи.
Он остался один и долго не мог найти себе места.
Ночью он встал. Мать, накормив ребенка, опять спала. С жалостью глядел на жену, подходил к колыбельке с долгожданным наследником. Лишь к сорока годам услышаны были их мольбы о сыне. Господи, да святится имя Твое! Щепоткой, как посолил, отрывисто навел три креста.
Откуда-то издалека послышался трубный глас. Звуки неслись из города, с Персидского подворья. То кричал слон.
Кирилла Яковлев уже успел забыть о нем после всего происшедшего. Перед глазами вдруг возник Сухананд Дадлаев, бросающий в толпу: «Царей царь, наследник Дария и храброго Хозроя!»
Имена были незнакомые, но звучные, красивые, раскатистые, как рев слона, рык карнаев, золотой блеск персидского посольства. И сразу родилось, всплыло в памяти имя: Басилевс – царь. Царь царей – Василий.
4
Пишет голландский путешественник Корнелий Лебрюн своему приятелю доктору Бидлоо в Лейден (перевод с голландского).
Из Астрахани, года 1703.
Дорогой Якоб!
Обещаясь описывать тебе места примечательные, встреченные мною на пути, спешу познакомить тебя с городом Астраханью.
От самой Казани, откуда прошлое письмо, до Астрахани никаких особых приключений с нашим караваном не случилось. Река Волга здесь, в ее нижнем течении, неимоверно широка. Она дробится на множество более узких проток, разбегающихся от нее в разные стороны. Появляются они то с левого, то с правого берега, но мы не входили в них, выбрав основное русло как наиболее благоприятное для путешествия.
Левый берег, в основном низинный, сильно порос густым кустарником, тогда как правый холмист и на нем встречаются редкие деревья. Речного тростника здесь особенно много по берегам, на мелководье. Он идет на топку печей у местных жителей, и действительно, сухой стебель сгорает молниеносно, оставляя лишь тонкую ниточку пепла, как после хорошей сигары.
Жилье по берегам встречается крайне редко, чаще подступы к воде бывают утоптаны тысячами овечьих ног; перемешанная и высушенная солнцем земля точно указывает места водопоя, куда кочевники приводят свой скот. В основном же берега пустынны, и редкий всадник или встречная ладья веселят глаз и, исчезнув, часто долго еще составляют предмет разговоров и гаданий моих спутников.
К самой Астрахани приблизились мы под вечер, пройдя в семь часов мимо горы Плосконной. От этого места до Астрахани насчитывают две версты. Отсюда видна на самом горизонте большая соборная церковь, чрезвычайно высокая, но еще не достроенная до конца. Спутники мои сообщили мне, что в прошедшем году, когда работали над куполом сказанной церкви, часть купола обрушилась по непрочности поддерживающего его фундамента. Поэтому вынуждены были дело повести иначе, а именно: в настоящее время возводят там пять небольших башен с куполами, на которых водрузят кресты.
Восточно-южный ветер, сопутствовавший нам в дороге, стих, и мы, продолжая путь свой при такой тиши, прибыли наконец за час до полуночи в Астрахань и заночевали на кораблях. Этот город находится в 2000 верст, или 400 немецких милях, от Москвы, от Казани же на половине этого расстояния.
Прибыв в Астрахань, я тотчас же поутру был принят губернатором Тимофеем Ивановичем Ржевским. Вероятно, два моих вида и письмо князя Бориса Александровича произвели должное впечатление, ибо большого стоило мне труда отбиться от предложений жить в его доме и питаться от его кухни.
Я благодарил от всей души и объяснил, что было бы некрасиво бросить моих товарищей-армян и остановиться в любом другом месте, нежели как в армянском караван-сарае, куда мои заботливые спутники уже распорядились перенести всю мою поклажу.
Губернатор отпустил меня, но только отобедали мы, как пришли восемь или десять солдат от него с разными приношениями. Это были небольшой бочонок водки, две фляги с лучшей водкой, большой медный сосуд с красным отменным вином и два других таких же, один с медом, другой с пивом, четыре больших хлеба, два гуся и разные куры. Особенно радовался я пиву – с самой Казани такого хорошего по вкусу нигде не удавалось мне попробовать. Я отослал посланцев губернатора, отблагодарив по своему обыкновению небольшими подарками.
Около того времени губернатор получил известие о покорении крепости Нийен, которую русский царь взял приступом первого мая и в которой захвачено было 80 пушек, 8 мортир, 3500 человек шведского войска, коему, впрочем, как рассказали, он даровал свободу. На этом месте его величество Петр Алексеевич повелел строить новую крепость на острове Заячьем и, говорят, собирается в недалеком будущем заложить там новую столицу.
Астраханское общество приняло меня чрезвычайно добросердечно. Вскоре я получил приглашение пожаловать к товарищу губернатора Никите Ивановичу Апухтину. Я, естественно, отправился и имел честь увидеть там и господина губернатора со всем его семейством и несколькими госпожами, одетыми и причесанными по-немецки. Меня попотчевали вином и пивом, после чего губернатор вскорости распростился и уехал со своим обществом. Помощник губернатора вместе с митрополитом Сампсонием и сопровождавшим его священником Троицкого собора Кириллой Яковлевым пригласили меня в другую комнату, где, усадив на мягкий диван, угощали разными персидскими лакомствами, после чего поданы были кофе и кулабнабат. Последний напиток был не что иное, как белый ликер, очень приятный и составленный из сахару и розовой воды. Мы долго беседовали с моими радушными хозяевами. Когда же я выразил желание ознакомиться с местными достопримечательностями, вышепомянутый священник Кирилла Яковлев, оказавшийся большим книгочеем и любителем до натуральной истории, вызвался сопровождать меня в прогулках по Астрахани.
На другой день мы осмотрели здешние базары. Они заслуживают самого тщательного описания, но здесь я замечу только вкратце, что подобного смешения народов, языков, обилия товаров не видел, пожалуй, ни на одном торге в Европе.
Интересны очень перепелиные бои, когда на базаре стравливают на потеху зрителям маленьких перепелов. Они бьются зло и ожесточенно, и дело нередко заканчивается смертью одного из них. Такие бои собирают очень много ценителей этих кровавых схваток, причем на петушков заключаются пари, иногда на очень внушительные суммы.
Кирилла Яковлев – мой чичероне – человек весьма и весьма любопытный: он добр, простодушен, принимает все на веру, но не лишен ума и, как всякий священник, ссылаясь на авторитет Писания, признает меж тем и другие книги. Одно плохо – он излишне говорлив, переводчик мой жалуется, что у него вот-вот отсохнет язык, а наш священник знай себе говорит и говорит. Впрочем, могу это объяснить и его жаждой знаний, так скудно и медленно просачивающихся в здешние края.
Но я отвлекся от основного… Юртовские татары, живущие в своей слободе, рядом с городом, и калмыки, кочующие со стадами баранов по окрест лежащим степям, ежедневно привозят на рынок много мяса, которое из-за его обилия, в отличие от других городов, стоит здесь значительно дешевле. Вообще в съестных припасах в этой стране не бывает недостатка, за исключением ржи, привозимой из Казани и других мест.
В особенности много тут рыбы. Рыбные ряды дважды в день наполняются новым уловом, но Волга доставляет такое огромное количество рыбы, что часть ее, оставшуюся непроданной, отдают свиньям и другим животным. Лучшая рыба – белуга, которая достигает иногда преогромных размеров – до полутора саженей и больше. Стерлядь тут очень вкусна. В Москве ее продают живую по пять, по шесть и даже по семь рублей за одну, тогда как здесь по два и по три штивера, что более чем в сто раз дешевле. Много еще рыбы простой и отменной, как то: судак, которого приготовляют таким же образом, как и треску, множество щук, окуней, линей и больших лещей. Самые грубые и дешевые суть сомы с большими головами. Еще интересна рыба, называемая вьюн, которая ловится, как указывал мне мой попутчик, только в одном месте: где впадает небольшая речка как бы в яму. Кирилла Яковлев уверял меня, что вьюны бывают и большие, но нам попались невеликие экземпляры, коих мы наловили обычным решетом. Я сохранил многих из них с маленькими судачками в спирту. Остальные виды рыб Кирилла Яковлев пообещался мне засушить и сохранить до моего возвращения из Персии.
Перед самым отъездом я зашел проститься в дом к Кирилле Яковлеву и попросил его присмотреть за моей коллекцией, которую оставил ему на сохранение. У него недавно родился сын, и по русскому обычаю я подарил ему голландский червонец «на зубок», то есть по случаю появления у него первого зуба.
На другой день мы сели у Астрахани на судно, чтоб продолжить путешествие, и к обеду прибыли к месту в трех верстах от города, где армянские купцы, у которых мы останавливались, приказали приготовить прощальный обед и где попировали мы с час времени, под звуки нескольких инструментов.
Теперь же спутники мои торопят меня взойти на корабль, тогда как я сижу на берегу и пишу к тебе, мой дорогой Якоб, эти строки. Слуга уже несет горячий сургуч. Сейчас поставлю печать и вручу мое очередное послание армянам. У них, в отличие от русских, есть своя почта, письмо вмиг будет на Москве, а там наши позаботятся доставить его тебе лично в руки.
Обнимаю тебя, дорогой друг, и надеюсь следующее письмо отослать из Дербента, который город, говорят, не менее знаменит и интересен, нежели Астрахань.
Всецело твой Корнелий Лебрюн
5
Долженство народа подданного сия суть:
1. Должен народ без прекословия и роптания, вся от самодержца повелеваемая творити… Аще бо народ воли общей своей совлекся и отдал оную Монарху своему, то како не должен хранити его повеления, законы и уставы, без всякой отговорки.
2. И по тому не может народ судити дела Государя своего, инако бо имел бы еще при себе волю общаго правления, которую весма отложил и отдал Государю своему. И того ради пребеззаконное дело было сильных некиих изменников от Парламента Великобританского, над Королем своим Каролем первым, 1649 году зделанное, от всех проклинаемое, и от самых Англичан установленным на то повсегодно слезным праздником, весма хулимое, нам же и воспоминания не достойное.
Феофан Прокопович. «Правда воли монаршей»
6
Астраханского бунта Васька не мог помнить, но, кажется, знал все происходившее тогда отчетливо, до мельчайшей подробности, словно сам был свидетелем.
Много позднее пережитой в детстве страх часто всплывал в памяти и, помноженный на страх отцовский, сквозивший в бесчисленных рассказах о бунте, претворялся в красочные и страшные сновидения. Но никогда, думая о бунте, не осуждал он отца и лишь сочувствовал его раскаянию. Поначалу же, долгие годы, просто не мог уяснить, почему отец ставит себе в вину то, что ни один человек, кроме него самого, не посмел бы посчитать даже невольным прегрешением?
…Отец не пошел в собор и о чем-то шепчется с дедом в углу. Детей целый день не пускали на улицу, а теперь мать укладывает их спать раньше обычного и садится петь свою бесконечную, такую любимую-любимую колыбельную.
Сперва она спешит, но на втором круге втягивается и поет спокойней, от души – она любит петь. Она произносит слова благоговейно, медленно, словно общую молитву с амвона читает. Слова крадутся тенью по стене, залезают под одеяло, греют.
Тепло разливается, разливается…
- Баюшки-баю!
- Сохрани вас
- И помилуй вас
- Ангел ваш —
- Сохранитель ваш.
- От всякого глазу,
- От всякого благу,
- От всех скорбей,
- От всех напастей.
- От лому ломища,
- От крови кровища,
- От зло человека —
- Супостателя.
Она раскачивается в такт – кач-кач, кач-кач, – сохрани вас и помилуй вас – кач-кач… У нее низкий грудной голос, и звучит он все тише, тише, и лишь последнее длинное-предлинное слово отчетливо тянется по слогам, совсем уже печально и испуганно – так ужасна нарисованная картина.
Су-по-ста-те-ля…
На крыльце слышен топот – много человек сразу пришло к священнику, – видно, важное дело, раз их столько понавалило.
Мать вскидывает голову, шарит по Ваське руками, укутывая его в одеяло, и быстро переносит их с сестрой на печь, зарывает в старую крашенину и сует, сует в руки сухую лепешку.
Теперь совсем не до сна.
Интересно слушать и смотреть. Смотреть на отца, торопливо натягивающего праздничную рясу; на деда, дающего сыну какие-то важные и скорые советы; лицо деда дергается при каждом новом стуке в дверь и выражает при этом суровую озабоченность: складки на лбу, брови нахмурены, словно он собрался изобразить Соловья-разбойника, да призадумался посередине; на мать, впускающую в избу оборванных пьяных стрельцов, несколько поугомонившихся, правда, при виде священника в полном церковном облачении.
Он помнил, как мешала ему подглядывать Мария. Она-то и придумала «окошко» – соорудила дырочку в тряпье, но разглядеть набившихся в избу людей ему удалось плохо – сестра не подпускала. Тогда он заревел от страшной обиды, и сразу же злые руки сестры зажали ему рот. Она испуганно и резко зашептала: «Замолчи, Васька, замолчи же, ешь хлебушек, ешь».
Но никто не обратил на них внимания.
Отец куда-то ушел со стрельцами, а мать, совсем о детях забыв, выбежала вслед, но от распахнутой двери отойти побоялась – застыла на крыльце. Мария спорхнула с печи и, подбежав к ней, прижалась щекой к юбке. Василий на какой-то миг остался один и тогда уже разрыдался по-настоящему.
Мать вскоре вернулась в дом, привычным ласковым шлепком направила Марию на печь. И долго потом стояла, обняв обоих, гладила по головам: «Спите, дети, спите, ангел вас охранит, спите». Петь, видно, сил у ней не было.
Ему исполнилось тогда три года. Вот, собственно, и все, что запомнилось: как гладила по головам мать, заговаривала, успокаивала, отваживала надвигающуюся грозную беду. Но отец всю жизнь потом без конца корил, клеймил себя принародно и дома, что не помог, не вмешался, а остался лишь немым свидетелем кровопролития.
А оно свершилось мгновенно, всего в нескольких шагах от их дома, на большой площади.
Дикой смертью погиб де Винь. Тимофея Ржевского вытащили из курятника, жалкого, перепачканного куриным пометом, в оборванном немецком платье, с трехдневной щетиной, отчего смертельно-серое, напуганное лицо его казалось особенно грязным. Щетина послужила поводом для насмешек: «Ишь, решил в спешке бороду отпускать, ирод немецкий! Заточили настоящего государя нашего в Стекольном граде, заклали в столп, а на Москве веру немецкую поставить хотите».
Разбушевавшийся народ был непредсказуемо ужасен.
Губернатор увидал попа – бросился: «Батюшка, защити!» Что он мог тогда, батюшка?!
Оттеснили. Сомкнули круг. Толчки. Злоба стрелецкая. Бабы истошно проклинают так, как только они умеют, даже кишки сводит. И вдруг расступившаяся толпа и скачущий конник. Лицо Тимофею Ржевскому хорошо знакомо – держал его неделю в карцере за кулачный бой в «Спасительском». Конник Уткин и острие казачьей пики, метящее прямо в глаза.
Никак он этого помнить не мог, а представлял красочно, вплоть до изрытого страшными копытами песка перед собором. Слово «стрелец» скоро позабылось, вышло из употребления, но все существенное память сохранила. Ржевский дружил, если можно так было назвать его отношения, с простым священником: любил с ним поговорить, давал книги из своей библиотеки и не забывал делать подарки на именины маленького Василия.
Фортуна распорядилась по-своему: зачем-то ей важно было, чтоб остался в памяти детский страх и временами вставала перед глазами картина жестокой расправы, столько раз обрисованная отцом, и, вспоминая его терзания, невольно и на себе ощущал он его муки, словно сам был невольно причастен к бесцельному убийству.
7
Голландца Лебрюна Василий помнил уже отчетливо.
Отец ждал иноземца с нетерпением. Несколько дней, с ним проведенных, вспоминал часто и всегда восторженно: пронеслись перед ним далекие миры, о которых мечтал в юности и к которым не отпустил тогда дед.
Но у старика был свой резон, свое знание – он все это испытал сам: и приближение к высшим мира сего, когда он, способный певчий, певал великому Никону родившиеся среди братии особо чтимого патриархом возводимого им Новоиерусалимского монастыря пышнозвучные канты – тогдашние новации в песнопении. Недолгое время состоял он при регенте новоиерусалимского хора, побывал после и в самой первопрестольной, а затем бежал с семьей или был выслан – какая разница, как назвать то, что исковеркало столь ярко начавшуюся жизнь. Здесь, в далеком далеке, по истечении стольких лет, дед думал теперь о более важном, чем суетные метания ушедшей молодости, думал о самой жизни. Он не пустил тогда Кирилла, убоялся за единственное чадо, да в ту пору еще и таил зло на сияющую златым светом высокоторжественную жизнь столицы. Прав ли был?
И вот наука сама постучалась в их дверь и… испарилась, оставив просьбу-наказ. Пузатенькие маленькие склянки с красными засургученными пробками, спирт, в котором плавали, если наклонить склянку, разные рыбы, и большая бутыль с головой птицы-бабы – трогать их было запрещено, к ним даже близко нельзя было подходить. Если бы его поймали в сарае – порка не заставила бы себя долго ждать; отец гордился возложенным на него поручением и любил показать, что стережет коллекцию голландца особо внимательно.
На деле все это богатство пылилось в дальнем углу за заброшенным верстаком. Васька любил разглядывать белые рыбьи глаза, серебряную чешую судачков, желто-черные спины линей, их лопатообразные тела и слипшиеся плоские хвосты. Рыбины с рынка совсем его не интересовали, другое дело те, что затаились в сарае. Пыльные бутылки и белые, неподвижные, чуть пухлые рыбьи животы. На полках лежали высушенные большие лещи, щуки, осетры и стерлядки. С лещей и щук летела чешуя, а на рыбьих спинах все больше нарастали комочки соли, похожие на перекаленную золу.
Зато серая голова птицы-бабы с широким клювом и морщинами мешка под ним (в мешке спокойно уместился бы небольшой судачок), потемневшие дырочки-ноздри и закатившиеся глубоко под лоб застывшие глаза пугали и притягивали одновременно. Эти два смутных чувства рождали любовь к темным склянкам: Васька мог часами изучать складки на шее птицы или узоры чешуи у рыбин, а страх придавал любопытству значение подвига.
Отец называл птицу-бабу на немецкий манер – пеликан. На Кутуме, на волжских мелях они часто встречались. Большие, с набитыми зобами, среди мелкотни птичьего базара они походили на чинных персидских купцов, и только важные сухоногие фламинго, эдакие птичьи индийцы, вечно поглощенные своей вельможной поступью и поэтому словно опасавшиеся за каждый шаг, не уступали великанам в чванливости. Все же от персов-купцов с их тройными подбородками пеликаны отличались более живым, подвижным характером, постоянно хлопали себя по бокам крыльями, вытягивали и убирали извивающуюся шею, тогда как тучные персы, выставляя с утра свою мощную красоту, замирали как статуи на весь день, сидели отрешенно в ханах на базаре, попивали кофе или изредка отрывали виноградины от грозди, бросали их в рот, разминали ягоды языком и высасывали сок с удовольствием, никак не отражавшимся на их лицах, привыкших к спокойному полуденному восточному кейфу.
Пеликан и рыбы были нужны для науки. Отец произносил это слово с большим уважением, и оно запомнилось, хотя было непонятно, что она, наука, будет делать с этими мертвыми тварями. Скорее всего, птицы и рыбы заготавливались ей – науке – в пищу, как моченые арбузы и вобла, но зачем было для этого ехать так далеко, Васька уразуметь не мог, а предположить, что есть на свете земля, где не существуют птицы и рыбы… страшно было даже думать о таком.
Наука жила в Голландии. Страна эта располагалась где-то на краю земли: никто точно не знал, где именно. Дальше Дербента, Бухары, Самарканда – это точно. Даже дальше Гиляна, Шемахи и уж совсем недосягаемой Индии. Снежная Вологда, откуда был родом дед Яков и из которой «попадали» в Москву, как в свое время «попал» дед, и та была ближе.
Снег ему приходилось уже видеть, но он никак не хотел поначалу верить деду, что эта быстро тающая белая кашица может «заносить» дома; дед любитель был рассказывать сказки, и Ваське его воспоминания о Вологде казались продолжением историй о ведьмах, богатырях и о Соловье-разбойнике, и тогда снег разрастался до громаднейших размеров, падал комьями величиной с большой пузатый кувшин, проламывал своим весом крыши амбаров и «заносил» дома, крепостные стены, соборы, реку и ревущих от испуга ишаков и верблюдов. Представив себе такую картину, он больше слова «заносить» не боялся и уже хорошо понимал его, как обычное сказочное слово, и дедова Вологда казалась огромной пустынной степью, на которой толстым покрывалом лежал немой снег.
Вообще в мире существовало множество незнакомых слов. Они, конечно же, в первую очередь принадлежали иноземцам и чаще всего встречались на базаре, но городские улицы, по которым эти слова расходились с быстротой сплетни, часто мешали знакомые и незнакомые слова, и скоро Васька к ним привык и уже употреблял сам или, пробегая по городу, пропускал мимо ушей. Другое дело – степь с ее гортанным калмыцким тарахтеньем; она была интересна, но выделить в степной речи слова было невозможно, и он, как и другие ребятишки из крепости, дразнил своих калмыцких сверстников, пытаясь подражать их говору: «Эй ты, калмык, – ме-ме-ме!»; калмыков такая дразнилка прямо-таки бесила, и нередко даже взрослые срывались с места, чтобы поймать русских сорванцов и как следует отодрать за уши. Но это были говоры иноверцев, Бог дал им разные языки, смешал их, перепутал умышленно во время Вавилонского столпотворения, дед любил о нем рассказывать поучительно, как будто Васька был одним из провинившихся строителей столпа. В обыденной речи деда и отца часто тоже встречались слова совсем непонятные, и чаще всего они относились к дедовым воспоминаниям-сказкам о молодости и к рассуждениям отца о Голландии, которую, поговаривали, за что-то особо любил царь Петр Алексеевич.
За горами, за долами, за Северным морем, холодным как снег, если верить деду, была Голландия, и в ней жили люди, которые для науки рубили головы птице-бабе, или пеликану, и опускали их в бутылки со спиртом…
Они всей семьей хлебали щи, когда без стука отворилась дверь и в избу вошел черный от загара человек в немецком господском платье. С ним был еще один, проще одетый, без кружев, но тоже в большой фетровой шляпе и башмаках с бантами.
Детей сразу отправили гулять на улицу, а загорелый потормошил Ваську за плечо и сказал что-то вроде: «Гер-мер-кер – дер-ом-дом-пер».
Это и был Лебрюн.
Еще раз он заходил к отцу через день, забирал своих рыб. Два солдата вытаскивали их из сарая, бережно обтирали мокрой тряпкой, стараясь не повредить чешую, и так уже сильно пооблетевшую, а загорелый следил и обязательно приговаривал: «Гут-гут». Потом, когда телега была нагружена (склянки он взял все, а вот рыб почему-то клали отборочно), голландец стал что-то говорить отцу, а толмач лихо переводил. Лебрюн звал в Голландию, но отец отказался, не захотел сопровождать бутыли с провизией для науки. Васька видел, как загорелый пытался всучить отцу деньги и, когда тот не взял, затараторил уже совсем громко: «Др-др-гур-дерр».
Лебрюн уехал навсегда. Сухие осетры еще долго лежали на полке, пока мать не растолкла их поросенку. Все о них забыли.
Только Васька хорошо запомнил. Всех рыб, голову пеликана и его закатившиеся глаза.
8
Лебрюна он помнил, Кубанца не мог забыть никогда.
…Разница эта велика и значительна. Мог ли он подозревать, что судьбе будет угодно снова свести их, но если голландец, проскользнувший как тень, сказочно чудесный, так навсегда и останется для него лишь прелестным образом детства, манящим и загадочным, то Кубанец, Юсуп Кубанец, сменивший имя, но не переменивший своей сути, еще раз настигнет его, пересечет ему дорогу, и это случится в самый важный период его жизни, и там, в неведомом пока будущем, он будет столь же жесток и коварен, как сейчас, когда предстанет перед ним на астраханских виноградниках; и первая горечь и обида от несправедливого наказания, первое знакомство с настоящей жизнью когда-то, когда-то впереди снова вспыхнут с почти детской силой первооткрытия, и былой ужас, и былое бессилие повторятся вновь, и будет это не случайное, слепое повторение.
Но будущее его еще далеко, очень далеко, за семью горами, за семью долами, как путь молодца из дедовой сказки, и пока-то он живет без учета времени, вне пространства, в точке рождения, в знойной Астрахани, а события лишь незаметно для глаза набирают закономерную быстроту; для него же все вокруг пока едино, и сказочно, и вместе с тем реально. Подобен он пушистому беззащитному цыпленку, едва проклюнувшему упругую скорлупу яйца и взирающему на солнечный свет сквозь едва заметную трещинку-оконце. Но яйцо разбито, и никакие силы уже не могут вернуть ему первоначальный целостный облик…
Ему было уже тринадцать, Марии – шестнадцать. О свадьбе ее не могло быть и речи, отец объяснял это тем, что надо помогать больной матери, на самом же деле все понимали, что скрывал отсутствие денег на приданое. Денег почему-то всегда не хватало.
Отец, большой и грузный, стал с годами сутулиться, у него как бы вырос за плечами горб, словно тяжелые ручищи притягивали его все больше и больше к земле. Расправлял плечи он только на амвоне, когда плавное слово проповеди летело в паству, – отец особо любил проповедовать, заранее готовил речь и тогда мерил и мерил шагами маленький их домик или уходил на улицу и, прогуливаясь перед сном, обдумывал грядущее откровение; в остальное время он сохранял позу читающего у налоя, и если добавить к этому появившуюся у него шаркающую походку – он ставил ноги и обязательно проводил подошвой по полу, – то стал он смахивать на монаха-книжника, тогда как молящихся в его соборе молодых монашков из монастыря легко можно было причислить к дьяконскому чину, так мало аскезы и покаяния было в их сильных, мирских телах.
Отец заметно постарел и совсем отдалился от семейных забот – мать одна несла на себе все дела по дому, сама рассчитывала деньги и даже умудрялась откладывать тайком на свадьбу Марии, она же всех обстирывала, обшивала и ходила за больным дедом. Отец большую часть времени пропадал у отца Иосифа или у Фадея Кузьмина – сторожа губернской канцелярии, человека умного и крайне религиозного.
Редко-редко, но случалось, что возвращался отец из гостей навеселе, и тогда, мурлыча какой-нибудь развеселый кант, он преображался, на миг возвращая себе облик былого весельчака, но только на миг. Только на миг. Жизнь давила и мучила его, и улыбка его стала вымученной и походка такой же, в глазах затаилось выражение глупой скорби.
На Ваську он до поры до времени, казалось, не обращал внимания, ждал, пока сын подрастет. На Марию же просто махнул рукой, предоставив ее воспитание матери.
Сколько Васька помнил, мать и сестра всегда были вместе. Мария льнула к ней, но добра не была, скорее льстива, и оберегала свое место от братца. Мать любила обоих: сажала по вечерам рядком и, занимаясь рукоделием, пела, а они слушали и иногда подпевали. Но мать выбирала такие печальные и жалостливые песни, что Васька часто не выдерживал и отворачивался. Особенно тяжела была песенка про девушку-девицу: всеми брошенная, она горячо и слезно молилась в темной своей горенке, одинокая и разнесчастная. Он вскакивал и убегал, но не мог не подслушивать – печаль материнского голоса манила. Его замечали, вытаскивали из угла, мать тормошила, и тискала, и смеялась тепло и добродушно, сестра – по-детски зло, завистливо. Он страшно обижался. Каждый раз. А девушку-девицу любил. Любил и… ненавидел.
Но с годами мать стала сдавать. Болеть она начала после Васькиного рождения. Что-то мешало дышать, сжимало горло, и не помогали тогда ни заговоры и шептанья слободской знахарки, ни притирания полкового лекаря. В такие минуты она опускалась на лавку, сосредоточивалась только на дыхании, вслушивалась в каждый шумный, с трудом дающийся выдох, а когда удушье проходило и дыхание восстанавливалось, еще долго после сидела на лавке, пила горячий настой, отхаркивалась в сенях, а затем, нагнув голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, входила в дом, и Ваське всегда казалось, что, ступая в чадный воздух избы, она вбирает голову в плечи, словно ныряет в холодную воду.
Только дед Яков не менялся, по-прежнему лежал в своем углу на топчане. Он любил свой угол. Никому не мешал, в дела семьи не встревал, и, однако, к нему часто обращались за советом. Беззвучно шевеля губами, творил он молитвы, перебирал четки или, с трудом спустив непослушные парализованные ноги на пол, полусидел-полулежал в подушках и читал Минеи, громко плевал на пальцы, переворачивая страницы, возился с лучиной и сам обращался к домашним только по крайней нужде. В церковь он не ходил, многих расслабленных приносили по праздникам, но дед на предложения отца всегда отвечал отрицательно, словно за долгие годы службы ему наскучили и церковное пение, и дрожащие свечные огоньки, и торжественные выносы плащаницы, а хотелось только одного – покоя. Но вместе с тем постригаться он тоже почему-то не хотел, хотя всем своим обличьем походил на схимника, как их изображают на стенной росписи: худющий, с выпирающими скулами и большими, навыкате, глазами, мутными от постоянного чтения и от старости, с длинной седой бородой и жидкой серой косой, которую никогда не расплетал.
Порой часами из его угла не доносилось никаких звуков, казалось, что дед спит, но часто Васька ловил на себе внимательный, изучающий, ласковый взгляд и бежал на его зов. С самых ранних лет, так уж повелось, он не смел мешать его занятиям и размышлениям и спешил к старику только по знаку больших стариковских глаз, когда они теплели, потому что часто, очень часто взгляд деда был холоден, суров и проходил как бы сквозь внука – тогда Васька не приближался, обходил заветный угол.
Он ухаживал за дедом наравне с матерью, а после и вовсе заменил ее: укрывал недвижные ноги, тонкие, белые, с потрескавшимися пятками и страшными, в заусенцах ногтями. Бессильные дедовы ноги он особенно жалел, помогал парить их в ушате, а после обтирал холстом, стриг ногти. Он ворочал старика с бока на бок, а тот в благодарность за подмогу рассказывал про Вологду, Москву, на которой недолго поповствовал, и как, поругавшись с келарем Чудова монастыря, самого богатого из московских, обвиненный чуть ли не в ереси, был отправлен в Астрахань доживать век. Дед клеймил раскольников, честил протопопа Аввакума, но доставалось и врагу его, крутицкому митрополиту Павлу. Только опального Никона дед не ругал – патриарх был его кумиром, вытащил его из дальней Вологды, куда простой кирилловский дьяк попал благодаря редкой красоты и силы дисканту. Царь Церкви был любитель и знаток пения.
Теперь дед не мог петь, но рассказывал о былом так подробно, так красочно, что Васька словно слышал его молодой голос: деду особо удавалось, воспарив над хором, вырваться на простор и, опираясь на общую силу, мелодию, которую тянули подголоски-басы, свободно и стремительно вместе с тем нестись над облаками слитногудущего мотива, украшая при этом слова всевозможными музыкальными красотами умело и бережно, как мелкими виньетками узора расцвечивает писец заглавные буквицы в дорогой заказной книге – на то хватало задора и голоса; и так, паря, вел он весь хор за собою, ясно и звонко слаживал колышущееся море басов – море волнующегося, душеусладительного песнопения. За то умение цены ему не было, за него и величаем был, и приближен – за него же погиб от зависти и последующего за ней наговора.
Но сперва дед успел вкусить и познать мудрую – аскетическую новоиерусалимскую, а позднее и обильную весельем и пышными обрядами столичную жизнь, и вторая, по молодости притягивавшая изначально, скоро и отплатила, и он возненавидел ее, и только на патриарха не возводил хулы, остальным же – и белому и черному духовенству Первопрестольной – доставалось преизрядно: за алчность, мздоимство, развращенность, скудоумие, лицедейство и неграмотность. Рассказывая внуку, снова переживал он прошедшее и изумленно качал головой – ему-то казалось, что все погребено и никогда более не всколыхнется в душе. Дед вспоминал, и перед Васькой разыгрывались сцены отречения Никона, царские процессии в Кремле, возникала перед взором Москва с ее красивой, но злой жизнью, скрутившей деда и выкинувшей его на самый край России, в жаркую полуденную Астрахань.
Одно дед хвалил: книгочеев и книгочейство. Он заставлял Василия слушать Минеи по вечерам и объяснял, рассуждал, но Васька мало тогда понимал – дед говорил непонятно и большей частью скучно, сказки он рассказывал куда интересней.
И вот подоспело время, отец взялся за сына. Он подолгу сидел с ним, учил грамоте по Часослову, затем по Евангелию. Велел читать наизусть главы из деяний апостолов, но пустого, бездумного заучивания не принимал, заставлял вдумываться в смысл, вслушиваться в каждое слово, пояснял непонятное. Вскоре он отвел сына в собор и определил певчим в хор.
Васька пел хорошо. Ему нравились псалмы, само антифонное пение – захватывала разноголосица, перекличка хоров, и он не увиливал от спевок. Он тоже пел крепким юным дискантом, доставшимся, надо полагать, в наследство от деда. Отец приучал к церкви намеренно. Подрастет, мол, получит дьяконский чин, а затем займет его место. Так уж повелось: и дед был попом, и он сам, сын станет третьим. Отец постарел и дальше Астрахани уже не глядел.
Пение в соборе не сковывало Васькиной свободы. Днем он носился с ребятней из крепости по волжским камышам, удил рыбу на Кутуме, а иногда, выпросив у Фаддея Кузьмина челнок, уплывал на острова со своим приятелем Сунгаром. Сунгар был из рода Притомовых, индийцев с подворья, но его отец только родился в Индии, а вскоре переехал в Астрахань и не уезжал больше, крепко обосновался здесь, разбогател на посредничестве и теперь был выборным главой индийского купечества.
Сунгар родился в России, и дружить с русской ребятней ему не возбранялось, в дальнейшей торговой жизни опыт мог только пригодиться. Маленький индиец еще не носил чалмы, он был моложе Васьки на год. Юркий, ловкий, черный, как арапчонок, всегда веселый, иногда он пел Ваське на островах свои песни, тягучие и печальные, и Васька никак не мог понять, что находят в них хорошего. Он сравнивал их с псалмами: индийские песни явно проигрывали – не было того душевного порыва, чувства, мелодия была слишком тягучей, как будто уставший Сунгар безуспешно канючил пастилу, а не пел древние как мир гимны. У индийцев были другие боги, но это Ваську не смущало. В Астрахани привыкли к различным богам, и только отец, бывало, жалел всех язычников, а когда Васька рассказал ему о Сунгаре, сказал: «Пой, пой ему, может, одумается». Васька втихомолку жалел Сунгара, но как-то не представлял веселого индийца в огненной печи. Он пел ему псалмы, и Сунгару, как ни странно, это нравилось.
…В полях за Кутумом находились виноградники. Они решили совершить на них налет. Это строго запрещалось, но очень уж захотелось темно-синих, чуть вяжущих ягод. Лучше всего было отправиться в полдень по самой жаре. Так всегда поступали астраханские мальчишки – зной загонял сторожей в шалаши. Уязвимей всего виноградники государевы, лазить в сады к армянам никому не приходило в голову, там могли потравить собаками, а затем еще и донести в губернскую канцелярию. Государеву же ягоду сторожили наемные татары. Обычно они сквозь пальцы смотрели на три-четыре грозди, утащенные с края поля, но Васька с Сунгаром задумали пробраться вглубь, к самым сладким гроздьям.
Они вышли за город, прошли татарскую слободу и оказались на месте. Никакой ограды не было, только протоптанная в сухой траве дорожка вокруг поля, по которой ездил сторож-верховой. Виноградник разбили на плоской равнине, лишь канавы с проточной водой спасали урожай от палящего астраханского солнца. Шалаши сторожей спрятались где-то в другом конце, за переплетением лоз их не было видно, только ходил старый облезлый верблюд вокруг колодца, скрипело колесо, и мутная вода лилась из ведер в главную канаву и растекалась от нее по ответвлениям. Верблюд ходил медленно, не останавливаясь ни на минуту, он даже мочился на ходу, зная, что за остановкой последует окрик или удар кнута. Его, впрочем, давно уже не били – он исправно выполнял свою ежедневную повинность и по молчаливому сговору со сторожами получал вечером пищу и ночной отдых. Верблюд животное двужильное, будет идти, пока не упадет, а падать ему не давали. Они нырнули в свод зелени. Виноградную лозу растят специально до высоты человеческого роста, затем подрезают, привязывают к жердям, и дальше она уже не поднимается вверх, а переплетается с соседними, образуя тенистый проход, в котором сверху спускаются темно-синие треугольные грозди, тяжелые и сочные.
Друзья забрались подальше от конной тропы. Сунгар залез к Василию на плечи и доставал только верхние, самые спелые, уже основательно прожарившиеся на солнцепеке ягоды. Их сильно поклевали птицы, зато зеленых почти не попадалось. Сок тек по рукам, лицу, к нему приставала пыль, но как мало это значило по сравнению с тем, что они ели виноград!
Потом еще долго сидели они в прохладной тени, Сунгар вполголоса напевал свои индийские песни, Василий слушал, блаженно развалившись на комковатой земле, и лениво поглядывал в бездонное небо в просветы между листьями; скрипело колесо, изредка раздавался тяжелый вздох верблюда, и однажды кто-то из сторожей прикрикнул то ли на собаку, то ли на верблюда, но это было далеко, и никакой опасности не ощущалось.
– Пора. Отец, наверное, уже закрыл хан, домой надо, да и Тимоха придет сегодня, – сказал вдруг Сунгар и приподнялся на локте, выжидая ответа. Даже он поддался убаюкивающему спокойствию полуденной тени.
Отец учил Сунгара писать и считать, заставлял разбирать товар, объяснял азы купеческой науки, а по вечерам к ним приходил Тимоха Лузгарь, звонарь из Пятницкого девичьего монастыря, и учил русской грамоте.
Васька, если выдавались свободные вечера, любил послушать странные уроки старого пономаря. Тимоха был известный всей Астрахани пьяница, но, когда не пил горькую, учитель был отменный. Когда же случалось ему закладывать, Тимоха преображался и рассказывал страшные истории – их-то особенно любили «ученики». Истории Лузгаря здорово отличались от дедовых – в них много было таинственного, мрачного, жестокого: там летали страшные ночные упыри-кровососы, мертвые вставали из гробов, костляворукие ведьмы пожирали случайных ночных прохожих. Он знал много астраханских преданий, и по его рассказам выходило, что послезакатная степь и ночная вода в Волге опасней любого разбойника или бродяги. Кошмары часто преследовали ребят по ночам, но они только больше привязывались к пьянчужке, завороженные его леденящим душу шепотом, а тот, бывало, договаривался допоздна и потом провожал трясущегося от страха Ваську до дому.
Но все же звонарь исполнял свое прямое назначение – учил Сунгара, ибо знал, как строг его отец, знал, что рано или поздно тот спросит с него. Сунгар, на счастье, быстро усваивал нехитрую науку, и отец был доволен. Венидас Притомов недаром был главой Индийского подворья, он знал цену образованию.
…Васька оторвался от земли и сквозь сонные веки поглядел на друга. Когда же до него дошло сказанное Сунгаром, он встряхнулся и, сохраняя видимость спокойствия, согласился:
– Пойдем, что ли, сегодня петь в вечерню. Пока дойдем, уж и темнеть начнет.
Им не хотелось признаться друг другу, что просто быстро катящееся к закату солнце вселило в их сердца тревогу, а отдаленность от дома пугала.
Виноградное едение отяжелило животы, прохлада успокоила, а дальние звуки от сторожевых шалашей усыпили долженствующее быть настороже внимание – они не залегли на выходе, не высмотрели пути отступления, а просто вышли из виноградника, как из волжских камышей, и зашагали по конной тропе.
Собственно говоря, вины уже на них не было, они не захватили с собой ягод, а ходить по тропе никому не запрещалось, так они себя уговаривали. Правда, их перепачканные лица говорили о похищенных ягодах, но и это было бы не бедой: кто же, проходя мимо съедобной плантации, устоит перед соблазном? Сторож, однако, углядел их в самой глубине виноградника, иначе никак нельзя объяснить его неожиданное появление. Наказание последовало тут же, без вопросов, без выслушивания обычных извинений и отговорок; они услыхали всадника, скачущего галопом по окраине поля к ним наперерез, и – наилучшее доказательство их вины – пустились наперегонки.
Конник мчался над лозами, лошадь была высокая, наверное помесь с персидской, но ее еще скрывала виноградная зелень, зато овчинную шапку и нагольный халат, молодое разъяренное лицо и отведенную руку с плетью они различили отчетливо.
Сунгар сорвался с места сразу, а затем уже закричал. Он помчался вперед, стараясь опередить преследователя, отсекающего путь к бегству. Он весь согнулся, только пятки мелькали. Васька замешкался, из оцепенения его вывел крик друга, он поднял глаза и бросился вдогонку, но было уже поздно, да к тому же, высокий и крупный, он бегал медленнее и в схватках с ребятней всегда больше полагался на свою силу. Поняв, что попался, он встал, поднял руки, закрывая голову – в нагайку вплетают свинец или тяжелый камешек, – и стал ждать, надеясь, что беззащитность позы умилостивит страшного всадника.
Большая черная лошадь пронеслась мимо, в воздухе просвистела плеть. «Уй-йаа!» – закричал татарин, досадуя, что не зацепил мальчишку. Он хотел было броситься за убегавшим Сунгаром, но промах озлил его: всадник рванул узду, поднял коня на дыбы и послал его назад, сильно стиснув бока вороного своими кривыми наездничьими ногами. Мелькнуло косое скуластое лицо, открытый рот, плеть обожгла руку, и слезы сразу хлынули из глаз. В ту минуту Васька вдруг понял, что знает сторожа, даже помнит его имя – Юсуп Кубанец, – он что-то делал на конном дворе у губернатора, а теперь, видно, подался сторожить государеву ягоду.
– Не надо, Юсуп! – закричал он. – Не надо!
– Ненада? Ненада? – подхватил с восторгом татарин, и нагайка со свистом заходила по Васькиным плечам.
Он упал. Тело горело, кровь текла по руке. Она онемела и не сгибалась в локте.
– Не надо, Юсуп, не надо. – Он тихонько всхлипывал, сил не было громко реветь.
Нагайка обожгла еще раз, и топот копыт стал удаляться. Он понял, что все кончилось, что Юсуп поскакал за Сунгаром, но боялся даже посмотреть вслед и только прижимался к земле и сучил ногами от нестерпимой боли.
Дома мать охнула и бросилась отмывать. Он был страшен: распухший, посиневший, весь в грязи, спекшейся крови и сладком виноградном соке. Спину саднило, холодная вода не приносила облегчения, а только щипала невыносимо. Дед из своего угла неожиданно поднялся на руках и изрек: «Поделом, не бери чужого!» Это было обидно: из-за каких-то виноградных ягод он бит, а теперь еще и вор. Васька молча глотал слезы и отворачивался к стенке. Отец, придя домой, разобрался по-своему. Он редко сек сына, но сейчас, словно злоба Кубанца передалась ему, схватил тяжелый кожаный ремень – правило для бритвы – и отодрал его изо всей силы. Васька молчал и тут, только крепко сжал ноги.
Ночью он вдосталь наплакался и, кусая подушку, вспоминал виноград, старого верблюда, вот так же забитого, как он, и злое скуластое лицо Кубанца: «Ненада? Ненада?»
Юсупа Кубанца он не мог забыть никогда.
9
АСТРАХАНЬ. ЖУРНАЛ ВХОДЯЩИХ УКАЗОВ ЗА ГОД 1719
Октября в 26. Великого государя указ из Военной коллегии о переписке полевой армии и гарнизонных полков, и артиллерийских, и солдатских, и пушкарских, и прочего всякого чину служилых людей детей, недорослей, обучения неумеющих грамоте.
Помета на том указе полковника и губернатора Артемья Петровича Волынского такова: «Послать указ в Астрахань и велеть помянутых недорослей немедленно во всех городах переписать по сему великого государя указу и сделать имянные списки. Расписать по статутам особливо каждого чину детей, а другая такия ж списки оставить для ведения в Астраханской канцелярии, и которой недоросли ничему не учены, оных определять по приходским священникам, где кому пристало, и велеть им священникам и протоиереям церковным учить грамоте и считать, и писать, и о том послать во все городы Астраханской губернии к обер-комендантам и комендантам указы, чтоб они над учителями сами с прилежанием надсматривали и к тому б принуждали, а в котором городе сколько будет учеников из каких детей, о том присылали б погодные ведомости с имянными списками за руками в Астарахану».
10
А. П. Волынский в письме П. П. Шафирову. Июль 1716 г. Астрахань
«Здесь иное государство, а не Россия, понеже что государю и государству противно, то здесь приятно, и такия дела делаются, что и слышать странно».
11
Кафтан на нем теплый, стеганый, да и натоплено основательно, так что озноб прошиб не от холода.
– Черт бы побрал эту Астрахань, – ругнулся в сердцах. – Я просто устал. Да еще эти собаки…
Утреннее происшествие не шло из головы, мешало, как он себя уговаривал, настроиться на работу. Но, сам того не замечая, он и не пытался интересоваться делами, словно специально находил ничтожные поводы их избежать. Так в пустом томлении бродил по дому, придирался к прислуге и скоро заметил, что дом пуст – все из опасения попрятались по закоулкам. Он многократно подходил к столу, но то, что прежде волновало, заставляло с головой уйти в бумаги, сейчас казалось отвратительным, мелким, ничтожным, и он неприкаянно слонялся по покоям, избегал окон, рядом с которыми слышен был лай с улицы, и бессознательно старался освободиться от подпиравших дел. Дел же всегда хватало, – он завел себе за правило работать все утро, и после небольшой передышки на обед, часу в четвертом, вновь садился к столу и редко вставал раньше восьми часов вечера.
– К черту! – в который раз повторил проклятие.
День не задался с самого утра. Сколько раз уговаривал себя быть спокойнее, но натура брала свое – словно петарда внутри взрывалась, гнев застилал глаза, и тогда…
– Это все от усталости, – решил он. – Все от усталости. Думают, управлять здешним варварским краем легко, они думают…
Мысли путались, в них заползал лай с площади, тянул к окну. Не выдержав, он быстро пересек залу, вцепился руками в холодный подоконник – из щели дуло. Зима случилась необычайная для Астрахани – столь холодная, что поговаривали, если так еще постоит, выстудит все сады и виноградники. Но сейчас это мало его беспокоило: он глядел на соборную площадь.
Снег не раз выпадал, но его уносил ветер, сметал в углы, в ямки – потому плац был гол. Только ветер над ним и носился, выскребал смерзшийся песок, лизал простывшие до дна оконца луж. Солнце косыми послеполуденными лучами било в губернаторский дом, но не совладать было ему с сорвавшимся с цепи диким степным ветром. Стоявший у окна поежился, представил, как несладко сейчас тому, на кобыле. Он глядел на копошащуюся серую массу, выставленную напоказ прямо против въездных ворот, но не было жалости к наказуемому. И зла. Утреннего сумасшедшего зла не было.
Собаки измученно дергались и теперь почти уже выли и скребли передними свободными лапами промерзший песок. Они не утихомирились, не поняли, как, кажется, понял возвышающийся над ними, что смириться придется. Да, да, придется!
Человек на площади сник, кулем обвис на деревянной кобыле и лишь изредка вздрагивал, когда обезумевшие псы в который раз безуспешно пытались порвать ему ноги.
– Придется смириться, придется, иначе и быть не может, – повторил стоявший у окна уже вслух.
От этой мысли немного пришел в себя и разглядывал странное сооружение хладнокровно и внимательно. Но внутреннее, глубинное неспокойствие не покидало.
– Так надо, – уверял себя. – Пусть, пусть думают, что тиран, – их только кнутом и можно приручить. Не научить, а именно приручить, как диких зверей. Только звери, пожалуй, быстрее сдаются.
Он вспомнил, с чего все началось, и гнев вновь одолел, начал подступать к голове, и беспокойно заходили руки по стылому подоконнику.
Шутки шутить с ним вздумали! В глаза насмехаться!
На той неделе, в четверток, на куртаге у генерала Матюшкина, что стоит в слободе с полком, личный генералов шут, мичман князь Мещерский, позволил себе пройтись насчет его, Волынского, верховой езды: чинно, мол, слишком губернатор восседает, словно аршин проглотил! Кривляясь, проехался на табурете вкруг стола и сорвал всеобщий хохот и одобрение. Это он его перед Матюшкиным срамил, приравнять к нему генерала захотел, шут гороховый.
Тогда за столом Артемий Петрович сдержался, не резон было себя с дураком равнять, но на другой день послал к генералу штык-юнкера с наказом тотчас же доставить мичмана в резиденцию, хотел на площади отодрать батогами. Тут бы дело и кончилось, ан нет, Матюшкин власть свою решил показать – не выдал. Приехал сам, извинялся, в гости звал. И тогда он смолчал, решил повременить. Но как в прошлый день заявился сам насмешник да стал требовать квитанцию об остатнем морском провианте и пиве, тут уж прорвало его.
– Извольте, ваше превосходительство, выдать квитанцию, как нам положено.
– Ах, сучий ты сын, как… положено?!
Да как тут положено – ему одному и знать! И не генералу, и уж совсем не мичману, пускай он хоть трижды князь будет, не положено ему его же права разъяснять да еще и требовать!
Вскочил, набросился сам, и сам же, сам валял его – морду наглую разбил, а после отдал Кубанцу. Васька ему плетей всыпал и запер на гауптвахте.
И что? Образумился? Никак нет. Привели сегодня утром, а Мещерский голову задрал: я, говорил, самому царю писать стану о вашем произволе. А это уже бунт, форменный бунт! Героя решил строить?
Себя не помнил, всплыло тут и насмехательство на куртаге, отказ генеральский, снова сорвался, заорал: «Ну так и скачи!» Скачку уже Васька Кубанец придумал – сколотили наспех деревянную кобылу, вымазали шутовски ему морду сажей, кафтан наизнанку вывернули и на кобылу усадили, а к ногам по пудовой гире привязали и по собаке за задние лапы. Гири дергаются, по собакам бьют, псы осатаневшие лай подняли, рвутся, норовят мучителя укусить; но с умом вязали, чтоб не достать им. А все ж боязно – скоморох вертится, подпрыгивает, словно едет в дальние края, трясется на кобыле, вопит: «Помилуйте!» Да теперь – куда, знать будет!
Народ сбежался на потеху, а Кубанец еще и Ваньку Кузьмина, губернаторского шута, сзади усадил. Ванька князька кнутом охаживает: «Поехали!» Одно слово – комедия! Люди покатываются, а солдаты, он углядел, больше все тихо смотрят, но это и хорошо – знать будут впредь, каково с самим Волынским тягаться. Генерал Матюшкин ни-ни, полдня уже прошло, он и носу не показал, а ведь половина Астрахани уже на площади побывала. Да только ветер всех повымел – холодно.
Артемий Петрович стоял у окна, лицо презрительно дернулось: «Черт их дери, пускай пишут!»
Он ни минуты не сомневался в правильности содеянного: так только и надо, коль мирного языка не понимают! Но собачий лай выворачивал душу наизнанку, и он клял себя за потерянные полдня, но к делам никак не мог подступиться – все возвращался мыслями к своенравному мичману, и злоба клокотала в груди, изводила, не давала сосредоточиться.
Дверь приоткрылась, в щель просунулась круглая голова Кубанца.
– Армяне пришли, ваше превосходительство, дозволите впустить?
Ординарец хорошо знал, как не любит генерал-губернатор астраханский, чтобы его беспокоили после обеда, но Артемий Петрович сам приказывал вчера звать армян к этому часу. Те пришли и теперь толклись в прихожей.
– А Мамикон-то, ваше превосходительство, давешних иноходцев привел, – хитро улыбаясь, сказал Кубанец. – Так как прикажете?
И тебя небось умаслили, подумал.
– Давай, давай веди в маленький кабинет, только не сюда. Да накрой там… – Волынский повернул голову от окна к двери. – Пускай ждут.
Он потер затекшую руку (еще в детстве свалился с лошади) и снова повернулся к окну.
Езжу, значит, плохо, – еще раз всплыло в памяти, но он уже думал о другом. Он благодарил провидение, наславшее армян, – дело, и он ухватился за него, и срочное дело, как всегда, исцелило от ненужных мыслей.
Армяне пришли. Хотят насчет торговли говорить, против персов опять подбивать станут. Сейчас, сейчас начнется сладкоголосие восточное… Что турки, что персы, что армяне – азиаты все хитры. На вид-то они послушные, но только на вид… Теперь его не обманешь, а раньше…
Отправил государь в Персию посланником. Много ли он о ней до поездки знал? Знал только, что существует такая держава, а каковы там люди, что у них за законы? Так прямо Шафирову перед отъездом и признался; но барон – голова: утешил, наставил, обнадежил. А как вернулся в Петербург, так и удача вышла, повышение – полковник и генерал-губернаторство в новой губернии, Астраханской. Петр очень доволен был, все прошлые грехи списал, расцеловал, сюда направил. К Персии близко, значит, дело знакомое – так государь подумал и не ошибся: нагляделся он здешнего люда, на мякине не проведешь!
Собаки снова зашлись, темная фигура распрямилась, задергалась, но скоро опала. Он скользнул по ней взглядом, но уже привычно, и перевел глаза на кордегардию у ворот. Там как раз менялся караул. Капрал, разводящий, скомандовал, солдаты, исправно и четко выполнив команду, замерли. Сапоги были надраены до блеска.
То-то! А ведь вспомнить страшно, какое ему наследство досталось от обер-коменданта Чирикова. Старый был служака, из низовых воевод, полный над всем краем начальник.
До Москвы что скакать, что водой плыть – все одно, даль дальняя, пока дойдет. Что Чириков, что Ржевский – как на свою вотчину на Астрахань глядели. Торговали через подставных, при случае сами не гнушались; в Персию свинец пересылали, соколов, кречетов, что только царям положено, поставляли; казну от своего кармана мало отличали. Калмыков, когда не надо, теснили, когда надо, потворствовали их наглости, а следовало бы всегда в кулаке держать, вольницы никакой, дисциплина воинская, сначала побрыкаются в кулаке, попищат, былое вспоминаючи, а потом ничего – даже зверь дикий к клетке привыкает, только во всем меру надо знать.
Вот сейчас, например, Мамикон Ваграпов со товарищи пожаловали. Будут для компании своей просить льгот на шелковую торговлю. Компания, слов нет, удобней: государству чохом брать сподручней. Но и виду нельзя подать: еще придут, пускай походят, попросят, у самих как заведено – утомятся, сговорчивее будут.
Но даль, даль, самая государства окраина… Все по старине, медленно, чинно, как когда-то раз заведено было. Москвы побаиваются, да хитры – здесь иной край, иные нравы. Им до скоростей столичных дела нет. Петр спешит, торопится, всю Россию переделать мечтает, а здесь все еще пекло восточное – разомлели, еле двигаются.
К примеру – Казань: губернаторы казанские с купцов три шкуры дерут – как тут, казалось бы, торговать? Так исхитряются, все равно барыши огромные. А сами-то купцы, поди их с места сдвинь – по старинке, втихомолку бороды оплакивают. Армяне – вот молодцы, нос по ветру держат. С ними дела и надо делать, а уж на них и остальные равняться начнут, как большую наживу почуют. Да только власть-то на местах еще прежняя. Про Петра Матвеевича Апраксина рассказывали: ушел на Кубань в одиннадцатом году в поход, а заместо себя губернатором сына четырехлетнего оставил! Указ в собрании читали, а мамка его под одеялом прятала, не испугался бы малец. Как возвратился, приказал в палату сына опять же под одеялом внести. Благодарил за мудрое правление – младенец возьми да и заплачь. Конфуз какой! А ближний боярин Апраксин к людям повернулся, молвил: «Вот-ста, смотрите, какое у меня умное дитя: обрадовался мне да и плакать стал». Губернские его чуть не на брюхе ползут: «Весь, государь, в тебя!», а боярин Апраксин улыбнулся: «Да в кого же, де-ста, быть, что не в нас, Апраксиных».
…На дворе опять завыли собаки. Он отошел от окна на другой конец залы, замер прислушиваясь. Сюда шум не долетал, только шаги его отдавались цокающим эхом – все затихло в доме: губернатор отдыхает! Запустил руку в настенный ковер, вырвал несколько волосков, скатал в шарик и щелчком отбросил под ноги. Не заметил, как снова приблизился к окну.
Скольких же в Астрахани поразогнал – вор на воре! Знамо дело, на полуденных воротах российских сидят, а солдаты в рванье, ранжира не знают, сапоги в кабаке заложили, кто во что горазд одеты! Кубанцы да нагайцы прохода не дают на дороге, на воде вольница лихая гуляет. Вот и сейчас: в погоню кого отрядить – корабли не чинены еще, а армяне не преминут пожаловаться: с неделю, в прошлый пяток, их караван пограбили, и где? У Плосконной горы, в двадцати от Астрахани верстах!
А флот! Какой он флот тут застал – одни дощаники, в них только скот через Волгу перевозить, и то половина течет. Струги сгнили. Кораблей – два осталось, и это из пятнадцати! Был гамбургский капитан Мейер, а что толку, звание одно капитанское имел. Половину кораблей на мелях сгубил, другую половину сгноил, а от самого и следа не осталось – исчез капитан Мейер, спился, говорили, да и потонул по пьяному делу: моряк! А государь ведь не спрашивает, что было, ему порядок подавай сей секунд.
Помнится, после персидского вояжа государь его лично вызвал, спросил: «В Астрахань, на новую губернию поедешь?» Петр Алексеевич спрашивает, а ему попробуй откажи, просьба – приказ! С другой стороны, хорошо – здесь подкормится, а уж потом в Петербург, сперва только жениться надо, как задумал, на Александре Львовне Нарышкиной. Отец ее царевой матери брат как-никак. Но в этих краях надобно отличиться обязательно, Петр любит, когда трубы поют. Тогда на губернаторстве долго не задержится – не век же ему в Астрахани куковать.
А ведь сюда как приехал – и был только с ним один Васька Кубанец из местных новокрещенов, бывший Юсуп-татарин. Лихой мужичонка, еще в Персию с ним ездил. Как собака преданный. В Персии себя показал – на гилянской дороге случились разбойники, так Кубанец первый на них полетел, испугом взял. Лихой, а один – ординарец. В Сенат писал, просил солдат, людей – Еропкина, Хрущева, Кикина Ивана, – с ними и стал полуденное царство покорять. От ногайцев траншемент на другой стороне Волги заложили, корабельный мастер флот налаживает, Иван Кикин солдат погонял по плацу, таможенных сменили всех – теперь не обведешь. Раньше те же армяне, да персы, да бухарцы, да гилянские купцы всю таможню на корню скупали – вези что хочешь. А ведь и сейчас, наверное, подкупают, прижились… сказать надо Кикину, пускай ревизию наведет! Нельзя азиатам верить, никак нельзя.
Он отошел от окна, прошелся по пустынной зале, машинально сосчитал количество шагов до столика с фруктами. Получилось четырнадцать. Цифра эта ему ни о чем не говорила. Надавил гранат, кожица лопнула, потек красный кисловатый сок. Пить не стал, бросил назад в блюдо и тщательно вытер руки. Фрукты тоже армяне подносят со своих садов. Несут и несут – купить хотят.
Тут кстати вспомнил про армян: однако надо идти, достаточно время потянул.
Он прошел через анфиладу комнат, свернул в левое крыло, открыл потайную дверь в кабинет. Купцы его с этой стороны не ожидали, разом вскочили с кресел, низко поклонились.
– Садись, Мамикон, садись, говорить же пришел, а в ногах правды нет.
Кубанец принес кофейник, разлил всем кофе. Армяне к чашкам не прикоснулись, только приложили руки к груди, поблагодарили. Ждали, когда сам отхлебнет. Но на кофе даже не взглянул: тут не восточный дом, надо с ходу брать быка за рога, кофе – это так, для обстановки.
– С чем пожаловали? – спросил, а посмотрел в сторону.
Мамикон Ваграпов, глава Джульфинской компании, начал, конечно, издалека. Приветствовал – сплошной мед. На что русских подлиз полно, но так, как эти, обтекать словами никто не умеет: и недостойный целовать стопы, и прочее, а у самого капитал – ого! Ему одному этих двух жеребцов персидских, что в подарок привели, тканей да табакерку с алмазами ничего не стоит поднести.
Знают ведь, чем улестить, – он, Волынский, с детства страстный до лошадей охотник. На днях увидал на базаре – глаз не оторвать: чистые персидские иноходцы. Осмотрел, погладил, похвалил, а армянам и достаточно – глядь, уже ко двору привели. Он как увидал – понял: его будут, на таких конях только губернатору и ездить. Ну как тут удержаться? Ведь и азиаты не зря ему иноходцев показывали. Здесь так заведено, иначе не поймут, откажешься – значит, мало дают, еще и еще несут, а совсем откажи, неведомо что и будет, удерут, наверное, из России, решат, что их извести собрались. А раз подарки берет – значит, согласен говорить: ему от того только большее уважение, а державе – престиж. Азиаты тоже силу да власть понимают. Хорошо получилось, что через те ворота прошли, где мичман на кобыле скачет, – они к таким вещам привычные, в Персии сам нагляделся. Только крепче почитать станут.
Артемий Петрович в упор разглядывал купцов-компаньонов. Все пожилые, бороды седые, носы мясистые, крючком, глаза черные – взял Мамикон их для представительства. Так и будут сидеть, слова не вымолвят, а по-русски понимают, давно в Астрахани торгуют.
Мамикон сперва просьбу о патере изложил.
Дело о католическом фратре капуцине Антонии важное, Мамикон знал, с чего начать; нужды армянской колонии его, губернатора, меньше всего волнуют, но это для затравки, ни для кого в Астрахани не секрет, что у Волынского настоящая война идет со своими, с православными попами. Если по правде, так с детства их не любил никогда – все они на одно лицо – владыки! Привыкли власть с воеводами делить, а в иных краях, где воевода слаб, так и вовсе архиерей всем миром заправляет. Указы государевы им поперек горла встали, все о старине мечтают, не по нраву им новоявленный Синод. Таких попов, как преосвященный Феофан Прокопович, любимец Петров, единицы и в стольном городе, тут же все сплошь противники синодального правления, воздыхатели о былом патриаршем могуществе. На каждом шагу гадят, палки в колеса вставляют, но не выйдет – надо станет, так те же палки об их шеи спесивые обломает, а новины Петровы заведет, как уже заводить начал. Растревожил улей, вот и вызверились – жалят. Только не на того напали, почуют скоро, как жалобы строчить, а если что, так преосвященный Феофан не даст в обиду, да и Петр сам горой встанет – знал ведь, на что посылал. Гладко и просто даже пироги не пекутся. На все время надобно – привыкнут, придется привыкнуть…
Ссора та со второго приезда началась. Сперва, в девятнадцатом, он только налетом в Астрахани был, как Петр назначил. Явился, осмотрелся, а уж и царь его на доклад вызвал. То ли самому было любопытно про свои южные ворота узнать, то ли Монс через Екатерину нажал: знает придворное правило – чем чаще на глазах, тем дольше тебя помнят. Монс к Волынскому хорош, значит, и Екатерина милует, а там, выходит, и Петр за делами не забудет. Государь его ценит – было, правда, раз: за лихоимство чуть не повесили, но простил, отошел душой. Петр ведь как: закипит, закричит, но если поостыл, то часто пуще прежнего милует. Знает, что Артемий Волынский из наивернейших ему людей – опора государева. Вот удастся венчание с Нарышкиной, тогда…
Краем уха услышал, о чем говорит Мамикон, и внутренне порадовался хитрости своего смышленого купца. Надо же, даже не пожурил Мамикон Ваграпов в речи своей епископа астраханского Иоакима, первого его, губернаторова, противника, а так, еле зацепил – ловко дров в огонь подбросил, а теперь хвалит! Конечно, все дело в своих российских попах! Строитель Троицкий, Иосиф Колюбакин, люди донесли, в Синод отписал, с ведома епископского, конечно. Зачем-де новый губернатор кельи монастырские под свою канцелярию и склады занял, землю от обители отнял под городскую площадь, а в самом монастыре ворота каменные разломать приказал и здания снес.
Он, Волынский, тогда ему по-свойски объяснил, думал, уймутся, не станут больше доносы строчить. Крепость Астраханская не монастырь, а фортеция военная. Ее бы на Вобанов манер переделать, а то здорово стара, как в курятнике – закоулки, перегородки, лабазы – второй базар. Дело-то в Синоде закроют, но кто может положиться, что по новой не отпишут?.. Губерния… Все, что ни есть, – темнота: опереться не на кого, объяснить некому, дедовскими заветами как манной небесной питаются, и ведь свои – православные. Два года назад велел указ, чтоб грамоте детей учили, разослать. Разослали, списки недорослей представили, а что толку – Часослов, Псалтырь, азбука… По складам да из-под палки – одни читать не учатся, другие – читать не учат. Сегодня одна на католических монахов надежда. Государь поймет, иностранцев с детства любит, хоть крыж на шею повесь, лишь бы дело ведал да против воли царской не умышлял.
Неужели до сих пор не поняли, что не низовой воевода у них, а он, Волынский, столбовой, из Рюриковичей, род от Боброка Волынского считает. Ему что князь Мещерский, что генерал Матюшкин, что сам архиерей – все нипочем! Так нет, не угомонятся никак, подкоп под него затеяли. Преосвященный епископ астраханский Иоаким сам уже в Синод отписал. По его-де дозволению губернаторскому цезарской веры монах церковь в Астрахани построил. А он, патер Марк Антоний этот, в Астрахань приехал из Персии без паспорта и всем пребыванием своим чинит одно помешательство вере православной. Да еще приписал, что генерал-губернатор приказал без его изволения дел в церковном приказе не производить, и послал в приказ церковный своего поручика Ермолова для пущего надзору. Послал, и впредь так и будет – за ними глаз да глаз нужен!
Но интересно, откуда только про писание Иоакимово армянам известно? У них свои люди везде. Ведь как подал, хитрец: приходил к церкви католической Иоаким со свитой, грозился, наверное, в Синод уже написал. Так и сказал, «наверное», голосом только чуть выделил, но по-ихнему, по-восточному, это значит: написал точно, прими, генерал-губернатор, к сведению. Не знал бы наверняка, никогда б не сказал. Все недомолвками… Но опять и виду не подал – пусть выговорится Мамикон Ваграпов.
Из Сената недавно допросные пункты пришли про католиков, но это не одно дело с синодским. У царя два фратра римского закона – Казимир и Фиделий в Астрахань просились, к Антонию в подмогу. Что ж, и этих примем, одна только польза.
– Про себя пусть Антоний подробную сказку царю напишет да завтра мне принесет, – перебил Мамикона Артемий Петрович. – К вам тут из Петербурга еще два фратра-капуцина просятся.
– Отцы Казимир и Фиделий, – подхватил купец.
Вот ведь! Хорошо же у них почта налажена, поди, скорее государевых курьеров известия получают!
Слушал фратрам похвалы, а сам знал, что уже Кикин ответ сочинил. Подробно расписал, что как от Марка Антония, так и от двух других новых фратров, в Астрахань государственной Коллегией иностранных дел назначаемых, опасности для государства предвидеть трудно, понеже как Цезария и Франция, а также прочие немецкие земли от Астрахани лежат за иными государствами, а не порубежные. Это против Иоакима довод, никакого соглядатайства тут нет. А чтоб весомей звучало, самолично в рапорте прибавил, что этих капуцинов и сейчас не один Антоний в городе обретается, а несколько (сколько, не указали – считай их потом!). И паства у них из армян большая, того же римского закона, а поскольку от Джульфинской компании одни барыши Российскому государству, то и церковь католическая весьма уместна будет. А что насчет подозрения либо опасности от этих монахов, он, Волынский, не чает, поскольку со временем от них только бы польза могла сыскаться, понеже из здешнего сурового народа обучаются от них молодые дети латинскому и прочим языкам.
Как же его, попов еще сын… в Троицком певчий… большой такой, Вергилия читал наизусть, как фратр Марк Антоний представление делал. Глазами только от усердия крутил очень… Пусть себе учатся!
Знал, когда рапорт царю писал, куда бил. Государь перед отъездом ему про переписку с великим Лейбницем рассказывал. Так тот немецкий академик царю советовал на Москве, Астрахани, Киеве и Петербурге университеты учинить и школы открыть. Это, конечно, мечты Петровы, сейчас хоть кого бы тут выучить, может, свой поп объявится образованный. А пока тьма… Тьма да сладкоголосие восточное.
– Насчет фратров решим как-нибудь, если царя воля на то будет. Еще-то с чем пришли?
Мамикон, на полуслове оборванный, густо покраснел, отдышался и начал про льготы.
Волынский рассматривал остывший кофе. Помешал ложечкой, поднял со дня гущу, поднес ко рту, но пить, конечно же, не стал, наблюдал за купцами. Те взгляд поймали сразу же, но и виду не подали, им тоже все понятно было: помешали, в точности его движения повторив, но пить не стали.
Решительно следует дать им льготы, только не сейчас, еще раз-другой придут, принесут подарки новые, почуют, что они перед ним слишком уж уверенно себя ведут, спесивы не по чину…
– Да, кстати, я на базаре у вас попугая гвинейского видел, – опять перебил купца. Тот даже немного растерялся наконец: все-таки и их можно из себя вывести. – Так вот, попугая я видел, можно ли его по-русски обучить?
– А как же, наш господин, на любом языке, какой пожелаете. – Мамикон Ваграпов незамедлительно обрел прежнее спокойствие. Его толстое лицо так и светилось. – Прикажете принести?
Вопрос оставил без внимания.
– Что же вы кофе не пьете? Угощайтесь, угощайтесь…
Опять замолчал. Чуть скосив глаза друг на друга, армяне потянулись к чашкам, отхлебнули по глотку.
– Пейте, ешьте шербет, халву. – Он провел рукой над столом.
Пришлось допивать давно остывший кофе. Один даже отщипнул кусочек халвы.
– Ну что же, – Артемий Петрович встал, – просьбы ваши мне ясны. Сами понимаете, за один раз не решить. Приходите на той неделе. Кубанец вас известит. Идите с Богом! Васька! Проводи гостей!
Ординарец возник тут же. Армяне долго раскланивались, наконец ушли.
– Васька! – бросил вдогон. – Снимай-ка нашего путешественника да веди сюда, пожалуй, пора и с ним разобраться.
Он чувствовал себя прекрасно – армяне успокоили его, и, поддавшись минутному настроению, он решил отменить истязание, назначенное до конца дня.
– Ну-ка, – хлопнул он в ладоши лакею. – Неси кофе да водки большой штоф, мичман наш продрог, поди.
Наконец два штык-юнкера ввели арестованного. Артемий Петрович властно махнул им рукой:
– Отпустите!
Измученный, синий от холода, стоял перед ними глумливец на трясущихся ногах и молча, внимательно изучал воспаленными глазами своего мучителя.
– Наливай, Васька, – приказал Артемий Петрович ординарцу и подвинулся поближе.
Лицо мичмана, ранее такое надменное и наглое, теперь посерело от страха и вызывало только отвращение.
– Ну что, шут гороховый, прокатился на лошадке? – Сам не замечая, он сорвался в крик: – А? Авось теперь-то язык научишься попридерживать! Отвечай!
Арестованный с трудом разжал губы:
– Так точно, ваше превосходительство!
Простой ответ его не удовлетворил, показался подозрительно дерзким, но униженность позы вызвала острую брезгливость – он решил не срываться.
– А ты, я вижу, замерз! Так разгорячите его! Пусть пьет мое здоровье!
Желая проделать с ним известную шутку, Артемий Петрович метил не только унизить, но и обпоить, обогреть проклятого глумливца, а то, не ровен час, загнется.
Кубанец с поклоном поднес Мещерскому здоровенный рог, в который влили большой штоф перцовой водки, и произнес угодливо:
– Извольте, князь, отведать!
Штык-юнкеры хихикнули с деланной завистью: мало кому под силу было проглотить такое количество огневого напитка. Мещерский принял рог и, не сказав ни слова, покорно принялся пить. Руки его дрожали, водка протекла за воротник рубахи. Он только начал отклоняться назад, но подвели намученные гирями ноги, и мичман, не сдержав равновесия, рухнул на спину. Рог выскочил из рук, водка, сразу распространив отвратительный запах по всей комнате, пролилась на пол.
– Я, я, – стал оправдываться Мещерский, – стоять не могу, ваше превосходительство.
Он заспешил, пытаясь взгромоздиться на колени, но трясущиеся, натруженные гирями ноги разъезжались по мокрому паркету.
Тут Волынский не выдержал – нет, не суждено было этому дню закончиться хорошо.
– Врешь! Нарочно разлил! Значит, мало еще поостыл, горячительное не приемлешь? – закричал не своим, высоким голосом. Войдя в раж, он затопал ногами, свалил стул и зашиб ногу, отчего только больше распалился. – Мало тебе, так погоди же!
Штык-юнкеры замерли как истуканы, боялись даже бровью повести; Мещерский же, наоборот, растянулся во всю длину на полу: не в силах пошевелиться, мичман покорился судьбе, и только красные, обветренные глаза пристально глядели на разбушевавшегося генерал-губернатора. Это надменное, как показалось Волынскому, спокойствие и решило исход дела.
– Васька! – заголосил Артемий Петрович в полном уже исступлении. – Васька! На лед его! На лед! Стоять не может, так пускай же насидится всласть! Голым задом на час, чтоб знал, как шутки шутить! Да соли, соли насыпь под хвост – пускай ему и холодно и горячо станет!
– Вон! С глаз вон! – обрушился он на штык-юнкеров, и те, счастливые, что гнев не перекинулся на них, схватили несопротивляющегося Мещерского под микитки и потащили прочь.
Он долго еще метался по кабинету, круша мешавшуюся под ногами мебель, и что-то бессвязно выкрикивал. Волынский отходил не скоро, но тут навалившийся стыд привел его в полное изнеможение. Он рухнул на диван.
– Чертова страна! Чертова страна! – шептал, перебарывая одышку. – Чужие проворней своих! Позор! Позор!
Спустя какое-то время ум выискал утешительный довод: «Хорошо хоть, армяне про разбой не спросили», – но, поразмыслив, понял, что и довод позорный, и все кругом, все кругом…
И долго еще сидел Артемий Петрович в глубине широкого дивана, погруженный в сумерки интимного рабочего кабинета, и не зажигал свеч. Слуги боялись зайти к нему навести порядок – опасались тревожить господина генерал-губернатора астраханского в такие минуты.
12
«Власть есть самое первейшее и высочайшее отечество; на них бо висит не одного некоего человека, не дому одного, но всего великаго народа житие, целость, безпечалие…»
Феофан Прокопович. Из «Слова о власти и чести царской». 1718 г.
13
Петр. Петр Великий. Отец Отечества. Император. Странно звучащие, почти кощунственные новые титулы. Сколько раз на дню ловило их ухо. Громкое, грозное, далекое имя. Вошло в привычку слышать его, удивляться, восхищаться, робеть, затаивать страх. Имя его – Россия, но связать его с Астраханью… кому бы пришло в голову? И вот пришло кому-то. Покатилось, понеслось. Понеслось по домам, базару, торжкам, словно ветром надуло. Задолго до посещения уже знали – замышлен Персидский поход. Цены полезли вверх. Ничего еще не произошло, а одни уже надеялись, другие дрожали, и ожидание подогревалось ежедневно разноречивыми слухами, и на базаре, а значит, и в городе бурлило все, бурлило, мнения оспаривались, высказывались новые; самым оригинальным, чтоб не сказать лживым, верили и не верили, рвали глотки и рассуждали, рассуждали… Астраханское солнце перерождает кровь и даже в русских будит вспыльчивый, восточный темперамент.
Васька рано вставал тогда, но еще раньше, с солнцем, точнее еще в предрассветной мгле, начинали работу подрядившиеся на выгодный заказ плотники, – казалось, топоры стучат всю ночь. Спешно ремонтировали кровлю над губернаторскими покоями, меняли рассохшиеся ставни, перебирали половицы, белили внутри потолки, а московская артель скипидарила и доводила до блеска зелеными оселками уснувший было ложный мрамор парадной лестницы.
Площадь перед дворцом покрылась пятнами извести, кучами песка, желтой кудрявой стружкой. По Волге, груженные лесом, плыли из Казани дощаники – Артемий Петрович Волынский возводил за Кутумом загородную резиденцию.
Васька кончил терцию – последний класс школы. В спокойном, добром, уравновешенном капуцине появилась нервность; школа была чрезвычайно дорога старику, и, зная ненависть отца Иоакима, Марк Антоний, ожидая высочайшего визита, томился. Губернатор задолго наперед предупредил, что, возможно, император сам захочет осмотреть школы, и монах, много постранствовавший по свету, а потому научившийся презирать опасность, вдруг понял, что боится, попросту боится ожидаемого посещения. Здесь, в Астрахани, старик решил остаться навсегда – город стал ему дорог, и школа, и костел – детища его рук. Страшно было лишиться последнего прибежища и снова отправляться в неведомое странствие. Бесконечные дороги опостылели Божьему служителю – здесь и только здесь хотел бы скончать он свои дни: в тишине, окруженный нуждающейся в нем паствой, среди жизнерадостной, вечно кипящей суетными страстями детворы. Марк Антоний привык к России – тут, в варварском краю, он с полной силой ощутил важность и ответственность своей нелегкой миссии. Он преклонялся перед русским монархом – из всех известных ему властителей Петр внушал большее почтение своей силой, уверенностью, поражал грандиозным размахом свершенных им перемен. Капуцин старался и детям привить преклонение перед государем и, рассказывая о нем, всегда немного волновался, и волнение это передавалось детям. Да, слишком, слишком многое зависело от ожидаемого приезда…
Ученики разучивали новые песнопения, завезенные из далекой столицы, твердили наизусть орации Цицерона, оды Горация, распевно качали в такт головами, – Марк Антоний готовил их тщательно, как никогда прежде. И как никогда прежде доставалось лентяям – долго молчавшая линейка доброго капуцина часто теперь свистела в классах.
Душой пастырь отдыхал со своими любимцами – Василием и Сунгаром – друзья были много способнее остальных: итальянский, латынь и даже древнегреческий они освоили легко. Монах подолгу гулял с ними в школьном саду, беседовал для пользы дела на родном ему языке и прятал улыбку, когда они, перебивая друг друга, рвались читать выученные помимо школьных занятий стихи. Мальчишки упивались поэзией.
Это возраст такой, думал капуцин. Он остужал немного их пыл, направлял в чтении, объяснял начатки пиитики и риторики. Он поощрял желание русского учиться дальше: учеба и дела красят человека. Он давал им книги, а они помогали ему, возились с малышами-приманами[1] и скоро стали вместо него вести у них занятия.
Теперь они стали почти полноправными членами школьной общины и втроем готовились к встрече. Они трое и весь город. Город, и отдельно, особо – три его жителя.
С той печально закончившейся виноградной вылазки Сунгар с Василием не расставались. Индиец принес на следующий день какой-то пахучий бальзам, наложил на ранки – все зажило как на собаке.
Они дружили, но цели были у них разные: Сунгар готовился заменить отца в лавке, Васька мечтал учиться дальше. Их роднили Вергилий, Гораций, Цицерон и еще – комедии Теренция и Плавта. Марк Антоний дал им историю Рима Аппиана Александрийского, изложение греческих мифов Аполлодора Афинского, поэмы Гомера, и они впервые задумались, как велик, красив и мудр мир. Сколь он сед, славен и удивителен.
Но стихи, которыми было написано большинство книг, волновали особенно. Четкая латынь, певучий греческий не казались тяжелыми, как в первый год обучения, и теперь одаривали за усердие несказанным счастьем. Боги, цари, герои, сражения, дальние странствия, неведомые народы – ах, как мерно звучало в голове, кружилось, пролетало перед глазами, как Голландия детства, манило, как псалмопение, – бередило душу.
Отец воспрянул, вышел из своего сонно-подавленного, самоуглубленного состояния. Он интересовался Васькиными успехами, выспрашивал, обсуждал и много рассуждал вслух. Это они вместе с отцом Иосифом сговорились определить Василия к капуцинам. У них появилась цель – сделать из него архиерея, а отец даже, заговариваясь, мечтал о большем. Отец Иосиф, Васькин духовник, поощрял латинство, он сам учился когда-то в Киево-Могилянской академии, правда, не окончил ее, но хорошо понимал, что учение у капуцина не повредит его духовному чаду. Он и сам занимался с мальчиком: гонял Ваську по катехизису, пояснял примерами из Писания возникавшие вопросы, а в хорошие минуты распевал Псалтырь Симеона Полоцкого, коего ценил больше всех живших на земле поэтов.
- Лист его не отпадает;
- и все еще деет,
- По желанию сердца
- онаго успеет.
- Не тако нечестивый,
- ибо исчезает.
- Яко прах,
- его же ветр
- с земли развевает[2], —
тянул, блаженно сощурив глазки, отец Иосиф перед концом занятий, и Васька с удовольствием ему вторил. Он любил неспешность духовных кантов. Они давали время на раздумье: певучее, словно истаивало на глазах, слово сливалось с протяжным напевом, подкупающим своей простотой и глубиной, покачивающейся, как равномерное биенье ублаженного покоем сердца; голос диктовал силу звука, и слова накатывались друг на друга, словно тихие предзакатные волны. Чуть возлетая на едва заметных горках ударений, плыли слова и лепили тот первозданный природный ритм, от которого, стоит ему только зазвучать, вмиг рождаются милые сердцу сновидения. Упоительно растекались гласные по тихоструйному движению напева, и не будет, казалось, конца канту: «Лист его не отпадает; и все еще де-ет…» Музыка погружала в сладкую грезу, и, когда, вопреки желанию, этот удивительный музыкальный круг замыкался и наступал конец, он не сразу приходил в себя – недолгое время приятно было посидеть молча, словно заново повторяя в уме привороживший напев.
– Вот, вот, нечестивцы, яко прах с земли, исчезнут, а добродетель, яко сам содетель, пребудет вовеки, – заключал отец Иосиф, вставая со скамьи и лобызая его на прощание.
Он любил вот так рифмовать и при этом изображал мнимое изумление, словно созвучие получилось вопреки его воле. Васька быстро раскусил эту хитрость и скоро сам полюбил невинные словесные забавы, часто прибавляя к сказанному учителем и свою рифмованную строчку.
Отец Иосиф обещал дать письмо в Киевскую академию, где остались у него знакомые. Василий даже подал челобитие товарищу губернатора с прошением о паспорте для учения в Киеве. Канцелярия паспорт выписала, но неожиданно все сорвалось…
Он давно задумывался о смерти. О ней много говорили и дед и отец, но она не казалась похожей на злодейку с косой, какой ее рисовали в книгах. Смерть была в закатившихся глазах птицы-бабы из Лебрюновых склянок. Она была серая – смерть, бестелесная и, как покойники в соборе, пахла ладаном.
Сначала он боялся, что умрет дед. Но проходили годы, а он все не умирал, и Василий привык: казалось, это немощное тело знало особый, отпугивающий секрет. Но вот дед умер. Умер среди дня, спокойно, никого не позвав, ни с кем не простившись. Закрыл Минеи, положил на крышку голову, задремал. Василий хотел вынуть книжку, подложить подушку, но дед пробурчал спросонья: «Отстань, Васька, не мешай думать», – словно помогала ему эта книга, ведь так и не отпустил ее. Когда мать принесла ему обед, он уже окоченел. Смерть была безболезненной, счастливой.
Мать умерла по-другому. Она давно-давно стала копить на приданое дочке. И скопила. Чего ей это стоило, только она одна знала. Скопила, дождалась весеннего мясоеда, выдала Марию замуж. Расстаралась на славу, много народу гуляло тогда у Тредиаковских. Много больше, чем вскоре на ее поминках. Мать он всегда вспоминал, когда ел пироги с визигой. Она напекла их на свадьбу, в последний раз хлопотала у печи, а как Мария ушла в мужнин дом, быстро стала худеть. Стоять у огня стало ей тошно. Однажды она слегла и больше не вставала. Ни настои, ни отвары не спасли. Смерть ее задушила. Смерть была тяжелой.
Отец после похорон ходил потерянный, дома стало пусто, два мужика да печь. Он переменился, стал высказываться против латинских школ, против отъезда, даже против собственного друга – отца Иосифа. Против всех, против всего. Он торопил Ваську с дьяконством, настаивал, кричал, даже плакал, чего раньше за ним не водилось.
– Что ты знаешь о жизни? – это стало его любимой поговоркой-причитанием.
Он заставлял Ваську ходить только в рясе, хотел видеть сына орарным, служащим, и, хотя архиерей даровал Кирилле Яковлеву епитрахильную грамоту как вдовому, разрешая служить литургию, стал поговаривать о постриге. Он согнулся еще больше и вмиг выстарелся: ежедневно стал ругать католиков, смакуя ругательства, – думал так досадить сыну, но помешать учебе у капуцина не смог и тогда, боясь, что Васька его покинет, решил во что бы то ни стало женить. Был тут и далекий, тайный смысл – женив, он закрывал для сына монашество, а значит, и архиерейство, о котором недавно еще так мечтал. Отец всегда мыслил крайностями.
Сватовства особого не было, он давно приглядел хорошую невесту. Сходил к Фадею Кузьмину: потолковали, выпили водки, ударили по рукам. В год приезда императора, в следующий мясоед, седьмого января, первый дозволенный день, отец Иосиф обвенчал их в Троицком соборе. Свадьбу справили тихую, только семейным кругом.
Молодые подчинились родительской воле. Федосья – большая и уже немного грузная для своих восемнадцати лет, пышущая здоровьем – была хорошая хозяйка, Кирилла Яковлев наглядеться на нее не мог; думал – посадит сына на цепь, привяжет к дому. Но не случилось. Не слюбились. В душе Васька восставал против отцовского произвола и предательства и потому не мог полюбить работящую и покладистую, ни в чем не повинную жену. Трогательная ее опека на первых порах только больше злила, растравляла сразу же возникшую неприязнь. Он был упрям и втайне решил: учиться он будет во что бы то ни стало. А пока приходилось затаиться и ждать. Федосья, увидев, что муж ее сторонится, перестала навязываться, терпела, отмалчивалась, делала вид, что не замечает его угрюмости, и всю нерастраченную энергию пустила на дом и огородное хозяйство. А он пропадал в церкви, в школе у капуцина или в келье отца Иосифа, старался бывать дома как можно меньше: уходил чуть свет, приходил поздно и сразу ложился спать.
Он жил сокровенной мечтой, оберегая ее от домашних. Только Сунгару посмел признаться, и вдвоем они любили представить себе, как все это произойдет. Приезд императора – вот на что надеялся Васька: только он мог изменить жизнь, ставшую невыносимой в опостылевшем астраханском пекле. Теперь, когда приоткрылась дверца в большие миры, Васька не мог уже и думать о тихой семейной жизни, все помыслы его были там – в Москве, в далеком, ослепительном, снежном Петербурге, и он, растревоженный рассказами Марка Антония, верил, что приезд императора все перевернет, все изменит в лучшую сторону. О! Он любил его, заведомо преклонялся перед ним – достойным самых пышных песнопений. Он не знал, как все будет, но верил. Боялся и любил – он грезил наяву. До дрожи в коленях.
…Девятнадцатого июня тысяча семьсот двадцать второго года, в полдень, он был в толпе на пристани. Солдаты теснили народ: второе кольцо, взяв ружья на караул, стояло чуть поодаль, вокруг причала. Наконец вдалеке показалась галера с развевающимся флагом, и от пристани сразу же отвалила шлюпка, убранная цветами, – императора ждали с супругой. С крепости ударила башенная пушка.
Он знал, что император высок. Среди гребцов и свиты действительно один выделялся своим ростом. Василий не спускал с него глаз и по почету, каким окружили высокого на берегу, понял, что не ошибся.
Он кричал, кричал вместе со всеми, но император лишь мельком взглянул на толпу и быстрым шагом направился к крепости.
Со стен троекратно салютовали из всех орудий, как и полагалось по воинскому уставу. Толпа потянулась на главную площадь. На паперти Успенского собора ждал архиерей со священниками, отец был в их числе. Забили в колокола. В солдатской слободе, в стане генерал-майора Кропотова, трижды отозвалась салютами полковая артиллерия. Затем затрещали ружья. Он тогда пожалел, что не пел в Успенском. В новом соборе были свои певчие.
14
Потом был дождь. Сильный, необычный для астраханского июня. Книгу он заложил досками, чтобы не намочило, а сам спрятался под навесом сарая на пушечном дворе. На него немного попадало, но по сравнению с солдатами он был сух, как тростник для растопки. Это после он намок, а тогда стоял под навесом и глядел на площадь. Если была книга, значит, он спешил в школу к приманам. Марк Антоний упросил общину приплачивать ему за занятия, и теперь его стали называть учителем.
Государь стоял на нижних ступеньках Успенского собора вместе с Волынским, свита расположилась чуть в стороне. Войско проходило четким парадным шагом, мокрый песок летел из-под сапог. Играли флейтщики и гобоисты. Что есть силы бил барабан, с ним перекликались маленькие барабаны в строю.
Дождь зарядил сильнее. Свита сбилась в кучу, но Петр не обращал на нее никакого внимания – он весь был поглощен действом. Василий понял, что теперь никто уже не в силах отменить намеченных экзерциций.
Волынский взмахнул рукой. Оркестр замолк, послышалась барабанная дробь. В дальнем углу площади показался прапорщик с пикой. За ним маршировала шеренга и еще, и еще – второй и третий взводы. Прямо перед императором прапорщик замер, солдаты топнули ногой – встали. Петр не выдержал, сбежал со ступенек. Сам давал команды. Солдаты четко перестраивались, брали ружья наизготовку, вставляли в дуло байонеты – кололи, отступали назад, снова замирали. Поворачивались кругом, припадали на колено, целились. Ложились в мокрый песок. Целились. Вскакивали. Замирали.
– А-ах! – доносилась до него команда, поданная резким государевым голосом.
– А-ах!
Солдаты взяли ружья в левую руку, опустили стволы вниз, спрятали замки под мышку, чтобы не намочить порох. Приклады одинаково выглядывали из-за плеч.
Петр обходил шеренги. Все лица тянулись к нему. Василий и не подозревал, что скоро вот так же император поглядит на него и ему станет нестерпимо страшно от грозного царственного взгляда.
Петр повернулся, подошел к ступенькам, давая понять, что смотр окончен. Оркестр заиграл немецкий марш – шеренги двинулись. Одежда солдат набухла от воды, была испачкана в песке, латунные лядунки с патронами били по бокам, по ним текли желтые капли. Василий неотрывно глядел на Петра, не ощущая холода и тяжести промокшей рясы, – давно уже, сам он того не заметил, как вытянуло его из-под навеса на улицу ближе к плацу, под дождь.
О! Такой царь, каким был его кумир, он был теперь уверен, завоюет любой, и не только Дербент, а любой город мира, любую страну, и он был счастлив, счастлив несказанно, что сумел углядеть, как командует войском сегодняшний Александр Великий.
Он так и стоял до конца. Даже когда последний человек скрылся в воротах и часовые у кордегардии немного расслабились в будках. Словно очарованный пением сирен Одиссей у мачты корабля, он долго не смел шелохнуться и глядел на пустые, омытые дождем ступеньки соборной паперти.
15
Марк Антоний не стал ругать его за прогул. Наоборот, обрадовался, увидев. Схватил за локоть.
– Василеус! Иди домой, вымойся, надень лучшее, что у тебя есть. Сегодня занятия отменяются – завтра нас посетит государь император. Приходи пораньше!
Никакой особой одежды у него не было – отец не покупал ему немецкого платья. Теперь, узнав о торжестве, он сходил к келарю монастыря, принес новую рясу. Пошел с ним в мыльню и после заставил пропеть «Виват», как учил присланный месяц назад от Волынского офицер. Васька с гордостью исполнил его тогда домашним, и теперь отец проверял – не забыл ли? Федосья подстригла его. Словом, все готовились к необыкновенному и, пугаясь этого необыкновенного, возлагали на него надежды, втайне ожидали чуда. Васька так волновался, что заразил домашних, – ночью спали плохо все трое.
Отец освободил его от заутрени, благословил с надеждой, и Василий побежал в школу, но на дверях дома, где находились классы, еще висел замок – Марк Антоний молился в костеле.
Стараясь унять дрожь, он принялся ходить по саду, повторяя заученную орацию Цицерона. Слова путались, голова была пуста, он с ужасом пытался, ухватившись за обрывок фразы, вспомнить, вспомнить… но не мог. За этим занятием его застал капуцин. Он только мельком взглянул на Василия и тут же крепко сжал ему запястья, встряхнул, и Васька успокоился. Вмиг все прошло – слова всплыли в памяти.
Но затем, затем накатило снова и еще хуже, как столбняк, сводило горло и болел живот. Кажется, пришли ученики, чистили помещения, плели цветочный венок на дверь и устраивали спевку. Занятия начались, но никто не мог сосредоточиться на правилах. Наконец в класс заглянул бойкий секундан[3]: «Патер зовет выходить».
Василий стоял со своими малышами-приманами, выделяясь ростом, церковным облачением – все, и армяне и русские, были в кафтанчиках, штанишках, башмаках с бантами – их родители расстарались ради такого важного случая.
Через полчаса, когда стало совсем уж невтерпеж, около ворот церковного двора остановилась коляска. Не дожидаясь запаздывающей свиты, с нее соскочил высокий человек и быстро зашагал к школе. Вслед за императором поспевали Волынский и еще двое вельмож. Чуть сбоку семенил Мамикон Ваграпов, глава Джульфинской компании – он-то и вел великого гостя. Петр по приезде утвердил армянам льготы, а теперь пожелал взглянуть на латинские школы Марка Антония.
Монах заспешил навстречу, шаркая по дороге сандалиями. Веревка от пояса путалась в складках рясы. Он согнулся в поклоне, и хор, как договаривались, на этот знак радостно грянул «Виват». Это было новое в Астрахани пение, собственно, всего одно-то слово и пели, но получалось удивительно: слово раскладывалось на двенадцать партий двенадцатиголосого хора, и оно менялось, перекрещивалось, добавлялось повторами, дробилось, множилось, разбухало, росло, росло, росло до бесконечности, подчиняясь законам распева, оно рвалось из усердных юных уст, это слово «виват», и слава, и медь, и грохот, слившись воедино, летели к Нему, облекая Его ореолом, – и трясся нагретый дневной воздух, столь все было оглушительно, победоносно, мощно, и Васькин ликующий дискант был заглавным в этом громкозвучном приветственном гимне.
Затем кто-то из старших учеников читал оду Горация. Петр прохаживался перед шеренгой, было непонятно, знает ли он латынь.
Государь заглянул ему прямо в глаза так неожиданно, что Василия обдало огнем, как от плетки Кубанца. Он сразу уставился в песок дорожки, примятый большим грубым сапогом.
– Кто таков? Почему не по возрасту стоит? – раздался над ухом резкий, лающий голос.
Надобно было сразу отвечать, но он не мог. Это и было чудо, которое он упустил. И никакого счастья, страх сковал его. Выручил патер Антоний:
– Лучший ученик, ваше величество, Василеус Третьяковиус. По окончании школы занимается с приманами грамматикой.
– Должно учиться дальше! – отрезал Петр. – Что же ты не печешься о своих дарованиях, значит, только на словах горазд?! – бросил он ехидно генерал-губернатору и зашагал дальше вдоль замерших учеников. Больше ничего он не сказал.
Над свитой пронесся шепоток – было известно, что государь император по приезде уличил Волынского в казнокрадстве и очень им недоволен – положение астраханского генерал-губернатора было сейчас весьма и весьма ненадежно.
Подняв голову, Василий заметил, как зло стрельнул по нему глазами уязвленный градоправитель, и оттого, вконец растерявшись, качнулся и чуть не выпал из общего строя – только укоризненный взор Марка Антония заставил собраться с силами и перенести эту муку до конца.
Государь пробыл недолго: заглянул в костел, прогулялся по саду и, кажется, уехал затем пировать к армянам.
«Должно учиться!» Это выстрелило, как приказ. Но как? Как исполнить его?
Дома он все рассказал и сетовал, что упустил случай – надо было броситься на колени, молить… Отец и Федосья успокаивали, утешали, жалели.
– Вот увидишь, все будет хорошо, – твердила жена. Но он оставался безутешен.
«Должно учиться!» Чудо уже совершилось, но Василий не мог этого знать. Наказ императора слышали все стоящие рядом, и все, повинуясь грозному голосу российского властителя, поглядели на высокого перепуганного юношу – лучшего ученика астраханских латинских школ. Но только двое из присутствовавших на церемонии не забудут о нем. Первый, Иван Юрьевич Ильинский, вспомнит скоро, очень скоро – он внесет в судьбу юного Тредиаковского большие, радостные перемены. Второй же – Артемий Петрович Волынский, никогда ничего не забывающий благодаря отличной памяти придворного, обязательно припомнит насмешку императора, но, так уж распорядится Фортуна, их встреча далеко-далеко впереди, и она тоже многое переменит в судьбах обоих. Но всему свое время – в длительном промежутке, отпущенном судьбой, еще всякое случится, прежде чем неизбежные силы притяжения стянут все в один запутанный узел.
16
РЕЧЬ
к Его Величеству Государю Императору ПЕТРУ Великому, говоренная Феофаном Прокоповичем на Москве от имени Святейшего правительствующего Синода у синодальных ворот, что в Китай, при торжественном входе с победою от Дербента декабря 18 дня 1722 года
Благословен грядущий во имя Господне! Что бо сего приличнее сказати можем встречающим тебе? Явил сие в начале прошедшей, явил и в настоящей войне действительное на тебе благословение свое, отворив двери крепкия, и тезоименитому Петру приятием ключей уподобитися благоволил тебе. Тогда взятием Нотебурга отверз двери полунощныя, ныне получением Дербента в полуденные страны, обоюду затворы столь твердыя, что как тамо не случайно по взятии наречен был Ключ град, тако и зде в челюстях Кавказских и не без вины прозываются врата железная[4], и не без Божия смотрения на вход твой отверзлися…
17
Так великогласно встречала победителя Москва: били в колокола и палили из пушек. Торжество устроили такое, словно одержана была новая Полтавская виктория. За громом «виватов», ревом труб и треском полковых барабанов сама суть победы отходила на второй план – все, даже участники нелегкой кампании, начинали забывать о тяготах и невзгодах похода и славили, славили, славили здесь на Москве Великого государя, свершившего еще один ратный подвиг; опоясанный великостенной крепостью дальний Дербент и тем паче приграничная Астрахань почти полностью выветрились из памяти новоявленных героев.
Там же, в полуденных пределах, визит императора вспоминался очень и очень долго и после передавался потомкам поколениями умелых рассказчиков – столь значительные события случались здесь не чаще раза в столетие!
Тогда же мало кто знал в самой Астрахани, что небольшая часть государевой свиты задержалась в отведенном губернатором небольшом особнячке, спрятавшемся на задворках необъятной старой крепости. Особняк жил тихой, малоприметной жизнью, и лишь полковые лекари да изредка губернатор навещали расположившегося там влиятельного вельможу. Но приспел срок и последним участникам Петрова похода покинуть приютивший их, по воле случая, город.
…Вечерний благовест плыл над Астраханью. Возки давно были собраны, вещи – в который раз! – бережно уложены. Трогаться надумали еще с утра, как и подобает дальним путешественникам, но задержались из-за болезни старого князя Кантемира. У него опять случился припадок. Велели было разгружать, но князь оставаться наотрез отказался: главное – стронуться с места. Князь словно чуял надвигающуюся кончину, спешил в Дмитриевское, домой, – мечтал увидать сыновей, обнять любимицу дочь. Посему приказал выезжать хоть на ночь глядя. Вперед! Вперед! Князь боялся упустить драгоценное время.
Дмитрий Кантемир – князь и наследный господарь Молдавии и Валахии – был из числа любимых Петровых советчиков. Государь взял его секретарем походной канцелярии – хотел всегда иметь под рукой, и сам же от должности освободил, как приключилась болезнь. Напоследок строго наказал больного сберечь и выполнять любые его пожелания.
– Ты, князь, мне здоровый нужен, не спеши, лечись, сколько потребуется, а то ведь знаю тебя…
Обнял на прощание, расцеловал и отбыл. Уехал водой к Москве еще в ноябре. Хотели прямо вослед, да засиделись до конца января. Врачи и тут заартачились, уговаривали переждать зиму, но князь больше их советов не слушал. Сам знал, что делать. Главное – сдвинуться с места, а там что будет!
Василий прощался с Федосьей на рыбном дворе около возков. Отец, благословив днем, теперь ушел к вечерне, втайне надеясь, что отложат отъезд, но по всему видно было: воля князя пересилила – кучеры уже расселись по местам.
Федосья молчала.
– Я отпишу, не волнуйся, – в который раз повторил Василий… – Жаль вот, что с отцом не повидались.
Жена лишь склонила голову. Прощание было ему особенно в тягость, он старался подавить жалость и острое чувство вины.
– Видишь, права ты была тогда – сбылись государевы слова…
– Да, да.
Она покорно кивала.
На другой день после государева посещения нагрянул в дом необычный гость.
Иван Ильинский состоял секретарем при князе Кантемире и присутствовал на смотре в латинской школе. Государевы слова крепко засели в памяти, а князю как раз нужен был переписчик. Потому и разыскал он дом Тредиаковских и, зайдя, вызвал своим приходом небывалый переполох.
Отец испуганно отступил назад, пропуская важного столичного господина, бросился было хлопотать, но Иван Ильинский от трапезы отказался – сразу приступил к делу.
Отец слушал растерянно, взглядом изучая неожиданного нарушителя семейного спокойствия. Ильинский был роста невысокого, средних лет, внешности весьма невыразительной. Высказав просьбу, он нервно забарабанил пальцами по деревяшке стола, ожидая ответа. Он и в разговоре не находил места рукам, дергал себя за обшлага кафтана и время от времени, замирая, кашлял в кулак. Вид его, что и говорить, мало был привлекателен.
Отец рассыпался в благодарностях князю, но твердо решил отказать – отпустить сына теперь было бы крахом всех его надежд. Но он не знал еще Ильинского как следует – напоровшись на оборону, тот только воспрянул духом, глаза его засверкали, и он принялся объяснять. Объяснять же умел он красиво, честно и убедительно. И настойчиво.
Васька сидел затаив дыхание. Сердце екнуло и, казалось, навсегда остановилось.
Кирилла Яковлев пытался было сопротивляться, но Иван такого понасулил его сыну, так горячо корил отца, обрекающего на погибель талант, что тот сдался. Не сразу, но сдался, уступил небывалому напору. В конце разговора и отцовские глаза вдруг молодо заблестели – старик уже предавался мечтаниям.
– Но я еще не знаю, подойдет ли нам ваш сын, – вдруг мрачно закончил гость и повернулся к нему. Начался экзамен. Говорили только на латыни. Иван заставлял цитировать по памяти стихи, читать по книгам, спрягать глаголы. Спрашивал из Писания – не совсем понятно было, зачем все это положено знать переписчику. Ильинский мучал его с час, к концу которого оттаял, просветлел как-то и наказал приходить.
На другой день представил старому князю.
Тонкий с горбинкой нос, высокий лоб, строгие седые брови над внимательными, изучающими глазами. Лицо красивое, даже стиснутые в ниточку губы не делали его надменным. Князь говорил с заметным акцентом. Расспрашивал, но не экзаменовал, лишь проверял впечатление своего секретаря, вставляя иногда в речь латинские выражения, и часто цитировал стихи. Порадовался бойкому знанию Тредиаковским итальянского.
– А ну-ка, бери перо. – Принялся монотонно диктовать с листа: – «Как сын грешил бы, без благословения родителей вступая в брак, так грешат родители, кои насильно заставляют своих детей не по любви идти на это. Например, если бы родители принуждали своего семнадцатилетнего сына взять в жены сорокалетнюю, но с каким-либо физическим недостатком и лишь только ради ее богатства или знатности рода. Он же ни богатства, ни благородства не желал, кроме как жены по велению своего сердца, и умолял своих родителей о согласии. Но если родители в своей ненасытной жадности к богатству и знатности непреклонны, то лишь оскорбили бы душу своего сына. В таком случае, думаю, сын не обязан повиноваться таким родителям».
Возвращая листок, Васька изумленно глядел на князя: надиктованное словно про него было писано. «А вдруг узнал?» – мелькнула, но тут же погасла мысль; лицо вельможи оставалось непроницаемым.
– Хорошо, кругло, без излишних завитков. Легко читать. – Он судил о почерке. – Так что, хочешь учиться дальше? – спросил неожиданно.
– Конечно, конечно, ваше сиятельство!
Старому Кантемиру пришелся по душе его пыл.
– Ладно, будешь до Москвы переписчиком, а там посмотрим. Иван подготовит тебя в академию, – сказал уже мягче.
Так распорядилась судьба, или Фортуна, или Тихия – много у нее было имен, но была она одна, и была к нему благосклонна, пока благосклонна. Ах! Время, состоящее из дней, часов и минут, потянулось теперь совсем невыносимо, и впору б ему мчаться, но нет – болезнь князя сковывала, заставляла сидеть на месте.
Василий простился с Марком Антонием, с приманами, ушел из певчих и со всем старанием принялся переписывать набело сочинения старого князя.
Домашние, дав согласие на отъезд, стали относиться к нему уважительно и бережно: Кирилла Яковлев воспрянул духом, опять строил планы с отцом Иосифом, мечтал. Иногда на него находило, и опять он грозился не отпустить, но быстро сдавался, сникал, а потом отходил и снова рассуждал, рассуждал мечтательно – то, что Кантемир близок к Петру, подкупало, льстило его самолюбию. Федосья поняла сердцем, что Василий должен уехать, и, принеся жертву, надеялась хоть этим заслужить расположение мужа. Жертву он оценил и действительно стал относиться к ней мягче, но полюбить по-настоящему так и не смог – видно, не дано ему было.
Словом, зажили уж совсем как-то непонятно: лихорадочно и нервно.
Ильинский аккуратно каждый день приносил листы книги о Молдавии – князь сочинял историю своей родины. Иван приходил утром, садился к столу, начинал рассказывать, и все слушали, как он расписывал Москву и строгую академическую жизнь, которую в прошлом сам испытал.
Впервые услышал Василий от него о Феофане Прокоповиче – первом из живущих российских поэтов. Диктованный князем отрывок, оказывается, взят был из большого полемического сочинения, направленного против Феофанова трактата о воспитании юношества. Но странно, споря на словах с педагогом, Дмитрий Кантемир, оказывается, на деле весьма уважал и ценил Прокоповича-поэта. Ильинский читал по памяти Феофановы творения, и Василий вместе с ним восторгался их красотой, их мерным звучанием. О! Он не сомневался, что скоро, скоро он все увидит и услышит самолично.
Любовь к поэзии сблизила Ильинского с молодым переписчиком. Иван знал наизусть уйму стихов, псалмов в переложении разных поэтов, школярских песенок и духовных кантов, он и сам пробовал сочинять, и молодой князь Антиох Кантемир, тоже любитель складывать вирши, хвалил его упражнения. Обо всем этом Ильинский повествовал свободно, без ложной скромности, просто рассказывал как само собой разумеющееся, и Васька внимал с нескрываемым благоговением. Он понял, что попал в другой, в совсем другой мир: чудесный, новый, и он рвался скорей распрощаться с Астраханью. Прежняя жизнь еще больше стала тяготить его.
Он усердно перебеливал книгу своего нового хозяина и заодно читал ее. У этой закабаленной турками страны были свои герои. Драгош, восстановитель Молдавии, отдавал высшие знаки почета не тем, кто мог насчитать больше титулов своих предков, но тем, которые превосходили остальных доблестью и верностью. Таким государем, по рассказам Ильинского, был его кумир – Петр, а Петр был в Москве или в Петербурге; для Василия это было одно – недосягаемые солнечные вершины, на которые ему теперь, волею судьбы, предстояло подняться из глубокого и темного колодца…
Старого князя вынесли на руках два лакея и, бережно усадив в возок, укутали меховыми покрывалами. С ним сел секретарь. Василий обнял Федосью и залез в возок с челядью. Жена замахала платком, он принялся махать в ответ. Поезд тронулся. Промелькнула перед глазами родная крепостная площадь, Пречистенские ворота. Выехали на Большую.
Астрахань быстро терялась в наступивших сумерках, и вот остался только расплывчатый ее контур. Впереди, далеко впереди, была вожделенная Москва.
18
Кирилла Яковлев поглядел в окно. На улице стояла темень. Было двадцать седьмое января тысяча семьсот двадцать третьего года, день памяти равноапостольной святой Нины. Он пробормотал из Послания Иакова, что читал сегодня на службе:
– «Послушайте, братия мои возлюбленные: не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим его?»
Василий уехал. Федосья, вдоволь наплакавшись, спала. Он был один. В тексте Послания старик уловил совсем другой, не апостольский, а мирской, грешный смысл. Он вздохнул и с надеждой покачал головой. Отец благословил сына перед отъездом и надеялся на силу благословения, но тьма за окном страшнее страшной тьмы египетской, и мир, в который ушел его наследник, был велик, далек и опасен.
Кирилла Яковлев посмотрел на Федосью, пожалел ее тоже – одинокую, потерявшую мужа. И вдруг вспомнил: вот так же он смотрел на спящую жену, когда она родила сына, – с сожалением и лаской. За окном тоже была ночь, но только в люльке сопел долгожданный младенец, и с Персидского подворья доносился трубный глас слона.
Слон тот умер по пути к Казани. Умер от усталости, от дорожных невзгод, чужих людей, холодного солнца. Умер. Издох, не дойдя до Москвы.
Часть вторая
Москва
Нужда есть Священное Писание знати:
Яко вечнаго то нам живота есть мати.
Из симфонии, сочиненной Иваном Ильинским
1
– А вот мой, молодой! Перо соловое, зоб черный как вороново крыло, ноги желтыя, черныя когти, глаза красныя! В первый бой пущу! А вот любого в Москве молодого!
Низенький мужичонка поднял на руках своего петушка, представляя публике. Стоявшие полукругом сильнее затолкались, стараясь разглядеть бойца.
– Никакой не молодой – уже линял раз, осельчук, точно осельчук, – громко сказал стоявший рядом с Васькой здоровенный детина и сплюнул под ноги. Поймав заинтересованный взгляд, он мигом сообразил, что перед ним новичок, и принялся с охотой пояснять: – Костяная Яичница хитрит. Все дурака ищет. Видишь, как ногу ставит уверенно – нет, точно осельчук – сентябрьского выводка, старше молодого будет. Молодого петушка сразу видать, тот тоже ерепенится, в драку лезет, но у него поступь прыгучая: силу чует, а бить толком не умеет, крови еще не видал. Думает, не разглядят, пустят необстрелянного.
– А почему так его называешь? – спросил Васька.
– Кого? Яичницу-то? Да ведь прозвище прямо по нем – он и есть натуральная яичница костяная, – уверенно ответил парень, – сейчас своих станет подбивать, насулит горы, а угощения от него шиш получишь. – Объясняющий подтвердил слова дулей. – Деньги с кона получит, тут-то его и видели.
И действительно, мужичонка, ерошивший шею своего любимца, переменил тактику:
– Полтину с четвертаком на кон, а моим – пива на пятиалтынный! – закричал он. – Или нет моему молодого в пару?
Толпа заметно оживилась – разговоры и выкрики слились в один шум, похожий на нервный гогот гусиной стаи. Взгляды собравшихся были обращены к владельцам птиц. Они стояли лицом к зрителям за спиной зазывалы и делали вид, что не слышат и не видят его.
– А хоть бы зверь какой сыскался на тебя! – Васькин сосед в исступлении махнул руками. – В прошлый праздник Яичница своего переярка Яхонта пускал. Я гривенник поставил против – вмиг просадил.
Любители боев волновались все больше, обсуждая качества петушка, некоторые подходили, трогали ноги, стучали по клюву, а хозяин время от времени встряхивал своего выкормыша, щелкал по лбу, чесал гребешок, оглаживал крылья, – словом, старался убедить публику в неотразимой силе и красоте длинноногого забияки.
Зная хорошо коварство Костяной Яичницы, держатели бойцовых птиц долго не решались выставить противника, пока наконец из их рядов не вышел пожилой крепкий приказчик в широкой белой рубахе, неся на вытянутых руках маленького совсем петушка.
– Молодого на молодого, отвечаю полтину с четвертью, – не надбавляя ставки, чинно провозгласил он и медленно, с достоинством бывалого победителя пошел по полукружью, давая всем возможность наглядеться на своего невыразительного питомца.
– Ты, Фомич, на сей раз цыплака принес, а не молодого, – крикнули из толпы.
Все засмеялись, но многие, зная Фомича не первый год, начали возражать. Его петухи не раз бивали самых сильных противников.
Пока петушков показывали, примеряли, поднося клювом к клюву, стравливали, зрители пустились в неминуемые пересуды, посмеиваясь, давали оценку обоим бойцам и между делом, незаметно начали заключать заклады. Кто рисковал пятаком, кто копейкой – бой был сегодня первый, – а кто не побоялся выставить и четвертак.
– Да это ж обман, чистой воды обман, – волновался Васькин сосед, кузнечный подмастерье Степан, как успел он уже представиться. – Ты гляди, – он совал в длинноногого пальцем, – он же крыльями одними забьет.
– Маленькие самые боевитые, не гляди, что мал, да удал, – ответил, чтобы возразить и не уронить достоинства, Василий, вспоминая астраханских кекликов-перепелов, которых стравливали на базаре бухарцы.
– Да что ты понимаешь, – наседал Степан, – говорю же, осельчук, а супротив него молодой – что тьфу! – Он снова плюнул и даже растер сапогом плевок для пущего подтверждения.
Но уже захватил Ваську азарт: темно-красный с черным зобом малыш явно нравился ему больше горделивого осельчука, и он втайне молился за его победу и весь подался вперед, когда петухов наконец отпустили. Они стали похаживать кругом, оглядывая друг друга и оценивая расстояние, – хозяева трусили за ними следом, согнувшись, подмахивая ладошками под хвосты, но руками перьев не касаясь, – соблюдали правила.
– У, цыпленок горелый, – крикнул рядом здоровенный купец, – с такими воевать неча.
– Погоди, погоди, – запальчиво осадил его Васька, – гляди, как в наскок пошел.
Петухи начали уже чуть подпрыгивать, но шпоры в ход пока не пускали, лишь сшибались грудью и тут же отскакивали назад.
– А ты что, никак за букашонка? – с издевкой спросил купец. – Так давай об заклад на двугривенный.
– Давай! – выкрикнул Васька.
Он и сам не понял, почему вдруг ответил на вызов: то ли ему не понравился Яичница, то ли купец, то ли решил сделать так в противовес кичливому Степану.
– Ты что, умом двинулся, лучше мне подари. – Степан даже приобнял его. – Васенька, так-то дурачки и попадаются.
– Отстань! – Васька отпихнул назойливого опекуна и еще раз подтвердил ставку.
Вокруг них заговорили, но больше льнули к купцу, надеясь на дармовую выпивку по случаю победы.
– Слушай, я же тебе друг, – извиняясь, пробасил здоровенный Степан и зашептал прямо в ухо: – Ты что, по первому разу ставишь, да?
– Да, да, смотри вперед, не мешай, – отмахнулся Васька.
Петухи сшиблись наконец серьезно. У маленького полетели перья, но он изловчился и сильно тюкнул своего врага прямо в лоб.
– Все, Васенька, все понял, – покаялся Степан, – я за тебя. Признайся только, ты что – учуял?
Всем известное везение новичков придало вдруг Степану твердую уверенность, и он даже насмешливо подтолкнул одного из купцовых прилипал:
– Яичница сегодня не игрок, мне верь, я точно знаю. Видишь, как малыш отшпаривается.
Петухи дрались уже в полную силу. Осельчук, более высокий и тяжелый, норовил шпорой рассадить горло неприятелю, вкладывая в удар всю свою массу, но, верткий и легкий, тот сам бил ногами, клювом, крыльями, пока, увлеченный сражением, не напоролся на прямой удар клюва в лоб. От такого попадания петушок отлетел далеко наземь, перевернулся в пыли, но успел вскочить на ноги и бросился по кругу, на ходу качая головой, словно пытаясь рассеять туман в красных, налитых кровью глазах. Длинноногий поспевал сзади, теребил хвост, но захватить и подмять противника ему не удавалось.
– Маловат еще воевать, – добродушно заметил купец.
Васька молча переживал бегство своего героя. А тот вдруг очнулся от удара, подскочил, пропустив под собой преследователя, и, набросившись сверху на длинноногого, двумя точными ударами пришпорил его в шею. Осельчук на секунду замешкался, и малыш ударил его ответно в лоб, и снова в лоб, и снова в лоб, а затем, уже шатающегося, сразил шпорой, рассадив ему горло до глубокой багровой синевы.
Длинноногий зашатался, закатил глаза, из надрыва брызнула кровь, и он упал, раскинув крылья, и засучил ногами по пыли. Малыш бросился добивать, но стоявшие начеку хозяева подскочили и вмиг растащили своих бойцов в разные стороны.
Приказчик высоко поднял победителя, а затем, крепко прижав к груди и отбиваясь от наседавших поздравителей, направился к Костяной Яичнице требовать честно заработанные деньги.
Васька гордо взглянул на купца, и тот, пожав плечами, протянул ему двугривенный.
– Всяко бывает, но должна-то была, конечно, моя взять, – сказал он в оправдание.
Неотступный Степан окончательно повис на Тредиаковском, обнимая его, и кричал во всю глотку:
– Знал, знал, чертяка, наперед знал. Новичку всегда удача! А я, остолоп, не поверил сперва.
Прихлебатели от купца было переметнулись к счастливчику, но дюжий Степан разом их осадил, назвав московскими шишками, и вытащил измятого и довольного Ваську на свежий воздух.
– Ну, везунчик, пойдем в Никольский роскат, за знакомство да за удачу не грех и по чарочке.
Васька пытался отнекиваться, объяснял, что ему надо в академию, что он приезжий, что его ждут на дворе у Головкиных, но вырваться из рук вцепившегося в него Степана было невозможно, да он, окрыленный первым московским успехом, честно говоря, не очень-то и хотел отбиваться.
2
Очнулся он в конюшенном сарае на соломе. Рядом храпел незнакомый нищий старик; Степана же след простыл. Исчез не только выигранный двугривенный, но и полтина денег, данная на прощание Ильинским. Васька долго шарил вокруг себя, искал картуз, но не было и его.
– Письма!
Он с содроганием залез за пазуху, но сверток, сильно мятый, отыскался почти у самой спины. То ли его побоялись стащить, то ли он был не нужен вчерашним собутыльникам. Голова гудела, руки не слушались, лишь машинально разглаживали на колене мятый пакет: в нем заключалась вся его надежда.
– Господи! – испуганно выговорил Васька. – Как же в таком виде в академию идти?
– А, проснулся, – сказал, приоткрывая один глаз, сам только что очнувшийся ото сна старик. – Это я тебя сюда вчера заволок. Гляжу, спишь в кустах, дай, думаю, затащу под кровлю, не ровен час, ограбят.
– Да и ограбили всего, – пожаловался, чуть не плача, Васька.
– Ну, ничего, цел сам, и ладно, – наставительно произнес нищий. – Откуда в Москву пришел?
– Из Астрахани.
– Уй ты, – удивился собеседник, – своих где потерял?
Ваське неохота было откровенничать, и он ответил кратко:
– Один я.
– Ага, – смекнул старик. – Богомольствуешь или так, Христа ради?
– Да нет, в академию Спасскую приехал учиться, и вот…
– Значит, так, Христа ради, знаем вашего брата, – непонятно провозгласил нищий, развязал торбу, вынул оттуда яичко и подал Ваське. – На вот, подкрепись, школяр, да пойдем. Я со здешними конюхами хоть и знаком, да лишний раз нечего глаза мозолить. Пойдем, проведу тебя к академии, а там уж действуй по разумению. Москвы небось не знаешь еще?
– Теперь знаю, – хмуро ответил Васька, жуя всухомятку вареное яйцо.
– И-хи-хи, – зашелся нищий. – Ну, с приездом тебя, сынок, с московским крещением.
И он замотал головой, давясь от смеха.
3
Из письма Феофана Прокоповича своим бывшим коллегам в Киево-Могилянскую академию, писанного из Москвы. После 1716 года (перевод с латыни)
«…Вы очень хорошо знаете, разве кто нарочно закроет глаза, чтобы не видать истины, как мы честно и радушно обращались с Гедеоном Вишневским, когда он был профессором в нашей коллегии, несмотря на то, что он с гордостию отказался от назначенной ему кафедры поэзии и занял риторический класс, отнявши эту кафедру у назначенного на нее Иосифа Волчанского. Блаженной памяти архипастырь снисходительно посмотрел на это; по любви к миру уступили и мы этой наглости. Не неизвестно вам и то, с какою дерзостию он в наших собраниях поносил ругательствами достопочтенного отца Сильвестра, префекта коллегии, и тщеславился своим, недавно полученным, иезуитским докторским беретом, то есть ослиным украшением, и как часто мы с кроткой душой снисходили к этой его надменности. Известно всем и то, как он выбыл из нашей корпорации, когда черниговский полковник, имея преувеличенное понятие о его учености, проламывал, как говорится, камни, чтобы добыть его в учителя риторики своему сыну; с своей стороны, и Вишневский с равным усилием стремился к предлагаемой ему должности. Знаете также, с каким сумасбродством причину выбытия своего в провинцию сложил он на нас, как будто мы выжили его, да и после того под рукою распускал об нас разныя вести. Это видел всякий, кто только нарочно не закрывал глаза».
4
Занятия должны были начаться через неделю, а пока немногие обитатели Славяно-латинской академии готовили классы, перетрясали белье, кололи дрова, складывая их высоченными аккуратными горками, и собирались совместно только за трапезой да на ежевечерней молитве. В те дни у Тредиаковского оставалось много свободного времени. Он старался не попадаться на глаза отцу келарю, которому был отдан в подмогу, а тот, назначив урок, забывал о его существовании до следующего утра. Васька подметал двор: старался делать это тщательно, как приучила к работе мать, – проходился голиком по каждому булыжнику, собирал опавшие листья в большую корзину и нес их на зады, к ограде, в глубокую яму. Попадавшиеся желуди он пересчитывал, как четки, а затем кидал в ту же яму, и они в ней терялись, засыпались новой корзиной мусора.
Место для ночлега ему указали в холодном вытянутом зале, где залетевший с улицы свет собирался посередине, а углы даже днем терялись в черноте. Зал перегородили брошенные козлы. Топчаны стояли прислоненные к стенам или валялись, сползшие с них, на полу поблизости: видно, как их оставили с начала вакаций, так к ним и не прикасались. Убирать зал распоряжения не поступало, и он только проделал себе дорожку к оконцу, около которого и спал один в большой мрачной спальне. Вечерами Васька слушал шорохи своей темницы, скрип рассыхающегося дерева и крестил темноту.
Все время он старался думать о будущем – то, что мерещилось раньше, теперь стало близко, почти осязаемо, но в голову лезли воспоминания, вернее даже какие-то отрывочные, не связанные воедино мелочи. Он был один, а одиночество и пустота настраивали, нашептывали, пугали, будили память. Назойливые мысли не оставляли его и днем, нес ли он корзину с мусором на свалку или, прогуливаясь по узеньким дорожкам сада, здоровался с незнакомыми встречными монахами. Постоянно размышлял он о своем, и никто, никто не был ему нужен тогда. С ним не заговаривали, а он с расспросами не лез, считая неудобным первым заводить беседу, сам тщился разгадать непонятную ему пока тайну академии. Он еще и дичился, а потому больше глазел, подмечал здешний быт, считал ступени на длиннющей церковной лестнице, как желуди-четки, не зная, когда и зачем сможет это ему пригодиться.
С того первого дня он видел ректора лишь раз, столкнулся с ним у ворот – архимандрит спешил к карете и Василия попросту не заметил. Он мало появлялся на людях, к общему столу не выходил, молился в своей молельне – все дела лежали на плечах префекта. Зато тот успевал повсюду, все видел, все знал, во все вникал, распоряжался, грозил, приказывал, помогал советом. Ваську он полюбил с первого дня и всегда встречал и провожал теплой улыбкой, и была она, эта улыбка, дороже многих слов. Но даже с ним не решался заговорить новоявленный школяр, да и о чем? Как? Что бы он мог спросить? Сперва это предстояло хорошенько понять самому.
Все сложилось хорошо, неожиданно хорошо. Распростившись с нищим, Тредиаковский решительно вступил на двор академии, и монах-привратник отвел его в покои префекта отца Илиодора Грембицкого.
– Как там наш Иван, не забросил ли свои вирши? – поинтересовался префект, проглядывая рекомендательное письмо. По всему было заметно, что Ильинского он помнил и любил. Расспрашивать принялся с живым любопытством, как о близком, но давно не виденном человеке, и с удовольствием выслушал об Ивановом житье-бытье, даже припомнил к слову потешный стишок, сочиненный Ильинским еще в академии. Префект скоро расположил Василия к себе, и тот не заметил, как выложил ему все про петушиный бой, про гулянку в роскате и про полтину, но отец Илиодор не ругал, а лишь слегка пожурил.
Василий совсем оттаял и пустился в воспоминания об Астрахани, и монах, вызнав, что было ему нужно, перевел разговор на любимые книги. Узнав, что юноша знаком с Вергилием, снял с полки томик, предложил прочитать. Василий читал по-латыни, а отец Илиодор пояснял, дополняя смысл греческими цитатами из «Одиссеи», и иногда просил Тредиаковского перевести – проверял его знания; когда же Василию случалось сбиваться, префект поправлял, но мягко, выдавая экзамен за обычную приятную беседу. Скоро Васька распалился и читал в полный уже голос, выразительно, с придыханием, как это делал астраханский патер Антоний.
Откинувшись в кресле, префект долго слушал, не прерывая, а затем, словно вмиг очнулся, спросил:
– Так говоришь, пел в хоре? Это хорошо, ничто так не развивает слух. Стихи, вижу, ты любишь и можешь читать, но эти вздохи… Лишнее, лишнее.
Затем последовал опрос по катехизису, и здесь префект был жесток, вопросы зачитывал особо сложные, но Васька знал катехизис назубок и подтверждал ответы пространными цитатами из Писания и Апостола. Отличная память, школа отца Иосифа, да и отцовские наставления очень теперь пригодились.
Так прошло часа три или больше того – экзамен прервал колокол, сзывающий к трапезе. Они спустились в большую столовенную палату, и Василия усадили с краю, а после еды молодой монашек, велев следовать за ним, повел его куда-то коридорами и переходами. Перед тяжелой кованой дверью они остановились. Провожатый открыл ее и, пропуская Тредиаковского вперед, учтиво поклонился и затворил ее за ним с наружной стороны.
Префект был тут же, но он только передал прошение Ильинского и отошел в глубину, к окошку, оставив их один на один. По почету и богатому убранству покоев Васька догадался, к кому попал.
Ректор академии архимандрит Гедеон Вишневский был уже в летах. Его тяжелое, грузное тело прочно покоилось в глубоком жестком кресле рядом со столом, заваленным бумагами и книгами. Тяжелые и властные, под стать всей фигуре, жгучие черные глаза пристально изучали юношу. Наконец он кивнул на табурет и, повертев в руках письмо, бросил его на стол, не разворачивая. Еще с минуту отец Гедеон хранил молчание, выжидая, и затем заговорил тихо и размеренно – архимандрит страдал одышкой.
Он поинтересовался житьем у Кантемиров и сокрушенно качал головой, слушая о последних днях старого князя. В Москве мало еще знали о его кончине – Василию предстояло разнести траурные известия.
Всем своим обликом ректор академии вызвал сперва в Ваське глубокое почтение, и он старался отвечать вдумчиво, боясь потревожить и оскорбить ненужным словом святость его сана. Каково же было ему слушать, как ректор, без видимого стеснения, со стариковским любопытством принялся вдруг выспрашивать и даже уточнять течение болезни и способы лечения, опробованные лекарями на князе Кантемире. Особенно заинтересовали его описания внутренних болей, претерпеваемых в последние дни умирающим. Такая мирская дотошность, отсутствие всяческого смирения покоробили Ваську, огорчили и оскорбили излишней любознательностью – почему-то главный пастырь академии в мыслях рисовался ему иным, сродни был первому величавому и пугающему впечатлению. Ему не пришло на ум, что в описываемых страданиях старик распознал мучающий его недуг. Но архимандрит словно не замечал робости сидевшего перед ним и так же неотрывно и внимательно сверлил его взглядом своих властных, жгучих глаз, привыкших наводить смятение на подчиненных. Васька вконец опешил и замолчал.
– Хорошо. Ты, кажется, родом из Астрахани? Расскажи-ка нам поподробней о тамошних латинских школах, мне доводилось о них слышать, – подбодрил он юношу.
Ректор и тут проявил дотошность, вызнавал, что и когда учили, по каким книгам, выведывал об армянах и индусах, ее посещающих. Про русских же пытал особо и, когда Василий слишком почтительно помянул Марка Антония, вкрадчиво спросил:
– А ты не обливанец ли, случаем?
Тредиаковский широко перекрестился и поспешил привести слова из апостольского Послания – хотел защититься и заодно блеснуть знанием Писания:
– Сказано же у Павла: «Для меня мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди; я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь».
– Что же, у тебя хорошая молодая память, это похвально, но не спеши оправдываться словами Писания, ибо оно, как говорил блаженной памяти Стефан Яворский, есть яко меч обоюдоостр, его же может кто употребити и на доброе и на злое, – спокойно сразил Василия ответной цитатой отец Гедеон. – Ты еще юн, а посему тороплив, – добавил он и погрузился в молчание.
Перепуганный Васька бросился рассказывать про отца, а после даже сослался на своего духовника, сказал, что они не возбраняли, а, наоборот, поощряли его учение у капуцина. И даже сам генерал-губернатор Артемий Петрович Волынский – ведь это он открыл в Астрахани школу. Тут неизвестно зачем, для пущей важности он приплел, будто Артемий Петрович не раз выделял его на смотрах, поощрял дальнейшие занятия, и в довершение поведал ректору и префекту о высочайшем визите, не забыв, конечно, помянуть о наказе, данном ему Великим Петром.
Но упоминание грозного имени никакого эффекта не произвело. Наоборот, Гедеон Вишневский, кажется, только больше посуровел.
– Страшно, страшно попасться в тенета лжеучителей, – непонятно, но гневно начал он. – Слова, что проповедуют скрытые еретики, мечтающие онемечить нашу Русскую землю, пагубны, ибо столь сладки для молодых ушей. Тот же Волынский, как нам известно, притесняя Православную Церковь, много сотворил зла истинным христианам, и, как бы не заступничество Прокоповича, дружественного ему архипастыря, воздано бы было астраханскому управителю за содеянное им. Не юным умом судить о сих сложных делах и пустословия ради ссылаться на волю царя и его губернатора. Что ж Волынский, часто ли ты имел с ним беседы?
– Никогда, ему ли опускаться до бесед с простым школяром, – честно признался Василий.
– Ну-ну, – кивнул ректор. – Я славлю Творца, вовремя приведшего тебя к нам, направившего твои стопы по дороге праведной.
Тредиаковский уловил открытую неприязнь, прозвучавшую при упоминании имен Волынского и Прокоповича, и мысленно бранил себя за бахвальство. Он растерянно молчал, не понимая, чем вызван неожиданный гнев архимандрита. Тот же, поборов одышку и справившись с собой, продолжал вещать важно и спокойно.
– Учиться должно, кариссимус, – он сделал ударение на «должно», – опасно и пагубно злу учиться, дьявольской вере еретической. Католические школы в начальной стадии я никоим образом не порицаю – сам в годы оны пребывал в иезуитском коллегиуме и даже почтен был докторской степенью, кою не многие из наших церковников имеют, но тверд остался в вере отцов наших. Взять у латинских богословов полезное и не оскоромиться – вот цель православного подготовленного, но вовремя, вовремя следует зерно отделить от плевел. Кроме малоопасного учения католического много народилось ересей, мечтающих о реформации истинного православия. От них, от них в первую голову надлежит уберечься смолоду, а посему следуй завету, поданному тебе нашим государем, – познавай истину учения Христова и спасешься, а по окончании курса станешь полезен своей стране, ибо служить ей и ее христианам – есть главная цель наша. Хорошо, что познал ты италианский и начатки древних языков, они помогут в твоих студиях, но знай – учиться следует прилежно, все силы отдавая. Помни это, кариссимус. – И наставительно добавил: – Корень учения горек, но плоды его сладки!
– Конечно, доминус, – в тон ему постарался ответить обнадеженный Василий.
– Доминусом не зови, – строго приказал ректор, но видно было – доволен, что Васька так легко попался в расставленные сети. – Придется нам дурь, в голове твоей угнездившуюся, выбивать смирением, больно ты остер на язык, как я погляжу. – Он опять ударил «смирением», словно бы Василий не расслышал, что отец Гедеон считает первее всего в школьной жизни.
Архимандрит поднялся с кресла.
– Сходи в дом к Головкиным, снеси письма, как тебе велено, да возвращайся: станешь учиться в риторике – фару, инфиму и грамматику ты уже заочно познал, – провозгласил он торжественно и вышел из-за стола.
Васька понял, что от него требуется, подошел к руке. Ректор перекрестил, благословляя, и Тредиаковский, смиренно склонив голову, поцеловал холодный серебряный крест.
Радостный, до конца еще не осознавший удачи, свалившейся на голову, Васька пронесся по широкому крыльцу архимандричьих палат и вылетел на улицу, в Белый город к головкинскому подворью. Он был принят, не пропал в суетной и опасной Москве, и потеря полтины не казалась уже невосполнимым несчастьем, а воспринималась как дань удаче.
Управитель большим головкинским хозяйством, к которому Ильинский послал с депешей о смерти князя Кантемира, оказался человеком совсем не строгим и не страшным, как выглядел с первого взгляда – издалека от калитки. Он выступал в окружении многочисленной челяди – что-то объяснял, когда заметил гостя. Васька смешался тогда и, пробурчав под нос приветствие, протянул письмо. По расчету Ивана, Коробов, старый его московский знакомец, должен был пустить Тредиаковского ночевать и пристроить к работе, коль вдруг не удалось бы поступить в учебу. Поэтому, проглядев послание, управитель начал расспрашивать, что Васька собирается делать дальше, но, уяснив, что тот уже зачислен на академический кошт, похлопал снисходительно по плечу и, отметив сияющее лицо юноши, сказал с улыбкой:
– Студиозус, значит. А жаль, тут бы тебе дело нашлось. Ну да ладно, приходи, однако, как постные щи приедятся, дам тебе переписывать работу – секретарь Кантемиров твой почерк хвалил.
Но просто не отпустил, повел в горницу, велел накормить и выведывал: про Ивана и особенно про старого князя. Видно, в Москве все были охотники до сплетен. Когда же Васька поел, управляющий сам проводил его до двери и еще раз вздохнул напоследок о смерти князя Дмитрия, словно знал его лично. Потом только отпустил с миром.
«…Добро не ангел, зло не дьявол, а есть простое понимание человеком их сути», – говаривал покойный князь Дмитрий, отрываясь от работы и глядя куда-то поверх Васькиной головы, будто разучивал рисунок на штофных обоях. Василий часто теперь вспоминал время, проведенное у Кантемиров.
Старый князь любил рассуждать вслух. Когда же боли стали все сильней досаждать ему, он часто прекращал диктовать и переключался с привычного хода мыслей на какие-то побочные, словно вдруг возникшие в голове. Грешно говорить, но Васька полюбил такие остановки. Князь клал тогда руки на подлокотники, обитые мягким войлоком и тонкой коричневой кожей поверх, или сцеплял их на груди, немного откидывался назад и думал, смотрел вперед себя, иногда проносящимся взором лаская Василия, иногда же надолго смыкал глаза, но никогда не засыпал и так же неожиданно, как начинал, кончал рассуждение. Затем своим обычным, слегка нерусским выговором спрашивал, на чем он кончил диктовать. В такие минуты Василию становилось тепло, словно он, а не старый князь, был укрыт теплым верблюжьим одеялом. Глаза увядающего полны были света и знали, казалось, что-то такое, чего даже язык был не в силах произнести. Они напоминали глаза деда, так же вызывали сострадание и возникавшей в эти мгновения таинственной связью особенно роднили с добрым его господином. Так сидели они в тишине, и Кантемир нарушал ее, размышляя вслух, и замолкал, и снова говорил. Васька внимал молча, боясь потревожить мысли князя скрипением своего рассохшегося стула: он застывал на нем, недвижимый, как статуя в парке. Ноги часто немели, и после, уже во время диктовки, он сжимал и разжимал пальцы, гоняя по икрам приятные почему-то колючие иголки.
Так спокойно, так радостно ему бывало только вдвоем со старым князем. Иван редко тогда работал с Кантемиром, переложив свои обязанности на плечи Тредиаковского, – он был занят какими-то особо важными делами, подолгу запирался в отдельном кабинете.
Васька поджидал каждого утра с замиранием сердца. Но по вечерам, когда удавалось всем собраться в гостиной, тоже было хорошо, всем было весело и приятно: сперва обычно читали вслух «Илиаду», а затем Иван играл на флейте, или княжна Марья пела духовные канты, или молодой князь Антиох, заразительно смеясь, рассказывал разные истории из своей великосветской московской жизни. Васька прятался в уголке, наблюдал; из другого угла на присутствующих смотрели благодарные очи несостоявшегося государя Молдавии и Валахии. Но таких вечеров становилось все меньше и меньше.
В бездельные дни в академии размеренная жизнь в Дмитриевском постоянно всплывала в памяти. Не только образ князя, но и Иван вставал перед глазами, особенно в полусумраке перед сном. Ильинский, улучив свободное время, обычно посередине дня, когда князь почивал, любил пройтись со своим подопечным по пустынному парку усадьбы. Прогулки эти совершались по велению души – он любил смышленого переписчика, и пестовал, и наставлял к новой жизни несмелого пока и застенчивого астраханского поповича. Стволы тополей главной аллеи были еще молоды, и они забирались в глубину, в лес, рассеченный прямыми тропинками, и там, в темной прохладе, вели беседы, ступая по мягкому, запорошенному сухой пожелтевшей сосновой иголкой белому песку. Иногда они прятались в беседке у пруда, где свежий ветер от воды и тень спасали от летнего зноя, а блики солнца на свежеоструганном дереве, гудение насекомых и шелест высокой прибрежной травы не мешали, а, наоборот, настраивали на отдохновение; и Иван говорил, говорил, а Васька больше слушал и восхищался – он обожал, боготворил дарованного судьбой чудесного старшего друга.
Он просил, и Ильинский рассказывал ему о Петре.
– Я верю в разум, он победит, – восклицал Иван и славил императора и иже с ним, восставших против ветхих российских устоев. Опять и опять в его речах возникал образ Прокоповича, отважившегося вступить в борьбу с самым опасным и самым сильным противником реформ – православным духовенством.
– Они не принимают новой жизни и оттого яростно сопротивляются: клеймя Феофана Прокоповича как главного глашатая, главного певца нововведений, обвиняют в еретичестве, в протестантизме, в неверии и Бог еще знает в каких грехах, мечтают о восстановлении патриаршества. Они при этом уверены, что пекутся о благе Отчизны, но их попечительство пагубно, ведь нельзя повернуть время вспять. Некоторые их сторонники и теперь поучают в академии, но тебе они не принесут вреда, ведь ты будешь простым школяром.
Теперь, обдумывая в одиночестве наставления Ильинского, Василий, казалось, понимал причину ректорова гнева, но он боялся судить об отце Гедеоне прямо, не хотел ошибиться, да и, честно сказать, не совсем понимал суть раздоров. Наверное, со временем все прояснится, теперь же чем больше он размышлял, тем только больше запутывался в своих домыслах. И гнал их прочь, полагаясь на будущее, на судьбу.
Много приятней было думать об Иване, о том, как он читал ему на прогулках стихи. О! Как же полюбил он их совместные уединения! Но под конец свободного времени стало оставаться все меньше и меньше. Князь требовал работы, работы, работы, и днем, и по вечерам – он торопился жить, а умер в одночасье.
Васька вспоминал гроб и похороны – в снах они его, кажется, не мучали, или он все успевал позабыть к тому моменту, как открывал глаза. Виделись ему отчетливо черная тафта на барабанах, гулкие их звуки и опущенные по немецкому обычаю дулами вниз ружья солдат из караула, ружья, перевитые траурными лентами. Бледный Ильинский вел, придерживая под руки, княжну Марью по песчаной дорожке парка к новой еще, красного кирпича семейной усыпальнице. Отворенная решетка открывала доступ к склепу – последнему пристанищу его первого посетителя и устроителя. И много людей вокруг: зеленое и красное сукно с потертыми серебряными галунами на длиннополых кафтанах, и, словно пена в вырезах камзолов, накрахмаленные белые шейные галстуки, уже выходящие из моды у молодых московских щеголей, и серая крепкая крестьянская ткань. Но воспоминания, приди они вечером, пугали бы, а утренние, дремотно-сладкие, только умиляли. И пустой зал не казался мрачным, а козлы уродливыми и противными.
Со всех сторон, со всех сторон окружили его добром и заботой, а он пока только готовился всем дающим воздать за это добро хорошим учением – тем немногим и желанным, что от него требовали взамен. И по утрам все вечерние страхи казались мнимыми, и он тепло вспоминал добрую улыбку отца Илиодора и пастырские наставления ректора – они научат, они станут теперь заботиться о нем. Иван зря предостерегал, он просто беспокоился о Василии, любил его. И он мечтал, мечтал приступить скорей к учению, доказать свое рвение, непоколебимость в вере, усердность в выслушивании всеведущих наставников, призванных помочь ему в постижении премудрости, заложенной в древних книгах. Он спешил окунуться в мир звуков четкой и строгой латыни, певучего греческого и прекрасной, сильной своими медленно рокочущими согласными славянской поэзии, которую он по-новому услыхал, познал и еще больше полюбил на пустынных и прохладных тропинках кантемировского парка. Политики же он решил сторониться – тем более что область эта была опасная и для него совершенно неведомая и чуждая. Он верил в Петра, в одного Петра, и этого казалось предостаточно.
5
Речь состоит из слов. Они цепляются друг за друга, складываются в предложения. Голос играет тут не последнюю роль – он, как правило, ведет речь, выделяет слова, ударяет звуки, некоторые считая должным потянуть, некоторые и вовсе скрыть, проглотить. Так бывает при чтении.
В обыденном разговоре слова выпархивают к собеседнику, отлетают от него, часто возвращаясь с вопросом, недоумением. Бывает и так, что слова остаются невысказанными, они приходят на ум и тут же гаснут, заменяются другими.
Речь проста, не подчиняется законам.
Речь большого оратора – умение, учил отец Илиодор. Речь – искусство, она не проста, подвержена скрытым законам. Без их применения она скучна, повседневна, не доставляет труда уму и радости сердцу. По сути своей, любое серьезное поучение, наставление, рассуждение, спор требуют доказательств, красивых, точных, звучных примеров. Берегитесь же, говорит Иеремия, чтоб и вам не сделаться подобно иноплеменникам, ибо язык их выстроган художником и сами они оправлены в золото и серебро; но они ложные и не могут говорить! И задумается желающий мыслить, и примет предостережение близко к сердцу, ибо красиво и образно, но точно и метко передана боязнь за человеков и запрет в сих прямо на душу ложащихся словесах.
Мысль может потеряться, породить другие мысли, и они, зароненные глубоко-глубоко, пребудут с тобой наедине, пока не пробьет час весенний и не откроется им дорога на волю. Тогда расцветет первоначальная мысль и выступит, торжественно облаченная в тогу слов.
Слово – дар Божий. Сила слова столь велика, что все может эта сила, но в дурных, диавольских руках опасна она, ведь шепчут ворожеи потаенные заклинания и исцеляют силой сатанинской. Но то слова черные, пагубные. Но и для них рождение слова – таинство, ибо таинственно и непостигаемо рождение слова и речи. Речь – услада, речь – подмога, речь – надежда, речь – жизни счастье. Речь возвеличивает человека. Речь сделала его властелином над тварью бессловесной.
Так вразумлял отец Илиодор.
Звуки не просто орешки, что перемалывают зубы. Язык снует во рту без устали, как челнок пряхи, рождает звуки, тасует словесные лоскутки, плетет ниточку речи. Голос красит ее, передает чувства души разгневанной или умиротворенной, спокойной или неспокойной, воздыхает о ней, уповает, молится, просит или разит, неистовствует, выговаривает, вразумляет. Для искусного певца потеря голоса равноценна смерти, для остальных чревата бессилием немоты.
«Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага». Слышите, как рык звериный перекатывается по стиху, нарастает, аки гром небесный, приуготовляет ухо к последующему сравнению. «Преклонился, лежит, как лев и как львица, кто поднимет его?» Так живописует Книга Чисел народ Иаковлев, так, повествуя, зажигает и в наших сердцах частичку гнева, коим воспылал Валак на Валаама, ибо голос Писания здесь напряжен, вещает трагедию.
Голос, упавший буквой на бумагу, не должен быть суетен и поспешен, бездоказателен. Он должен быть звонок в веселии, щемящ в печали, должен рассуждать спокойно и здраво в повествовании историческом.
«За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взявши фунт нардоваго чистаго драгоценнаго мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом наполнился благоуханием от мира».
Сравните сие повествование Иоанна с ранее приведенным примером – спокойна и благочестива картина вечери, словно перед глазами предстают нам ее участники, и разговор их неспешен, растворен в тихом струении ночного ветерка. И умилительное, а не гневное чувство рождается в душе слушателя – и это заслуга слов, умело подобранных златоустым евангелистом.
Так говорил отец Илиодор.
Голос, расцветший вязью на бумаге, легко разрушить. Голос хрупок, хотя так мощен с виду. Для примера стоит поменять слова местами, и то, что казалось прилаженным друг к другу, надежно сплетенным, рассыпается, обретает смысл зачастую противоположный.
Тем, кто хочет научиться соединять слова, следует взять в пример любого строителя, возводящего дом. Сперва ведь необходимо подготовить кружала, отобрать камни для бута, обточить кирпич, ажурный отложив к ажурному, простой к простому, замесить раствор, чтобы всегда было под рукой, откуда черпать. Затем продумать план – будь то хоть незамысловатая изба или роскошные палаты, зодчий обязан знать заранее результат, измыслить, оглядеть умозрительные контуры будущего здания, а затем, только уже затем, приступить к соединению частей, к возведению постройки. В священный момент строительства лишнего быть не должно – ведь все запасено заранее, – значит, и в голосе, ложащемся на бумагу, который мы для наглядности уподобили строительству дома, не может быть срыва, просчета. В каком же залоге поставить глагол и в каком числе имена, подскажет кладка букв, и, если что-то окажется лишним, перо писца, как мастерок штукатура, замарает ненужное или добавит раствору, придаст крепости, надежности письму.
Так пояснял отец Илиодор.
Но переносить звучащий внутри голос на бумагу следует только тогда, когда поймана, уловлена, схвачена его мелодия, его особенное звучание. Ибо речь музыкальна. Взять, к примеру, те же вирши, что вы распеваете, сотворив из них канты. Каждому присущ свой музыкальный строй, хоть и может быть схожа главная мелодия. Больше того, краеголосие, или рифма, никаких красот не прибавит, прочти вы стихи поспешно, не уловив их силы, не спев их в душе, ибо они подчинены ритму.
- Возми меч и щит,
- стани в помощь мою;
- взем оружие,
- яви милость твою,
- запни гонящих, —
тянете вы псалом Симеона Полоцкого, делая остановку на пресечении. А ведь без этого «запни гонящих» ничего бы не вышло, и соскальзывал бы голос, и терялась бы вся продуманная, подчеркнуто запинающаяся – не зря останавливается голос, – прочувствованная псалмопевцем красота.
Когда ставит речь себе высшие цели, когда обращена она к душам, а не ушам, то все в ее построении решает гармония слов, мелодия, в речи затаенная. Слушай классические струны древних певцов – в них нет фальши. Ловкость эта достигается упражнением, ладность – великим трудом.
Конечно же, с мелодией соседствует ритм. Если игрок заденет чуждую струну, нарушит звон – его засмеют, как плохого мастера. Если же он сменит ритм, умело, обдуманно переведет его с быстрого на напевно-раскатистый, бархатный, усмиряющий, – слушающие не усмотрят в этом плохого; они завороженно настроятся на тягучее рокотание струн, расслабят напрягшиеся члены, задышат покойней и тише и скорее даже не заметят (а точнее, сразу забудут), как погрузятся в мелодичность нового ритма, – они не подумают, что ими играет музыка, они решат, что музыкант играет себе на своих гуслях, а он будет играть их душой, завлекая ее в бездонные глубины прекрасного. Облегчит или утяжелит он тон, поставит односложные или многосложные слова, станет напевать в квинте или в кварте, затихающий пустит звук или возрастающий – все зависит от его настроения, умения и желания.
Есть такие, кто удовлетворится легкой пляской, дурным наигрышем гудошника, пиликающего в такт кривлянью веселых на базарной площади. Есть и такие, кто и вообще пройдет мимо, погруженный в суетность житейских забот. Но все станут слушать певца, прославляющего возвышенное, повествующего о седых временах древности, о героях и их почти божественных деяниях, ибо красота и сила великого очевидна. Каждого она очищает и каждому дарует сладость познания, заставляет помыслить о крупном, вечном и преходящем, затмевает мелочное, корыстное, наносное, делает слабого сильным, смягчает озябшего, утешает тоскующего, обнадеживает разуверившегося, питает страждущего, желающего думать наводит на раздумья, а мечтающего забыться убаюкивает, просветляет, возвеселяет и всех вместе ведет навстречу к свету истинному, просвещающему всякого человека, грядущего в сей мир.
Так наставлял отец Илиодор.
Щелканье кузнечных клещей, шорох сдираемой стружки, визг немазаного колеса, вопли птиц в камышах на Кутуме, звон мечей битвы, глухой стук булавы о щит, яркий блеск панциря на жгучем солнце, грязь земли, мутность подземных вод – все это Василий ощущал, видел и слышал в его примерах, на его уроках.
Он болел словами. Вечерами дотемна сидел в монастырской библиотеке вместе с немногими, кому позволялось в ней бывать так поздно, ибо право это доставалось только лучшим, отмеченным префектом. Он читал стихи: латинские, русские, греческие. Учил стихи. Учил, читал, пел.
Он пробовал подражать – ведь подражание есть основа основ. Он подражал не по принуждению, а в охотку, и отец Илиодор, подметив его интерес, специально, помимо ежедневных классных упражнений, заставлял следовать выбранным отрывкам. Он ставил слова на лист, произносил их, ударял в уме ударные звуки и, зачарованный мелодией, довольный собой, наутро нес наставнику лист или два своих упражнений.
Жирное перо префекта проходилось по написанному, марало, подчеркивало, негодовало знаками и значками или попросту смеялось толстой линией. Сам же отец Илиодор никогда не мог допустить высмеивания, унижения. Он был строг и добр, добр и строг. Но коричневые чернила терзали хуже наказания, и порой Василий был глух к объяснениям и, потупившись и краснея, твердил: «Да, отец мой, согласен, отец мой». «Аз есмь червь, аз есмь червь, ничтожнейшая из ничтожнейших Божьих тварей», – повторял он про себя, исступленно лаская слух чередованием жужжащей и мягких согласных.
Затем, после уроков, найдя угол или примостившись на чурбаке на черном дворе, подальше от глаз приятелей, он расправлял исчерканный лист и упрямо вперялся в свои, такие родные, слова. Он не обращал внимания на изменения, внесенные наставником, не думал о его правоте – в эти минуты он был обижен, и обида застилала разум – казалось, что лучше, чем примыслил он сам, сказать невозможно. Но сомнение, сомнение не покидало, не отпускал его цепкий обруч уставшей головы. «Аз есмь червь», – вторил он утренней пустоте души, но уже не было слепой безнадежности в беззвучной фразе.
Он был упрям, как отец, женивший его против воли, как дед, отказавшийся на склоне лет от посещения церкви, но он был и любопытен, и легко отходил от обид. Пока легко отходил от обид.
Любопытство пересиливало. Он снова читал, и постепенно, постепенно линии и значки префекта начинали казаться верными. С большинством он уже соглашался, а спорить отваживался лишь с пустяками, так велик был авторитет учителя. Он верил отцу Илиодору, а ведь из камешков веры и складывается авторитет.
Так познавал он азы истины.
Раз схватив, прочувствовав, пережив, он заклинал себя навсегда следовать найденному. Бежал в библиотеку править слова, вновь перебеливал написанное, чтобы утром предстать перед учителем, и заслужить одобрение, и сподобиться серьезного разбора (еще одного! и еще одного!) своего упражнения.
Иногда, правда, случалось, он чувствовал безразличие к бумаге: обида сидела где-то слишком глубоко. Тогда он шел в спальню или спешил вместе с друзьями за ворота и в отведенные отдыху часы слонялся по площадям и закоулкам Москвы, порой до самых сумерек.
Он был хороший товарищ и большой мастер до всяких выдумок, за что его ценили и прощали рифмоплетство. Возвращаясь, они старались обходить улицы, где расхаживала ночная стража, крались по стенам изгородей или шли по кромке кремлевского рва, никем не примечаемые, тихие, как тени. Бывало, они пугали случайных ночных прохожих, играя в лихих людей, и дневная городская молва сразу откликалась рассказами об опять появившихся разбойниках и бродягах.
У них были излюбленные перелазы через монастырскую стену, опасные, особенно во мраке, когда едва выступающие гвозди кровли – опора для рук и ног – и выкрошенные ямки кирпичной кладки становились почти невидимы. Тут они полагались на умение, сноровку и тренированную память рук.
В спальном зале они пробирались к топчанам и, если замечали подглядывающего фискала, молча показывали ему кулак, надеясь, что такой аргумент оградит их от утреннего разбирательства и строгого наказания. Но случалось, что они натыкались на наставника, и тогда на другой день долго и больно горела кожа в тех местах, где впиявливались в нее моченые тонкие розги.
Но сердиться на отца Илиодора всерьез и подолгу Васька не мог. Не раз забывался сном во время урока после очередной вылазки и только благодаря цепкости ума и изворотливости языка избегал порки. Не раз, не два и не три бывал исчеркан черновик, но стоило ритору заговорить, стоило только вспыхнуть перед глазами свету словесной игры, как он покорялся, забывал обиды и всей душой отдавался постижению науки. Науки наук. Красоте красот. Звончайшему звону звонов. И много еще как называл он в уме это сладостное занятие, не пугаясь, что по мыслям может пройтись насмешливое жирное перо любимого префекта.
Так бы, казалось, всему и продолжаться, бесконечно, от малого к большому, постепенно, накручиваясь, как на колодезное бревно вервь, снизу вверх, из мрака в день, вытягивая прекрасную влагу познания. Так бы всему и продолжаться: спорам и обидам, гордости и унижению, но случилось по-иному.
Настал апрель, ночные вылазки участились, и не потому, что больше не привлекала учеба, оттесненная взорвавшейся весной, а потому, что отец Илиодор захворал, уроки его стали редки, замещающие находились не всегда, да и в подметки ему не годились, больше читая вслух, чем обучая, а если они говорили, то наставительно и как-то чванливо, возвышая голосом не речения древних, а речениями древних возвышали свои голоса, утверждая пустое превосходство над полусонными учениками.
В мае отец Илиодор пришел один раз. Он улыбался, как всегда, слушал, читал сам из Цицерона, обещался в другой раз подробно разобрать речь, он не успел. В мае, в мае, скакавшем галопом навстречу концу учебного года, он умер, не успев не только разобрать Цицерона, но и дописать свои обширные комментарии к Дионисию Галикарнасскому, к его трактату «О соединении слов».
Он умер, а отпевание и погребение как-то смазались в памяти навалившимися приготовлениями к предвакационным торжествам. Шили декорации, колотили помост для мистерии, которую готовили старшие школяры. А потом гремели хоры, пелись торжественные «славы» и «виваты», и в этом многоголосии, громе, звоне литавр, свисте флейт и грохоте барабанов потонуло все: и диспуты, и мистерия, и величание государя императора с супругой – обязательное и ежедневное, как «Отче наш». В той мощи праздника была своя гармония и нервный, дробный, быстрый ритм – он-то и возносил души, так как слов почти не было слышно.
Василий, раздувая ноздри, пел дискантом на левом крыле – не думал, пел, весь отдавшись великой силе, единому порыву. Только после он понял, что так способна была повести его мелодия торжественного концерта, сплетенная из бравурных кантов-величаний, и он вспомнил отца Илиодора и его наставления – мелодия и ритм действительно полонили сердца всех школяров без исключения.
А затем наступили летние вакации.
6
Прохор Матвеевич Коробов узнал его сразу и, доброжелательно усмехнувшись, спросил:
– Что, на вакации разогнали, пришел христарадничать? Ладно, студиозус, – прошлогоднее слово, видно, ему нравилось, произносил его смакуя, с легкой издевкой, – будет тебе над чем глаза поломать – хозяйство огромное.
Он любил перекатывать во рту гласные, проговаривал по-московски «о» как «а» – «Харашо, харашо, пиши далее». Васька по утрам заносил на бумагу его приказы или переписывал заготовленные с вечера секретарем управляющего Филиппом Сибилевым записи в толстые деловые тетради. Тетрадей имелось несколько – хозяйство действительно было огромное.
Но работа отнимала только утренние часы, хотя и отличалась от кантемировской бездумным однообразием: взято столько-то такого-то, свезено столько-то такими-то – вот и вся недолга. Тем не менее Васька был рад – кормили сытно, а к концу лета Коробов даже обещался немного заплатить.
С людьми на усадьбе он сошелся легко, а с Филиппом Сибилевым даже сдружился. Был Филипп на несколько лет его старше, но уже обременен семьей и детьми, а потому рано бросил учебу в академии. Приятель его Ильинский приискал ему хлебное место у Коробова – идти в церковные дьяконы Филипп не пожелал. С Иваном Сибилев связей не терял, но редкие, по случаю, письма не заменяли живое общение – любовь к отсутствующему другу Филипп перенес на его подопечного, тем более что Тредиаковский, как и он сам, оказался страстным любителем книг.
Поработав утром, со второй половины дня, после сытного обеда, Васька волен был делать, что ему заблагорассудится. Часто он рылся в графской библиотеке – тут им руководил Сибилев, не забывавший за своей работой латыни. Собрание осталось от старых московских владельцев и состояло в основном из рукописных фолиантов, чтением которых не брезговал и сам Прохор Матвеевич, любивший на прежний лад божественное чтение. К новым печатным книгам, лично приобретенным графом Головкиным за границей, Коробов и близко не подходил. Все ляшское, как управляющий, оправдывая незнание чужих языков, называл латынь, порождало у Прохора Матвеевича смешанное чувство восхищения и опасения. С одной стороны, от еретических книг кроме душегубительной пакости ожидать, казалось бы, нечего, но с другой – их признавали люди ученые – граф и Иван Ильинский, коих заподозрить в хуле на православие Коробов и в мыслях не мог себе позволить. Воспитанный в почитании властей, все нелегкие нововведения, выпавшие на его век, Прохор Матвеевич принимал беспрекословно, но, исправно выполняя царские указы, так до конца и не привык к немецкому платью, надевал его каждое утро с явным неудовольствием. Тем не менее все на усадьбе императора боялись и боготворили.
– Ладно нам, мы свои дни доживем и без того умом не оскудеем, а вам, видно, Бог дал во всех премудростях ляшских разбираться, – говаривал он, подтрунивая над чтением Сибилева и Тредиаковского, но, свято убежденный в их «особой учености», занятиям не мешал, а скорее даже поощрял их.
Среди же подчиненных оберегал раз и навсегда заведенные устои: сам соблюдал посты, следил, чтоб и домочадцы и дворня не забывали посещать церковь. Хозяин-граф давно находился в отъезде, путешествуя по долгу службы по Европам, хозяйка большей частью жила в Петербурге, так что Коробов был всему дому голова. На усадьбе порядок старался поддерживать, как учили в детстве, – чтоб во всем были степенность и спокойствие. Степенность достигалась железной дисциплиной, а вот спокойствия явно не хватало, сказывалось прошлое суматошное военное время: люди в вотчинах нищали, граф же с каждым годом просил все больше и больше денег, а потому приходилось без конца самолично разъезжать по деревням и считать, считать, бросая костяшки счетов: взято столько-то, свезено столько-то, недоимок взыскано столько-то – писанина и строгий учет!
После обеда наступало затишье. Часто Василий оставался в одиночестве – Филипп не каждый день задерживался в библиотеке, уходил домой к семье. Тогда он отправлялся в город или спускался к реке. На берегу постоянно обреталась шумная компания московских спасских школяров: играли на деньги в запретную свайку, купались, бились об заклад, кто дальше пронырнет, но с ними было скучно, они были моложе – в основном у воды собирались ученики начальных классов. Чаще он бродил по площадям, глазел на заезжих акробатов, толкался у книгонош на Спасском мосту, разглядывал рисунки на дешевых печатных листах, приценивался к бумажным иконкам и литым образкам с соловецкими чудотворцами, но покупать было не на что, и торговцы его не жаловали. Тогда, отойдя от лотков, он сливался с этим нескончаемым полчищем народу, лишь постепенно, медленно оседавшим к вечеру в кабаках, трактирах, постоялых дворах и собственных домах и домишках.
Так проходила неделя, и наступало воскресенье. Это был день длинный-предлинный – он любил его. Рано, с солнцем, он убегал в город, обманывал набожного Коробова, уверял, что спешит к заутрене в Спасскую церковь, на деле же спешил на улицу, живую, шумную улицу Москвы, торгующей, празднующей выходной. Летом город отдавался на откуп приезжим. Их всегда тут было множество, но летом возы с товарами шли и шли, казалось, без продыху даже и ночью, словно старались напитать ненасытный город на всю оставшуюся часть года. Вместе с возами пробирался на площадь и Васька и ждал, как скоро заполнит ее мелкий, суетный народ. Астрахань тоже бурлила в базарные дни, но восточные люди, ее населяющие, видно, задавали тон остальному большинству: все же большей степенностью, спокойствием отличалась Астрахань в самый острый час дня от охваченной праздничной спешкой, вечно бегущей Москвы.
Москва торговала!
Только натолкавшись всласть, спешил Васька к полудню домой: воскресный обед был делом важным. За стол садились после церковной службы, где стояли все утро. Но уж и кормили в красный день особо – воскресение, говорили москвичи, главнее Успения.
И не скоро, только когда бывало выкушано и выпито все невероятное количество снеди, припасенное на выходной, Прохор Матвеевич Коробов, отвалясь от стола, кивал Ваське: «Читай!» Васька брал большую, праздничную Библию, вставал к аналою и читал распевно, возвышенно, от души главы, помеченные хозяином шелковой закладкой.
Когда он кончал, трапезничающие переходили в залу перекинуться в карты, поспать в креслах или продолжить хлопоты по хозяйству, что, впрочем, больше касалось коробовских женщин. Семья управляющего была большая, да еще няньки, да мамки, да старая графова шутиха-горбунья, да заезжие гости, не переводившиеся в доме, – меньше тридцати человек из-за стола не вставало.
Недельные дела на этом кончались, но в воскресенье дома не сиделось, и он спешил за калитку. Он сжился с Москвой, но до конца к ней еще привыкнуть не мог, не мог наглядеться, и поражался размерам, богатству, бедности, размаху, и уставал от суеты и шума. Изогнутые линии бастионов Зарядья, хоть и были они мокрые, заваленные мусором, ему нравились, он шел вокруг них, бросал камешками в воронье, гнездящееся в кровле Китай-города, месил грязь на улицах, пускался в беседы, рассказывал отдыхающим мастеровым о своих краях, о далеких Шемахе и Самарканде, об Индии и индусах и всегда пожинал успех. Слушающие восхищенно вздыхали: «Горазд языком чесать» – и норовили всучить ему еду, напоить молоком, принимая за бездомного служку. Отбиться от хлебосольных и доверчивых москвичей было тяжело, и это доставляло ему какое-то особенное удовольствие.
Он и сам замечал за собой любовь к болтовне и, вспоминая наставления отца Илиодора, корил себя за суесловие, но поделать ничего не мог – кто-то словно тянул за язык. Ему было интересно выдумывать совсем уж откровенные байки, как, например, про слонят, что рождаются с крыльями и после, достигнув годовалого возраста, сбрасывают их. Потому как ни одно крыло не в силах поднять в воздух столь массивную тушу, – он знал наперед, что подобных небылиц от него-то и ждут и, сомневаясь, покачивая головами, восхищаясь явной уж небывальщиной, все равно немного поверят и с удовольствием выслушают не перебивая, боясь пропустить завораживающее своим откровенным неправдоподобием слово рассказчика. Так же когда-то затаив дыхание внимали они с Сунгаром историям старого астраханского пономаря, и многие из них он теперь пересказывал москвичам, с радостью отмечая, что байки Тимохи Лузгаря и тут покоряют сердца простодушных горожан, как покоряли они его в прошедшем детстве.
Столь же жадно, как говорил, любил он слушать. Впитывал знакомое многоголосие, стоя на паперти Донского монастыря, куда добирался уже под вечер. Он приходил в гости к единственному закадычному приятелю из академии Алешке Хижняку, малороссу, прозванному за сильно косящий глаз Монокулюсом, сиречь одноглазым. Алешка поначалу здорово обижался на злоязыких приятелей, чурался компании, и Васька, не раз вставая на его защиту, обрел в Хижняке преданного и любящего друга. Сирота, определенный в академию дальней родней, казалось навсегда о нем после позабывшей, Монокулюс был из самых бедных, а значит, самых голодных школяров. Общие лишения только крепче закалили дружбу. Длинный, худющий, с вытянутым лицом, Алешка любил, прикрывая косящий глаз, взирать на мир одним чуть прищуренным оком, отчего людям, его не знающим, казался хитрецом. На деле же, легкоранимый и тихий, был он исключительно добродушен и по-детски доверчив. В каникулы ехать ему было некуда, и Монокулюс нанялся трудником в большой богатый монастырь. Тут его хорошо кормили, но приходилось за это всю неделю работать в обители, и лишь в воскресенье к вечеру выдавались отдохновенные часы. Васькиному житью он откровенно завидовал, но по-доброму, как все делал в жизни. Зачастую, не достояв службы, они сбегали и гуляли в монастырском саду, болтали, или Алешка немного провожал своего более удачливого товарища.
Васька возвращался домой по Космодемьянской всегда в приподнятом настроении: вслушивался в обрывки долетавших фраз и, бодро шагая дальше, старался домысливать продолжения подслушанных разговоров. Под конец, перед домом, вставал он на Всехсвятском мосту и замирал, ожидая, пока уши наполнятся журчанием мельниц, устроенных в отводных быках моста. Бесконечная, выплывала и уносилась вдаль речка, и время тянулось столь же неспешно, под стать ее извечному размеренному течению. Звуки воды успокаивали несказанно после шумного, казалось, нескончаемого дня.
Его тянуло к тишине, на природу – сидение в Москве, как бы занимательно ни было, утомляло, оглушало его, привыкшего к астраханскому раздолью. Как-то подслушав, что Прохор Матвеевич посылает косцов на кунцевские луга, он не стерпел и напросился с ними. Неожиданно Коробов согласился – сам он на две недели собирался отъехать в можайские вотчины графа с ревизией. Васька получил вакации в вакациях и счастлив был непомерно.
Вечерами после работы сидел он у жаркого полыхающего костра. Тихо спускалась ночь, разливался покой, и дышалось чисто у прохладной, омытой туманами травы. Потрескивал тонкий сухой хворост в огне, стрелял искорками. Филипп Сибилев не выдержал и, приехав якобы с проверкой, остался на ночь, а на другой день привез жену Евдокию и девочек и жил с косцами два дня. Старшенькая, симпатичная Аннушка, тоненьким голоском подпевала родителям, когда, опорожнив котел с ухой, падали косари вкруг огня. Женский и девичий голоса начинали песню. Василию вспоминались мать и Мария за вечерним рукоделием, и становилось тоскливо и сладостно на душе.
- Ой да вы, туманы мои да туманушки,
- Ой да вот и непроглядные, да туманы вы мои,
- Туманы мои!
Косари подхватывали и пели протяжно, глядя в огонь.
- Ой да, как печаль-тоска, вот мои да туманушки,
- Ой да вот и ненавистные вы, туманы да мои.
- Туманы мои! Туманы мои!
- Ой да не подняться ли вам, вот мои да туманушки,
- Ой да вот не подняться сы синя моря долой,
- Сы синя моря долой!
Песня была долгая, нескончаемо долгая, печальная и торжественная. Музыка ее плыла поверх поля распевным причетом, и уговаривающие, просящие слова слетали вниз на убеждающих, нисходящих мотивах, а яркие, ключевые, подчеркиваемые по смыслу взмывали с пламенем в ночь на выпуклых скачках мелодии.
Евдокия и Филипп хорошо пели на два голоса, слаженно. Передохнув, они затягивали духовный кант – хвалу празднику или Богородице:
- День невечерний в Сионе сияет,
- Ночь в Египте мрачну разрушает.
- Дух темны нощь есть, —
- Бог воплощенный, день невечерний.
Это тянулось, тянулось, ударяя каждый слог, и был кант красив тихим спокойствием своим и щемящей печалью, размеренным своим струеньем, неспешным рассказом, украшенным протяжными словами, плетущими замысловатые предложения. И ночь не разрушалась, как в стране злых фараонов, а все больше надвигалась, и луна занимала полнеба. И были хороши облака. Они всегда в полнолуние несут какую-то таинственную силу: гонит ли их верховой ветер, наталкивая друг на друга, или только чуть заметным дыханием лепит из них сказочных чудовищ. А то они просто замирают, полные свинца: грозным потусторонним светом, мертвенным, призрачно-белесым наполнены их шевелящиеся закраины. Еще страшней, когда красная, злая луна низко висит над лесом и кровь невинно убиенных растекается по небу, напоминая о грехе Каиновом, о грядущем суде и о вечных муках. Выглянет из тучи голова змея-искусителя, потянется, превратится в поганое чудище, озорно подмигнет громадным оком, нырнет, скроется, и приятный, согретый костром страх разливается по телу. И один из косцов, не утерпев, задает вопрос, как бы сам себе: «И чего она, балда такая, светит?» Это вправду непонятно. Непонятно, но завораживающе красиво. Песню он любил с детства, как литургию, как псалмы и духовные канты, и здесь, в городе, часто спускался вечерами в нижнюю избу к дворне или, затесавшись в толпу на Спасском мосту, слушал бродячих сказителей. Стихи их были особенные, они не грохотали, не переливались мощно от слова к слову и не скакали нервно, дробно, как «виваты», а текли плавно, окрашиваемые гласными, повествуя о далеком сказочном прошлом, и от их речитатива тоже рождался в душе трепет, и ухо внимало им, любовалось мелодией, ритмом, цокающим, как копыта по камням:
- И молодый Добрыня сын Никитинич
- Пошел же он ко городу ко Киеву,
- Ко ласковому князю ко Владимиру,
- К своей тут к родители ко матушке,
- К честной вдове Офимье Олександровной.
Академические учителя не признавали народного пения, называя его самым низким родом стихов. В нем не было краеголосия-рифмы, но главное, что-то главное в них было. Они построены были по другим законам, и, пытаясь постичь их, он записывал песни на бумагу и удивлялся: вся красота зачастую пропадала – исчезал неповторимый голос певца-рассказчика. И опять, опять вспоминал Тредиаковский отца Илиодора и понимал теперь, как не хватает ему ушедшего в мир иной педагога. Филипп любил петь и читать, но не терпел рассуждений; Алешка Монокулюс слушал Ваську и со всем соглашался – его такие вещи мало занимали. Васька был один, и единственный, кто мог бы ему помочь, – Иван Ильинский – был где-то далеко-далеко.
7
УСТАВ, ЧТО НАДЛЕЖИТ ЗНАТЬ И ДЕЛАТЬ УЧЕНИКАМ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ
§ 1. В простые дни поутру вставать в шестом часу; в седьмом убираться честно, одежда чтоб чиста была, голова чтоб расчесана, и потом молиться; восьмой и девятый первее изученное вчера греческое протвердить, а потом латинского и русского языка обучаться; десятый гулять; одиннадцатый рисовать, двенадцатый обедать…
§ 4. При трапезе никому ни с кем ничего не говорить и никоим образом не соглашаться и не раздражаться, но внимать чтению…
§ 10. Играний употреблять безбедных и не злообразных, например: в городки палками не играть, на крагли метать пули не выше двух аршин, по сторонам игры той близко не стоять, победителям на побежденных не садиться и ничего непристойного делать не велеть, в свайку никому отнюдь не играть.
§ 11. Когда которому нужда будет идти из дому куда ни есть (близко или далеко), тогда докладывать нам, а в несбытность нашу первому, кто будет из служебной фамилии, и требовать позволения, и во всей той отлучке, даже до возвращения в дом был бы при нем один из слуг наших… А того соприсутствующего не поить и по возвращении нам или в неприсутствии нашем кому пристойно представить для освидетельствования, что он не пьян.
§ 12. А если кто против вышеположенному единнадцатому артикулу дерзнет учинить, то всяк из детей наших да и прочих, кто о том знать может, должен нам объявить – под жестоким за умолчания наказанием.
8
– Так! Хорошо!
Если плохо, говорил: «Очень плохо!»
– Сидеть! Стоять! Слушать меня!
Глаголы любил в повелительном наклонении. Был сух и строг. Наказание почитал благом.
Спрашивал холодно. Требовал повиновения воинского.
Смирение поощрял, но при этом заставлял ходить подтянутыми, стройными. «В здоровом теле – здоровый дух», – цитировал латинян.
Сам был роста невысокого, худощав, бледен лицом. Глаза имел маленькие, острые, черные, никогда не мигающие. Губы словно вытянуты в одну поперечную лицу полосочку. Когда сильно волновался, губы синели, а лицо совсем уж белело, будто вся кровь от него отливала. Руки длинные, жилистые прятал за спину, прохаживаясь по классу, или нервно сцеплял на поясе, давая отповедь провинившемуся. Только стихотворный ритм отбивал ладонью, узкой и острой, как нож мясника. Ступал на носок мягко и бесшумно. Входил в класс, поправлял фиолетовую шапочку, с ходу обрушивался на учеников.
Всегда чистый, с тщательно промытыми и уложенными волосами, в холеной русой бородке клинышком, обтекающей острые скулы, в рясе без единого пятнышка, подчеркивающей стройную фигуру, был похож на свою любимую оценку – единицу.
Многословие отменил. Требовал при ответе отбора только необходимых слов. Как удар бича вопрос: «Сколько родов латинских стихов ты знаешь? Пример диметра – ты, триметра – ты, монометра – ты», – указывал перстом. «Правильно, сядь! Неправильно, очень плохо, сядь!» Упражнения черкал пером, мелок исписывал замечаниями. Споров с собой не признавал. «Учитель для вас – истина, слова учителя – единственная правда!»
Следил за внешним видом. Следил за тишиной на уроке. Бил линейкой по пальцам. Следил в спальном классе, появлялся неожиданно. Окружил себя сетью фискалов явных и тайных: запугал их, сломил, растоптал, подчинил. Ввел долгое моление, перед которым обязательно читал проповедь – в свой голос вслушивался, ценил его. «Взыщите премудрость, да поживете и исправите в ведении разум». Проповедовал при общем богослужении перед всей академией – наставлял на путь истинный.
Открывал классный журнал, обязательно по сгибу проводил длинным ногтем. При всем этом был начитан, знал все стихи наизусть, ибо почитал красивое слово, имел на любой вопрос ответ. Ценил простой, без завитков, легкодоступный почерк.
Любил отцов иезуитов, считал их систему обучения наиболее приемлемой. Лютеран и прочих протестантов иначе как еретиками не называл, по мельчайшему поводу старался высмеять, заклеймить. Во всей академии был близок только с отцом Гедеоном – ставил его в пример, восхвалял ученость, докторскую степень, часто намекал на неустанную благую борьбу, ведомую Вишневским с богомерзкими вероотступниками. Как и ректор, добром поминал недавно скончавшегося Стефана Яворского, цитировал его разящие слова: «Аще зло твориши – бойся властелина правильного, ибо не без ума меч носит: Божий бо слуга есть, отмститель во гневе злое творящему».
Таков был новый наставник риторики, новый префект академии, отец Платон Малиновский.
Проповедовал дидактику. Каждое свое суждение считал исключительно верным: исключительным и единственным. Среди поэтов за авторитет почитал псалмопевца Давида, Вергилия и Симеона Полоцкого – последнего цитировал к месту и не к месту. Стихи любил потому же, что и проповеди, – любовался словесной игрой, сам переводил с латыни, написал несколько духовных кантов и мнил себя поэтом. Стихи читал резко. Останавливал голос на цезуре-пресечении, вторую половину стиха продолжал в том же тоне, что начал. Словно отбивал ритм башмаком.
Поклялся вытравить свободный дух вакаций на первом же уроке. И вытравил. Добился, что все слушали, молчали, сидели не шелохнувшись. И это было удивительно – при отце Илиодоре привыкли, что педагог обращается лишь к тем, кто хочет слушать, лишь к желающим. Отец Платон говорил всем, но скидки никому не делал. Всех мерил одинаково, причесывал под одну гребенку. Лодырей жестоко наказывал, а поспевающих учеников не хвалил. Или хвалил редко. Бесед наедине не признавал, проверял упражнения дома. Распинал при всех, чтоб было стыдно.
При этом строгость, строгость, строгость.
– Названия латинских стихов происходят, во-первых: от их материи или содержания оных, как то: героические, драматические, буколические; во-вторых: от авторов, их изобретших: горацианские, сафические; далее – зависят от числа слогов: пятисложный, семисложный; от полноты или неполноты стиха – стихи, имеющие последнюю стопу целую, называются акаталектическими, от латинского “acatalecta”, те же, которым недостает до полноты стопы одного слога, – каталектические, соответственно от “catalecta”. Ясно? Примеры…
Как конспекты, как голая схема, как дерево без листьев – мертво, пусто, уныло.
Неделями не трогался далее, если не выжимал всеобщего запоминания. И свирепствовал, сетуя на потерянное время. Иногда вдруг возвращался к давно прошедшему. Спрашивал. Наказывал. Снова заставлял учить.
После каждого слова хоть точку ставь, так читал.
Слова «таинственный», «пышный», «обильный», «прекрасный» – словно исчезли с уроков, а если и попадались в его речи – расплывались по ней, терялись, несмотря на то что звучали ясно, внятно, мерно, ровно, строго, строго, строго…
– Раковидный стих, иначе зовомый «раки», может читаться как справа налево, так и слева направо. Например:
- Анна ми мати, и та ми манна,
- Анна пита мя, я мати панна.
Это слабый стих – развлечение, а значит, не заслуживает особого внимания.
Анна – точка. Ми – точка. Мати – точка. Вздох на пересечении, остановка и снова: и – точка. Та – точка…
Ясно, ясно, ясно…
Васька наказаниям подвергался редко. Он имел достаточно воображения, чтобы представить себе диктуемое образно в уме, и запоминал мгновенно. Четкость префекта была даже ему на руку – он стал просчитывать стихи и удивлялся их математической выверенности. Играл, меняя слова, – ритм тут же рассыпался, и он вспоминал закон отца Илиодора о соединении слов. Теперь в другом свете все представало. Стихи стоило считать, проверять голос. Вот где таились ошибки. Значит, строгость необходима? Не была бы только так суха. Но как не стать сухарем, если большинство учеников не понимает, о чем идет речь, и приходится повторять, повторять, а они все равно не желают понимать. Это так обидно – говорить в пустоту…
Античные герои тоже были строги. Он оправдывал отца Платона. Но все чаще почему-то вспоминался добрый отец Илиодор. Тот же все понимал, решительно все, но подкупал сердца мягкостью и дружелюбием, не заставляя их дрожать на уроке, и, наверное, был прав. При таком сравнении отец Платон заметно проигрывал. И он осуждал его.
Василий подметил, что новый префект интересуется им, и, когда Тредиаковский, пытаясь оправдать наставника, невольно подняв взор, встречал ответный взгляд мелких, буравящих глаз, когда замечал тонко сжатые губы префекта, он не то чтобы робел, но стушевывался, порыв проходил. И он читал заданное стихотворное упражнение просто, вдумывался в смысл, отрешаясь от красот слога.
Странно. Удивительно. Непонятно. Получалось все равно торжественно. Платон Малиновский подчинял стихи дисциплине, но выходило наоборот – стих сам диктовал дисциплину, сдержанность и завораживал, требовал мерности.
«Тише… тише… белой стопой ступай…» Отец Илиодор понижал голос почти до шепота, ладонью вслед за ним отбивал такт, округло опуская ее по воображаемым ступеням.
Префект произносил обращение Электры к хору в Еврипидовом «Оресте» иначе, жестче. Палец его рубил воздух, одинаково проторял дорогу для каждого слова: «Тише… тише… Белой. Стопой. Ступай».
Васька терялся, не зная, какой путь вернее, только вертелось в голове: «Си́га, си́га, лейко́н ихно́с арбю́лес…» И он готов был бы благодарить префекта за приобщение к новому чуду, но каждый раз взгляд его замирал, падая на каменную стену, неприступную твердыню его взора. В благодарностях тот не нуждался. Узкая ладонь отбивала ритм: следует делать так – внушала ладонь и падала: так! так! так!
Отец Платон сильно ограничил их выходы в город. Совсем запереть в стенах он не мог, но пользовался своим правом давать разрешение и ставил учеников в прямую зависимость. Те, кто плохо учился, по сути, оказались взаперти. Ни о каких ночных вылазках и думать не приходилось. Пойманный с поличным Алешка Монокулюс, сбегавший постоянно по делам сердечным в город, был наказан дневным стоянием на коленях, после чего посажен на хлеб и квас, принудительно отбивал поклоны Богородице и еще был сечен розгами так нещадно, что почти неделю спал на животе, кряхтя и проклиная Василиска, как прозвали префекта за его немигающий буравящий взгляд и за язык – язык настоящего демона: стожалый и быстрый, как пламя.
Поначалу Василий продолжал брать работу у Коробова на дом – в академию. Прохор Матвеевич к Тредиаковскому привык и не хотел нанимать другого человека в услужение. Коробов платил исправно, и его копейки помогали переносить строгость уставной жизни.
Василий заходил на головкинское подворье, беседовал с Филиппом, с самим управляющим, его часто подкармливали тут – он был длинный и худющий и вечно голодный. Но скоро райская жизнь кончилась. Не всегда удавалось выбраться, да и скрывать переписку стало опасно, могли донести фискалы – Малиновский не признавал приработков, считал, что они отвлекают от учения. Задавал Василиск так непомерно много, что даже Василию трудно было учить наизусть десятки, пусть и звучных, латинских строк.
Он отказался от переписки, от выходов в город, засел в библиотеке. Но подползала скука, однообразие страшило. День был похож на день прошедший, а завтрашний был уже известен наперед. Время перестало существовать. Испарилось. Однообразие. Отупение. Усталость.
Корень учения был горек, ох как горек и еще раз горек. До оскомины. Откуда черпать силы? С кем делиться возникающими постоянно в голове вопросами? Алешка не годился, ему он только выплакивался как исповеднику, а настоящего-то исповедника и не было – такого, кто дал бы наставление. Школяров он сторонился – прошлогодние ночные вылазки не сдружили его по-настоящему с однокашниками.
Не верю, прав отец Илиодор, прав сто раз, прав, прав тысячу раз. Взрывались в голове, как шутихи фейерверка, россыпи слов, красоты выписывал, выделял мелодию неслышный почти голос, и дышать начинал по-иному, когда читал стихи. Но ладонь префекта секла воздух, и головы склонялись над столами, и закрадывалось сомнение. Что может быть хуже неверия? Слабости? И не было выхода из этого круга.
Тьма, тьма, тьма со всех сторон. И свербило мозг: «Тише… тише… белой стопой ступай». Куда? Зачем? За кем? Как? Вопрос, вопрос, вопрос…
Он покорился, сник, но в глазах порой стал загораться затравленный огонек обложенного волка. Огонек злобы. Но беззвучной, безъязыкой, бессильной. И выть было нельзя. Не позволялось. Только молиться… но и холодный пол церкви не приносил облегчения. Не очищал, не возвышал, а пение стало вдруг отвратительно. Покойна была только ночь: темнота, тишина, сон…
9
Как так получилось, что, питая нелюбовь, почти ненависть к Малиновскому, Васька попал в зависимость от него? Чувствовал, что сближение не доведет до добра, чувствовал, но не мог противостоять его воле. Их отношения развивались быстро, но колебались при этом, как язык колокола, вызывая спады и подъемы почти близости, почти потому, что отец Платон никогда не доводил игру до конца, он именно играл, отпуская или натягивая поводок, приближая или отталкивая своего доверчивого, враз закабаленного ученика.
У многих, даже у черствых людей имеется своя тайная страсть или, на худой конец, привязанность: была таковая и у префекта – он любил театр. Эта любовь и послужила главной причиной сближения.
По прошествии трех месяцев, добившись слепого подчинения, уверенный, что может лепить учеников как воск, Малиновский начал позволять себе хвалить их успехи и не так зло и безнадежно ругать оплошности: стало очевидно, что предмет риторики ему небезразличен. Когда же подошли в курсе к драмам и трагедиям, наставник совсем преобразился: голос его порой стал звучать взволнованно, необычно. Трагедии он особенно любил. Префект говорил о негодовании или сострадании, которые вызывают лучшие трагедии у слушающих, описывал бедствия великих героев, они проистекали от грехов или проклятий – грехов их родителей или родителей их родителей. Раскрытие тайн мастерства и было самым интересным в его уроках.
– Герой трагедии не может быть безукоризненно чист, откуда бы тогда рождались страсти? – пояснил он. – По крайней мере, герой живет посередине между добром и злом, ведь для возбуждения большего накала следует устранить то, что действует неприятно. Вина героя должна быть наиболее простительная, зиждущаяся не на его испорченности и злой натуре; под влиянием другого лица, или противоположных качеств, или в силу страсти, чрезмерного влечения совершает он роковую ошибку. Например, может он заблуждаться в том, что считает благом, поэтому вина его кажется мнимою. Но она есть и влечет за собой несчастье. Чтобы впечатление было более действенным, проникало в душу, следует сперва провести героя через счастливые, удачливые годы. Падение, крах – перемены судьбы не должны быть случайными и обязаны вытекать из изложенных выше опрометчивых поступков.
Из его объяснений следовало, что и драмы, и трагедии, и комедии, как и стихи, строятся на выверенном холодном расчете. Недаром «Медея» Еврипида начинается с монолога кормилицы – она вводит зрителя в историю, но тут же высказывает опасения, вернее предчувствия, предрекая гибель детей Язона, а тем самым и гибель его самого и отвергнутой, несчастной, но преступной детоубийцы Медеи. Выходило так, что древние продумали все до мелочей и поэту оставались только слова, их подбор. Но на деле, видно, все было гораздо сложней, иначе как объяснить тот страх и трепет, что пробирал при чтении трагедии? Секрет в соединении слов, сказал бы отец Илиодор. Секрет в точном расчете, говорил отец Платон. По-видимому, правы были оба.
Как-то ноябрьским утром префект торжественно объявил, что перед зимними вакациями они будут играть драму. В классе поднялся шум – принялись наперебой предлагать известные пьесы, но отец Платон сказал, что драму надлежит приготовить ученикам, и тогда-то Василий отважился на сочинительство. Он начал писать своего Язона. Он держал все в тайне и торопился. Конечно же за идеал была взята «Медея». Ей стоило подражать. Пришлось, правда, написать вначале длинный монолог учителя детей Язона, в коем излагалась вся история аргонавтов – это он сделал для младшеклассников, незнакомых еще с Еврипидом. Изложив события, он вдруг почувствовал, что запутался. Становилось жаль Медею, обманувшую отца, умертвившую брата, загубившую душу из-за великой любви к Язону, по прошествии лет бросившему ее ради другой. Отчаяние и ненависть толкнули женщину на самое ужасное – убийство собственных чад, лишь бы они не достались предателю-мужу. И было жалко ее, и была она омерзительно противна.
…Префект подошел сзади. Васька его не видел – он мучился, ища выход из им же сочиненного… Префект подошел вовремя, как нельзя вовремя. Через плечо увидев, он мгновенно понял, чем занят ученик, отметил томик Еврипида на столе и вдруг выдал себя.
– Подвинься, – кратко приказал он. Испуганный, ошарашенный Василий вскочил и уставился на наставника.
– Сядь, – по обыкновению строго сказал тот, сел рядом и стал читать написанное.
– Хорошо. Ты сочиняешь пьесу к Рождеству?
– Да, я бы хотел…
– Хорошо. Только так ты усыпишь зрителя. Следует больше говорить о победах героя. Намекни сперва на прошлый грех, проклятие всего рода. Введи Рок как действующее лицо. Введи Смерть для устрашения. Пускай собирает она свою жатву и предрекает погибель герою. Введи Славу – она и расскажет о деяниях. Выбери для начала действия момент, скажем убийство невинных детей – так страшнее, а потому привлекательней для зрителя. Примысливай, но и подражай. Вина Язона в том, что не по любви, а по страсти взял он Медею, что доверился женщине не чистой, ибо от женщины вообще первый грех на земле. Упомяни это. Она – сестра смерти, все гибнут от нее, прикоснувшись к ней, ибо женщина – сосуд диавольский и создана на погибель.