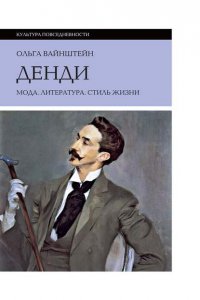
Читать онлайн Денди: мода, литература, стиль жизни бесплатно
- Все книги автора: Ольга Вайнштейн
Гламур и грамматика: предисловие
Эта книга – об истории дендизма, ее главный герой – денди, харизматический модник со всеми своими причудами и обыкновениями. Территория поиска – мода, литература и стиль жизни. Пространства не столь уж раздельные, как может показаться на первый взгляд, – в них то и дело проступают неожиданные связи. Скажем, слово «гламур» происходит от слова… «грамматика». Дело в том, что в Средние века ученые, владевшие премудростями грамматики, считались чуть ли не чародеями, волшебниками, как доктор Фаустус. В XVIII веке в Шотландии «grammar» стали произносить как «glamour», и так возникло новое слово, означающее магическое заклинание, чудо, таинственную силу[1]. И отсюда уже пошел современный смысл гламура – пленительный шик, дивное сияние шарма. Но чтобы понять секреты великих денди, полезно проделать обратный путь: расшифровать исходную грамматику, скрытую за модным блеском. А тогда для начала придется спросить: откуда брать достоверные сведения об этом эфемерном и притягательном мире?
Самые ценные и редкие источники для изучения истории моды – документальные. К ним относятся костюмные коллекции, портновские трактаты, журналы мод, дневники денди, альбомы модников и модниц. Особенно любопытны специальные альбомы, в которых хранились образцы тканей и фиксировались варианты туалета. Раньше это был достаточно распространенный жанр, гибрид дневника и хозяйственной книги. В музее Виктории и Альберта сохранился альбом Барбары Джонсон, относящийся ко второй половине XVIII века. Эта дама наклеивала в свой альбом лоскутки тканей, кратко отмечая фасон платья, расход материала и стоимость шитья, а попутно записывала туда и события своей жизни[2]. Текст здесь с легкостью перетекаетв текстиль – кстати, еще одна неслучайная пара, хитросплетение слов и нитей[3]… Есть упоминания об альбоме князя Куракина, щеголя екатерининского времени. В нем на каждой странице имелись образцы материй, из которых были сшиты его великолепные наряды, и к ним прилагались описания удачных ансамблей, включающих шпагу, пряжки, перстень и табакерку[4]. Куракин использовал альбом для того, чтобы добиться максимально эффектного сочетания костюма и аксессуаров, это был своего рода рабочий инструмент для его изощренного вкуса, учебник гламурной грамматики.
Особый случай – трактаты о моде. Порой это чисто технические руководства для портных с выкройками и указаниями, как снимать мерки[5], порой обстоятельные наставления, как завязывать шейный платок, написанные в приятном игровом ключе[6]. Но нередко эти трактаты создавались с глобальным размахом – как универсальная энциклопедия для желающих хорошо выглядеть. Типичный пример – английский трактат 1830 года «The Whole art of dress or, the road to elegance and fashion», написанный неким кавалерийским офицером. Его полное название звучит весьма внушительно:
«Всеобщее искусство одеваться, или Путь к элегантности и моде, с колоссальной скидкой 30 %. Трактат о существенном и необходимом атрибуте современности – костюме джентльмена. Посредством превосходных иллюстраций четко определяет самые подходящие сочетания цветов, многообразные стили формальной и неформальной одежды; изъясняет, что носить людям разных возрастов и различного цвета лица, чтобы представить фигуру наиболее симметрической и приятной для глаза. Советы по приобретению разнообразных предметов одежды, сопровождаемые рекомендациями по туалету, содержащими ценные и оригинальные рецепты, а также указания, как исправить недостатки внешности и осанки. С прибавлением рассуждения о форменной одежде и о выборе изящного платья[7]».
Такие трактаты, по сути, во многом представляют собой очерки нравов и позволяют в полной мере ощутить атмосферу эпохи. Еще больше этот оттенок субъективности чувствуется в биографиях, письмах и мемуарах, дневниках и путевых заметках: мы полагаемся на них, хотя тут неизбежна авторская пристрастность. Сплошь и рядом основу текста составляет молва, зафиксированная внимательным современником. Иной раз срабатывает эффект многократного повторения, создающий иллюзию фактической точности. Вот, допустим, дотошный исследователь Питер Макнил, изучая историю макарони, английских щеголей XVIII столетия, долго старался установить местоположение их клуба, о котором упоминают источники того времени. В итоге он выяснил, что этот гипотетический клуб – или ироническое название реального клуба Олмакс, или, что скорее всего, просто обозначение модного сообщества[8]. Апокрифический статус отличает и некоторые дендистские легенды. Вполне вероятно, что история о трех портных, шивших одну перчатку, – вымысел. Но разве это означает, что к этому рассказу надо относиться пренебрежительно?
Городские легенды составляют существенный слой тонкой материи культурного жизнетворчества. Филологи научились анализировать их как разновидность фольклорных текстов[9]. Филологические методы оказываются особенно полезными, если вдобавок вспомнить о литературной родословной дендизма. Известно, что многие писатели были денди: Байрон, Бульвер-Литтон и Оскар Уайльд в Англии; Пушкин и Лермонтов в России; Стендаль, Бальзак, Барбе д’Оревильи, Шарль Бодлер, Гюисманс, Марсель Пруст во Франции. Они изображали героев-денди в своих романах (классика жанра – «Наоборот» Гюисманса и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда); сочиняли прочувствованные трактаты о дендизме (особенно отличились на этом поприще Бальзак, Барбе д’Оревильи и Бодлер) и, наконец, сами любили блеснуть импозантными туалетами. И оттого желающим разобраться в дендизме практически невозможно обойтись без литературных материалов.
Так расширяется диапазон наших источников, закономерно захватывая и художественную словесность. В свое время М.М. Бахтин назвал смешение литературы с жизнью в иных критических трудах «наивным реализмом», но он же заметил, что некоторым людским судьбам свойственна «завершенность», роднящая их с литературным произведением… И уж лучше, на наш взгляд, занять позицию сознательного простодушия, чем пройти мимо романных денди или выразительных деталей в описаниях костюмов, которые тонко передают теплоту и прелесть пестрых живых вещей. Порою эффект возвеличивания просто удивителен: предмет, запечатленный в слове, весом и роскошен, а когда видишь ту же вещь в музее, рискуешь невзначай разочароваться.
Противоположный вариант – сатирические образы денди. Как только не издевались над любителями щегольнуть затейливыми одежками! Издавали иронические поэмы[10], высмеивали в романах, рисовали безжалостные шаржи. Ведь и сейчас о моде «денди-бабочка» мы судим во многом по гравюрам Д. Крукшенка, точно так же как о наших стилягах – по карикатурам в журнале «Крокодил». К счастью, обычно находятся и другие источники, помогающие сохранить баланс: те же стиляги пока еще могут рассказать о своих приключениях в юности.
Дендистской культурной традиции посвящено немало критических работ как научного, так и популярного плана, однако далеко не все модники удостоились должного внимания. Явно недооцененным персонажем остается граф Робер де Монтескью, парадоксальным образом не хватает специальных трудов по теории дендизма.
В заключение мне хотелось бы выразить сердечную благодарность всем, кто нашел время прочесть фрагменты текста и сделать ценные поправки и дополнения: моей маме – А.Ю. Нурок; друзьям и коллегам Р.М. Кирсановой, С.Ю. Неклюдову, Л.А. Алябьевой, С.Н. Зенкину, Д.А. Архипову, И.Г. Добродомову. Большую помощь мне оказали редактор книги В.М. Гаспаров, художница И.В. Тарханова, редакция журнала «Пинакотека», И.Д. Прохорова и сотрудники издательства «Новое литературное обозрение».
И, наконец, эта книга была бы невозможна без моего мужа Айдына Джебраилова, автора работ о Шекспире, современной живописи, коллекционера старинного текстиля и ковров. Именно Айдыну я обязана замыслом книги и удовольствием стимулирующих споров. В наших беседах концептуальный хамелеон дендизма приобрел очертания книги.
I. Денди: слово и понятие
Холодная харизма
О. Мандельштам
- Не волноваться: нетерпенье – роскошь.
- Я постепенно скорость разовью,
- Холодным шагом выйдем на дорожку,
- Я сохранил дистанцию мою.
Какие ассоциации может вызвать сейчас слово «денди»? Воображение сразу рисует картинку: элегантный мужчина, безупречный костюм, возможно, смокинг, галстук – бабочка, дорогая курительная трубка, ленивые отточенные движения, презрительная улыбка… Но что стоит за этим знакомым фантомом и почему понятие «дендизм» до сих пор сохраняет неизъяснимый оттенок таинственного шарма, а сами денди предстают эксцентричными эстетами, творцами гениальных причуд?
Классический словарь Larousse дает следующее определение денди: «Элегантный щеголь, главное занятие которого – блистать своими туалетами»[11]. Звучит весьма гламурно, но неужели дендизм – всего лишь мода, поза и стиль изысканной жизни?
Старинный словарь Ф.Г. Толля разъясняет не столь поэтично, но зато с деловитой конкретностью: «Денди – мужчина, одевающийся постоянно по моде, порядочного происхождения, имеющий достаточный доход и обладающий хорошим вкусом»[12]. С этим трудно не согласиться, особенно насчет вкуса и «порядочного происхождения»: ведь среди денди немало аристократов – граф д’Орсе, Робер де Монтескью, принц Уэльский (будущий Эдуард VIII), но были и богемные художники, и безвестные уличные пижоны, рискнувшие в свое время нетривиально одеться, несказанно удивив прохожих.
Однако денди не просто одевается «постоянно по моде», он во многом ее создает, будучи лидером моды. Его манеры подчинены особому кодексу поведения, его костюмы – лишь часть общей продуманной системы. И в этом его отличие от бесчисленных подражателей – это предельно структурная личность, светский лев, сноб, держащий дистанцию: каждое его движение – знак артистического превосходства.
Золотой век дендизма – XIX столетие. Именно в это время в Англии, а затем и во Франции дендизм сложился как культурный канон, включающий в себя и искусство одеваться, и манеру поведения, и особую жизненную философию. Как и полагается каждой почтенной традиции, у истоков стоит отец-основатель: первым и самым знаменитым денди был англичанин Джордж Браммелл (1778–1840). Он имел прозвище Beau, что означает «щеголь», «красавчик». Именно ему чаще всего посвящали свои трактаты и романы наши литераторы. Браммелл считался британским «премьер-министром элегантности», но, вероятно, главная тайна его магнетического влияния заключалась в том, что он отличался особой холодной харизмой, охотно играя в обществе роль иронического садиста. Его язвительно-остроумные ответы мгновенно превращались в анекдоты. Однажды герцог Бедфордский спросил его мнение о своем новом фраке. «Вы думаете, это называется фраком?» – удивился Браммелл. Герцог молча пошел домой переодеваться – ведь мнение Браммелла как арбитра элегантности считалось законом, и публично обижаться было не принято.
Мужской костюм в 1830 г.
Иронию великого денди терпел даже принц Уэльский, будущий король Георг IV, – в молодости Браммелл виртуозно умел общаться с сильными мира сего, сохраняя тон непринужденной фамильярности и ни на йоту не поступаясь собственным достоинством.
Биография Браммелла – фаворит принца, светский лев, затем изгнание и безумие – пример романтического сценария судьбы, первый и недвусмысленный намек на внутреннее родство дендизма и романтической эстетики начала XIX века. По сути, денди – идеальный адепт жизнетворчества: и автор, и персонаж в одном лице, воплощенная романтическая идея всевластия личной воли. Во многих героях Байрона, Пушкина и Лермонтова проступают узнаваемые черты денди.
Как раз в период романтизма в Англии был создан кодекс дендистского поведения, не утративший силы и поныне: гордость под маской вежливого цинизма, отточенная холодность обращения, саркастические реплики по поводу вульгарных манер или безвкусных нарядов. Квинтэссенция светского поведения денди – три знаменитых правила: «Ничему не удивлятьс я»; «Сох ран яя бесс трас тие, пор ажать нео жид анн ос тью»; «Удал яться, как только достигнуто впечатление». В этих правилах сформулирован особый «закон сохранения энергии»: экономия выразительных средств, принцип минимализма. Этот принцип – самое главное в дендизме. Он универсален и распространяется не только на манеру поведения, но и на искусство одеваться, и на стиль речи. Лаконизм реплик денди – экономический эквивалент его продуманно – кратких появлений в свете и сдержанного стиля в одежде.
Дендистский костюм отличается прежде всего минимализмом, благородной сдержанностью, что в свое время было полным новаторством: «Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие»; «В манере одеваться самое изысканное – изящная скромность», – гласят заповеди дендизма. Это прямая противоположность ставке на роскошь – ведь еще в конце XVIII века мужской костюм богато украшался и шился из ярких цветных тканей.
Но денди отказались от внешнего шика или, вернее, придумали новые законы вкуса, которые поначалу воспринимались как эзотерический кодекс для посвященных. В историю вошел язвительный афоризм Браммелла, произнесенный в ответ на комплимент некоего лица, о котором, судя по всему, денди был весьма нелестного мнения: «I cannot be elegant, since you noticed me». Вот так: «Коль Вы меня хвалите, значит, я не так уж и элегантен»!
Суммарный эффект дендистского стиля никоим образом не должен быть резким или кричащим. Весь вид подлинного денди подчинен принципу «conspiсuous inconspicuousness», что приблизительно можно перевести как «заметная незаметность»: костюм не должен привлекать внимание посторонних, но в своем кругу его сразу оценят по достоинству.
Принцип «заметной незаметности» или значимости для своих предвосхитил наступившую в середине XIX века эпоху готового платья и больших универсальных магазинов, когда любой человек со средним достатком мог позволить себе купить стандартный костюм и тем самым раствориться в толпе, стать невидимым. При этом для избирательного воздействия на своих требуется уже двойной код, усилие личного вкуса, остроумное словцо на фоне нейтральной речи.
Французский критик и философ Ролан Барт заметил, что подобным приемом является тонко акцентируемая деталь: «Различительные функции костюма всецело взяла на себя деталь (“пустячок”, “незнаю что”, “манера” и т. д.). Отныне достаточными обозначениями тончайших социальных различий сделались узел галстука, ткань сорочки, жилетные пуговицы, туфельные пряжки»[13].
Действительно, чем более стабилизировался базовый силуэт мужского костюма, тем большая символическая нагрузка ложилась на неприметные мелочи: настоящий дизайнерский пиджак и сейчас отличает такая деталь, как настоящие, а не ложные петли на рукаве, которые можно реально расстегивать.
В стилистике внешности денди мелочи вроде изящно повязанного платка имели огромное значение. Истинный денди узнавался по чистым перчаткам: он менял их несколько раз в день. Верхом неприличия было протянуть для пожатия руку в несвежей перчатке. Аналогичной чистотой отличались сапожки: согласно Шарлю Бодлеру, в начищенных до блеска сапожках должны отражаться светлые перчатки.
Что же касается манеры носить вещи, то «заметная незаметность» срабатывала и здесь: «Самое вульгарное – педантическая тщательность». Недопустимым считалось появиться на людях в новеньком, с иголочки, костюме. Опытные денди порой предварительно чистили его мелким песком, чтобы придать ткани несколько потертый вид, а иногда давали разнашивать новый фрак слуге. Можно было потратить умопомрачительное количество времени и денег на туалет, но лишь с тем условием, чтобы потом об этом забыть и полностью расслабиться, отдаться непринужденной иронии, проявить изысканную небрежность. Напряженность поз и озабоченные жесты прихорашивания сразу выдают новичка – напротив, истинный щеголь, как правило, внешне спокоен, холоден и даже бесстрастен, что дало повод Бодлеру в одном из очерков сравнить дендизм со стоицизмом.
Эта сбалансированность, несуетливость, владение собой производили впечатление «good grooming», что означало не просто хорошее воспитание, но еще и выхоленность, подтянутость, светскую легкость в обращении.
«Выхоленность» имела и вполне буквальное значение – безупречная личная гигиена, каждодневные ванны, причем порой денди купались на манер персидских красавиц в молоке, что оказывало благоприятное воздействие на кожу. (Для сравнения заметим, что, по данным некоторых историков, знаменитый Людовик XIV, «король-солнце», никогда не мылся.)
Чистое тело, естественно, требовало чистого белья, которое ежедневно менялось. Вплоть до середины XIX века модники носили корсет, что не только обеспечивало мужчинам статность осанки, но и нередко помогало скрывать полноту. Но в идеале настоящий денди, конечно, должен был отличаться стройной комплекцией, иначе оказалось бы невозможно носить узкие панталоны в обтяжку из оленьей кожи и добиваться, чтобы фрак идеально облегал фигуру. Тучность была трагедией для многих денди – такова анекдотическая полнота Бальзака, а Теофиль Готье даже посвятил этой проблеме специальный очерк.
Главный предмет гардероба – фрак – шили из хорошего качественного сукна, а цвет зависел от времени суток: темный (чаще всего синий) для вечера, светлый – для дневных выходов. Впрочем, денди отнюдь не были консерваторами в отношении фраков: известен случай, когда благородный лорд Спенсер ненароком вздремнул у камина в клубе и проснулся от запаха паленого, поскольку фалды его фрака попали в огонь. Находчивый англичанин отрезал обгоревшие фалды, и так возник фасон «спенсер», который затем в виде укороченного приталенного жакета перекочевал в дамский гардероб.
Другой авангардный эксперимент был продиктован дендистским пристрастием к тонким, чуть ли не прозрачным материалам: фрак протирали наждачной шкуркой или, согласно одной легенде, куском остро отточенного стекла. Тем самым достигался эффект «антикварной» поношенной ткани, что в некотором роде напоминает современную моду на специально порванные или stone-washed джинсы.
Особую роль в туалете щеголя играли жилеты: их надо было чрезвычайно тщательно подбирать и по расцветке (которая могла быть достаточно необычной), и по фактуре. При всей изменчивости вкусов в течение XIX века мода на мужские жилеты оказалась устойчивой и от романтиков благополучно дошла до декадентов: Оскар Уайльд в молодости отличался настоящей «жилетоманией» и был обладателем солидной коллекции жилетов в самых смелых тонах.
Под жилет одевалась белая сорочка с широким жестким воротничком, подпиравшим вздернутый подбородок, что придавало его владельцу слегка высокомерный вид. Завершал костюм элегантно повязанный шейный платок из муслина.
Но в этом безупречном костюме еще нужно было уметь элегантно двигаться, чувствовать себя свободно – только тогда возникал эффект непринужденной грации, – итальянцы называют эту волшебную легкость la Sprezzatura.
Графическая завершенность дендистских жестов возникала во многом благодаря умелому обращению с аксессуарами. Тросточкой можно было небрежно поигрывать на прогулке, но если предполагалась поездка верхом, требовалось виртуозно владеть искусством верховой езды – сидеть на лошади прямо, не выпуская из рук трость, держа ее вертикально перед собой, как пику.
Приметой модного человека было, как и в нынешние времена, пристрастие к дорогим сигарам и коллекционирование разнообразных курительных принадлежностей – табакерок или, как во Франции в 1830-е годы, курительных трубок. Иногда коллекционирование распространялось и на более крупные предметы: так, знаменитый денди, писатель и моряк Пьер Лоти коллекционировал вещи в восточном вкусе и для фотографий обычно позировал на фоне своих ковров, кальянов и арабских манускриптов, а у себя дома устроил своего родаимпровизированную мечеть. Но это – скорее исключение, дань романтическому ориентализму. Обычно денди были весьма экономны в выборе эстетических средств и предпочитали для своих портретов одну выразительную деталь: так, на знаменитом портрете Болдини светский щеголь конца XIX века граф Робер де Монтескью изображен с тростью, причем зрителю бросается в глаза синий лазуритовый набалдашник – единственный яркий штрих на фоне сдержанной палитры костюма.
На портретах денди обычно выглядят непроницаемо-любезно, напоминая неподвижные манекены. Однако в жизни уверенные в себе щеголи нередко балансировали на грани публичного скандала, допуская весьма рискованные ситуации: они обожали розыгрыши и эпатаж. Пользуясь своей ролью законодателей вкусов, они безжалостно высмеивали неудачные костюмы. Вытянув ноги в кресле, денди мог «нечаянно» порвать шпорой подол дамского платья.
Провокативное поведение на публике, иронический цинизм, маниакальная сосредоточенность на стиле и фигуре, холодность, эстетские позы, деланая небрежность, легкая «скользящая» эрудиция, андрогинные игры – все эти черты удивительно современны… Не случайно в последние годы резко возрос интерес к дендизму – наша культура постмодерна признала в денди своих прародителей. Сейчас слово «денди» почти сравнялось по смыслу с «cool» («стильный», но с ощутимым исходным значением «холодный»).
Недавно Британский совет организовал выставку «Денди XXI века», которая триумфально гастролировала в Москве, Токио, Мадриде и Риме. В 2002 году в Англии вышел новый перевод знаменитого трактата Барбе д’Оревильи «О дендизме и Джордже Браммелле» (1845). Член парламента сэр Джордж Уолден написал обширное предисловие[14], придирчиво разбирая современных наследников дендизма. Энди Уорхол, музыкант Джарвис Кокер, художница-авангардистка Трэйси Эмин – таков его список «кандидатов», и этот перечень легко продолжить: претендентам на сие гордое звание несть числа. За этим симптоматичным увлечением просматривается, однако, своя историческая логика.
Интерес к дендизму – знак переходных эпох, настроений fin de siècle. Недаром в Англии дендизм оформляется в конце XVIII века, возрождается в последние десятилетия XIX века и вновь – уже в наши дни, на рубеже нового тысячелетия. В эти периоды возникает особое стилистическое напряжение, связанное с поиском идентичности: люди вновь задают себе вопросы: «Кто Я?», «Каким меня воспринимают окружающие?» Дендизм привлекает как отработанная система светских манер и саморепрезентации, которую можно назвать «виртуальным аристократизмом»: искусство проявлять свой вкус в продуманных мелочах и жестах, не выделяясь в толпе.
Человеку, пребывающему в поисках собственного стиля, дендизм предлагает надежный, но нестандартизованный вариант для экспериментального оформления своей персоны – удобную культурнуюроль, которая оставляет достаточно свободы, чтобы без риска для репутации испытывать на прочность как социальные условности, так и костюмные каноны.
В России нарождающийся средний класс пока испытывает дефицит таких изощренных моделей успешного поведения, за которыми стоит не прямолинейно-американский прагматизм, а благородный дух европейской традиции. Именно этот культурный потенциал содержат британская мода и дендизм как кодекс мужского поведения. Для наших модников, которые не хотят выглядеть ни как богемные тусовщики, ни как успешные бизнесмены, открывается возможность наконец-то найти верный тон: золотую середину между авангардным радикализмом и респектабельным консерватизмом. Дело за малым: перестать суетиться, позволить себе толику небрежности и холодный внимательный взгляд.
Денди: история слова
Происхождение слова «денди» не вполне понятно. Английские этимологические словари обычно дают отсылку к выражению «jack-adandy» – «красавчик», что мало проясняет дело. Впервые это выражение было зафиксировано в 1632 году в Шотландии. «Jack» – нарицательное обозначение мужчины, парня, а «dandy» считается производным от «Andy», уменьшительного от имени Andrew (Андрей). Может быть, существовал когда-то некий шотландский щеголь Энди, имя которого стало нарицательным для всех молодых людей, неравнодушных к собственной внешности, – но этого сейчас уже никто точно не узнает.
Если заглядывать еще назад, то имя «Андрей» восходит к греческому «andreios» – «мужской». А в современном английском слово «dandy» как прилагательное, помимо первого значения «щегольской», также имеет второе – «превосходный», «отличный», «первоклассный».
Другие этимологические версии, напротив, акцентировали негативно-неодобрительный оттенок в смысловом поле «dandy». Например, это слово возводили к названию мелкой разменной монеты XVI века «dandiprat», равной трем с половиной пенсам, что в переносном плане означало «ничтожный человек, козявка». Сходное толкование «dandiprat – паренек, уличный мальчишка» дает прославленный лексикограф доктор Джонсон в своем словаре[15], но само слово «dandy» у него отсутствует – оно появилось позднее. Другие исследователи обращали внимание на возможное родство слов «dandy» и «dandelion» – «одуванчик», причем занятно, что в названии этого цветка присутствует также слово «лев» («lion»), ставшее в XIX столетии синонимом светского щеголя во французском языке.
В некоторых случаях подобных приблизительных этимологий трудно даже установить исходный язык – источник заимствования. Ведь английское слово «dandelion» идет от французского названия одуванчика «dent-de-lion» (буквально – «зуб льва»), и таких галлицизмов в английском языке достаточно: история обоих языков хранит память о многочисленных контактах, начиная с Нормандского завоевания Англии в 1066 году.
Французы, признавая очевидный факт заимствования из английского, пытались подыскать свои собственные этимологические объяснения слова «dandy». Популярная версия (ее отстаивал, среди прочих, Барбе д’Оревильи) отсылает к старофранцузскому слову «dandin» – «маленький колокольчик»; отсюда переносные значения «пустозвон», «болтун», «балбес», «шалопай», что опять-таки характеризует денди не с лучшей стороны. Буквальный физический смысл просвечивает и в глаголе «dandiner» – «болтаться из стороны в сторону», «ходить вразвалку». Сходный спектр значений содержит английский глагол «to dandle» – «качать», «укачивать на руках ребенка», но у этого слова есть и другие смыслы – «ласкать, баловать, нежить, холить, играть, забавляться».
«Dandin» также выступает в качестве фамилии, причем в истории литературы она чаще всего служит знаком юридической профессии. Судья Dandin фигурирует у Рабле, в драме Расина «Сутяги» и у Лафонтена. Но самый знаменитый персонаж с фамилией Dandin – это, конечно же, герой комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668). Мольеровский Жорж Данден с его хрестоматийной фразой «Ты этого хотел, Жорж Данден» представлен как явно сатирический характер.
Аналогичные интонации насмешки звучат в известной песенке «Yankee Doodle Dandy», ставшей популярной во время войны за независимость в Америке. Предметом насмешки здесь служила форма солдат американской армии, особенно нарядные костюмы Джорджа Вашингтона, который появлялся на боевых позициях напудренный, в парадном сюртуке, в парике и цилиндре.
Так или иначе, какую версию ни предпочесть прочим, очевидно, что слово «денди» изначально было эмоционально маркированным и открытым для прямо противоположных оценок. Денди никого не оставляли равнодушным.
Слово «dandy» в смысле «щеголь» или «франт» начинает циркулировать примерно в первое десятилетие XIX века. Байрон впервые употребляет его 25 июля 1813 года в письме к Томасу Муру, описывая клубный бал денди: «The season has closed with a dandy ball» («Сезон завершился балом денди»). В том же году слово «денди» входит в лексикон мадам де Сталь[16].
В качестве синонимов в английском языке в это время употреблялись слова «fop», «coxcomb», «puppy», «buck», «Beau», «lion», «exclusive». Они все имели те или иные смысловые и оценочные оттенки – например, «puppy» было явно пренебрежительным прозвищем, – но их объединяло значение «щеголь, франт».
Во французском языке на протяжении XIX века использовались слова «Beau», «muguet», «mirliflore», «gandin», «élégant», «lion», «fashionable» и – к великому прискорбию самих французов – прочно закрепилось английское слово «dandy», которое, правда, произносили с ударением на втором слоге.
В русском языке щегольская лексика развивалась очень интенсивно начиная с XVIII века[17]. Согласно С.Л. Иванову[18], основное ядро этой лексической группы составляют наиболее часто употребляемые слова «щеголь», «франт», «модник». Из них самое древнее – «щеголь», появившееся в XVI–XVII веках. Его возможными предшественниками были ныне окончательно устаревшие слова «щап», «беляк» и «чистяк», указывающие на первостепенную важность гигиены как отличительного признака щеголя.
В XVIII столетии активно используются галлицизмы «петиметр» (от французского «petit maître» – щеголь, «господинчик»), «галант», «кокетка»; в сатирической литературе появляются пренебрежительные именования «вертопрах» (человек, который пускает пыль в глаза), «ветрогон». На рубеже XVIII–XIX веков возникают слова «ферт», «фертик»[19] и «шематон»[20]. Как только не называли у нас любителей модно одеться – словарь Даля к слову «денди» дает ряд: «модный франт, хват, чистяк, модник, щеголь, лев, гоголь, щеголек большого света». В разное время в этом ряду фигурировали также «хлыщ», «козырь», «пшют», «фат», «фешенебль», «форсун», «хлыст», «хрипун», и уже в XX столетии – «стиляга», «пижон».
Слово «дэнди» вошло в русскую культуру конца 10-х – начала 20-х годов XIX века и первоначально употреблялось по-английски («dandy»), что дало правописание «дэнди». В «Евгении Онегине» Пушкин еще использует английский вариант. Но уже к середине XIX века это слово попадает в словари русского языка и начинает функционировать в привычном нам смысле. В 1910 году в Москве даже существовал журнал «Дэнди», посвященный мужской моде. В современном правописании слова «денди» вместо «э» оборотного употребляется буква «е».
Обратимся далее от слов к понятиям. Как же отличить подлинного денди среди обширного щегольского сословия? По ходу рассказа нам придется еще не раз уточнять характеристики этого историко-культурного типа, а сейчас введем первое простое определение: денди – это лидер моды.
О.Верне. Инкройябль. 1811 г.
Лидер моды: искусство дистанции
Первое и главное отличие денди от обычных щеголей состоит в том, что денди не гонится за модой: наоборот, мода гонится за ним, ибо он ее устанавливает. Денди – лидер моды, предчувствующий и опережающий ее развитие. Обычные модники стараются ему подражать, но он всегда умудряется опережать их, сохраняя дистанцию. Своими костюмами он демонстрирует, что его личный вкус – высшая инстанция, и это дает ему право диктовать моду. В этом духе Ю.М. Лотман замечал, что «П.Я. Чаадаев может быть примером утонченной моды. Его дендизм заключается не в стремлении гнаться за модой, а в твердой уверенности, что ему принадлежит ее установление»[21]. Так было в XIX веке, но что происходит сейчас?
Посмотрим, от кого зависит распространение современной моды. Схема вроде известна. Кутюрье предлагают новый стиль, их идеи растолковывают публике журналисты, пишущие о моде. От мнения прессы порой может зависеть судьба коллекции – недаром редакторам модных журналов устроители показов всегда отводят почетные места в первом ряду. Ну а для конкретных магазинов отбирают одежду байеры – оптовые закупщики, которые должны тонко чувствовать, что приобретет реальный покупатель из предлагаемого ассортимента.
Однако вся эта налаженная система мигом даст сбой, если позабыть о лидерах моды. Им принадлежит совершенно особая роль: они первые «запускают» моду, и оттого французы даже придумали для них специальное словечко «lanceur» – «лансёр» (от глагола «lancer» – запускать, вводить, кидать). «Лансёр» – лидер моды, придающий холодной стилистической идее теплоту и личный блеск. Его харизматическое обаяние включает важнейший для моды механизм подражания, пробуждая интерес и покупательское желание.
Кто же они, лансёры? Больше всего на виду, конечно, представители элиты, актеры и музыканты. Но отнюдь не каждый из них может претендовать на амплуа лидера моды, а только личность, обладающая тонким вкусом, уверенностью в себе, «звездным» характером. Для американской политической элиты долгое время безусловным лидером была Жаклин Кеннеди, рискнувшая не только поменять всю обстановку Белого дома, но и навязать свой стиль как американским, так и европейским модницам: все они увлеченно копировали ее пилотки, черные очки и элегантные костюмчики с рукавами три четверти, придуманные ее дизайнером Олегом Кассини.
Живой рекламой всякого модельера являются знаменитые клиенты, особенно люди из артистического мира. Так, в 1960-е годы актриса Одри Хепберн стала «лицом» Дома Живанши. Ее стиль «gamine» – юная девушка, еще как бы не осознающая свою сексуальную привлекательность, – мгновенно стал предметом для подражания: миллионы поклонниц начали густо накрашивать ресницы, делать короткую стрижку с челкой, носить черные свитера, туфли-лодочки на плоском каблуке и серьги в форме больших колец. Сходным образом и сейчас актриса Катрин Денёв остается верной поклонницей Дома Ив Сен-Лоран, а певица Мадонна – Дома Версаче.
Менее известны публике богатые клиенты, которые своими покупками экономически поддерживают существование Домов моды, но мало способствуют рекламе, поскольку их репутация ограничена узким кругом аристократической элиты и очень состоятельных людей. Ливанская миллионерша Муна Аюб прославилась тем, что, постоянно покупая платья у парижских кутюрье, ни один наряд не надела дважды. Зато в будущем она планирует создать музей из своего личного гардероба.
Помимо очень богатых и знаменитых, наиболее охотно подхватывают новую моду еще несколько категорий людей: молодежь, дежурные посетители ночных клубов или дискотек; лица, подчеркивающие свою сексуальность, и, конечно, постоянные участники светских раутов, чье положение обязывает часто бывать на публике. Они составляют отряд самых активных проводников моды, рискуют первыми носить еще непривычные вещи, внедряя новый стиль в своем кругу.
За ними идет отряд конформистов, которые никогда не осмелятся быть первыми, но всегда следят за тем, что сейчас принято носить, чтобы поддержать свой статус. Они тщательно наблюдают, во что одевается лидер их компании, выспрашивают у стильных друзей, где они приобрели ту или иную вещь. Они вряд ли станут появляться в экстравагантных нарядах, но вы не увидите на них вещи прошлого сезона. Не будучи уверенными в собственном вкусе, они нередко добросовестно следуют советам модных журналов, а в магазинах покупают ансамбли по совету продавцов или по образцам на манекенах.
Наконец, существуют группы поклонников классики, которые из года в год приобретают вещи известных консервативных марок типа «Берберри» или «Ральф Лорен» (если речь идет о состоятельных бизнесменах) или просто воспроизводят в своем гардеробе несколько устоявшихся моделей одежды, будь то пестрые шотландские свитера Fair Isle или юбки в цветочек Лоры Эшли. Они самодостаточны в своих вкусах и копируют когда-то давно усвоенные стилистические клише, не претендуя ни на что особенное.
Кроме них, все остальные любители моды, каждый на своем уровне, охвачены массовым гипнозом подражания лансёрам. Для них лидер – воплощение успеха, предмет эротических грез, а одежда, которая соприкасается с его дивным телом, принимает на себя частьего энергетики, его личную «ману». Лансёр, можно сказать, сообщает одежде чувственный заряд, частицу своей харизмы, «запуская» механизм наших желаний. Одежда, которую можно купить, – самый надежный способ чувственной идентификации с лидером, фетишистское присвоение себе его стиля, вкуса в форме самой конкретной, близкой к телу оболочки.
Самый простой способ выражения этого одежного «фетишизма» – майки с портретами музыкальных звезд, утеха преданных фанатов. Столь же прозрачно по смыслу «присвоение» одежды любимого человека, что может быть и забавой, и средством преодоления тоски, ежели объект желаний исчез с горизонта. И даже если прямой контекст магического отождествления с кумиром через одежду отсутствует, многие женщины бессознательно надеются хоть в чем-то стать похожими на известных красавиц, делая прическу а-ля Лиз Харли или покупая крем от морщин «Л’Ореаль» в надежде выглядеть как Клаудиа Шиффер.
В зависимости от эпохи меняется социальный состав модной элиты. Манекенщицы, например, стали предметом общественного внимания и светскими знаменитостями только начиная с 1960-х годов. Одной из первых известных моделей этого времени была Джин Шримптон по прозвищу «Креветка». Ее популярности во многом способствовал фотограф Дэвид Бейли, снимавший Шримптон в подчеркнуто эротическом ключе.
В конце XIX века самыми активными энтузиастками новых веяний были дамы полусвета, актрисы и кокотки. Они одевались значительно моднее аристократок, которые, напротив, подчеркивали в своих туалетах намеренную консервативность. Излишнее пристрастие к моде трактовалось тогда как синоним легкомысленности. Даже румяна и помада вызывали подозрение у суровых благопристойных дам.
Правда, уже ранее у первого профессионального кутюрье Чарльза Ворта среди клиенток были и императрица Евгения, для которой он придумал кринолин, и знаменитые драматические актрисы Сара Бернар и Элеонора Дузе. А первой дамой из общества, рискнувшей продефилировать перед гостями, исключительно чтобы показать наряд, была жена модельера Поля Пуаре – Дениз. После роскошных приемов Пуаре ревнители буржуазной морали смягчились и стало возможно демонстрировать моды, не слишком опасаясь за репутацию: лансёры вздохнули свободнее.
Но тут возникает вопрос: как же могли проявлять себя лидеры моды раньше, когда еще не сложилась современная система? Проще всего было лансёрам с высоким положением в обществе. Герцог Филипп Бургундский постриг волосы во время болезни, после чего короткая стрижка сразу стала популярна среди его подданных в качестве знака лояльности. «Нам известно, как в далекие времена каприз или особая потребность отдельных лиц создавали моду, – пишет Георг Зиммель, – юбки на обручах <возникли> вследствие желания задающей тон дамы скрыть свою беременность»[22].
В классической литературе XIX века подобное подражание вышестоящим уже изображается писателями с очевидной иронией. У Стендаля один из персонажей романа «Красное и черное» кавалер де Бовуази «немного заикался потому только, что он имел честь часто встречаться с одним важным вельможей, страдающим этим недостатком»[23].
Однако не все лидеры моды обязательно отличались высоким положением – нередко всё определяла сила характера: мнения и вкусы лансёра становились законом, если он демонстрировал особую напористость и был во всех остальных отношениях авторитетной фигурой в своем кругу.
Одним из первых вошедших в историю «лансёров» был знаменитый древнегреческий полководец и щеголь Алкивиад. Еще мальчиком он отказался исполнять мелодии на флейте, так как ему не нравилось, что игра на флейте искажает черты его лица. Кроме того, он говорил, что флейта закрывает рот, делая невозможной беседу. Он даже ссылался на богов: Афина забросила флейту, а Аполлон содрал кожу с флейтиста Марсия. «Таким образом, – заключает его биограф Плутарх, – соединяя серьезные доводы с шуткой, Алкивиад перестал заниматься этой наукой, а за ним и другие, так как между детьми быстро распространяется мнение, что Алкивиад справедливо осуждает игру на флейте и высмеивает тех, кто учится играть на ней. С этих пор флейта была совершенно исключена из числа занятий благородных людей и стала считаться достойной всяческого презрения»[24].
Обстоятельный рассказ Плутарха демонстрирует, как авторитет лидера позволяет успешно и быстро канонизировать индивидуальные причуды, придавая им оттенок престижности. Ведь хитроумные аргументы Алкивиада искушенные в софистике греки могли легко опровергнуть в дискуссии, но решающим фактором тут оказалось харизматическое обаяние личности, а не формальная правота.
Для успеха индивидуальных причуд вкуса надо было, помимо всего прочего, иметь шарм и смелость, дающие возможность не только время от времени пренебрегать существующими в обществе гласными и негласными правилами, но и держаться после своих эскапад как ни в чем не бывало.
Вот, допустим, в романе Джейн Остен «Эмма» (1816) денди Фрэнк Черчилл совершает экстравагантный поступок: отправляется из провинциального городка в Лондон единственно для того, чтобы подстричь волосы. Его поведение воспринимается окружающими как верх легкомыслия, но более всего замечательны манеры Черчилла после этой акции: «Он приехал и в самом деле подстриженный, очень добродушно над собою же подсмеиваясь, но как будто ничуть не пристыженный тем, что выкинул подобную штуку. Ему не было причиныпечалиться о длинных волосах, за которыми можно спрятать смущение, или причины горевать о потраченных деньгах, когда он и без них был в превосходном настроении. Так же весело и смело, как прежде, глядели его глаза…»[25]
Современные психологи наверняка определили бы стиль поведения Фрэнка Черчилла как «ассертивный», то есть утвердительный: человек повсюду утверждает свое право оставаться самим собой, никого не обижая и в то же время не уступая своих интересов. «Ассертивному» характеру свойственна ровная, прямая манера общения, он создает впечатление сдержанной силы.
Уверенность в себе Фрэнка Черчилла довольно быстро приносит свои плоды, поскольку строгая девица Эмма, ранее безусловно осуждавшая его, в итоге сбита с толку и начинает резонировать уже в оправдательном ключе: «Не знаю, хорошо ли это, но глупость уже не выглядит глупо, когда ее без стыда, на виду у всех, совершает неглупый человек… Неправда, что он пуст и ничтожен. Когда бы так, он бы это проделал по-другому. Он бы тогда выказывал бахвальство завзятого хлыща или же увертливость души, слишком слабой, чтобы постоять за себя в своем тщеславии… Нет, не пустой он человек и не ничтожный, я уверена»[26].
В реакции Фрэнка Эмма довольно точно выделяет отсутствие двух крайностей, которых как раз избегает ассертивный человек: агрессия («бахвальство завзятого хлыща») и пассивность, мелкие уловки завзятого неудачника («увертливость души, слишком слабой, чтобы постоять за себя»). А если ассертивность сочетается у модника с ярко выраженным обаянием, то можно говорить о личной харизме.
Значит, оптимальное сочетание качеств для успешного «лансёра» – ассертивный характер, желательно – личная харизма плюс высокое положение в обществе. Тогда подражание обеспечено, даже если новшества мотивируются исключительно субъективным вкусом.
Классическим «лансёром», наделенным как раз всеми указанными свойствами, была мадам де Помпадур, фаворитка Людовика XV. Обладая безупречным эстетическим инстинктом и смелостью, она вводила новые фасоны платьев, которые сразу же копировались придворными дамами. Ее вкусы в мебели породили декоративный стиль, который так и назвали «помпадур». Она первая придумала маски для лица с вяжущими компонентами, сужающими поры.
Во многом, заметим, ее привычки шли вразрез с обыкновениями эпохи. Хотя в то время была принята «сухая чистка» (тело не мыли, лицо и кисти рук протирали ароматическими салфетками), мадам де Помпадур была сторонницей частых купаний и никогда не использовала духи, чтобы замаскировать запах грязного тела. При этом она очень любила духи, и благодаря ее влиянию цветочные плантации в Грассе и парфюмерное дело во Франции переживали небывалый подъем. Именно при ней двор Людовика XV приобрел репутацию «парфюмерного двора». Она тратила миллионы франков на ароматическиекурильницы и, не довольствуясь естественными запахами, опрыскивала духами фарфоровые цветы, украшавшие ее покои. Позднее еще более гротескные орнаментальные жесты во славу искусственности практиковал Оскар Уайльд, впадавший в восторженный транс перед китайскими вазами. Он как раз представлял собой классический типаж денди – лидера моды.
Итак, денди выделяется среди собратьев-щеголей лансёрскими качествами. В наибольшей степени понятия «денди» и «лидер моды» пересекаются в XIX веке. Но, разумеется, смысловое поле второго понятия значительно шире: лидерами моды могут быть и мужчины, и женщины, и кокетки, и светские дамы. Типичный портрет «лидера моды» набросан в известном романе Теофиля Готье «Мадемуазель Мопен»: «Госпожа де Темин теперь в моде; она в высшей степени наделена всеми смешными слабостями, которые в ходу сегодня, и некоторыми из тех, что войдут в обыкновение завтра, но никогда не грешит вчерашними: она прекрасно осведомлена. Все будут носить то, что носит она, но сама она не одевается так, как до нее одевались другие. Вдобавок она богачка, экипажи у нее отменные. Она не умна, но язык у нее подвешен хорошо; вкусы у нее самые смелые, но она холодна, как камень»[27].
В чем же секрет неоспоримого превосходства лансёра? Только ли в диктатуре вкуса и характера? Не только: в пользу зрелого лансёра работает накатанная инерция, или эффект «логического круга»: он моден, потому что ему подражают, и ему подражают, потому что он моден. Когда репутация уже сложилась, лансёр может стать настоящим тираном, садистом, который позволяет себе любые рискованные номера. Отсюда проистекают многие «откровения» романных денди, прототипом для которых послужил Браммелл. У Бульвера-Литтона мистер Раслтон повествует о своей тактике обращения с влиятельными светскими персонами: «Я открою вам этот нехитрый секрет, мистер Пелэм: я попирал их ногами, вот почему они, словно растоптанная трава, в ответ с благодарностью курили мне фимиам»[28].
Для того чтобы обрести преимущество на старте, лансёру надо выделиться. Тут в ход могут идти любые средства, даже банальный скандал в рекламных целях, лишь бы заставить заговорить о себе. Начинающая звезда должна всеми средствами демонстрировать: «Я есть нечто особенное, уникальное». Но на следующем этапе грамотная PR-стратегия состоит в том, чтобы дать понять публике: «Ничто человеческое мне не чуждо», иначе идентификация зрителя со своим кумиром забуксует.
Так, Мадонна начинала с шока, используя эпатажные костюмы от Жана-Поля Готье, а сейчас, став миллионершей, в интервью мило рассуждает о своих комплексах и застенчивости; она даже признается в любви к конкурентке Бритни Спирс, говоря, что спит в майке с ее портретом: это-де приносит удачу. (Мощный маркетинговый ход: частично оттянуть на себя молодежную аудиторию Бритни Спирс.) Напротив, Майкл Джексон растерял свой черный «электорат» из-за многочисленных косметических операций и в результате не вышел на новый виток карьеры: для его поклонников постмодернистский имидж создал непреодолимые препятствия для отождествления.
Коко Шанель – лидер моды и дизайнер. 1935 г.
Настоящий лидер моды в совершенстве владеет искусством дистанции. Он должен демонстрировать недоступность, но весь вопрос заключается в умелой дозировке. Высокомерный денди может быть в порядке исключения приятным и простым с избранными персонами, что будет восприниматься как особая милость. Испытанное оружие денди в дистанцированном общении – маска снобизма[29]. И хотя претензии сноба вовсе не обязательно относятся к сфере светской жизни, эта разновидность пренебрежительного тщеславия весьма в ходу у опытных денди.
В современной моде дистанцирование особенно важно для молодых красавиц, использующих свой sex-appeal.Увы, известно, что они теряют многих поклонников, выйдя замуж. Лишаясь ореола мифологической чистоты, они утрачивают эротический потенциал «ничейного», а потому и универсального символа привлекательности. Синди Кроуфорд не удалось возобновить контакт с компанией «Ревлон» после рождения ребенка, зато девушки, подвизающиеся в амплуа «вечная невеста», как правило, процветают и всегда задействованы в рекламе. Помимо этого навыка постоянной игры с аудиторией, лансёру очень важно обладать одним специальным качеством: ощущать движение моды во времени. Не оттого ли Мадонна проявила особую настойчивость, добиваясь роли Эвиты в фильме Алана Паркера? Как раз тогда начиналась мода на ретро, и после фильма костюмы и безделушки в стиле 40-х годов стали пользоваться феноменальным успехом.
Удивительной лансёрской интуицией может похвастаться, к примеру, Изабелла Блоу, редактор моды в журнале «Tattler» и покровительница молодых талантов. В свое время она «открыла» дизайнера шляп Филипа Трейси и начала постоянно делать ему заказы. Изабелла появлялась на всех вечеринках и показах мод в экстравагантных шляпках от Филипа, и вскоре у Трейси уже не было отбою от клиентов. В 2002 году в лондонском музее дизайна состоялась выставка «When Philip met Isabella», посвященная их творческому альянсу. Экспозиция включала шляпы Филипа Трейси из коллекции Изабеллы и ее фотопортреты в этих шляпах. Следующей «находкой» Изабеллы Блоу стал никому не известный молодой дизайнер Александр Маккуин. Изабелла купила целиком всю его первую коллекцию и помогла найти спонсоров для следующей. А дальше карьера Маккуина пошла в гору, но это уже другая история.
Идеальный лансёр наделен особым инстинктом моды. Это свойство превосходно описал И.А. Гончаров, набрасывая портрет светского льва: «Ни у кого нет такого тонкого чутья в выборе того или иного покроя, тех или иных вещей; он не только первый замечает, но издали предчувствует появление модной новости, модного обычая, потому что всегда носит в себе потребность моды и новизны. Эта тонкость чутья, этот нежно изощренный вкус во всем, что относится до изящного образа жизни, и есть качество и достоинство льва»[30].
Модный инстинкт льва подкрепляется чувством времени и дистанции. Светский лев всегда держит дистанцию – ему надо уловить самые первые мгновения моды, «когда другой не поспел и не посмел и подумать подчиниться капризу ее, и охладеть, когда другие только что покорятся ей»[31].
Этот же инстинкт дистанции проявляется не только в выборе стильных вещей, но и в способности совершать непредсказуемые поступки, иными словами, всегда быть неожиданным, опровергать стереотипы. В романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» дан портрет герцогини Германтской, которая выступает как безусловный лидер моды в аристократическом кругу. В свете только и цитируют остроумные парадоксы и bon mot герцогини, говорят о «последнем номере» Орианы – то она уезжает в разгар бального сезона смотреть норвежские фьорды, то приходит к самому началу пьесы в театр (в то время как вся светская публика появляется к последнему действию) и вместо того, чтобы болтать в ложе принцессы, скромно сидит «в кресле одна, в черном платье, в малюсенькой шапочке»[32]. Подражающие герцогине не могут повторить ее жестов – в их исполнении они сразу стали бы банальными и повседневными, утратилась бы оригинальность. В этом и заключается весь фокус.
Сохраняя дистанцию, лидер моды, по сути, оберегает свое первенство. Дистанция обеспечивает свободу маневра и власть – призрачную, но более чем реальную.
II. Модники былых времен
Расскажем для начала о модниках мужского пола, красавцах и баловнях судьбы. Их было немало в истории. Что объединяло их при всех различиях – страсть к моде… характер… или нечто большее, какое-то неуловимое сочетание качеств?
Алкивиад: протоденди
Знаменитый герой древности Алкивиад[33] – один из первых модников в истории. Афинский полководец, прославленный любовник, он служил моделью счастливого единства различных добродетелей. Байрон веско заметил: «И все же несомненно, что из всех имен античности ни одно не окружено таким обаянием, как имя Алкивиада»[34]. Бодлер включил его в свой перечень предшественников дендизма – «Цезарь, Катилина, Алкивиад…». Друг Бодлера Арсен Уссе видел в Алкивиаде греческого Дон Жуана, проводившего вечера в оргиях.
Юпитер. Рисунок Т.Хоупа. 1812 г.
Плутарх рассказывает, что Алкивиад отличался редкой красотой, причем «она оставалась цветущей и в детстве, и в юношестве, и в зрелом возрасте, словом – всю его жизнь, делая его любимым и приятным для всех»[35]. Красота и обаяние Алкивиада действовали на всех магически, и он умело пользовался своим преимуществом, покоряя как мужчин, так и женщин. Его имя стало символом андрогинной красоты, и много столетий спустя миф об Алкивиаде как о дивном универсальном любовнике не утратил своей силы. Оттого писатель-романтик XIX века Барбе д’Оревильи мог позволить себе завершить свой трактат «О дендизме и Джордже Браммелле» многозначительной фразой о денди: «Это натуры двойственные и многоликие, неопределенного духовного пола, грация которых еще более проявляется в силе, а сила опять-таки в грации; это андрогины, двуполые существа; но уже не из Сказки, а из Истории, и Алкивиад был лучшим их представителем у прекраснейшего в мире народа»[36].
Современники, однако, как это нередко бывает, не были склонны видеть в Алкивиаде воплощение всех земных совершенств и порой упрекали его в излишней женственности, в экстравагантности и в пристрастии к роскоши. Он, например, пользовался для своих трапез золотой и серебряной посудой, принадлежащей городу, демонстративно выбирал себе лучших наложниц. И все же его любили, даже у врагов он пользовался уважением, а простой народ желал сделать его единовластным правителем-тираном, презрев хваленую афинскую демократию.
Хотя он немного картавил, считалось, «что даже это ему шло, придавая его речи убедительность и грацию»[37]. Если недостаток превращается в достоинство – это сигнал, что перед нами сильная харизматическая личность; и действительно, во всех историях об Алкивиаде проглядывает прежде всего незаурядная натура, основной страстью которой Плутарх считает честолюбие и стремление к первенству. Мальчиком он был готов рискнуть жизнью, только чтобы настоять на своем: когда возница хотел проехать по той части улицы, где он с приятелями играл в кости, Алкивиад «бросился лицом вниз на землю перед повозкой и велел вознице ехать, если он хочет. Тот, испугавшись, осадил лошадей…»[38]. Вкус к победе – будь то военное сражение или риторический поединок, политическая интрига или конные соревнования (колесницы Алкивиада не раз выигрывали на Олимпийских играх) – по этому алгоритму строилась вся его жизнь. Но, гонясь за успехом, он отнюдь не подчинял свои действия жестким нормам общественного поведения. Наоборот, Алкивиад не раз нарушал их, оскорбляя именитых граждан, пародируя религиозные культы (даже священнейшие для греков Элевсинские мистерии), и все это до поры до времени сходило ему с рук. Но больше всего пищу молве давали модные привычки любимца публики: «Алкивиад вел роскошную жизнь, злоупотреблял напитками и любовными похождениями, носил, точно женщина, пурпурные одеяния, волоча их по рыночной площади, и щеголял своей расточительностью; он вырезывал части палубы на триерах, чтобы было спать мягче, т. е. чтобы постель его висела на ремнях, а не лежала на палубных досках»[39].
Зная, что каждый его шаг становится предметом для пересудов, Алкивиад умел без труда манипулировать мнением толпы. Самыйяркий пример – как он отрубил хвост своей красивой собаке, за которую заплатил немалые деньги, и с улыбкой заметил: «Мне хотелось, чтобы афиняне болтали об этом и не говорили обо мне чего-нибудь худшего»[40]. Говоря языком нашей эпохи, можно сказать, что Алкивиад успешно конструировал собственный имидж, но дело не только в этом. Он знал цену своему имиджу, своему имени и своей репутации. В характере Алкивиада проскальзывает подозрительно современная черта – умение извлекать экономическую выгоду из символических ценностей, манипулировать престижностью в своих интересах.
Очень показательна такая история. Один метэк[41], желая завоевать расположение Алкивиада, продал все свое имущество и предложил ему вырученные деньги. Фактически это был знак, что он признает Алкивиада своим покровителем. Алкивиад «улыбнулся и довольный пригласил его к ужину. Угостив и радушно приняв его, он вернул деньги»[42], после чего решил ответить жестом на жест, продемонстрировав своему протеже, как можно заработать, имея такого покровителя. Он подвиг его на финансовую аферу и выступил его поручителем, что было необычно по отношению к лишенному гражданских прав чужеземцу. «Приведенный в замешательство метэк уже отступал, когда Алкивиад крикнул архонтам издалека: “Пишите мое имя, это мой друг, я его поручитель”»[43]. Хотя метэк испугался задуманной спекуляции (практически речь шла об искусственном повышении цен при сделках на афинских публичных торгах – прообразе современной биржи), Алкивиад заставил его рискнуть, после чего тот получил существенную прибыль (вдобавок к первоначальной сумме, возвращенной Алкивиадом). Таким образом афинянин элегантно показывает своему подопечному, что можно сделать, имея гарантией имя Алкивиада, и приобщает его к искусству делать деньги «из воздуха». Сам Алкивиад, несомненно, четко осознавал, что символический капитал ничуть не менее важен, чем экономический, а при случае они взаимообратимы.
Существуют аналогичные истории о знаменитых денди XIX века. Позднее мы расскажем, как граф д’Орсе, чье имя было синонимом тонкого вкуса и престижа, пользуясь собственной репутацией, обеспечил обширную клиентуру торговцу спичками. Подобные рекламные акции не раз осуществлял и основоположник дендизма Джордж Браммелл.
Но вернемся к образу Алкивиада в исторических и литературных источниках. В диалоге Платона «Пир» Алкивиад выступает одним из собеседников и произносит пылкую речь – панегирик Сократу. Интересно, что у Платона он появляется «в каком-то пышном венке из плюща и фиалок и с великим множеством лент на голове»[44]. Первая реплика Алкивиада – как раз по поводу этих лент: «Я пришел, и на голове у меня ленты, но я сейчас их сниму и украшу голову самого… мудрого и красивого»[45]. Далее Алкивиад наделяет ими своего друга Агафона, а затем, заметив Сократа, передает часть лент ему, то есть выступает как арбитр, присуждающий приз и поощряющий (здесь-то как раз и кроется философская интрига) не только красоту, но и мудрость. Его речь, собственно, и посвящена обоснованию этого двойного стандарта, и он восхваляет Сократа, сравнивая его с полым изваянием уродливого силена, внутри которого скрыта статуя бога.
Платон особо останавливается на довольно необычном для застольной беседы эпизоде. Алкивиад подробно рассказывает присутствующим, как Сократ отверг его любовные притязания: «Он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, посмеялся над ней… Проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или старшим братом»[46]. Для того чтобы с полным самообладанием и для забавы присутствующих рассказать о собственном фиаско, надо обладать поразительной уверенностью в себе и умением любое происшествие обращать себе на пользу. Подобными качествами впоследствии будут блистать многие денди XIX столетия. Герой Бульвера-Литтона Пелэм, дабы завоевать репутацию незаурядного человека, первый раз появляясь в парижском салоне, в деталях повествует о том, как он свалился в канаву и, стоя по пояс в грязи, вопил о помощи. Как и Алкивиад, он рискует, идет ва-банк и выигрывает – на него сразу обращают внимание.
В поведении Алкивиада на пиру есть еще один нюанс: он приходит навеселе и тотчас ставит вопрос ребром: «Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем пира буду я»[47]. Эта роль тоже типична для денди: «распорядитель пира», присутствие которого необходимо для общего тонуса, остроты беседы, гастрономического удовольствия. Эффект достигается не столько за счет горячительных напитков, сколько за счет личности «распорядителя пира» – его чувственной энергии, катализирующей остальных участников.
Для европейцев последующих веков из всех греческих героев именно Алкивиад служил образцом светского и галантного человека. Особо выделяли его способность без усилий менять внешность и манеры и оставаться исключительным при любых обстоятельствах. Эти свойства делали его желанным гостем как среди образованных мужчин, так и среди самых красивых женщин своего времени. Плутарх особо отмечал, что «Алкивиад… мог подражать в равной мере как хорошим, так и плохим обычаям. Так, в Спарте он занимался гимнастикой, был прост и серьезен, в Ионии – изнежен, предан удовольствиям и легкомыслию, во Фракии – пьянствовал и занимался верховой ездой; при дворе сатрапа Тиссаферна – превосходил своей пышностью и расточительностью даже персидскую роскошь»[48].
В этом месте у Плутарха дан еще один очень интересный попутный комментарий: «Наряду с прочими дарованиями он обладал величайшим искусством пленять людей, применяясь к их привычкам иобразу жизни, чтобы стать похожим на них; в искусстве менять свой облик он превосходил даже хамелеона, который, по общепринятому мнению, не может принять только одного цвета – белого… Дело обстояло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной склонности к другой, меняясь при этом и внутренне, но, не желая оскорблять своим природным обликом тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал облик, подобный им, скрываясь под этой маской»[49].
По сути, речь идет об универсальной общежительности модника, о его метаморфности, способности менять маски по собственному усмотрению. Это «хамелеонство» чрезвычайно важно: порой оно может восприниматься как деликатность и светская предусмотрительность, а порой – как бесхарактерность, беспринципность или даже самый изощренный цинизм, о чем у нас еще будет случай подумать на других примерах.
Позднее, уже в Новое время, денди именно из-за этой самой черты всегда будут подозревать в неискренности, появятся метафоры вечной игры, вечного лицедейства; но пока Плутарх великодушно оправдывает своего героя, объясняя все его галантностью.
Отметим также еще одну «тотемическую» черту Алкивиада, которая, как нам кажется, отразилась в его последователях-денди. Алкивиада часто сравнивали с львом. Началось все с того, что один раз в схватке, чувствуя, что противник его одолевает, Алкивиад укусил его и в ответ на упрек, что он кусается, как женщина, возразил: «Вовсе нет, как львы»[50]. Образ льва закрепился за ним как эмблема силы и благородства, что к тому же подкреплялось изяществом его телесной пластики. На «львиность» также ссылались, когда имели в виду его властное своеволие:
К чему было в Афинах льва воспитывать? А вырос он – так угождать по норову[51].
Вероятно, не случайно слово «лев» стало синонимом светского «щеголя» в Европе XIX века, во многом обгоняя по популярности термин «денди».
Итак, мы видим, что образ Алкивиада как мужчины-модника, предшественника денди, содержит вполне определенный пучок свойств:
– «распорядитель пира» и желанный гость повсюду;
– человек с огромной уверенностью в себе, намеренно идущий на риск, создающий ситуации на грани фола и, вероятно, получающий от этого особое наслаждение;
– тотемический лев;
– «арбитр элегантности», судья красоты, с чьими вердиктами не спорят, даже если они кому-либо обидны;
– «хамелеон», умеющий меняться в зависимости от обстоятельств, общаться в разных стилях.
– андрогин, персонаж «неопределенного духовного пола».
Все эти черты будут в дальнейшем преломляться в образе денди, но важно заметить, что они всегда выступают в связке, как комбинация свойств.
Мужчины-модники: исторические типы
Человек, чье единственное ремесло – быть элегантным, во все времена резко выделяется среди других.
Ш. Бодлер
Главное отличие модника – приоритетное внимание к собственной внешности и одежде. Красоту облика он ценит больше комфорта, что в принципе для мужчин достаточно необычно. Соблазн моды оказывался неодолимым даже для интеллектуалов: классик итальянской поэзии Франческо Петрарка в молодости являл собой тип «fashion victim» – жертвы, или даже мученика моды. «Ты помнишь, – пишет он брату в 1349 году о днях юности, – что это была за мания одевания и переодевания, ежеутренне и ежевечерне повторявшийся труд; что это был за страх, как бы прядка волос не выбилась из приданной ей формы, как бы порыв ветерка не спутал прилизанные и причесанные кудри; что это было за шараханье от встречных и настигающих четвероногих, чтобы случайные брызги не попали на чистую и надушенную тогу, чтобы не утратила она от толчков оттиснутые на ней складки…
Что скажу о сапогах? По видимости защищая ноги, какой частой и непрестанной они теснили их войной! Мои, честно сказать, они вовсе бы вывели из употребления, не решись я под давлением крайней необходимости лучше оскорбить немножечко чужие взоры, чем терзать собственные жилы и суставы.
К.Верне. Инкройябль. 1797 г.
А щипцы для завивки и заботы о прическе? Сколько раз боль прерывала наш сон, и без того отложенный ради этих трудов! Какая пиратская пытка мучила бы нас жесточе, чем мы себя мучили собственными руками? Сколько раз, глядя поутру в зеркало, мы видели ночные рубцы на воспламененном лбу и, собравшись блеснуть волосами, вынуждены были теперь прятать лицо! Не говоря уж об этих мелочах, сколько трудов, сколько бессонных ночей мы с тобой положили на то, чтобы безумие наше стало широко известно и мы сделались бы притчей во языцех для многих людей!»[52] Петрарка здесь вспоминает о грехе юношеского тщеславия, но описание «слабостей» певца Лауры и автора поздней проникновенной «Книги о презрении к миру» столь заразительно, что наверняка вызовет симпатию у современного неравнодушного читателя.
В Англии мужчины-модники обратили на себя внимание в эпоху Реставрации. После возвращения Карла II[53] из Франции пуританские обычаи при дворе смягчились и воцарилась весьма вольная атмосфера, благоприятствующая расцвету моды и свободе нравов. Именно в XVII веке сформировался особый тип щеголя – красавца (Beau)[54]. При дворе блистали «красавцы» Джон Рочестер, Джордж Хьюитт, Роберт Филдинг. Они не только отличались изысканными нарядами, но и преуспевали в светской жизни и в политических интригах. «Грация вступила в Англию при реставрации Карла II под руку с распущенностью»[55], – писал Барбе д’Оревильи, имея в виду влияние либертинов. «Придворные Карла II, испив в бокалах с французским шампанским сок лотоса, даровавший им забвение мрачных религиозных обычаев родины»[56], заложили традицию английского щегольства.
Красавец Нэш: батский щеголь
В XVIII веке самым знаменитым «красавцем» в Англии слыл Ричард Нэш (1674–1761). Ареной его деятельности был курортный городок Бат, славившийся своими горячими источниками. Нэш приехал в Бат в 1705 году, и в первые же дни ему улыбнулась фортуна: он сразу выиграл в карты крупную сумму и решил остаться на сезон, устроившись в качестве помощника тамошнего распорядителя балов. Нэш и раньше был известен своими талантами в сфере общественных увеселений: в юности он столь удачно организовал карнавал в честь короля Вильгельма III, что монарх хотел пожаловать его в рыцари. Но Нэш был вынужден отказаться от предложенной чести, поскольку неминуемые финансовые расходы, связанные с титулом, были для него в тот момент непосильны.
Вскоре элегантность и знание светской жизни сделали Нэша любимцем курортной публики, и он получил место «мастера церемоний». В этой должности он сразу принялся за реформы. Щеголь поставил перед собой задачу превратить маленький провинциальный городок в модное место. Прежде всего Нэш решил способствовать «смягчению нравов» батской публики. Он издал ряд постановлений, регулирующих поведение и костюм на курорте. Во-первых, он запретил аристократам ношение шпаг – от этого в городе резко уменьшилось количество дуэлей. Но благодаря указу против забияк неожиданно выиграли и дамы: ведь болтающиеся на поясе клинки нередко рвали женские платья во время танцев. В то время на курорте было немало зажиточных сельских джентльменов, которые повсюду ходили в тяжелых сапогах, а их жены на танцах появлялись в белых фартуках. Нэш развернул целуюкампанию против сапог и фартуков и даже устроил специальное представление кукольного театра, где неотесанный Панч заваливался спать, не снимая сапог. Сатира возымела действие, и на балы публика стала наряжаться более цивильно. Последней мерой мастера церемоний стал запрет на ругательства в общественных местах. Новые правила поведения были развешаны повсюду и не замедлили сказаться на внешнем облике и манерах горожан.
В результате реформ образовалось пространство новой вежливости и общежительности: снизилось число конфликтов, самые явные знаки социальных различий в костюме были устранены – заезжие аристократы и сельские жители теперь уже не столь разительно отличались друг от друга. Сословные различия, разумеется, никто не отменял, но на время пребывания на курорте они как будто в известной степени нивелировались: люди легче знакомились, вокруг царила атмосфера праздника и развлечений.
Ричард Нэш
Нэш как мог поддерживал этот новый дух курортной общежительности не только официальными распоряжениями, но и неформальными методами: он умело гасил в зародыше споры, возникающие за карточным столом, тактично останавливал чересчур азартных игроков, удерживая их от неминуемых проигрышей, и даже успевал следить за развитием любовных романов среди отдыхающих – словом, вникал во все тайные пружины батских интриг. Он неизменно помогал бедным (вероятно, памятуя о своей безденежной юности), собирал деньги по подписке для неимущих и с редким искусством раздобывал фонды на благотворительные проекты: его самым крупным достижением было строительство больницы для бедняков.
При всей этой бурной общественной деятельности он не упускал возможность и самому сесть за карточный стол или повеселиться на балу. Нэш неизменно привлекал внимание изяществом своего костюма: он носил пышный черный парик и кремовую треуголку, лихо заломленную набок, богато расшитый коричневый сюртук и белую сорочку с кружевным жабо. Мастер церемоний разъезжал по городу в запряженной шестерней карете, а лакей на запятках оповещал о его приближении звуком французского рожка. Элегантность «красавца» служила камертоном соревнования для батских щеголей.
Благодаря Нэшу Бат довольно быстро стал модным курортом, сюда каждый сезон съезжались не только англичане, но и иностранцы. День начинался с купания в бассейне со знаменитыми горячими водами. Дамы заходили в него в закрытых купальных костюмах, с париками на голове, а к руке у них была привязана ленточкой небольшая деревянная подставка, на которой лежали носовой платок, табакерка или цветок.
Описания подобных костюмов можно найти в романе Смоллетта: «Под самыми окнами галереи минеральных вод находится Королевский бассейн – громадный водоем, где вы можете наблюдать больных, погруженных по самую шею в горячую воду. На леди надеты коричневые полотняные кофты и юбки и плетеные шляпы, в которые они прячут носовой платок, чтобы утирать пот с лица…»[57] Эти водные процедуры прописывались в лечебных целях, но можно представить себе, насколько утомительно было купаться в таких одеяниях. После обеда прогуливались, вечером шли на бал или с визитами.
Приезжие обычно снимали комнаты у местных жителей, и здесь Нэш также навел порядок: установил систему тарифов на жилье, существенно снизив цены за неудобные помещения. Его стараниями было построено новое красивое здание Ассамблеи, а улицы каждый день тщательно подметались. Не обошел вниманием мастер церемоний и культурную жизнь Бата: пригласил из Лондона хороших музыкантов, которые играли не только на балах, но и каждый день у бассейна. Даниэль Дефо, посетив Бат, заметил: «Нэш – распорядитель удовольствий повсюду в городе. Его очень почитают, а его приказам подчиняются с наслаждением, поскольку его меры по украшению и порядку в городе снискали ему величайшее уважение».
Когда Нэш оставил свой пост, он жил достаточно скромно, а в старости за ним ухаживала одна дама, его бывшая возлюбленная. Его последователи продолжили его курортные реформы, в Бате продолжали строить красивые здания в палладианском стиле по проекту архитектора Джона Вуда.
На примере Нэша мы видим удивительно удачный образчик деятельности щеголя в качестве профессионального администратора, фактически мэра города. Моднику удалось сделать модным целый город, привлечь туда разборчивую столичную публику. Провести сезон в Бате стало престижным. Щеголь выступил как тонкий знаток нравов – корректируя этикет, он изменил всю атмосферу в городе. Начав с реформы костюма, Нэш создал в Бате новое пространство – престижное, праздничное, светское и в то же время вполне демократичное, отчасти нивелирующее социальные различия. Преобразования «арбитра элегантности» имели далеко идущие последствия. Фактически он предвосхитил в Бате модель городской буржуазной социальности XIX века, открывающую большие возможности для способных людей незнатного происхождения. Этот вектор общежительности впоследствии оказался очень существенным для развития европейского дендизма.
«Нет сомнения, щеголи еще не денди, а лишь их предшественники. Дендизм уже скрывается под этой маской, но пока еще не открывает лица»[58], – обобщал Барбе д’Оревильи.
Макарони
На протяжении XVIII века традиция щегольской культуры в Англии породила еще один модный тип – макарони. «Макарони» («macaroni») – английские франты 1760–1770-х годов, в правление Георга III. Стиль макарони возник изначально среди молодых лондонских аристократов, но затем распространился среди щеголей среднего сословия в Йорке и в Бате. Макарони подражали итальянским[59] и французским стилям: отсюда и их прозвище (на манер современного «макаронники»). Как и во времена Карла II, новый всплеск мужской моды возник благодаря взаимодействию с романской модой, более цветистой и прихотливой, чем сдержанная британская одежда.
Возвращение из заграничной поездки: «Боже мой! Неужели это мой сын Том?» Том одет по моде макарони
Английские сторонники итальянской моды в XVIII веке увлекались пастельными тонами в одежде и смело сочетали разные типы орнамента. Они также стали использовать для повседневных выходов такие атрибуты придворного костюма, как шпаги у пояса, высокие надушенные парики, открытые жилеты и перчатки с отворотами, красные каблуки[60]. Все это скандализировало городскую публику, непривычную к подобной экстравагантности в общественных местах. Среди макарони было немало знатных людей – лорд Скарборо, лорд Эффингем; в Австрии этим стилем увлекался князь Кауниц.
Макарони нередко упрекали в утрированной женственности облика за их пристрастие к помадам, румянам, мушкам и зубочисткам – последняя деталь была исключена из джентльменского обихода вплоть до начала XIX века. Макарони также отличались манерным и претенциозным поведением, среди них было немало геев.
Современники-традиционалисты, наблюдая за их стилем и поведением, оставили нам дотошные описания макарони, проникнутые духом неприязненного любопытства: «Они и впрямь представляют из себя смехотворное зрелище! Представьте себе шляпу с полями величиной в дюйм, которая не покрывает голову, а еле держится на макушке; два фунта фальшивых волос, забранных сзади в длинный “пучок” (“club”), свисающий по плечам, белый, как мешок булочника[61]. Полы фрака спускаются до первой пуговицы штанов, а сами укороченные штаны (“breeches”) – или коричневые в полоску, или белые широкие, как у голландцев. Рукава фрака так узки, что руки с трудом проходят в них, а манжеты шириной около дюйма. Рукава рубашки без складок, отделаны кружевом “тролли”[62]. Чулки на ногах могут быть самых немыслимых оттенков радуги, не исключая телесного цвета или чулок зеленого шелка. Туфли – небольшие лодочки, а пряжки – на расстоянии дюйма от носка. Увидев такого модника, надушенного и напомаженного, с пышным кружевным жабо под подбородком, обычный прохожий порой затрудняется определить его пол. Бывало, ничего не подозревающий уличный носильщик говорил “Проходите, мадам”, не желая при этом никого обидеть»[63]. Как видим, макарони, акцентируя андрогинный элемент в своих нарядах, вполне успели зарекомендовать себя как «жертвы моды». Неудивительно, что они стали героями множества карикатур и литературных пародий[64]. Стиль макарони упоминается даже в детской песенке «Янки Дудль», которая стала американским национальным гимном:
- Янки Дудль к нам верхом
- Приезжал на пони;
- Шляпу круглую с пером
- Звал он макарони[65].
Макарони были последними представителями старой шегольской культуры в Англии. Их женственный и пышный стиль на следующем витке развития моды требовал антитезиса – сурового мужского пуризма. Этот антитезис смогли обеспечить британские денди на рубеже XVIII–XIX веков. Но прежде, чем подробно говорить о них, посмотрим, что происходило во Франции.
Модники эпохи Великой французской революции
В 1790-е годы на улицах Парижа появились странные модники. Они настолько выделялись из толпы, что их прозвали «невероятными» («les incroyables»). «Невероятные» носили узкие бутылочно-зеленые или коричневые сюртуки с огромными лацканами и высоченными воротниками, шейный платок нередко закрывал подбородок. Под сюртук поддевался короткий жилет, а то и сразу два – один под другой. Панталоны в начале десятилетия были облегающими, а затем в моду вошли довольно широкие, с завышенной, вплоть до подмышек, талией. На поясе болтались гигантские монокли и лорнеты. Прическа «собачьи уши» («oreilles de chien») отличалась нарочитой растрепанностью, причем сзади волосы коротко стригли, а по бокам, напротив, отпускали. Наряд завершала шляпа-двууголка, которую часто держали в руке или под мышкой.
Экстравагантный костюм «невероятных» намекал на их роялистские взгляды. Зеленые сюртуки были нарочитым подражанием младшему брату короля – графу д’Артуа, а черный воротник символизировал траур по казненному королю Людовику XVI. Ближайшие предшественники «невероятных» получили прозвище «мюскадены», так как они любили душиться мускусом, который был в моде при дворе до революционных потрясений. Хотя общее количество щеголей было невелико – от двух до трех тысяч, после 9 Термидора Конвент вполне мог положиться на их лояльность и даже рассчитывать на них в качестве защиты. Как видно, консервативные настроения после якобинского террора нашли непосредственное выражение в уличной моде[66].
Три игрока за карточным столом. Увеличенные лацканы – характерная черта костюма инкройяблей. 1798 г.
«Мюскадены» и «невероятные» представляли сословие «золотой молодежи» («Jeunesse Dorée») – многие из них происходили из среднего класса или из семей разбогатевших буржуа. В эпоху Директории они не скрывали своих монархических симпатий и открыто противостояли якобинцам. Завидев красный фригийский колпак санкюлота, они нередко начинали уличную драку, главным оружием в которой им служила мощная суковатая палка.
Подруги «невероятных» звались «изумительными» («les merveilleuses»). Они предпочитали «нагую моду» – полупрозрачные туники в античном стиле[67]. Нарочитый эротизм их нарядов эпатировал публику, впрочем, отвечая давно подмеченной историками костюма закономерности: женская мода становится более вызывающей и сексуальной после больших исторических потрясений, когда необходимо восполнить людские потери за счет повышения рождаемости.
«Невероятные» и «изумительные» веселились на «балах жертв», куда допускались только родственники казненных во время террора. Мужчины приходили с короткими стрижками à la Titus, а женщины собирали волосы наверх в стиле à la victime, имитируя прическу приговоренных к гильотине. Дамы даже повязывали на шею узкую красную ленточку, а во время танцев отчаянно мотали головой во все стороны, как будто голова вот-вот скатится с плеч, – разыгрывался коллективный перформанс на тему смертной казни.
Чтобы еще более подчеркнуть свое отличие от окружающих, модники изобрели особую манеру произносить слова – они картавили, не выговаривая звук «р». Одни историки костюма связывают это арго с подражанием английскому произношению, другие указывают на выговор популярного певца Гара, но стоит отметить, что эти щеголи уже не ограничивались оригинальностью костюма, а чувствовали потребность создать свое тайное наречие, которое объединяло бы их, позволяя знаково отделиться от чужих. Впоследствии многие денди будут прибегать к этому приему – акцентировать те или иные особенности выговора, нарочно заикаться или даже имитировать лицевой тик. Семиотическая зона моды в этот момент требовала расширения, захватывая и речь, и жесты, и тело.
К концу XVIII века мода уже стала важным культурным институтом европейского города – началось издание первых модных журналов, заметно ускорились ритмы новых тенденций. Между Англией и Францией все время шел обмен культурной информацией по моде. Подобно тому как на Британию периодически накатывали волны континентальной моды (чему пример – макарони), так и во Франции в зависимости от политической обстановки наступали эпохи «англомании». Носителями британской моды выступали путешественники, странствующие торговцы и аристократия. Два самых явных пика англомании пришлись на 1763–1769 (после окончания Семилетней войны) и 1784–1789 годы.
В основном влияние британской моды выражалось в упрощении мужского платья, во временном преобладании удобных и практичных фасонов. «Англичане одеваются просто, – замечал путешественник Сезар де Соссюр в 1760 году, – у них редко увидишь отделку золотой тесьмой или галунами; они предпочитают укороченные сюртуки, которые они называют “фраками”, – без заложенных складок, без воротника и украшений. Они носят маленькие парики, в руке – трость вместо шпаги; шерстяные и льняные ткани – высочайшего качества. Подобный наряд можно увидеть и на зажиточных торговцах, и на богатых джентльменах, и на знатных лордах…»[68] Склонность к сдержанному стилю, выступающая как императив хорошего вкуса, присутствовала в английской традиции со времен Возрождения. Еще у Шекспира можно встретить наставления в этом духе[69]:
- Шей платье по возможности дороже,
- Но без затей – богато, но не броско[70].
Этот типично английский простой и универсальный стиль окончательно одержал победу в мужской моде к концу XVIII века. Но для закрепления его в качестве базовой модели мужского костюма требовалась благоприятная историческая ситуация. Появление на арене денди было событием большего масштаба, нежели просто пришествие еще одного типа мужчины-модника. Дендизм знаменовал смену крупных культурных парадигм, утверждение новых моделей телесности и новых стереотипов поведения.
Дендизм и романтизм
Известно, что дендизм – специфически английский феномен. Но почему именно в Британии на рубеже XVIII–XIX веков утверждается тип денди? Изначально дендизм возникает как особая модификация английских традиций щегольства и джентльменства, а с 1820-х годов становится общеевропейской модой, сохраняя, впрочем, исходный набор таких национальных черт, как сдержанный минималистский стиль в одежде, спортивность, клубная культура, джентльменский кодекс поведения.
Появлению на светской арене нового типа мужчины-модника в значительной мере способствовала высокая репутация Лондона как столицы роскоши. Счастливо избегнув революционных и военных потрясений, Лондон на рубеже XVIII–XIX веков уверенно обгоняет Париж по части моды. Именно в это время происходит расцвет портновского ремесла: непревзойденной репутацией пользуются Швейцер и Дэвидсон, а также Вестон и Мейер, позднее лидером становится Стульц. Самый модный район в Лондоне – Вест-Энд. Здесь сосредоточены основные дендистские маршруты: на Сэвил Роу расположены портновские мастерские; на Бонд-стрит – продавцы чулок, духов и галантереи, на Сент-Джеймс-стрит – знаменитые клубы, а также винные и табачные магазины[71]. Берлингтонская аркада, находящаяся в центре Вест-Энда, всегда являлась излюбленным местом прогулок лондонских денди.
Полная панорама городских развлечений была представлена широкой публике в 1821 году, когда вышла известная книжка Пирса Эгана «Жизнь в Лондоне»[72]. Три приятеля – Том, Джерри и Боб Лоджик – посещают все интересные места Лондона и исследуют на личном опыте модные столичные удовольствия. Лондон раскрывается перед ними как «полная энциклопедия, где каждый человек, независимо от веры и нравов, может найти нечто приятное сообразно своему вкусу и кошельку, чтобы расширить свои взгляды, наслаждаться счастьем и комфортом»[73]. Среди знакомых отважной троицы, разумеется, мелькают и «денди – сын Тщеславия и Аффектации, потомок макарони и петиметров», и «накрахмаленный щеголь… пользующийся услугами лучших портных, башмачников и шляпников, дабы хладнокровно поразить общество своей элегантностью»[74].
Денди как городской тип появляется в тот период, когда на рубеже XVIII–XIX веков начинает складываться парадигма европейского модерна[75]. Социальную базу дендизма составляли аристократия и представители среднего класса. Благодаря демократическим завоеваниям Французской революции третье сословие в Европе получило возможность проявлять инициативу во всех сферах деятельности. А в Англии, стране со старейшей демократической традицией, где к тому же еще раньше произошла промышленная революция, сложились наиболее благоприятные условия для развития свободного самовыражения буржуазного индивида. Человек мог выделиться независимо от социального происхождения что, собственно, и подтверждает пример знаменитого денди Браммелла. Однако для подобного продвижения требовались незаурядная воля, харизма, сильный характер и (что немаловажно) предрасположенность общества оценить эти качества по достоинству.
Эту предрасположенность обеспечивала культурная ситуация рубежа XVIII–XIX веков, когда воцарилась романтическая эстетика. Именно романтизм возвел на пьедестал свободную творческую личность и санкционировал ее право диктовать свою волю толпе. Недаром многие герои поэм Байрона так охотно изображал и дендистское высокомерие, а персонажи Колриджа и Гёльдерлина не только обладали колоссальной энергией, но и осмеливались идти против большинства, веря в свою правоту. Культ оригинальности, апологетика индивидуальной свободы нередко ставили этих мечтателей на грань экзистенциального бунта, и первоначальный энтузиазм нередко завершался разочарованием – отсюда мотив «мировой скорби», выразительно представленный в творчестве великого пессимиста Джакомо Леопарди и в философии Артура Шопенгауэра.
Д.Г. Байрон. Гравюра по портрету Дж. Харлоу 1815 г.
«Мировая скорбь» предполагала не только отказ от просветительских идей относительно разумной и доброй природы человека, но и интенсивное исследование ранее недооцененных эмоциональных ресурсов – всего диапазона тончайших переживаний от просветленной печали и «снов наяву» до отчаяния и скептицизма[76]. Душевная жизнь героев Шатобриана, Мюссе, Констана демонстрирует бесконечные варианты этого «воспитания чувств». Благодаря романтизму созерцательная меланхолия становится знаком внутренней зрелости личности – и, как следствие, модники охотно разыгрывают ее в качестве новой «интересной» позы. Но существенно, что излияние эмоций у романтиков отнюдь не исключает установки на жесткую саморефлексию. Вот характерный фрагмент из записных книжек молодого Стендаля: 1805 год, он страстно влюблен в актрису Мелани Гильбер.
«В двенадцать часов дня, одеваясь, чтобы идти к Мелани, я почти не помнил себя, до того я был взволнован. Звоню – никто не отвечает. Иду в Пале-Рояль, провожу там полчаса, быть может, самые мучительные в моей жизни; единственным развлечением было наблюдение за собственным состоянием, и, право же, это немалое развлечение. Прибегнуть к этому способу утешения, если мне когда-нибудь случится утешать умного человека»[77]. Подобная способность дистанцироваться и как бы со стороны следить за своими переживаниями уже предполагает сложную автономию внешне сдержанного субъекта, который культивирует собственные эмоции, не теряя при этом аналитического контроля. Это стремление подняться над страданием – первичный тренинг невозмутимости, школа владения собой. Парадоксальные «правила» дендистского поведения «ничему не удивляться», «сохраняя спокойствие, поражать неожиданностью» во многом вытекают из этой науки романтического самопознания.
В предельном развитии поза мировой скорби дает образ «демонической натуры» – человека, проникнутого разочарованием, бросающего вызов не только высшим силам (байроновские герои Манфред, Каин), но и всем людям. Апофеоз этой линии – демонический циник, этакий денди – Мефистофель в безупречном фраке (нередкий типаж в творчестве Теофиля Готье, Фредерика Сулье и Барбе д’Оревильи). Не случайно наиболее сильно тема «цветов зла» разрабатывается у Бодлера, создавшего последовательную теорию дендизма. Более сниженный, «бытовой» вариант «демонической натуры» – рефлектирующий фат, роковой соблазнитель (Дон Жуан, Печорин, Адольф), чье тщеславие нередко базируется на особой «теории успеха»[78].
Сознание собственной исключительности у романтического героя диктует изощренные формы косвенного выражения своего превосходства: среди них – ирония и сарказм; жизнетворчество (включающее, между прочим, и стилистику внешности); критика дурного вкуса. «Повсюду мы находим теперь громадную массу пошлости, вполне сложившейся и оформленной, проникшей более или менее во все искусства и науки. Такова толпа; господствующий принцип человеческих дел в настоящее время, всем управляющий и все решающий, – это польза и барыш и опять-таки польза и барыш», – писал один из главных теоретиков романтизма Фридрих Шлегель[79]. Эта презрительная интонация разоблачения меркантилизма берется на вооружение денди: романтический протест против пошлости массового вкуса оборачивается эстетской позой «арбитра элегантности»: таким образом лидер моды дистанцируется от неумелых подражателей и филистеров. Романтическая ирония, эта «трансцендентальная буффонада» и «самая свободная из всех вольностей», становится способом сохранения личного достоинства и даже порой оружием нападения перед лицом «гармонической банальности»[80]. Наконец, великолепная вера романтиков во всевластие человеческого духа проецируется на сферу жизнетворчества: «Все случаи нашейжизни – это материалы, из которых мы можем делать, что хотим. Кто богат духом, тот делает много из своей жизни. Всякое знакомство, всякое происшествие было бы для всецело вдохновенного человека первым звеном бесконечной вереницы, началом бесконечного романа»[81]. Не в последнюю очередь романтики задумывались и о роли костюма: недаром во фрагментах Новалиса попадаются многозначительные записи: «Об одежде как символе»[82].
Итак, дендизм роднит с романтической эстетикой культ сильного индивида (включая комплекс мировой скорби и демонизм), программа жизнетворчества и установка на иронию. Основные различия между дендизмом и романтизмом состоят в том, что, во-первых, денди, будучи поклонником городской культуры, не разделяет романтического восхищения природой (противоположность естественного и искусственного), и, во-вторых, денди не склонен к лирическому излиянию чувств, предпочитая контролировать свои эмоции или разбавлять их холодной рефлексией. Впрочем, начало подобной раздвоенности уже было заложено в самом романтизме, как видно по стендалевским записным книжкам.
Резюмируем: дендизм оформляется на рубеже XVIII–XIX веков в Англии благодаря трем факторам:
– расцвет Лондона как столицы моды;
– демократизация общества и выдвижение среднего класса после буржуазных революций;
– апология личности и индивидуальной свободы в эстетике европейского романтизма.
III. В начале был Джордж Браммелл: легенда и биография
Легенда
Самый знаменитый денди всех времен и народов англичанин Джордж Брайан Браммелл (1778–1840) имел прозвище Beau, что означает «щеголь, красавчик». Браммелл был современником романтиков и кумиром самого лорда Байрона, который говорил: «В XIX веке есть три великих человека – Браммелл, Наполеон и я».
Байрон был неодинок в своем преклонении перед харизматической персоной Браммелла – каждый второй молодой аристократ тогда всеми силами подражал Браммеллу. Нам сейчас не столь трудно понять, чему обязаны своей славой Байрон и Наполеон. Однако репутация Браммелла в свое время была столь же высокой и завидной, и это явно требует объяснений. Ведь множество франтов, блиставших в светских кругах, никогда не подымались до таких вершин известности, а впоследствии и вовсе были благополучно забыты. «Браммелл сохранил только имя, светящееся таинственным отблеском во всех мемуарах его эпохи», – писал Барбе д’Оревильи[83]. Что же реально нам осталось от Браммелла, кроме имени и красивой легенды?
Д.Б. Браммелл. Гравюра Д. Тестевида
Как сейчас ясно, следы влияния Браммелла по крайней мере в одном отношении были долговечны и осязаемо материальны: он определил историю мужской одежды на два века вперед, создав современный вариант классического костюма. Программа Браммелла отличалась поразительной близостью к современным принципам мужского гардероба.
Первым и решающим новшеством были непривычные для начала XIX века гигиенические стандарты. Браммелл ввел в моду аккуратно подстриженные и чисто вымытые волосы, в то время как раньше их было принято отпускать, завивать, пудрить или носить напудренный парик. Сорочки Браммелл отсылал в стирку каждый день, чисто выбритый подбородок упирался в воротничок идеальной белизны. По утрам денди принимал ванны из молока, не забывал «о красе ногтей» – словом, при знакомстве сразу возникало общее ощущение чистоты и свежести, «good grooming», пусть даже оно и не вполне осознавалось зрителями.
Д. Холмс. Портрет Д.Б. Браммелла
Второе отчетливое впечатление – безукоризненный покрой фрака. «Мыслящее тело», «неземное совершенство» – так отзывались современники о костюмах Браммелла. «Изысканная правильность» («exquisite propriety»), – говорил о его стиле лорд Байрон. Фрак Браммелла отличался идеальным кроем, что достигалось многочасовыми «бдениями» с лучшими портными. Сукно для фрака Браммелл выбирал лично, обычно предпочитая батское. Он также ввел в моду узкие длинные панталоны («inexpressibles»)[84].
Завершали ансамбль до блеска начищенные гессенские сапожки, легенда гласит, что Браммелл чистил их шампанским.
Принцип смены одежды соблюдался неукоснительно. Утренний фрак должен был быть светлее вечернего, а вечером после оперы Браммелл обязательно заглядывал домой, чтобы сменить шейный платок перед визитом в гости или светским приемом, надеть узконосые бальные туфли. Перчатки в идеале полагалось менять шесть раз в день, чтобы они всегда при рукопожатии были свежими.
Тщательный подбор мелочей и аксессуаров окончательно закреплял впечатление уникальности при знакомстве с денди. Как гласила молва, у Браммелла перчатки были специального, особо удобного кроя. Их шили несколько портных: один – ладонь, второй – большой палец, третий – остальные четыре пальца.
Особым изыском браммелловского костюма был шейный платок. Искусство завязывания шейного платка у Браммелла стало темой для многочисленных легенд. Одна из них гласит, что для того, чтобы добиться совершенной формы узла, Браммеллу приходилось порой тратить несколько часов. Как-то раз к нему в неурочный час пришел посетитель и застал хозяина перед зеркалом во время примерки очередного платка. Весь пол комнаты устилали смятые и отброшенные в порыве досады платки. Лакей, заметив изумление гостя, указал на них живописным жестом и пояснил: «These are our failures» («Это наши неудачи»).
Забракованные платки могут напомнить скомканные черновики писателей, которые летят на пол, когда автор усердно работает над стилем. Но принципиальная новизна усилий Браммелла состояла не только в поиске той единственной формы узла, которая сочетала в себе элегантность и небрежность, но и в умении фиксировать находку: он первый додумался, что можно придать платку твердость контура благодаря подкрахмаливанию. Это был его фирменный секрет, который он тщательно хранил и, как гласит легенда, раскрыл друзьям только перед отъездом из Англии, оставив им записку с одним-единственным словом: «Starch» (крахмал).
Но если бы можно было стать денди, зная несколько «технических» секретов! Денди отличается от рядового франта именно тем, что модный костюм – лишь один из элементов его индивидуального стиля.
Более тонкий и неуловимый аспект феномена Браммелла связан с жизнетворчеством – особой дендистской стратегией «public relations», с жесткой личной властью над светским обществом.
Прежде всего он умел извлечь максимум из своих внешних данных. Уильям Джессе оставил нам его портрет времен юности: «Природа щедро наделила его своими дарами. Он обладал фигурой и пропорциями Аполлона, особенно красивы были его руки – при желании он мог бы с легкостью позировать как натурщик художникам, изображая античных героев. Лицо его было продолговатой формы, высокий лоб, выразительные брови, волосы – светло-каштанового цвета, бакенбарды – песочного оттенка… Черты лица обнаруживали незаурядный ум, в изгибе рта чувствовалась наклонность к саркастическому юмору. Даже если он произносил вежливые комплименты, в глубине его серых глаз появлялось странное выражение, заставляющее усомниться в его искренности. Выразительная мимика придавала его рассказам дополнительный эффект. Голос его был чрезвычайно приятным»[85].
Но располагающая к себе внешность «срабатывала» постольку, поскольку денди виртуозно владел искусством светского поведения. В этой сфере ему не было равных. Манеры Браммелла строились на искусном соединении сухости и непринужденности, почтительности и остроумного цинизма; самыми же главными компонентами, очевидно, были безупречный вкус, исключающий вульгарность в обращении или в облике, наряду с редкой способностью оживлять всякую компанию, шутить и вести легкий и изящный разговор с любым собеседником.
Однако он всегда умел тонко парировать, если ему задавали «неправильные», с его точки зрения, вопросы. Однажды после поездки по Озерному краю[86] его спросили, какое озеро вызвало у него наибольшее восхищение. Браммелл счел уместным переадресовать вопрос своему лакею: «Робинсон, какое озеро вызвало у меня наибольшее восхищение?» – «Уиндермирское, сэр», – подсказал лакей. «Ах да, Уиндермирское, совершенно верно», – лениво повторил Браммелл, обозначив тем самым без особых усилий свое отношение к банальным туристическим восторгам[87].
Каждый второй молодой аристократ тогда числил себя подражателем Браммелла. Самым именитым его поклонником был принц Уэльский – приведем весьма поэтическую версию их встречи из уст Барбе д’Оревильи: «Он был представлен принцу на знаменитой Виндзорской террасе в присутствии самого взыскательного светского общества. Там он выказал все то, что принц Уэльский должен был ценить больше всего на свете: цветущую юность наряду с уверенностью человека, который знает жизнь и может быть ее господином; самое тонкое и смелое сочетание дерзости и почтительности; наконец, гениальное умение одеваться, удачно сочетавшееся с находчивостью и остроумием»[88]. С этого момента Браммелл вошел в узкий круг ближайших друзей принца и, в частности, стал постоянно давать ему советы по моде. Восторженные воспоминания сохранились и о первом светском триумфе Браммелла в Лондоне на балу, который давала герцогиня Джорджиана Девонширская. Там он с легкостью очаровал всех присутствующих, в первую очередь дам, после чего стал получать многочисленные приглашения на аристократические рауты.
Вскоре ни один существенный прием не обходился без его участия. В газетных отчетах его имя всегда стояло первым в списке нетитулованных гостей.
Браммелл с такой легкостью вошел в светское общество не только из-за покровительства принца Уэльского, но и благодаря дружеским связям времен Итона – уже в колледже он стал приятельствовать с юными лордами Робертом и Чарльзом Маннерсами, и эти близкие отношения продолжались всю жизнь, а в дальнейшем его друзьями стали герцогиня Джорджиана Девонширская, герцог и герцогиня Йоркские, лорд Алванли, герцог Ратланд и другие видные аристократы.
Иногда, впрочем, дружба с денди могла быть довольно рискованной: мамаши специально предупреждали дочерей, чтобы они осторожно вели себя с мистером Браммеллом – заслужить от него саркастическую реплику в свой адрес нередко означало конец светской репутации. Когда герцогиня Ратландская появилась на балу в неудачном, с точки зрения Браммелла, наряде, он рекомендовал ей немедленно удалиться, причем не как-нибудь, а (дабы не оскорблять взоры присутствующих) пятясь назад. О леди Мэри он сказал толькоодну вещь: «Она ела капусту», и все присутствующие мгновенно зачислили несчастную в разряд вульгарных созданий, ибо есть овощи считалось простонародной привычкой. Сам Браммелл на вопрос, неужели он никогда не ел овощей, ответил с достоинством: «Да, как-то раз я случайно проглотил одну горошину».
Прославленная французская писательница мадам де Сталь, посетившая Лондон, считала «величайшим несчастьем» («malheur») то, что Браммелл не удостоил ее одобрением. (Впрочем, ей еще повезло, что Браммелл ничего не сказал по поводу ее нарядов – по свидетельству многих очевидцев, мадам де Сталь не отличалась особым вкусом в одежде.)
По приведенным историям можно подумать, что жертвами Браммелла были в основном дамы, но в реальности его разящее остроумие распространялось и на мужчин.
Самая известная, не раз цитировавшаяся саркастическая реплика была обращена в адрес герцога Бедфордского. Поскольку Браммелл пользовался репутацией несравненного знатока, к нему нередко обращались за советом по поводу костюма. Однажды один из его друзей, герцог Бедфордский, спросил мнение Браммелла о своем новом фраке. Как гласит легенда, великий денди помолчал, пощупал ткань, подумал, велел герцогу повернуться для кругового обзора и затем медленно, растягивая слова, сказал: «My dear Bedford, do you call this thing a coat?»: «Мой дорогой Бедфорд, Вы это называете фраком?» Герцог молча повернулся и пошел домой снимать фрак.
Аналогичным образом денди не пощадил и родного брата Уильяма, когда тот приехал в Лондон. Когда Браммелла спросили, пригласит ли он своего брата в клуб Брукс, он ответил: «Да, через денекдругой; пока он еще не получил заказанный костюм, и ему лучше не появляться в центре». Стоит ли говорить, что Уильям не испытывал к своему младшему брату особой приязни и после этого случая они практически не общались.
Клуб, куда так и не суждено было попасть злосчастному Уильяму, на самом деле был одним из самых престижных светских заведений в Лондоне. Вскоре после своего воцарения в столице Браммелл стал его членом. Это было очень почетно, поскольку в Бруксе состояли и Фокс, и Шеридан, и герцог Девонширский, и некогда известный остроумец Джордж Селвин[89].
Другой важной ареной светской жизни для него был оперный театр – в то время все щеголи непременно держали ложи в Хеймаркете, Ковент-Гардене или Друри Лейн. Герцог Бедфордский (тот самый, чей фрак стал в результате дендистской «экспертизы» притчей во языцех) в специальной записке уведомлял Браммелла, что двери его оперной ложи всегда для него открыты[90].
По уик-эндам, а то и целыми неделями Браммелл был желанным гостем в поместьях своих знатных друзей. Наиболее теплые отношения у него сложились с семейством герцога Йоркского, роднымбратом наследника престола. Очаровательная Фредерика, герцогиня Йоркская, не мыслила своих вечеров без Браммелла. Обычно в пятницу за гостями посылали в Лондон специальный экипаж, в котором избранная компания добиралась до поместья Оутлэндс, где для каждого уже была приготовлена своя комната. Среди завсегдатаев Оутлэндса были лорд Ярмут, лорд Фоли, приятель Браммелла «Кенгуру» Кук, «Монах» Льюис (получивший эту кличку как автор знаменитого одноименного готического романа). Фредерика, отличавшаяся, по словам Томаса Райкса, «замечательным чувством здравого смысла и точными суждениями»[91], любила устраивать домашние праздники. На Рождество традиционно наряжали большую елку, герцогиня дарила гостям небольшие подарки; по замыслу, они должны были быть подчеркнуто скромными – вышитый кошелек, кожаный ремешок. Браммелл, правда, один раз явно нарушил это правило, презентовав хозяйке платье из брюссельских кружев, что по тем временам было очень изысканным даром.
Фредерика, герцогиня Йоркская Гравюра по портрету Э. Виже – Лебрен 1806 г.
Развлечения в Оутлэндсе сводились к прогулкам по великолепному парку с гротом. Герцогиня обожала животных, и в поместье содержались собаки, мартышки, страусы и кенгуру. Браммелл, также неравнодушный к братьям нашим меньшим, охотно поддерживал разговоры о животных и писал стихи на смерть любимой герцогской собаки.
В принципе подобный стиль времяпрепровождения – обеды, беседы, прогулки по парку – как нельзя более устраивал его. Дело в том, что в других поместьях, куда его приглашали, для джентльменов считалось обязательным участие в охоте, особенно на лис, что требовало ранних пробуждений и многочасовой скачки по полям и лесам.
Подобные традиционные спортивные забавы, составлявшие главное развлечение британских джентльменов[92], были совсем не по душе нашему денди, который предпочитал нежиться в уютной гостиной и шутить с дамами. Порой, проделав часть пути, он отделялся от компании охотников и сворачивал на ферму, где всегда можно было угоститься деревенским хлебом и сыром, после чего спокойно возвращался домой и присоединялся к дамам.
Главный мотив его отвращения к охоте был прост – боязнь запачкать свои безукоризненные сапожки и светлые панталоны, а также нелюбовь к грубости и грязи. Его гигиенические стандарты были столь высоки, что он отказывался поддерживать знакомство, если подозревал, что данный человек недостаточно аккуратен. Эта страсть к чистоте в сочетании с заботой о костюме породила многочисленные легенды.
Рискуя навлечь на себя упреки в излишней женственности, Браммелл всячески подчеркивал свою изнеженность. Он сам порой рассказывал о себе гиперболические истории чисто художественного плана. Так, однажды подхватив простуду, он объяснил присутствующим, что ему «случайно пришлось в пути ночевать в одной комнате с человеком, который чрезвычайно промок». В другой раз он ушиб ногу, и когда ему заметили, что, мол, скоро пройдет, сразу возразил: «Да, но это моя любимая нога!»[93] Впоследствии подобная утрированная изнеженность у многих денди превратилась в инструмент эффектной саморекламы. Например, Оскар Уайльд действовал абсолютно в браммелловском стиле, когда на заботливый вопрос одной поклонницы, отчего он выглядит столь утомленным, ответил, что безумно устал, поливая цветок.
Надо сказать, что на фоне мужественных охотников и спортсменов такие городские неженки-денди были в меньшинстве, но тем поразительнее то, что им удалось создать устойчивый образец поведения, которому многие стали подражать.
Вероятно, этому немало способствовала отточенность манер и костюма, изящество реплик – все, что на самом деле является личным стилем, производным от вкуса и харизмы. Браммелл во многом был «паркетным» кавалером, преуспевавшим в искусстве легкой риторической галантности. В дошедших до нас записях разговоров он неизменно обращается к собеседнику «мой дорогой сэр» и даже свои колкости неизменно преподносит в оболочке изысканной любезности. «В его обращении не было ни намека на претенциозность или аффектацию, – пишет Джессе, – скорее чувствовался оттенок формальности, о которой говорят “старая школа”. Его осанка отличалась редким благородством, движения были исполнены изящества и достоинства, однако без малейшего налета нарочитости. Его внешность и манера держать себя были настолько поразительными, что, когда он шел по Сент-Джеймс-стрит, прохожие всегда обращали на него внимание, думая, что это принц Уэльский»[94].
Денди умел блистать в самых обыденных мизансценах, каждый жест его отличался театральной эффектностью.
Браммелл был знаменит своей коллекцией табакерок, выставлявшихся на столике в гостиной для посетителей. Выбор табакерки составлял последний завершающий момент его туалета перед выходом в свет. Нюханье табака он также превращал в мини-перформанс. Онстоял в особой позе, держа табакерку в левой руке и демонстрируя четкую линию жилета. Открывая табакерку мгновенным щелчком большого пальца, он доставал щепотку правой рукой настолько отточенным жестом, что зрители успевали заметить и золотое кольцо, и изящно расшитый батистовый носовой платок, выглядывающий из рукава сюртука, и манжеты его сорочки, торчащие ровно настолько, насколько требовал его безукоризненный вкус. Неудивительно, что его жестам пытались подражать не только начинающие щеголи, но и принц Уэльский; впрочем, как раз с ним у Браммелла отношения разладились.
Браммелл был постоянным президентом клуба Ватье и диктовал там моду во всем, будь то одежда, манеры или табакерки. Ватье имел репутацию самого дендистского клуба. Байрон был принят в Ватье и окрестил его «клуб денди». Именно там в июле 1813 года проходил знаменитый «бал денди», который решили устроить четверо отцов-основателей после крупного выигрыша в карты. Поскольку Браммелл и сэр Генри Майлдмей уже к тому времени успели поссориться с принцем, было не вполне ясно, стоит ли приглашать его. После долгой дискуссии Браммелл и Майлдмей по-джентльменски решили пожертвовать личными чувствами во имя всеобщего блага, и принцу отправили приглашение, подписанное четырьмя денди.
Устроители бала по традиции должны были стоять у входа, приветствуя почетных гостей. Зная все обстоятельства, многие любопытные заранее занимали там места, чтобы посмотреть, как будет вести себя принц. Тот, увы, не преминул воспользоваться случаем, чтобы выказать свое пренебрежительное отношение к бывшим приятелям. Приехав, он вежливо раскланялся с Пьерпойнтом и Алванли и, отвернувшись от Браммелла и Майлдмея, прошествовал мимо. Это было грубое нарушение правил этикета, и Браммелл отплатил ему тем же.
Согласно капитану Джессе, он не проводил принца к карете, что сразу заметили все присутствующие, и сам принц на следующий день сказал: «Если бы Браммелл благодушно смирился с тем, как я его “подколол” (в оригинале – “cut”), я бы возобновил с ним дружбу»[95]. Но из-за ответного жеста справедливо считавшего себя оскорбленным Браммелла теперь ни о каком возобновлении отношений не могло быть и речи.
По другим версиям, именно в тот критический момент, когда принц проигнорировал его, денди бросил свою знаменитую реплику: «В наступившей тишине отчетливо прозвенел резкий холодный голос Браммелла: “Алванли, кто этот толстяк, Ваш приятель?” (“Who is your fat friend?”) Принц, услышав вопрос, заметно изменился в лице»[96]. После этой истории репутация принца как безупречного джентльмена была ощутимо подпорчена, а слава Браммелла, напротив, только возросла. Во всяком случае, на память об этой истории потомкам остался иронический эскиз памятника великому денди – Браммелл, не удосужившись повернуть головы, беззаботно показывает на конную статую Георга, вопрошая: «Кто этот толстяк?»
Денди был настолько уверен в своем могуществе, что всем рассказывал, будто он сам первый порвал с принцем и теперь накажет его: «Я сотворил его в нынешнем виде, и я же развенчаю его». Однако в реальности его противостоянию с принцем не было суждено завершиться – дальнейшая судьба Браммелла по-настоящему решалась не на светских раутах, а за карточным столом.
Эскиз памятника Джорджу Браммеллу: «Кто этот толстяк, ваш приятель?» Карикатура из журнала «Панч»
Когда Браммелл начинал играть в карты по-крупному, фортуна на первых порах благоволила ему. У него был личный талисман – монетка в шесть пенсов с дырочкой, которую он нашел на улице и с тех пор постоянно носил на цепочке. Однажды его выигрыш составил двадцать шесть тысяч фунтов. Друзья советовали ему положить деньги в банк, поскольку на ежегодные проценты от такой суммы можно было роскошно жить. Но Браммелл предпочел вариант славной легенды об азартном игроке, спускающем свой выигрыш. Ему была чужда буржуазная психология рантье – он действовал по аристократическому кодексу поведения, предписывающему благородный азарт, волнение крови и высокий уровень расходов, и через несколько дней проиграл всю эту сумму. Браммеллу пришлось взять из банка свои последние деньги, чтобы отыграться, но фортуна окончательно отвернулась от него, и он был разорен. Последним знаком несчастья стала потеря его талисмана – счастливого шестипенсовика с дыркой. «Видно, его подобрал негодяй Ротшильд», – шутил Браммелл.
Вероятно, впоследствии, испытывая финансовые затруднения, денди не раз вспоминал об этом случае.
Его денежные дела заметно ухудшились после того, как заимодателям стало известно, что он лишился покровительства принца Уэльского. Но, даже потеряв привилегии фаворита (в число которых входил практически безграничный кредит у поставщиков), он еще несколько лет успешно держался на плаву, хотя жил явно не по средствам. Наконец 16 мая 1816 года был сыгран финальный акт драмы.
В этот день денди в одиночку пообедал в клубе Ватье холодным цыпленком с кларетом, затем посетил оперу. Не дождавшись конца представления, он покинул ложу: его уже поджидал экипаж, нанятый Томасом Райксом. За ночь доехав до Дувра, на следующий день он уже был на французском берегу, где и прожил тихо и незаметно отпущенные ему годы вплоть до своей смерти в 1840 году. В Англию он больше никогда не вернулся. Поклонники сравнивали его исчезновение с падением Наполеона, а мы бы сказали, что легенда Браммелла завершилась побегом в лучших традициях авантюрного романа. Но даже в этот последний день он действовал согласно незыблемым правилам дендизма: «Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью»; «Оставайтесь в свете, пока Вы не произвели впечатление. Как только впечатление достигнуто, удалитесь».
Семейная история
Джордж Брайан Браммелл никогда не скрывал своего незнатного происхождения. «Мой дедушка, – говаривал он, – всю жизнь был камердинером, причем превосходным». Старший Браммелл, дед нашего героя, и впрямь долгое время служил в семье лорда Чарльза Монсона. Но денди при этом несколько сгущал краски, забывая упомянуть, что дед вскоре накопил приличное состояние, позволившее ему приобрести дом в центре Лондона, на углу Джермин-стрит и Бери-стрит. Именно в этом доме он сдал комнаты молодому политику, члену парламента Чарльзу Дженкинсону – решение, впоследствии повлиявшее на судьбу нескольких поколений семьи Браммеллов.
Дженкинсон был сухим, лишенным чувства юмора педантом, но он подружился с семьей хозяина дома и особенно полюбил старшего сына, Уильяма. Когда мальчик подрос, Дженкинсон в 1763 году устроил его на работу младшим клерком в казначейство, а увидев, что юноша проявил прилежание, рекомендовал его своему коллеге лорду Норту.
Лорд Норт, известный политик[97], быстро оценил деловые способности молодого человека, сделав его своим личным секретарем. В этой должности Уильям Браммелл стал пользоваться большим влиянием: от него во многом зависело распределение выгодных должностей и теплых местечек; он был своего рода серым кардиналом при премьер-министре. Через него осуществлялось давление, нередко в форме прямого подкупа, на членов парламента[98], не брезговал он и взятками, что в то время было вполне обычным делом.
Уильям Браммелл лично участвовал в принятии многих важных государственных решений, как, например, реорганизация Ост-Индской компании – крупнейшей английской торговой фирмы, или назначение генерал-губернатора Калькутты: благодаря его протекции эту должность получил его приятель Джон Макферсон.
Проза жизни
В результате к моменту отставки в 1783 году его доход равнялся 2500 фунтов – такими показателями в то время могли похвастаться только 600 богатейших семейств Англии. Он обеспечил себе на оставшиеся годы несколько выгодных синекур, приобрел поместье в Беркшире и впоследствии стал шерифом этого графства.
Помимо материальных благ, за время работы Уильям Браммелл обзавелся множеством влиятельных друзей, причем среди них были такие знаменитости, как виг Чарльз Джеймс Фокс, занимавший пост секретаря казначейства драматург Ричард Бринсли Шеридан, известный живописец Бенджамин Уэст, президент Королевской академии художеств сэр Джошуа Рейнольдс. Именно сэру Джошуа Браммелл заказал портрет своих сыновей – Джорджа и Уильяма.
Младшему, Джорджу, родившемуся в 1778 году, и суждено было стать прославленным денди. На портрете он изображен с длинными кудрями и ангельским личиком, рядом с детьми играют две собачки – одна из них треплет развязавшийся конец банта платья будущего щеголя.
Джордж рос в атмосфере достаточно светской – слушая разговоры о политике и шутки Шеридана, рассказы о последних джентльменских розыгрышах – как остроумец Шеридан убедил девицу Сару Уайт, что ей хочет сделать предложение Том Харрис, владелец театра Ковент-Гарден (о чем тот и не помышлял). Несчастная Сара, одевшись пасторальной красоткой, целый день просидела у пруда, ожидая любовного признания, и только к вечеру поняла все коварство Шеридана.
В семейной хронике Браммеллов фигурирует такой персонаж, как тетушка Браун, отличавшаяся своим умением превосходно печь пироги со сливами. Маленькому Джорджу так нравились тетушкины пироги, что он каждый раз уходил от нее со слезами. Но интересно другое: у тетушки Браун была внучка Фанни, а в нее позднее влюбился не кто иной, как поэт Джон Китс. Занятное совпадение для историков культуры: кузина денди в роли романтической музы.
Денди: годы учения
В 1786 году, когда Джорджу было 8 лет, отец послал обоих сыновей на учебу в Итон[99]. Это был, конечно, достойный финал его карьеры: внуки лакея смогли получить образование вместе с детьми из старинных аристократических семейств. Обучение в столь престижном заведении, как Итон, определяло круг знакомств и друзей на всю жизнь: для будущих успехов юного Джорджа Браммелла в избранном светском обществе был своевременно заложен надежный фундамент.
Программа занятий в Итоне включала основы латинской и греческой грамматики, изучение Священного Писания, но эпицентром школьной жизни были спортивные забавы – крикет, футбол, плаванье, игра в мраморные шарики и петушиные бои. Смельчакам удавалось пробираться даже на скачки в Аскоте, однако риск попасться на глаза тьютору заставлял быть осторожными: в Итоне практиковались телесные наказания, бывшие в то время обычным средством воспитания молодого поколения. Даже дети короля, принц Уэльский и герцог Йоркский, не могли избежать этой участи. Однако юный Браммелл отличался достаточной хитростью и никогда не подвергался порке, что было редким исключением. Он был всеобщим любимцем, «умным, праздным и прямодушным» мальчиком, как позднее вспоминал его соученик. Тягостный для многих ритуал, традиционный fagging[100], он умел обратить в удовольствие: столь непринужденно делал вкусные тосты с сыром своему «начальнику» из старшего класса, что тот полюбил его и стал делиться едой. Позднее, когда Браммеллу уже самому полагался младший мальчик для услуг, он обращался с ним подчеркнуто добродушно.
Его чувство юмора и умение ловко улаживать конфликты проявились водном известном случае: итонские школьники враждовали с моряками, сплавляющими баржи по Темзе, и один из этих моряков попался им в руки. Они уже собирались, задав ему хорошую взбучку, бросить в реку, когда подошел Браммелл и обратился к разгоряченным участникам драки: «Друзья, – сказал он, – этот несчастный сильно вспотел, и если он сейчас окажется в холодной воде, то наверняка серьезно простудится». Столь неожиданные соображения заставили присутствующих рассмеяться, и счастливчик был отпущен с миром. Эта реплика вошла в анналы как первый анекдот о Джордже Браммелле.
В школьные годы Браммелл числился среди лучших в сочинении латинских стихов и уже тогда обращал на себя внимание исключительным умением завязывать шейный платок, а также особой аккуратностью и тщательностью в туалете и личной гигиене. Если на улице шел дождь, он по дороге всеми силами избегал луж, чтобы не запачкать обувь и костюм.
В 1794 году умер отец, оставив троим детям в наследство 60 000 фунтов. Джордж Браммелл, окончив Итон, должен был далее учиться в Ориэл-колледже в Оксфорде, но, проучившись только один семестр, предпочел иное поприще: военную карьеру. По протекции старого отцовского друга Джона Макферсона (того самого генерал-губернатора Калькутты) он был произведен в корнеты 10-го драгунского полка (light Dragoons).
Военная форма драгун включала обязательный парик с локонами на висках и хвостиком на затылке; парик мазали жиром и посыпали мукой. Ношение парика не слишком нравилось Браммеллу, но в целом драгунская форма была довольно нарядной и выгодно подчеркивала его стройную фигуру.
Браммелл не слишком утруждал себя военной подготовкой: часто пропуская занятия, он узнавал свой полк по одному солдату, отличавшемуся особой приметой: гигантским синим носом. Однажды он привычно занял место в строю за синеносым, но капитан закричал, что он ошибся частью, – выяснилось, что синеносого накануне перевели в другой полк…
Нос самого Браммелла, кстати, тоже пострадал в этот период. Во время парада в Брайтоне Браммелл упал с лошади и сломал нос. Горбинка, оставшаяся после этого происшествия, несколько нарушила классические черты лица, но ничуть не повлияла на самоуверенность молодого щеголя.
Уже на военной службе Браммелл поражал товарищей экстравагантностью: как-то раз он приехал в казарму в карете, запряженной четверней, и в ответ на изумленные расспросы ответил, что это все причуды его кучера – тому, мол, больше по нраву править четверкой лошадей… Подобные причуды, впрочем, вполне вписывались в светскую жизнь: большинство драгун было из аристократических семейств, и по вечерам после учений они ходили в оперу, на балы и званые вечера. А полк, в котором служил Браммелл, был к тому же на особом счету, поскольку полковником там числился принц Уэльский, будущий король Георг IV.
О принце Уэльском придется рассказать немного подробнее, поскольку он сыграл значительную роль в судьбе Браммелла.
«Принц китов» [101]: вставная новелла
Принц был старшим сыном короля Георга III, но отношения с родителями у него были сложные – он не любил их и проводил юность в кутежах с приятелями-аристократами. В пику отцу он покровительствовал вигам и, в частности, дружески общался с Ч.Д.Фоксом. Георг III, в свою очередь, не выносил сына и даже требовал убрать его изображение с семейных портретов.
Король Георг IV в фаэтоне
Наставник принца епископ Ричард Херд в свое время проницательно сказал о его характере: «Из мальчика может выйти самый элегантный джентльмен Европы или самый отъявленный негодяй; возможно, и то и другое одновременно». Прогноз в точности подтвердился, причем именно в последнем варианте «одновременно»: сразу после первого выхода в свет принц завоевал репутацию модника, а его «негодяйство» довелось испытать на себе в первую очередь его любовницам: в 16 лет он «выкупил» себе юную и прелестную актрису Мэри Робинсон, увидев ее на сцене в роли Пердиты[102]. Через год он бросил ее, а затем его «донжуанский список» пополнили Мария Фицхерберт[103], леди Джерси и леди Хертфорд, причем все дамы были старше его по возрасту.
Брайтонский павильон
В 1794 году принц познакомился с Браммеллом и сразу проникся к нему симпатией. Ему в то время было 32, а Браммеллу – 16. Браммелл мгновенно сделался его фаворитом. Об обстоятельствах их встречи сложилось немало легенд – суровые фактографы считают, что Браммелл был представлен принцу все тем же Джоном Макферсоном, который выхлопотал Браммеллу вакансию в драгунском полку[104], капитан Гроноу упоминает некую тетушку, которая познакомила его с принцем на прогулке в Грин-парке.
Принц знал толк в жизненных удовольствиях. Он любил устраивать великолепные пиры в брайтонском павильоне и в своей резиденции Карлтон-Хаусе. Имея репутацию «первого джентльмена Европы», он появлялся на придворных балах в богатых костюмах: розовый шелковый камзол с пуговицами из драгоценных камней, на шляпе пять тысяч металлических блесток, туфли украшены пряжками шириной в пять дюймов – собственным изобретением принца. В другой раз на нем был шелковый камзол бутылочно-зеленого цвета с темно-красными полосками, жилет из серебристой материи с вышивкой, отвороты камзола из той же ткани, что и жилет. Весь костюм, включая панталоны, был украшен блестками и вышивкой, эполеты и шпага были отделаны бриллиантами. Это был барочный стиль поздних макарони, любивших яркие цвета и необычные сочетания, но и личный вкус принца, конечно, был ориентирован на броскую роскошь. Браммелл усмотрел в подобной манере одеваться непростительную вульгарность и стал понемногу «перевоспитывать» принца, приучая его к более лаконичным и простым нарядам. Под его влиянием принц постепенно отказался от своего барочного стиля. Но пристрастие к избыточной декоративности, будучи подавленным в одежде, все же прорвалось в архитектурных начинаниях принца: по его заказу в Брайтоне был выстроен роскошный павильон в китайском стиле, который до сих пор фигурирует во всех книгах как пример ориентализма в английской архитектуре.
Браммелл был желанным гостем как в Карлтон-Хаусе, так и в брайтонском павильоне. Но долгое время поддерживать столь близкие отношения с принцем было непросто, поскольку его характер был достаточно своеобразен. По словам капитана Гроноу, принц обладал особой мелкой королевской гордостью. «Он предпочитал держаться просто и дружелюбно со своим портным, нежели любезно обращаться с самыми именитыми аристократами Англии; он охотно шутил с Браммеллом, но не доверял Норфолку или Сомерсету»[105].
На свои туалеты принц действительно не жалел ни времени, ни денег. Однажды он продержал три часа в передней скульптора Росси, пришедшего делать его бюст, поскольку принимал своих портных и примерял сорок пар обуви.
Страсть к моде и роскошной жизни требовала солидных расходов, и в результате бюджет принца трещал по швам. Когда долги его приняли угрожающие размеры, он решил официально жениться, чтобы поправить свое финансовое положение: в этом случае парламент выделял на его содержание 138 тысяч фунтов. Ему подыскали подходящую невесту – немецкую принцессу Каролину Брауншвейгскую. Та не отличалась ни особой красотой, ни даже опрятностью, но принц отнюдь не рассчитывал на долговременные брачные отношения. Тем не менее, когда принцессу привезли в Англию, ее встретил почетный драгунский эскорт, который возглавлял не кто иной, как Браммелл. Он был назначен придворным кавалером принца во время свадьбы и присутствовал при его туалете наутро после брачной ночи. И хотя Браммелл галантно засвидетельствовал, что «супруги казались полностью довольными друг другом», женитьба принца продолжалась недолго – уже на следующий год он фактически отказался от совместной жизни с Каролиной, отослал ее за границу[106]и стал вести обычную разгульную жизнь, меняя любовниц.
Тем временем у отца принца, короля Георга III, участились приступы наследственной болезни: он страдал периодическим помрачением рассудка. Во время одного из приступов он вышел из кареты и торжественно «обменялся рукопожатием» с веткой дуба, вообразив, что перед ним – австрийский посланник. Ввиду этих обстоятельств парламент был вынужден назначить принца Уэльского регентом, и 1810–1820-е годы вошли в историю как эпоха Регентства. В 1820 году Георг III скончался, принц был коронован и взошел на английский престол как Георг IV.
Увы, новый монарх не был популярен среди своих подданных и удостоился «чести» быть объектом многочисленных весьма язвительных карикатур Крукшенка.
Теккерей неоднократно издевался над ним в очерках о «Четырех Георгах» и в «Книге Снобов».
Даже современные авторы такого сухого издания, как «Словарь Британской истории», отзываются о принце нелицеприятно: «Умный, ленивый, эгоистичный и лживый, Георг был модником и отличался экстравагантным художественным вкусом, сомнительной сексуальной моралью и, в зрелом возрасте, телесной полнотой»[107].
Д. Гиллрэй. Ужасы пищеварения. Карикатура на Георга IV. 1792 г.
Денди: светские триумфы
Но вернемся к нашему герою. Годы учения и военной службы стремительно заканчивались. 10-й драгунский полк, где служил Браммелл, в 1798 году должны были перевести в Манчестер для усмирения голодных бунтов. Эта перспектива, как и само пребывание в провинциальном промышленном городе, совершенно не устраивала привыкшего к светским развлечениям денди, и он, уже дослужившись к тому моменту до капитана, решил уйти в отставку. С этой целью он поутру навестил принца Уэльского и недвусмысленно намекнул принцу о своих намерениях: «Я слышал, Ваше Высочество, что наш полк переводят в Манчестер. Представьте себе, как мне это неприятно. Подумайте, Ваше Высочество, Манчестер! И, помимо всего прочего, Вас там не будет… Я, с Вашего разрешения, подаю в отставку». – «Разумеется, Браммелл, – сказал польщенный принц, – делайте, как Вам угодно»[108].
Получив благословение принца, Браммелл вышел в отставку и вскоре снял прекрасный дом на Честерфилд-стрит в фешенебельном лондонском квартале. Незадолго до Браммелла на этой же улице жил щеголь Джордж Селвин, завсегдатай клуба Брукс.
Часть отцовского наследства пошла на то, чтобы обставить особняк изысканной мебелью в стиле «буль»[109] и обзавестись коллекцией редкостных табакерок, заказать лучшие вина и прочие мелочи приятной жизни. Заметим, что Браммелл не захотел положить основной капитал в банк и жить на проценты, хотя ренты в 2000 фунтов в год ему вполне хватило бы для средних расходов. В тот момент ему, вероятно, казалось, что повсюду для него открыт безграничный кредит – портные и все прочие коммерсанты и впрямь не могли ни в чем отказать фавориту принца.
Принц часто навещал Браммелла в его особняке на Честерфилдстрит. Как свидетельствует Томас Райкс, «принц приходил по утрам, чтобы понаблюдать, как одевается Браммелл, и нередко настолько задерживался, что отсылал лошадей и просил у Браммелла разрешения остаться на обед, что обычно завершалось обильными возлияниями»[110].
Будущий английский монарх мог часами просиживать в доме Браммелла, наблюдая за его туалетом и выслушивая его рассуждения о моде. Дружба с Браммеллом существенно изменила вкусы и взгляды царственного модника. Заметим, что эта ситуация в перевернутом варианте воспроизводит классический ритуал утреннего туалета короля, на котором присутствуют придворные (petit lever). Только здесь некоронованным королем моды являлся Браммелл.
Истинную иерархию в этой области превосходно демонстрирует отношение портных к обоим щеголям. И принц, и Браммелл шили свои костюмы у одних и тех же мастеров: сначала – у Швейцера и Дэвидсона, а затем у Гатри на Корк-стрит; позднее – у Вестона и Мейера на Кондит-стрит. Однажды один клиент спросил Швейцера, какую ткань лучше взять на костюм, и получил такой ответ: «Ну, сэр, принц предпочитает тонкое сукно, а мистер Браммелл – батское, Вы можете выбрать любое. Но я бы посоветовал, сэр, все-таки батское – мне кажется, вкус мистера Браммелла чуть-чуть предпочтительнее».
Тесные дружеские отношения между принцем и Браммеллом и их последующий разрыв не раз становились темой многочисленных легенд. Одна из них, явно не слишком достоверная, гласит, что ссора между принцем и Браммеллом произошла из-за неподобающей фамильярности, которую позволил себе денди. Во время бурной пирушки понадобилось вызвать слугу, и Браммелл, особо не церемонясь, приказал принцу: «Уэльский, звони!» («Wales, ring the bell!») Такая реплика даже в самых непринужденных обстоятельствах была грубейшим нарушением этикета. Но, зная знаменитый такт и чувство меры Браммелла, можно с уверенностью предположить в этой истории изрядную долю преувеличения.
Более реальные причины разрыва с принцем кроются, вероятно, в его насмешках над полнотой Георга. В Карлтон-Хаусе служил привратник Бен, известный своей тучностью. Браммелл, недолюбливая миссис Фицхерберт, морганатическую супругу принца, один раз шутя назвал любящую чету «Бен и Бенина»[111]. Этот каламбур осложнил его отношения не только с принцем, но и, естественно, с миссис Фицхерберт. Последовавший вскоре исторический вопрос «Who is your fat friend?» можно считать логическим завершением этой темы. Эта колкость оказалась роковой для дальнейшей светской карьеры знаменитого денди. Судьба отомстила Браммеллу в столь же остроумном стиле, пошутив над ним на прощание устами его приятеля Скропа Дэвиса.
Когда долги денди достигли астрономической суммы и кредиторы уже стояли у дверей, он попробовал напоследок мелкую финальную хитрость, уже ни на что особенно не надеясь. Браммелл решил еще раз взять в долг и обратился к своему приятелю Скропу Дэвису с просьбой о займе. В последний вечер, когда решалась его судьба, он в отчаянии послал записку Скропу: «Дорогой Скроп, одолжите мне 200 фунтов; банки уже закрыты, а все мои деньги – в трехпроцентных бумагах. Я верну Вам долг завтра». На это Скроп (прекрасно осведомленный о финансовом крахе денди[112]) немедленно ответил в столь же лаконичном стиле: «Дорогой Джордж, по несчастному совпадению, мои деньги тоже все в трехпроцентных бумагах»[113].
Дальнейшее известно: обдуманное бегство, разыгранное по эффектному сценарию «Последний день денди в Англии»: медленные повседневные ритуалы – обед, поход в оперу – на фоне предстоящего отъезда приобретали оттенок стоического героизма.
Побег сделал Браммелла в последний раз светским newsmaker’ом. Через несколько дней после его отъезда в Лондоне был объявлен аукцион имущества «модника, уехавшего на континент»[114]. На аукционе распродавались его вещи, коллекции предметов искусства, фарфора и табакерок, предметы обстановки, запасы хороших вин. Всеобщее внимание привлекла одна чрезвычайно изящная и дорогая табакерка. Когда аукционист открыл ее, внутри оказалась записка: «Эту табакерку я предназначал в подарок моему другу Георгу, если бы он был более галантен со мной». Это была прощальная колкость денди в адрес принца.
Впрочем, самые ценные и любимые вещицы Браммелл, разумеется, прихватил с собой. Многие из лотов были выкуплены друзьями Браммелла и потом переправлены ему во Францию.
К моменту отъезда долги денди достигли внушительной суммы в 50 000 фунтов. Последние годы в Лондоне он фактически жил в кредит, но умудрялся, существенно урезав свои траты, сохранить репутацию безупречного щеголя. Известная светская красавица Хэрриет Уилсон писала сестре, что «все в недоумении, как ему удалось так долго держаться на плаву».
Любопытно заметить, что бегство Браммелла отнюдь не было расценено современниками как бесчестный поступок, обман заимодавцев. Лорд Алванли, к примеру, назвал его отъезд соломоновым решением. Все понимали, что его кредиторам денег уже никто никогда не вернет, но это мало кого смущало: аристократы сплошь и рядом не рассчитывались со своими поставщиками, не платить портному годами было в порядке вещей. Для сохранения публичного «лица» в свете было существенно аккуратно рассчитываться с равными по положению – платить карточные долги, например. Таков был аристократический кодекс поведения[115], но эпоха, когда жил Браммелл, уже была иной: буржуазный средний класс становился реальной общественной силой, и слишком долго играть по старым правилам было весьма рискованно.
После отъезда Браммелла во Францию дружеская дендистская компания довольно быстро распалась. Сэр Джон Лейд и сэр Ламли Скеффингтон попали в долговую тюрьму. Джордж Хэнгер стал вести уединенный образ жизни, лорд Барримор уехал из Англии. Но старые друзья старались по мере сил облегчить участь знаменитого денди в изгнании. Лорд Алванли, герцог и герцогиня Йоркские, лорды Чарльз и Роберт Маннерсы периодически навещали его, рассказывали последние лондонские новости. Во время поездок на континент каждый из них считал своим долгом не просто нанести визит старому приятелю, но обязательно пригласить его на обед, безвозмездно подкинуть ему средства, позволяющие вести привычный образ жизни. Ему были возвращены многие личные вещи, выкупленные на аукционе. Друзья препятствовали распространению злорадных сплетен о Браммелле в английском светском обществе и старались как можно чаще подбадривать его теплыми письмами.
Браммелл во Франции: les illusions perdues
Первые годы в изгнании были вполне терпимыми. Браммелл быстро сделался местной знаменитостью, французские аристократы охотно приглашали его на балы и обеды и с восхищением выслушивали истории о его светских триумфах. По-прежнему он утром уделял четыре часа своему туалету и днем прогуливался в центре города. Но, увы, провинциальность Кале и впоследствии Кана давала о себе знать. Местное общество не могло сравниться по блеску с лондонским высшим светом, и далеко не все могли оценить остроумие Браммелла и продуманность его туалета. Он скоро завоевал почетное прозвище «Король Кале» и старался поддерживать свое реноме, обставив свое новое жилище со вкусом.
Он приобрел мебель «буль», бронзовые статуэтки, севрский фарфор. Сервиз был украшен портретами знаменитых красавиц – фавориток Людовика XIV и Людовика XV. На отдельном столике были выставлены ценные безделушки – табакерки, специально заказанные в Париже, мраморное пресс-папье, ранее принадлежавшее Наполеону, миниатюры, альбомы и ножи. Столик был покрыт скатертью, присланной в подарок герцогиней Йоркской, которую она собственноручно вышивала для старого друга. От герцогини было также доставлено удобное мягкое кресло, в котором Браммелл охотно отдыхал после обеда.
В качестве ответного дара Фредерике Йоркской Браммелл готовил особый «экран» – большое панно из плотной бумаги размером 1 м 62 см на 3 м 66 см. Эта работа затянулась на несколько лет и заполняла его часы досуга, одновременно являясь неиссякаемой темой для светских бесед с друзьями. Браммелл вырезал портреты известных личностей и мифологических персонажей и приклеивал на панно, выстраивая сложную многофигурную композицию. Коллаж украшали изображения граций, муз, нимфы Калипсо, Купидона, Телемаха, различных зверей, аккуратно подобранные с аллегорическим смыслом; были там и портреты знаменитостей – Байрона, Наполеона, Чарльза Джеймса Фокса среди прочих – и, конечно же, друзей Браммелла. Возможно, там были и рисунки самого денди, – известно, что он хорошо писал акварелью, – но точно установить это уже невозможно, поскольку, когда герцогиня Йоркская скончалась, он прекратил работу. Панно осталось незавершенным, и когда Браммелл уезжал из Кале, он продал его в счет долгов, а впоследствии оно затерялось.
Во Франции Браммелл поначалу не изменял своим привычкам в одежде, разве что стал предпочитать иную цветовую гамму. Его костюм состоял из сюртука табачного цвета с бархатным воротничком на один тон темнее и кашемирового жилета. Жилет был отменнейшего качества и, вероятно, стоил не меньше сотни гиней. Хотя Браммелл много лет регулярно отдавал его в стирку, он не утратил своего качества, а его белый цвет сохранялся отчасти потому, что сюртук застегивался доверху на пуговицы. Завершали наряд темно-синие панталоны, ботинки с острыми носами, шейная косынка несравненной белизны, черная шляпа и лимонно-желтые лайковые перчатки[116].
Финансы Браммелла в первые годы во Франции вполне позволяли ему приобретать роскошные вещи: помимо того, что он увез небольшой остаток сбережений, на его имя регулярно поступали довольно крупные пожертвования от друзей. Так, один раз, по свидетельству Джессе, некий доброжелатель прислал ему 1000 фунтов. Однако постепенно, не имея постоянных источников дохода, денди был вынужден снижать уровень своих привычных запросов. Он отказался от личного повара, заказывая обед в гостинице или принимая приглашения на ужины.
Со временем пришлось пойти на уступки и в плане внешнего облика. Первым зловещим симптомом стал парик: с годами шевелюра Браммелла поредела, и он заказал парик, который периодически расчесывал и смазывал маслом. Великий реформатор, который когда-то первый ввел в моду аккуратно подстриженные волосы и вынудил высший свет отказаться от париков, теперь появлялся на людях в парике.
Вторым грозным признаком был отказ от белых накрахмаленных шейных платков. Это произошло уже в период настоящей бедности, когда пришлось экономить на ежедневной стирке. Тогда Браммелл заменил белый батистовый платок на черный шелковый, и все из старых друзей, кто видел его в черном платке, говорили, что это означает конец денди.
В 1821 году Георг IV был проездом в Кале. Для небольшого городка это было целое событие, и все гадали, как пройдет встреча двух бывших друзей. Однако ожидаемого многими эффектного примирения не произошло.
Ни король, ни денди не сделали явных шагов к сближению – видимо, ситуация была слишком щепетильной. Георг IV остановился в лучшем отеле Кале. Когда он подъезжал к отелю, Браммелл стоял в толпе, и король заметил его. «Боже мой, Браммелл!» – воскликнул он. Но вечером, когда в отеле был устроен парадный ужин, он не пригласил к себе старого фаворита, хотя знал, что тот тоже присутствует в зале – Браммелл внес свое имя в список гостей. Был момент, когда, казалось, представился благоприятный повод для возобновления отношений: вечером в театре у короля кончился табак, и обратились к Браммеллу, чтобы одолжить его табачную смесь, поскольку только он умел смешивать табак на английский манер. Король понюхал смесь и сразу воскликнул: «Откуда эта смесь? Только один человек умеет ее делать!» Но даже и в этих обстоятельствах он не послал за бывшим другом. Покидая город на следующий день, он, как гласит легенда, промолвил: «Я уезжаю из Кале, не повидав Браммелла»[117].
С. Кларк. Д. Браммелл
Георга IV еще ни один биограф не заподозрил в избытке великодушия – вспомним еще раз справедливые слова капитана Гроноу об «особой мелкой королевской гордости». Но в данном случае речь уже не шла о соревновании двух самолюбивых светских щеголей, как раньше. Георг IV отлично знал, что Браммелл нуждается, и королю ничего не стоило помочь ему, назначив на какой-либо пост во Франции.
Несмотря на этот упущенный шанс, друзья денди не оставляли попыток выхлопотать ему приличное место с постоянным жалованьем. Однако в царствование Георга IV это было практически нереально, несмотря на все усилия родного брата короля – герцога Йоркского. Но Браммелл не упал духом и нашел новое применение своим силам: он серьезно занялся историей моды и в 1822 году завершил труд под названием «Мужской и женский костюм».
Эта рукопись не была напечатана при жизни денди и впервые увидела свет только в 1932 году[118]. Американская исследовательница Элеанор Паркер приобрела рукопись в книжном магазине Брентано в Нью-Йорке, провела тщательную экспертизу по почерку, по типу бумаги и водяным знакам и наконец собрала ряд свидетельств, что в эти годы Браммелл действительно занимался написанием этого труда.
У знаменитого денди дома была хорошая библиотека, и он пользовался консультациями своего друга Томаса Хоупа, эксперта по античному костюму. Просматривая книги по истории костюма, Браммелл вырезал подходящие иллюстрации и вклеивал в свою рукопись. Он применял метод коллажа, к которому привык во время работы над панно для герцогини Йоркской. Черно-белые гравюры сам раскрашивал акварелью. Метод коллажа частично распространялся и на содержание рукописи: Браммелл включал в текст обширные выдержки из других авторов (правда, каждый раз честно ссылаясь на источник и тщательно закавычивая цитаты).
Браммелл в 1838 г.
Однако «Мужской и женский костюм» нельзя считать компиляцией. Если читать книгу внимательно, то позиция автора достаточно ясна – и в подборе материала, и в комментариях, и в обобщающих рассуждениях. Прежде всего бросается в глаза, что автору импонирует минимализм – он осуждает чересчур пышные одежды, косметику и парики как излишества. Его эстетический идеал в истории костюма – свободно драпированные одеяния, спадающие с плеч красивыми складками на античный манер. Такие наряды, во-первых, удобны и не стесняют движений и, во-вторых, смотрятся приятно для глаза: «Свободное платье всегда можно задрапировать величественно или прекрасно, в то время как узкое платье во всех случаях безобразно и смешно»[119]. Любопытно отметить, что очень похожие идеи высказывал позднее Оскар Уайльд, тоже восхваляя красоту складок и удобство свободных одеяний. Очевидно, между взглядами двух денди существовало глубинное, неслучайное сходство.
В своих воззрениях Браммелл исходит из того, что мода – это искусство и, следовательно, ее развитие подчиняется общим законам эстетики. Он выводит основной эстетический закон костюма: «Все объекты, объемные в верхней части и узкие в нижней, подобно перевернутой пирамиде, производят впечатление легкости. Расширенный вверху силуэт кажется легким. Обратное строение, напротив, создает впечатление тяжести – небольшой головной убор и массивная юбка с шлейфом указывают на важную даму, в то время как обладательница крупной шляпы и укороченного платья кажется юной веселой девушкой»[120].
В конце второго тома о женском костюме Браммелл подробно объясняет принципы сочетания цветов и дает практические советы дамам: в костюме должен быть один основной цвет, который гармонически сочетается с дополнительными; нельзя допускать резкого цветового контраста между разными частями силуэта; цвета должны быть искусно подобраны по тону[121]. Далее даже приводятся конкретные рекомендации, как, к примеру, верно выбрать материю в зависимости от цвета лица: свежая кожа допускает яркие краски; желтоватая требует более спокойных нейтральных оттенков. К книге должна была прилагаться таблица сочетания цветов, но она, к сожалению, не уцелела.
В завершающей главе о мужском костюме автор скромно предлагает организовать «Костюмный клуб», в который должны приниматься исключительно знатоки римского и греческого костюма. Надо думать, первыми членами такого клуба были бы сам Браммелл и его друг Томас Хоуп.
Вполне очевидно, что в этом труде Браммелл отнюдь не ставил себе целью создать дендистскую автобиографию или высказать свое кредо «во весь голос». Пожалуй, только один раз он прямо высказывается от первого лица: в мужском костюме XIX века Браммелл всячески восхваляет изобретение штанов со штрипками – между тем он сам придумал эту новацию, которая потом стала предметом многочисленных подражаний. Тем не менее в большинстве случаев в тексте можно найти косвенное отражение его позиции: рассматривая разные эпохи, он ненавязчиво акцентирует преимущества минимализма и пытается научно обосновать эволюцию костюма как отражение базовых законов эстетики. Неизвестно, почему денди не опубликовал свой труд при жизни: возможно, не нашел издателя или просто остыл к своему детищу, завершив рукопись, – такое тоже бывает.
В 1830 году Георг IV скончался и на престол взошел Вильгельм IV. Только тогда благодаря ходатайству герцога Веллингтонского Браммелла все-таки назначили английским консулом в Кане.
К этому времени денди был уже опять по горло в долгах, и ему удалось выехать из Кале, только дав расписки своим кредиторам в счет будущего консульского жалованья. Прибыв в Кан, он сразу остановился в лучшем отеле и немедленно потребовал там «лучшую комнату, лучший обед, лучшее вино». Вновь наступил недолгий период благоденствия, когда вся местная аристократия наперебой приглашала новоиспеченного консула на приемы и ему повсюду был открыт кредит.
Он подружился с несколькими семьями английских эмигрантов в Кане. Самым верным его другом оказался Чарльз Армстронг, который опекал стареющего денди, улаживал все его дела и трогательно заботился о нем до последнего дня. Другой интересный персонажсреди его доверенных лиц – четырнадцатилетняя девочка, дочь хозяйки. Браммелл давал мадемуазель Эмабль уроки английского и писал ей виртуозно-куртуазные эпистолы, в которых рассказывал обо всех повседневных радостях и огорчениях, осведомлялся о здоровье домашней любимицы кошки Урики, сочинял стихи и даже делал рисунки. Удивительная сентиментальность, сквозящая в этих письмах, может напомнить сюжет набоковской «Лолиты», хотя в чисто платоническом варианте. Холодный и язвительный денди, разбивавший сердца британских дам в эпоху своих светских триумфов, на старости лет стал галантным кавалером французской девочки и страшно переживал, если их уроки отменялись из-за ее простуды.