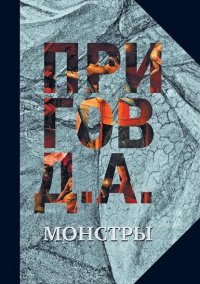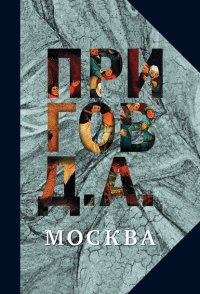
Читать онлайн Москва бесплатно
- Все книги автора: Дмитрий Пригов
Ирина Прохорова
Предуведомление издателя
В 1982 году, на излете брежневской эпохи, Дмитрий Александрович Пригов вел интенсивную переписку с авангардистами Ры Никоновой (псевдоним Анны Таршис) и Сергеем Сигеем, обсуждая с ними долгосрочные последствия радикального культурного слома, произошедшего в результате большевистского переворота 1917 года.
«Если подыскать аналогии в истории [событию 1917 года] <…>, – писал он, – то подобным моментом может быть варваризация античного мира, когда первыми деятелями культуры были эллинами, мыслили эллинскими категориями, жили эллинскими страстями, ощущали крах своих эллинских идеалов и были реформаторами на эллинский лад (в нашем случае это Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Хлебников, Малевич и т. д.). Затем пришла пора эллинизированных варваров – Тарковский, Самойлов, обэриуты <…> И вот сейчас настала пора и возможность осознания, что варварская культура созрела до той степени, что может быть выражена не латынью, не кальками с латыни, что варварское содержание и есть достойное содержание искусства этого времени, что есть способ адекватного, а не заимствованного из чужих ментальных структур его воплощения. К нашему времени достаточно обкатались язык, бытовые, поведенческие и идеологические клише, могущие быть артикулированными искусством. Иными словами, складывается, а не возрождается, не рушится большая культура»[1].
Сходные размышления можно найти во многих текстах Пригова разного периода, что подтверждает первостепенную важность данного посыла для его творческой стратегии. Для меня же этот тезис стал отправной точкой для осмысления художественного феномена Дмитрия Александровича, для поиска общего знаменателя его необъятного и многожанрового наследия.
Мне представляется, что метафора варварского мира, стоящего на пороге цивилизационного прорыва, выстраивающего собственное культурное здание на случайных обломках исчезнувшей культуры вне ее эстетического контекста, становится константой художественного воображения Пригова, концептуальной рамкой его художественных экспериментов в различных жанрах искусства. Себя он видел медиатором между поздневарварской культурной парадигмой и нарождающимися в ее недрах новыми цивилизационными процессами. Но кто в европейской традиции был такой знаковой, ключевой фигурой, последним поэтом Средневековья и одновременно первым поэтом Возрождения? Разумеется, Данте, создавший грандиозную «Божественную комедию», новый интеллектуальный, художественный и языковой универсум из недр зрелой средневековой культуры.
Сравнение Пригова с Данте не кажется мне ни чрезмерным, ни натянутым, сам ДАП, несомненно, осознанно ориентировался на эту демиургическую фигуру в своем творческом самоопределении. Подобно Данте, он выстраивал свою – трагическую советскую – вселенную, задействовав весь арсенал художественных средств и жанровых возможностей[2]. Это грандиозное Gesamtkunstwerk (единое художественное творение), этот тотально отрефлексированный и детально описанный словесным, визуальным, пластическим, музыкальным способами универсум был, под стать «Божественной комедии», амбициозным телеологическим проектом. Приговская модель мира, подобно дантовской, зиждется на трехчастной иерархии (ад-чистилище-рай), с люцифероподобными существами, связующими земное и потустороннее бытие (например, разговаривающий с Богом по рации Милицанер, служащий, по словам самого Пригова, медиатором между профанным и трансцедентным существованием), со своим Вергилием (в лице художественного персонажа Дмитрия Александровича Пригова – ДАПа), с сонмом адских монстров и чудовищ, терзающих тела и души людей, с многоголосым страдающим человеческим сообществом, с тотальной, но непостижимой божественной субстанцией, ввергающей мир в катастрофы и вновь его возрождающей.
Нет ничего удивительного в том, что Пригову была присуща внутренняя глубокая религиозность, не всегда различимая под постмодернистской иронической маской. Как справедливо отмечает Леля Кантор-Казовская, «спиритуальность, граничащая с религиозным сознанием, была чертой, характерной для многих художников московского авангарда не только в его начальной, но и концептуальной фазе»[3]. Специфика советского существования, по мнению исследовательницы, породила известную асимметрию по отношению к художественной культуре Запада. Способы мышления, обычно считающиеся консервативными, такие как религия и приверженность к национальной культуре прошлого, на обратной шкале ценностей социалистического мира превратились в протестные и антиортодоксальные.
ДАП по собственному признанию серьезно увлекался не только западной, но и восточной религиозной философией, а также мистическими практиками, что отчетливо прослеживается в его творчестве (например, его знаменитые мантры). И все же метафора европейского Средневековья была для него основополагающей; по всем его произведениям разбросаны отсылки к средним векам, которые наглядно иллюстрируют архаизацию советского социального и художественного опыта. К слову, недаром в советской гуманитарной науке так расцвела медиевистика, которая была областью, не только относительно автономной от идеологического диктата марксистско-ленинской историографии, но и психологически наиболее приближенной к предмету своего исследования.
Приговский средневековый советский космос опрокинут в мифологическое время, в нем поток исторической памяти уступает место вращению по концентрическим кругам извечных идеологем. Москва предстает метафорой этой вселенной, центром мировых катаклизмов, где с трудом выстроенная цивилизация регулярно разрушается до основания и вновь воспроизводится новым поколением людей, но по тем же ментальным лекалам. В этом мире лишь только тонкая мембрана рутинных практик отделяет человека от бездны, кишащей хтоническими чудовищами. Этот квазисредневековый мир одержим магическими числами и символами, бесконечными «исчислениями и установлениями»[4]. Этот мир, как и положено средневековому существованию, пронизан коммунальной духом, плотностью телесного и эмоционального соприкосновения, и весь демиургический проект ДАПа можно рассматривать как антропологию обыденности, где «экзистенциальное в конечном итоге приводит к обыденному, а в обыденном “спит” трансцедентальное»[5].
Называя Пригова «российским Данте ХХ века», я не в последнюю очередь апеллирую к многочисленным теоретическим рассуждениям ДАПа о современном художественном языке с позиции школы московского концептуализма. Он утверждал, что в отличие от классической и модернистской литературы, ориентированной на индивидуальное, прямое высказывание художника, современный автор может быть лишь посредником, «пространством, на котором сходятся языки[6]». Творческое созидание как утопическая Вавилонская башня, которую тщетно возводят народы, говорящие на двунадесяти языках, – сам по себе мощный образ и современного художника и культуры в целом, но в данном случае меня больше интересует собственно дантовский аспект этой концепции. Улавливание, конденсация и трансформация различных языковых стихий в индивидуальном художественном пространстве в итоге приводит к образованию нового культурного нарратива, отсылающего не к окаменевшей «высокой» литературной традиции, но к живым разговорным – «варварским» – языковым практикам. Революция, которую произвел Данте в европейской культуре, и заключалась прежде всего в том, что «Божественная комедия» была написана не на средневековой латыни, выполнявшей функцию эсперанто для образованного средневекового сословия, а на народном наречии (вульгате), что ознаменовало собой рождение итальянского литературного языка. Тот же подвиг в известном смысле совершил и Пригов, сплавив разнородные уровни советской языковой реальности (уличный говор, язык окраин, канцеляризмы, партийный новояз, язык архаики, идеологические клише, блатную феню, язык литературной классики и т. д.) в новый тип художественной артикуляции[7]. Его многожанровая «тотальная инсталляция» позднесоветской цивилизации столь убедительна, что мы все невольно оказываемся персонажами его произведений.
Самопозиционирование ДАПа как Данте своего времени отчетливо видно по его отношению к культурной традиции. Подобно тому, как позднесредневековая культура творчески-произвольно апроприировала останки античного наследия при создании новой культурной парадигмы, Пригов подбирает осколки руинированной классики в качестве подсобного строительного материала для нового культурного здания эпохи. В этом смысле показательны, например, его знаменитые «Азбуки», особенно № 37 «Похоронная» («Вымерли Аристотель, Архилох, Аристофан… Агамемнон, Агриппа, Апулей, Ахматова, в общем все греки вымерли…»), которая к тому же иронически отсылает к знаменитому монологу Нины Заречной в чеховской «Чайке». Или ироническое переосмысление творчества Пушкина (например, хрестоматийное стихотворение «Узник») в контексте обыденного сознания зрелой варварской культуры:
- Вот дождь идет…
- Мы с тараканом
- Сидим у мокрого окна.
- И вдаль глядим, где из тумана
- Встает желанная страна
- Как некий запредельный дым.
- Я говорю с какой-то негой:
- «Что, волосатый, улетим?»
- Я не могу, я только бегать
- Умею…
- Ну бегай, бегай…
У Пригова к Пушкину как первому национальному поэту, как основоположнику новой российской словесности было особое отношение, что тянет на тему отдельного большого исследования. Укажу лишь на знаменитый перформанс ДАПа «Донжуанский список Дон Жуана», где поэт Дмитрий Александрович Пригов приглашает памятники Пушкина, Достоевского, Маяковского, Гоголя и других на ужин. Он сидит за столом в ожидании гостей, слышит тяжелые шаги за дверью и превращается в каменное изваяние… Пушкина[8]. Как говорится, комментарии излишни.
P.S
Аналогии с Данте и позднесредневековой культурой стали удачной рабочей метафорой для организации огромного корпуса текстов Пригова в пяти томах собрания его сочинений. Это позволило нам отказаться от хронологического расположения его наследия и выстроить многообразный текстовой и визуальный материал в согласии с мифологической логикой, поставив в центр отдельного тома один из романов ДАПа. Каждый из 4-х романов Пригова («Живите в Москве», «Только моя Япония», «Ренат и дракон», «Катя китайская») подобно мировому древу становится концептуальным стволом книги, стягивая на себя все смысловые линии его многожанрового творчества[9].
Роман из стихов: «Живите в Москве» и художественный проект Д. А. Пригова
Диалог Бригитте Обермайр и Георга Витте
Где же нет Москвы – там просто пустота.
(«Москва и москвичи», 1982)
«СТИХИ В ЧИСТОЙ ПРОЗЕ». О ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЭЗИИ В ПРОЗУ
Бригитте Обермайр
У читателя, знакомого с поэзией Пригова, роман «Живите в Москве» оставляет ощущение встречи с уже известным. В определенной степени, этот роман представляет собой трансформацию лирики Пригова в прозу. Это впечатление возникает, главным образом, благодаря мотивам и предметному миру «Живите в Москве», который ассоциируется прежде всего, конечно, со стихами о «милицанере» (1978), а вслед за ними непременно и с циклом «Москва и москвичи» (1982).
Как и для других книг неполного собрания сочинений Д.А.Пригова, для тома «Москва» нужно было отобрать стихи, перекликающиеся с центральным для тома прозаическим произведением – романом «Живите в Москве». Однако, стихотворения для «Москвы» отбирались с учетом предположения о том, что «Живите в Москве» – это роман из стихов. Однако такое утверждение вовсе не означает, что Пригов использовал в этом романе приёмы монтажа или аккумуляции. Об автоинтертекстуальности речь тоже не идет. Несмотря на все интертекстуальные отсылки – от Платонова через Евг. Попова к Сорокину – это все же не интертекстуальность в привычном понимании термина. Речь здесь идет о художественном принципе, программе, проекте, который не исчерпывается исключительно приданием нового облика старому материалу, перенесением мотивов и тем из одного жанра в другой, из одной медиальной формы в другую.
Опираясь на тезис «роман из стихов», мы попытаемся рассмотреть литературно-художественный проект Пригова в целом. Принцип, положенный в основу этого проекта, наиболее полно воплотился в романе «Живите в Москве». Я уверена, что цель проекта Пригова, проекта ДАП, заключалась в том, чтобы заставить художественный принцип функционировать одинаково активно на всех уровнях творчества – в лирике, прозе, инсталляциях, графике, перформансах, теоретических текстах. И в отношении творческой повседневности Пригов также руководствовался представлением о том, что всегдаи везде должна быть возможность работать. Природу этой повсеместности процесса можно понять, если разобраться, в какой мере роман «Живите в Москве» порожден стихами, каким специфическим образом лирика становится прозой и как проза может возникнуть из лирики.
Еще в начале 1990-х годов Пригов говорил о том, что до сих пор не нашел в своем творчестве «пространства» или «места» для романа. Пригов говорил об этом в интервью, которое я брала у него в Вене 29 октября 1992 года. Он описывал принцип своего поэтического творчества как «переживание» дискурсов, стоящих за образами и героями его поэтических текстов. По его словам, отдельные образыкаждый раз занимают внутри его сознания определенное пространство, он как бы сдает им квартиру, комнату. При этом между обитателями мира дискурсов регулярно возникают конфликты:
«Я чувствую, как этот милицанер внутри меня хочет как бы захватить все другие… области, где живут другие люди, и те начинаются сопротивляться. Внутри начинается такая как бы драматургия. И сам я над ними. Они как бы жильцы в моем доме. Я им сдал квартиры, а они начинают пытаться захватить чужую квартиру. И сначала я как бы смотрю, как они ведут себя, а потом, как увижу, что они могут друг друга убить, я вмешиваюсь. Такой демиург. Притом, что я начинаю писать, мне очень важно найти такое место, где он [дискурс – Б.О.] может у меня жить. Есть некоторые вещи, где я вижу, что у меня нет этого.
Я тогда и не пишу и не стараюсь. Я хоть прозу пишу, но у меня пока нет идеи романа. Я знаю, что я могу сконструировать роман, написать в одном стиле или в другом, но я пока не могу найти… Хотя у меня есть идея, я вот сейчас начал писать роман, но до этого я не находил там уголка, где бы этот роман жил. Язык, стиль – это для меня не просто язык, они для меня герои. Такие платоновские логосы. Вроде как живые существа» (расшифровка магнитофонной записи интервью).
Очевидно, что для Пригова вызов таился в самой форме или, как он говорит, «идее» романа. Кажется, что мысль о перенесении лирики в прозу с самого начала сопровождала его представления о романе. Я здесь имею в виду не столько диахронический аспект развития творчества Пригова, сколько выявление единого художественного принципа, основы которого были заложены уже в раннем творчестве и который в полной мере проявился именно в первом романе Пригова. Если это так, то этот художественный принцип обрел в романе «Живите в Москве» форму, которая в известной степени перерастает границы жанра, обретая самостоятельность. И в этом смысле я могу предположить, что мы говорим о «романе из стихов» еще и потому, что, вопреки хронологии, роман уже содержится «в» стихах.
Творческий принцип Пригова, о котором я говорю, как раз касается трансформации прозы в лирику, и наоборот. Можно считать, что типологически отношение проза – лирика соответствует таким основополагающим для поэтического мира Пригова оппозициям, как будничное и метафизическое, вечное и предметное, реальный автор и универсальный субъект, повседневные подсчеты и мистические числа, знак и пространство письма, исторические даты и «топосы расчетов поведения» (если использовать твое выражение), превращающие хронологию приговской биографии в нечто общее, универсальное, если не трансцендентное. Собственно, принцип приговского творчества, сложившийся в стихах и перенесенный в прозу, и состоит в размывании, подрыве и нивелировании всех этих оппозиций. Вот почему «Живите в Москве» – это «роман из стихов», точнее, «роман из приговского стихотворчества».
При выборе текстов для тома и при формировании его структуры мы старались отразить и диахронический аспект эволюции творчества Пригова, и его жанровую траекторию, в первую очередь, колебания между прозой и поэзией. Хронологический порядок нарушают только циклы, дающие название разделам, они, соответственно, выносятся в начало каждого раздела
Первые два раздела «Москвы» акцентируют именно вопрос жанра. В качестве введения книгу открывает цикл «Одно стихотворение» (1977), действительно состоящий из одного-единственного короткого стихотворения в восемь строк, которому предпослано семистраничное предуведомление, в свою очередь, демонстрирующее уникальность и программный характер «Одного стихотворения».
Вопросы формы оказываются в центре внимания и во втором разделе с программным названием «Стихи в чистой прозе / Стихи со слабыми отличительными признаками» (одноименный цикл был создан в 1981 году). Поскольку этот цикл определяет направление отбора стихотворений для всего тома, стоит несколько подробнее остановиться на нём. Цикл «Стихи в чистой прозе» представляет собой де-факто сдвоенный сборник, или сборник с двумя названиями. В узком смысле название «Стихи в чистой прозе» относится к «первой» части цикла. Эта часть состоит из одного только предуведомления. Заголовок «второй» части цикла, включающей в себя собственно стихи, назван Приговым с явной отсылкой к структуралистской терминологии: «Стихи со слабыми отличительными признаками». В предуведомлении к первой части упоминается – наряду с именами поэтов французского модернизма – имя умершего в 1981 году прозаика Евгения Харитонова, которому этот цикл и посвящен. В предуведомлении Пригов размышляет о том, что трансформация прозаических текстов Харитонова в стихотворный сборник особого приговского формата как раз и породила бы «стихи в чистой прозе»: «Когда я начал писать эти, с позволения сказать, стихи, я припомнил Евгения Владимировича, чьи произведения, объявись они в виде подобного сборника, были бы именно стихами и именно в чистой прозе».
Большая часть текстов сборника и в самом деле от прозы не отличается. И в этом суть «чистой прозы», именно чистой, в отличии от «лирической». Жанровое наименование – стихи – здесь парадоксально, поскольку узнаваемых признаков поэтического текста тут, кажется, нет. Следование, парадоксальное жанровое определение становится самодостаточным приемом. По-видимому, таким образом Пригов испытывает традиционное разграничение поэзии и прозы, а вернее, подрывает эту оппозицию. Вот один из текстов этого сборника:
Вот ты говоришь, Орлов, что всяк человек – хозяин своей судьбы.
Помню, случай был в метро. Сидит гражданин, читает газету. Входит девица, становится прямо над ним; вынимает из сумочки платочек и губки начинает напомаженные вытирать. Тут она роняет платочек, и он падает гражданину прямо на это место, а девица выпархивает на первой же остановке. Весь вагон смотрит, что же дальше будет. Гражданин замечает всеобщее внимание, выглядывает из-за газеты и замечает что-то беленькое. Он прикрывает это беленькое газеткой и, делая беспечный вид, начинает запихивать. Запихивает, запихивает – запихал.
Нет смысла представлять, что дальше будет. Всякий, с кем случалось нечто подобное, знает, какие продолжения бывают.
Несмотря на нивелирование формальных отличий между прозой и поэзией, Пригова отчетливо осознает и подчеркивает формальные признаки поэтического текста – это особенно касается стихотворной строки. Так, в следующем примеру сразу видно «где» стихотворение:
Лепили мы с Орловым идеологический объект в Калуге, и был там рабочий Юра. Юра говорит Орлову: «Ты художник?» – «Да». – «А художник в вечном долгу перед народом». И Орлов снял с себя часы и отдал Юре.
Это потом уже Орлову стало жалко часов, и он говорил, что Юра украл их.
- Но Юра тех часов не крал
- Он просто в виде символическом
- Лишь долг тот вечно-исторический
- Назад от имени народа взял.
Георг Витте
Вследствие того, что Пригов в своих текстах регулярно прибегает к характерным сопряжениям прозы и стиха, большое значение в его творчестве имеет визуальный аспект, письменный образ текстов. В данном издании нам было очень важно соответствовать этим особым принципам текстуального расположения. Наряду с однозначным различением прозаических и стихотворных фрагментов (например, «предуведомлений» и стихотворных строф) мы стремились учитывать и пограничные случаи. Например, нависающие строки в конце стихотворения могут перейти в прозу, что необходимо отразить и в соответствующем построении текста. Иногда растянутые синтаксические пассажи могут быть восприняты не как прозаические фрагменты, а как преувеличенно длинные стихотворные строки.
Бригитте Обермайр
В этом контексте я хотела бы отметить, что в «типоскриптах», страницы которых имеют формат приговских «книжечек» (он примерно соответствует формату A6, 15,5 x 11,5 см) часто происходит разрыв строки внутри одного поэтического ряда. С одной стороны, такой разрыв может создавать дополнительный эффект эквивалентности (например, когда повторяются переносы отдельных слов, а с другой стороны, размывает линию раздела между поэзией и прозой.
ПЕРВИЧНОСТЬ СТИХА
Георг Витте
Если ты говоришь, что «Живите в Москве» – это роман из стихов, так сказать, результат или почти логическое следствие стихов, тогда, вероятно, можно сказать и так: в стихах уже заложен роман.
Романы Пригова можно рассматривать как точку, где сходятся ранние лирические произведения. Можно даже сказать, что стихотворения тяготеют к превращению в роман. Уже небывалое количество стихов, с самого начала противоречащее исключительному статусу стихотворения, выходит за родовые границы лирики и скорее соответствует эпическому масштабу. Но, прежде всего, подобную мутацию жанров провоцирует уже описанная тобой прозаичность, изначально присущаяпоэзии Пригова.
В формуле роман из стихов заключен парадокс: поэтический текст является генетическим кодом творчества Пригова, несмотря на то, что сами стихи тяготеют к прозе. Именно генеративный потенциал стиха – его повторяемость, его паттерновый характер, элементарная конфигурация языкового строя, – делает поэтический текст основной фигурой речи автора, выступающего в роли псевдо-демиурга. Но этот примат поэтического текста лишен какой бы то ни было метафизики праязыка и представлен у Пригова комическим образом: будь то в гипертрофированной медиальной реализации стиха на письме и в устной речи, будь то в инсценировке «теоретического» дискурса.
Стиховой порядок становится организующим принципом письменной репрезентации текста. Приемами организации служат, например, выступающие в качестве эквивалентов поэтического текста серии точек или экспериментальное написание слов, которое выявляет метрический порядок стиха как достаточное условие для генерации языковой синтагмы (в качестве примера можно вспомнить стихи Пригова написанные с пропуском гласных или пропуском пробелов между словами). Другие приемы – это отсутствие пунктуации, нависание строки, сдвинутая рифма. Используя сдвинутую рифму, то есть, генерируя рифму благодаря смещению границ слова (можно сказать, маскируя тавтологическую рифму путем переноса границ между рифмующимися словами), Пригов цитирует футуристский прием «сдвига». Только теперь следствием этого приема становится не разрушение стиха, а, напротив, преувеличенная форма его «функционирования». Нависающая строка, которая опять-таки может вырасти в прозаический текст большого объема, – это тот элемент, который зримо нарушает порядок поэтического текста, являясь остатком, аппендиксом в конце стихотворного ряда. В некоторых циклах этот прием становится структурной и тематической доминантой, как, например, в «Хвостатых стихах»:
- Вот выгляну в окно – о Боже!
- Земля пушистым барчуком
- Лежит убитая ничком.
- Не снег ли это? непохоже
- Нет нет не похоже
- Не то
- А что-то обнимающее, обвивающее, заметающее, заволакивающее, счастье вечное обещающее, глазу испуганному лукавой внешней простотой оборачивающееся, сложно поющее: иди к нам, милый ты наш, возлюбленный! – сейчас, сейчас, иду, уже на подходе, вот только с народом моим бесценным попрощаюсь – сгинь, сила нечистая!
В предуведомлении к этому сборнику Пригов говорит о «точке зрения» при чтении: «Но всё, конечно, зависит от точки зрения – откуда посмотреть. Если посмотреть снизу, так и стихи можно назвать рогатыми. Пока я еще предпочитаю смотреть сверху». Таким образом, затрагиваются сразу два аспекта: с одной стороны, Пригов касается перехода границы от поэзии к изобразительному искусству, от стихотворения к графической конструкции, используя понятие «точка зрения» в буквальном значении визуальной перспективы. Но одновременно он обнажает и относительность речевой перспективы, растворяя стихи в звуковом космосе омывающей и оценивающей их прозаической речи. Это тоже является приемом прозаизации поэзии. Подобное сращивание стихов с диалогами – либо посредством оформления стихотворных строк как реплик в диалоге, либо посредством монтажа «перепутанных голосов» или посредством диалогического предуведомления – встречается во многих сборниках.
Что касается инсценировки «теоретического» дискурса, то это – одна из многих дискурсивных масок Пригова. Он регулярно выступает в предуведомлениях и в названиях сборников в роли теоретика стиха: «Стихи в чистой прозе» (1981), «Стих как воля и представление» (1985), «Хвостатые стихи» (1984), «Мои милые, нежные, ласковые стихи» (1984), «Песни, стихи и стихоидные потоки» (1985), «Явление стиха после его смерти» (1991), «Многоговорящие стихи» (1991), «Труднонаписанные стихи» (1993), «А не стихи ли это?» (1999), «Стихи с небольшими но необходимыми объяснительными вставочками» (1999). Некоторые из этих циклов мы включили в наш том. Как теоретик стиха Пригов прибегает к различным ролевым играм. Иной раз его аргументация строится на «демократизации стиха» в духе соц-арта. Здесь поэт выступает как адвокат «простого стихотворного народа», стремящийся освободить поэтический текст от историко-литературной дилеммы, заключающейся в том, что стиху суждено быть либо излишне изысканным, либо утратить признаки, отличающие его от прозы, – метр и рифму. Простым стихом может считаться стих, требующий минимума условий, необходимых для его конструирования. Этот тезис давно известен в теории стиха.
Например, в известной книге Ю.Н. Тынянова «Проблема стихотворного языка» излагается тезис о vers libre как стихе, максимально ощущаемом благодаря выделению минимальных его условий: эквивалентности стихотворных строк при отсутствии метра и рифмы. Однако у Пригова стихо-теоретический минимализм обосновывается совершенно иначе, чем у Тынянова: не исторически обусловленной относительностью и подвижностью критериев, разделяющих поэзию и прозу, а неким абсолютным порядком стиха как генеративного принципа речи. Стихотворная строка – это модель рожденного языком порядка, который в случае выполнения определенных правил возникает сам по себе.
Теоретик стиха может влезть и в шкуру археолога культуры. В этом случае Пригов утверждает изначальную поэтичность языка, «стихо-идность», которая была присуща языку еще до какой бы то ни было сформулированной поэтики. В предуведомлении к «Несколькострочиям» (1977) читаем:
«Теперь, что касается собственно самого сборника. Он писался в той первичной сфере поэтичности, которая присутствует, не вычленяясь в нечто самостоятельное, почти в любой области человеческой деятельности и выходит наружу в виде притч вероучителей, философских афоризмов, максим мыслителей, наблюдений созерцателей, политических призывов и лозунгов, поучений отцов семейств, житейских присказок, мещанских сентенций, простонародных поговорок, матерных фигур речи, детских считалочек и многого сему подобного, чего и перечислить нет никаких возможностей. Я не придерживался какой-либо единой формы построения несколькострочий, по примеру, скажем, японских трехстиший, так как это уже было бы жесткой формой поэтического конструирования и лежало бы в другой сфере поэтомышления».
СТИХИ К РОМАНУ. ОБ ОТБОРЕ СТИХОВ ДЛЯ ТОМА «МОСКВА»
Бригитте Обермайр
Вернемся к структуре тома… Итак, вслед за программным введением – разделом «Стихи в чистой прозе» – том предлагает хронологический экскурс в «доисторические времена» приговского поэтического творчества. Раздел «Из ахматовско-пастернаковско-заболоцко-мандельшамовского компота» маркирует начало лирической / художественной переработки Приговым парадигмы позднего авангарда, традиционно связываемой с наследием акмеизма. В разговоре с Сергеем Шаповалом Пригов говорил по поводу начального периода (1965–1966 гг.) своего литературного творчества:
«Я вообще решил оставить искусство. Ни с кем из друзей-художников не общался, никого не видел, на выставки не ходил. Мне это надоело. В это время я начал писать. Писал я в институте, но по принципу, все писали, и я писал. Сначалаэто было просто чушь. Потом чушь ахматовско-пастернаковско-заболоцко-мандельшамовскую – непонятного свойства компот. Это писание я не включал в свою осмысленную культурную деятельность. В общении с друзьями я, конечно, не читал своих сочинений. С Орловым в первые годы институтской жизни у нас была забава: мы писали буримешные стихи и поэмы. В первом томе моего собрания, изданном в Вене, есть стихи из того компота. Но я их не считаю своими и никогда бы не стал их публиковать, если бы они не входили частью в безличный количественный проект.
Со временем я стал более серьезно относиться к писанию стихов. Появилось какое-то нормирование. Сначала у меня была идея в месяц писать не меньше пяти стихотворений, потом – семь, так постепенно стала артикулироваться количественная сторона писания». (Курсив мой. – Б.О.)
В этих стихах еще чувствуется попытка Пригова найти выход из герметичного мира акмеизма, а вот деконструктивистская девальвация акмеистской парадигмы (которую ни в коем случае нельзя путать с пародией) станет предметом более позднего творчества. Что касается Ахматовой, то здесь следует, прежде всего, упомянуть стихотворение «Мне голос был» из цикла «Культурные песни» (1974). В нем показано бессилие «потенциала» акмеизма в том, что касается культурной памяти, а присущая акмеистической структуре диалогичность превращается в то, что на первый взгляд кажется банальным диалогом, а на самом деле, оказывается допросом.
Этапы усвоения позднеавангардной традиции и практики не случайно маркированы у Пригова именами Ахматовой или Пастернака. Эти имена соотносятся с определенными пластами времени и сознания, ощутимыми как в начальном периоде лирического творчества Пригова, так и в романе в «Живите в Москве». С одной стороны, «Ахматова» и «Пастернак» фигурируют в «Живите в Москве» как имена, относящиеся в концу 1950-1960-х гг. (не говоря уже о факте реального существования этих поэтов), как знаки еще живой культурной парадигмы. В равной мере они имеют отношение и к актуальной в тот период художественной практике. С другой стороны, в ту эпоху эти имена и связанные с ними тексты переживают «второе рождение», возвращаясь из-под гнета запретов: Ахматову и Пастернака широко читают, распространяют, постепенно публикуют. В это же время Пригов и близкие ему художники концептуалистского круга (хотя это самоопределение еще не было в ходу) ищут позицию за пределами позднеаванградной парадигмы. Так что возрождение исторического авангарда совпадает с временем сознательного отрицания его художественного кредо будущими концептуалистами. В романе «Живите в Москве» этот синхронизм пластов времени и сознания весьма ощутим, в ходе нашего диалога я еще вернусь к этому тезису, когда речь пойдет о структуре романа. Здесь важно отметить, что именно отталкиваясь от акмеистической парадигмы,
Пригов и московский концептуализм начинают существенно новый период – постмодернизм.
Подборка стихов для тома «Москва» движется далее по намеченному сценарию вдоль диахронической оси: разделы «На уровне здравого смысла», «Москва и москвичи» и «Исторические и героические песни» охватывают ядро творчества, так сказать, классического Пригова. В сборнике, вышедшем в Петербурге в 1997 году, этот период был ограничен 1979–1984 годами и озаглавлен «Советские тексты». Однако в нашем сборнике три названных раздела не ограничиваются лирикой, созданной до начала 1990-х гг. Так, например, взвешивающий, рационально оценивающий и сравнивающий все и вся «здравый смысл» доминирует не только в разделе «На уровне здравого смысла», но и в таких циклах, как «Что такое хорошо и что такое плохо» (1997), «Чего не стоит делать» (1998) и «Хорошо иметь много денег» (2007). Смысл здесь, правда, оказывается здравым не потому, что основательно усвоил советскую структуру сознания, а скорее потому, что следует правилам рынка и конкуренции. При этом, однако, нельзяупускать из виду и того, что и здесь прослеживаются связи с авангардом: достаточно вспомнить о восхищении, с которым Хлебников относился к формулам и числам, что ясно отразилось в его «Досках судьбы».
Эти связи становятся еще более явными в разделах «Продолжение рутины» и «Имя отчество» – оба они с точки зрения хронологии относятся к позднему периоду творчества Пригова. Здесь основными приемами становятся расчеты, составление списков и перечисление. Не следует также забывать, что перечисление имен и дат играет огромную роль в романе «Живите в Москве»: лирический прием здесь превращается в нарративный.
В разделе «Продолжение рутины» приемы подсчета сходятся в точке подведения биографического баланса: здесь размещены произведения, созданные уже после завершения того, что Пригов считал своим жизненным проектом. Продолжение письма и продолжение жизни понимаются здесь – так же программно, как и в начале творческой биографии Пригова – как выполнение определенной ежедневной нормы, как «продолжение рутины». В 2001 году выходит «Первый последний сборник», а в предуведо-млении к циклу «Продолжение рутины» 2002 года читаем: «Всякие стихи, после завершения моего проекта, являются как бы посмертными и суть материализация рутины, которая является в данном случае неким метастихом, уже обращая мало внимания на сами стихи с их конкретным содержанием». Создание стихов здесь становится формальным упражнением, «материализацией рутины»; однако такое понимание «поэтической миссии» существовало у При-гова давно: так как с самого начала речь шла о выполнении нормы, о подсчете написанного.
«Азбуки», по большей части, также относятся к ядру приговского творчества и отражают художественный принцип Пригова: история этого жанра в творчестве Пригова начинается в 1980-м году и проходит через всю его творческую жизнь. Мы включили в том также некоторые прозаические тексты раннего периода. В них поражает мимикрия догматических дискурсов, затрагивающая не только стиль, и в особенности, монолитная генеративная динамика, которую Пригов обнаруживает в советской культуре. При чтении этих прозаических текстов становится понятно, почему в ранний период творчества Пригов не мог найти «места для романа».
Георг Витте
Да, создание стихов Пригов с самого начала понимал как «работу». С одной стороны, это означает снижение романтических идеалов художественного творчества до прозаической сферы. А с другой стороны, сама эта работа возвышается до демиургизма. Каждая будничная мелочь и банальность, которым этот «поэт здравого смысла» дает имя, занимает свое место в мифическом космосе.
ГЕНЕРАТИВНАЯ ГРАММАТИКА ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Бригитте Обермайр
«Здравый смысл» подводит нас ко второму важному аспекту, которым мы руководствовались при отборе стихов. Для Пригова характерно некое взаимопроникновение темы или мотивы и места их происхождения, особенно заметное в разделах «На уровне здравого смысла», «Москва и москвичи» и «Исторические и героические песни». Что касается Москвы, т. е. конкретно, цикла «Москва и Москвичи», то можно сказать, что ядро реактора генеративной грамматики – «место говорения», общее место советской культуры не только символически, но и физически располагалось в Москве. Именно это пространство всесоюзного фантазма наполняет и роман «Живите в Москве», хотя здесь речь идет преимущественно о топосах, пришедших из предметного мира (ранней) приговской лирики, о чем мы уже говорили в начале нашего диалога. При этом важно отметить, что уже в стихах специфические loci communes (общие места), являются не «отражением реальности», а продуктами лирических дискурс-анализов. Иными словами, «милицанера» в той форме, в которой он встречается в приговских циклах о «милицанере», само собой, не существовало. Только в лирике Пригова обнаруживается специфическая дискурсивная реальность этого вездесущего принципа порядка, и только в поэзии «здравый смысл» находит имя для этого принципа: М-И-Л-И-Ц-А-Н-Е-Р.
И именно на этом, в поэзии возникшем, милицанере сфокусирована центральная глава романа «Живите в Москве» – «Милицанер московский». В соответствие с поэтической моделью, заглавный герой рассматривается Приговым не столько как персонаж, сколько как ось трансцендентности. И, опять же, этот «милицанер московский» существует только в той Москве, которую Пригов уже создал в цикле «Москва и москвичи». Это касается как «пространства письма Москвы» (здесь следует напомнить о эпиграфе к нашему диалогу), так и Москвы как эпицентра всех катастроф и апокалипсисов. Показательно следующее стихотворении из цикла «Москва и москвичи»:
- Когда бывает москвичи гуляют
- И лозунги живые наблюдают
- То вслед за этим сразу замечают
- На небесах Небесную Москву
- Что с видами на Рим, Константинополь
- На Польшу, на Пекин, на мирозданье
- И с видом на подземную Москву
- Где огнь свирепый бьется, колыхаясь
- Сквозь трещины живые прорываясь
- И москвичи вприпрыжку, направляясь
- Словно на небо – ходят по Москве
Таким образом, «Живите в Москве» еще и потому представляет собой «роман из стихов», что в основе стихов и романа лежат одна и та же топика, одно и то же поле действия, одни и те же находки и продуктивные силы inventio (нахождения, изобретения). Впечатляющим результатом этой выраженной в языке работами с топосами, как бы возвращенной «на место», осуществленной непосредственно на территории Москвы, стал обширный цикл «Обращения» (1986–1987). Эти минималистические «обращения к народу» («Граждане!»), подписанные «Дмитрий Алексаныч», Пригов развешивал в Москве (в том числе, и в Беляево) на фонарных столбах и деревьях. В том «Москва» мы включили их соответственно в раздел «Москва и москвичи», хотя в равной мере их можно было бы поместить в раздел «На уровне здравого смысла».
Рассматривая проблему преодоления социокультурной нормы в творчестве Пригова, И.П. Смирнов так описал его инновативный метод: поэт не пародирует нормальность, но трансцендирует её, однако не для того – и в этом-то суть – чтобы обозначить разрыв между бытом и метафизикой, а скорее, для того, чтобы этот разрыв нивелировать. Смирнов доказывает свой тезис, приводя в пример бытовые картины, так часто встречающиеся у Пригова, такие, как мытье посуды, борьба с тараканами, стояние в очередях и т. п.; все эти топосы потом встретятся и в романе. Смирнов пишет:
«Чтобы подчеркнуть эту неиерархизованность повседневной жизни, Д.А.П. особенно охотно протоколирует в стихах действия, минимальные по своей значимости, никак не нарушающие рутину, ничем не похожие на сенсацию…» [10]
Описанное исследователем снятие оппозиции между бытом и бытием, имеет формальные последствия: именно на этой почве и возникают «стихи в чистой прозе». Однако нельзя забывать и о том, что, несмотря на всю генеративную силу здравого смысла, роман Пригова превращает топику в фантастику. Возможно, это специфический, присущий только роману, выход за границы социальной и культурной нормы? Я еще вернусь к этому вопросу, когда мы будем говорить об отдельных главах романа.
ГЕНЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ: НАЗНАЧЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ, АЗБУКИ, ПЕРЕСЧЕТЫ
Георг Витте
Да, генеративность, генеративные программы всякого рода действительно вездесущи у Пригова. Один из самых частотных мотивов в еготворчестве – «назначение»: он встречается начиная с «Куликово поле» (1976), где поэт выступает в качестве окликающего всех протагонистоврежиссера. И «Азбуки», начиная с самых ранних и вплоть до поздних, были и оставались назначающими декретами. Однако у Пригова мотивназначения постепенно менял свой характер. В раннем творчестве он касался мифического акта называния, определения имени, обладающего собственной субстанцией, вызывающего предмет к жизни. В позднем творчестве он, скорее, касается таксономического «позиционирования», помещения предмета в систему взаимо-соотнесенных значений. Демиург превратился в счетную машину.
Приговские акты назначения – это комическая, искаженная форма мифопоэтики, в которой смешное и тривиальное сочетаются с псевдо-возвышенным. Эти акты создают мифологический мир из идеологизмов и будничных феноменов. Они наполняют пустой мир так же, как «Москва» заполняет абсолютную пустоту простым актом своего наименования. Центральную роль в этой искаженной мифопоэтике играют имена. Они представляют собой «маркированные точки в опознанном и расчисленном мифо-историческом пространстве» («Поименно», 1992). Пригов изобретает все новые варианты переноса архаических магических практик именования в окружающую его речевую действительность. Он возносит отчество в оккультную область тайных имен («Имя отчество», 1993), он обращается к магии букв и таким образом иронизирует над футуристским поиском празвуков («Изучение звучания Кабакова», 1983). Он играет в древнюю игру мутации порядка букв, связанной с заклинающей и оберегательной магией («Пять палиндромов», 1991). Но главное, у него есть огромное чутье на окликающий характер имен, на призывную, приказную суть речи, обнаруживающуюся в использовании имен. Начиная с ранних концептуалистских стихов, этот аспект становится движущей силой приговской поэтики имен. Именно потому, что в именах смешиваются их мифические и реальные (общественные, частные) «области действия», они способны стать инструментами поэтического демиурга.
Семиотическое безумие нигде не проявляется столь отчетливо, как в «Азбуках». Начиная с 1980 года, Пригов создал более ста «Азбук», и казалось, нет предела его способности наполнять разделы русского алфавита новыми языковыми массами. Эта серия приобретает свою особую окраску на фоне истории жанра азбучного стихотворения. Алфавит традиционно символизирует порожденный языком порядок. Он связан с представлением о коренных, элементарных знаний, изложенных в базовом учебнике. Одновременно алфавит – эта метафора сакральных пратекстов. Первыми церковнославянскими стихотворными текстами стали заимствованные из Византии азбучные молитвы. Они олицетворяли изначальный порядок и гармониюбожественного текста и были наглядным доказательством святости кириллической письменности. Русская литература обращалась к этому жанру в разные эпохи, будь то с сатирической или пародийной целью, как в «Азбуке о голом и небогатом человеке» и в других текстах XVII–XVIII веков, будь то с морально-педагогической целью, как в «Азбуке» Льва Толстого, будь то с целью агитации, как в «Советской азбуке» Владимира Маяковского. Сатирические алфавиты XVIII столетия представляют особый интерес еще и потому, что уже в них становится очевидным превращение статического порядка законоподобного текста в рассказ: повествователи от первого лица рассказывают в этих стихах истории своего обнищания, азбуки содержат конфликты, катастрофы, драмати-ческие перипетии. Этот аспект существенен и для приговского путешествия по краю между текстом как «уставом» и текстом как рассказом. Наконец, «Советская азбука» Маяковского представляет особый интерес потому, что здесь в форме алфавита предлагается нечто вроде образцового запаса, каталога моделей для агитационных стихов. Это в свою очередь указывает на уже упомянутый генеративный потенциал языка и на поэтический текст как на привилегированную конфигурацию этого потенциала.
Азбуки образуют ось, которая проходит через все творчество Пригова от классического «соц-артовского» концептуализма («Американец это враг, англичанин тоже враг») до поздних текстов, отражающих художественное и идеологическое смятение языка постсоветской эпохи. Их можно рассматривать как своего рода трансформатор, благодаря которому комическая мифопоэтика назначения разваливается и остаются элементарные языковые операции неограниченного и не нуждающегося ни в каких мотивировках обмена знаками.
С середины 1990-х годов Пригов изобретает новые жанры – «стратификации», «расчеты», «оценки», которые конструируют новую иллюзию – иллюзию тотального обмена. Богатый инвентарь категорий расчета, распределения, «соотношений и переводов», номерных списков и классификаций, конвертируемостей, «сравнений по подобию, равенству и контрасту» заполняет эти поздние тексты. Конструируются серии эквивалентов, которые из себя самих генерируют новые серии эквивалентов. Таким образом осуществляется триумф универсальной конвертируемости: единицы времени можно пересчитать в градусытемпературы, посещения музея – в ресторанные цены, национальности – в возрастные данные. Теперь и имена, когда-то мифически нагруженные, подвергаются таким процедурам, которые манифестируют не столько их магически-окликающую потенцию, сколько их совершенную произвольность и взаимозаменимость («Смещения», 1997; «Номинация в узком смысле», 1999). Мифопоэтический принцип здесь рушится на глазах: теперь имена больше не генерируют вызванный ими к жизни мир, а вместо этого язык порождает именас помощью одних элементарных процедур количественного соотношения. Эти имена скорее виртуальны, чем мифичны: любое другое дробление исходных слов дало бы жизнь другим именам («Имена, образующиеся из чужой жизни», 2005).
ВРЕМЕНА В РОМАНЕ ИЛИ: КТО / ЧТО ЖИВЕТ В МОСКВЕ
Бригитте Обермайр
Я хочу продолжить наш разговор достаточно банально. А именно: я хотела бы сейчас просто попытаться описать, о чем говорится в отдельных главах романа «Живите в Москве», о чем, о ком и кем рассказывается. С помощью этого описания я надеюсь лучше понять миметическую реальность романа – особенно качество времени в романе. И начну я с отрывка из романа, касающегося этого вопроса:
«Я не рассказчик о событиях своей частной жизни. Но лишь повествователь о мощном общем, общественном бытии, прокатывающемся через меня».
Эти строки представляют собой нечто большее, чем автокомментарий, здесь утверждается одновременное присутствие в романе «Живите в Москве» различных временных пластов. «Я» выступает не только как личное местоимение первого лица единственного числа, но одновременно и как местоимение, замещающее третье лицо – в смысле«”Я” не есть рассказчик», «”Я” не является рассказчиком». При этом можно достаточно точно определить границы времени, в которых разыгрываются основные события романа, времени, о котором идетречь, времени истории (histoire). Роман охватывает детство в периодВторой мировой войны («Москва 1»), послевоенный период правления Сталина («Москва 2»), смерть Сталина и начало эпохи «оттепели» («Москва 3»), годы правления Хрущева, возвращение политзаключенных из лагерей, формирование поколения шестидесятников («Москва 4»). «Москва 5» простирается от оттепели до краткого царствования Андропова, кульминационном моментом этой главы становится 12 апреля 1961 года – дата полёта Юрия Гагарина. В главе «Москва 6» упоминается Горбачев, однако, хронологическое движение вперед нарушается здесь мифопоэтическим циклическим возвращениемк раннему детству. «Москва 6» так же, как центральная глава «Милицанер московский», выпадает из представленной хронологии, на чем мы подробнее остановимся ниже.
Очевидно, что это краткое описание хронологической канвы «Живитев Москве» недостаточно полно раскрывает миметическую, подражающую времени, природу романа. Возможно, ключ к роману кроетсяв процитированном выше самоописании «Я», говорящего о прокатывающихся мимо него волнах времени («Но лишь повествователь о мощном общем, общественном бытии, прокатывающимся через меня»). Важно подчеркнуть, что блок «общего общественного бытия» в том времени, о котором повествуется, – времени последних лет правления Сталина и следующих затем периодов, начиная с «оттепели» вплоть до эпохи застоя и конца советской эпохи – был наполнен действительно мощными историческими волнами, и вправду, как неоднократно указывается в романе, охватывающими целые эпохи, по меньшей мере, метафорически (особенно имея в виду историческую перспективу приближающегося конца Советского Союза). После смерти Сталина оживает не только непосредственное прошлое (последствия войны, заключенные, возвращающиеся из лагерей, и т. п.), к настоящему добавляются и более глубокие пласты, прежде всего, эпоха художественного модернизма и авангарда. В качестве представителей огромного числа еще живых модернистов в романе «Живите в Москве» часто упоминаются имена Пастернака и Ахматовой и связанные с ними анекдоты, причем необязательно возникшие именно в то время, о котором рассказывается (в том числе, и широко известная, циркулирующая во многих вариантах история о звонке Сталина Пастернаку, предположительно, в мае 1934 года, в связи с арестом Мандельштама).
Описываемая Приговым эпоха была не только временем возвращения или же открытия великих произведений русского модернизма и авангарда, одновременно, это была эпоха, когда молодое поколениехудожников взвалило на себя задачу преодоления прошлого, рассматривая глубинные пласты культурной памяти отнюдь не какнеповрежденные и поэтому работая на расширение, дальнейшее опространствливание письма и мышления. В этом отношении московский концептуализм (а время, воскрешаемое в «Живите в Москве» – это, в том числе, и эпоха, когда формируется интеллектуальная среда концептуалистов) – это постмодернизм. Московскому концептуализму было не столь важно продолжать и возрождать уже имеющееся, погребенное, запрещенное, мощно и при этом тайно носящееся в воздухе и спрятанное в архивах. Ему было гораздо важнее поставить точку, цезуру после модернизма. Эта модель, противоположная культу памяти или культуре памяти. Для этого был необходим радикальный отказ культурной памяти, понятой как идеал. Следовало создать, так сказать, путем прибавления приставки «пост», некое парадоксальное «потом», не относящееся к хронологической последовательности. Открыть пространства времени и представлений о нем и, прежде всего, пространства мышления и письма.
В романе «Живите в Москве» путь на территорию «пост» ведет через фантастику. На протяжении всего романа мы сталкиваемся с превращением нарратива в гротескное и фантастическое повествование, главным образом, в форме гиперболизации, отсылающей как к советской гигантомании, так и к апокалиптическим видениям (количество последних, пожалуй, неслучайно увеличивается в главе «Москва 5», последней главе, которую можно расположить на хронологической оси). Характерным примером распространения времени истории на уровень «прежде немыслимого пространства памяти» (Р. Лахманн), является рассказ о конфликтных отношениях между Никитой Хрущевым и интеллектуальными и творческими кругами той эпохи, также известный во многих вариантах. На примере этого эпизода легко увидеть, как Пригов расширяет пространства памяти, полностью переводя нарратив на уровень дискурса и, таким образом, прорываясь в область «немыслимого» или еще не до конца рассказанного. В центре «Москва 4» разворачивается изображение интеллектуальной среды 1960-х годов, обсуждаются и размежевания внутри поколения шестидесятых, а в конце главы возникает рассказ о конце эпохи Хрущева. Последний эпизод актуализирует более широкий постмодернистский нарратив конца, основополагающий для смены культурно-исторической ориентации в самосознании русской интеллигенции.
Как уже упоминалось, кульминационную роль в миметической конструкции романа играют две главы: во-первых, центральная глава «Милицанер московский», во-вторых, финальная «Москва 6». Эти главы являются антиподами друг друга: «Милицанер Московский» следует читать как биографию поэтического имиджа «Дмитрия Александровича Пригова» (написанную как бы от третьего лица), «Москву 6» – как автобиографию (от первого лица). В главе «Милицанер московский», образующей ось симметрии или нарративный фокус всего романа, в полном объеме разворачивается созданная автором дискурсивная реальность, вернее, взрыв советской дискурсивной системы. Согласно автокомментарию, «в отличие от предыдущих глав-описаний, мне не приходится напрягать память». Милицанер московский как «вертикальное» явление представляет собой реальность приговского универсума, «Милицанер московский» – это в особом смысле феномен «из стихов». И поэтому посвященная Милицанеру глава также больше не зависит от «мелких или крупных жизненных пертурбаций». Здесь нет, и это существенный момент, прошлого: «Здесь нет прошлого, в субстанциональном смысле». Зато здесь уже есть «поэт Пригов» о чем мы узнаем из аллюзии к предуведомлению из сборника «Сборник добавлений» (1977). В «предуведомительной беседе» к этому сборнику идет разговор о «Пригове» между «Майором» и «Милицанером». Разговор отличается радикальным непониманием ключевых слов – как например:
МАЙОР Товарищ милиционер, что читаете?
МИЛИЦАНЕР Да вот, «Сборник добавлений».
МАЙОР А-а-а. Похвально, похвально. Наконец-то молодые люди читают слова, сложенные в духе своего времени.
МИЛИЦАНЕР Вот купил, думал, добавления к закону, а это черт-те что, стихи интересного поэта. Я уже давно слежу за ним.
МАЙОР Следите?
МИЛИЦАНЕР Нет. Не в том смысле. Слежу за его творчеством. И в данном случае слежка не только желательно, но и необходима.
Кажется, что этот же или такой же «Милицанер» и «говорит» в романе, когда заинтересуется планами поэтов:
«Кто такие?»
«Мы поэты», – честно отвечали поэты. Не поверить им было невозможно.
«А куда едете?»
«Мы едем к поэту Пригову.
Пригову? – не удивился милиционер.
А что, вы знаете такого?
Знаю. Но творчество его не одобряю».
Не случайно именно в главе «Милицанер московский» плотность самоцитирования оказывается особенно высокой, а способы включения цитат особенно разнообразны. Всё начинается с цитаты, которая преподносится как самоцитата, однако она тут же оборачивается цитатой из чего – то безличного, отсылкой к пред-воспоминанию, предчувствию (нечто подобное происходит в стихотворном цикле «23 явления стихотворения после его смерти»):
- «Я побежал в школу. Мне тогда пришла в голову строка, вернее, две строки, про Милицанера, написанные мной же самим, но гораздо-гораздо позднее происходивших событий:
- Но Он государственность есть в чистоте,
- Почти что себя этим уничтожающая!»
Продолжая свой путь в школу, повествователь и дальше цитирует Пригова – стихотворение «Когда придут годины бед», которое встречается как в цикле «Апофеоз милицанера», так и в цикле «Милицанер и другие»:
«Я шел в школу и рассуждал сам с собой:
– И вправду, вправду, когда, скажем, придут годины бед и стихии их глубин восстанут, и звери тайный клык достанут, ядовитый причем, кто же нас защитит?»
Отрезвляющий вопрос «кто нас защитит?» перекидывает мостик к диалогу, который в конце концов завершится автоцитатой из «Оральной кантаты на вопрос “Кто убил Сталина?”» (1982). Примечательно, что все эти случаи самоцитирования принадлежат к дигрессивному пласту нарратива, пласту комментариев и отступлений, они ближе к анекдоту, чем к стиху. Я еще вернусь к этому наблюдению, когда буду говорить о соотношении предуведомлений и романа.
Итак, если глава «Милицанер московский» представляет собой биографию автора Пригова, или, точнее, биографию автора «ДАП», то глава «Москва 6» маркирует подчеркнуто автобиографический пласт и личную перспективу повествования, которые присутствуют и в предшествующих главах, возникая там местами, но никогда не превращаясь в «искренне искренний» нарратив. Иными словами: «Я» в главе «Милицанер московский» является как бы «я в смысле он» (персонаж из стихов), в отношении к «нему» «я» в «Москве 6» вполне «автобиографическое». Показательно, что автобиографический нарратив возникает лишь в заключительной главе, движущейся в направлении, противоположном логике романа воспитания (по этой логике, повествование должно было бы начаться с детских лет в эпоху правления Сталина и длиться до признания Пригова в неофициальной культуре первых лет перестройки, что и должно было бы завершить роман). Вопреки этим ожиданиям, глава «Москва 6» циклически замыкает повествование, предлагая мифопоэтическую квинтэссенцию детства как своего рода метаморфозного окукливания, заканчивающегося застыванием, полиомиелитом, односторонним детским спинномозговым параличом (что основано на биографическом факте и подробно описано в начальных главах):
«Наутро меня разбил паралич».
При этом в заключительной главе есть намек, указывающий на возможность хронологического развертывания романного сюжета, согласно которому после «Москвы 5» и периода Андропова должна была бы начаться эпоха Горбачева. В отступлении, посвященном борьбе с алкоголизмом, вскользь упоминаются имена Горбачева и Лигачева, хотя при этом главные достижения эпохи – перестройка и гласность – игнорируются. Впрочем, приговский автокомментарий дискредитирует эти временные маркеры как незначительны:
«Особенная активность данного подразделения проявилась во времена Михаила Сергеевича Горбачева и Егора Кузьмича Лигачева – были такие… Ну, да ладно. Я совсем не о том. Я, собственно, о деревянном доме моей бабушки».
Таким образом происходит возвращение к детству – эти мотивы включены в нарративную рамку главы «Москва 6», описывающей поездку юного повествователя и его сестры-близняшки вместе с родителями как раз в деревянный дом бабушки, проживавшей на тогдашней окраине Москвы. При этом центральную роль здесь играют одновременно разворачивающиеся – как и во всей главе «Москва 6» – банальные ожидания родителей и «большие ожидания» детей. Ожидания, будь то детское нетерпеливое предвкушение воскресной поездки или официальное обещание «светлого будущего», появляются здесь окуклившимися, застывшими в предбудущем, которое уже закончилось:
«Мы по-прежнему грелись на солнце.
И тут, и тут выходили родители. Нет, мы не срывались с места, не подпрыгивали, не неслись сломя голову навстречу. Мы были слишком переполнены чувствами ожидания, счастья, праздника, опережающим знанием всего величия и безмерной печалью всего уже как бы заранее пережитого. Некая невероятная тяжесть прижала нас в земле, в то же время странно проявляясь в вяловато-свободном шевелении членов. Тяжесть была сжата в какой-то маленький неимоверный комок, точку, обитавшую глубоко внутри. Я чувствовал, что существую сразу в двух временах и пространствах – ожидания и уже всего этого заранее пережитого».
Эта застывшая тяжесть ожидания ассоциируется с детским параличом, а последний превращается в «свободное пространство» поиска индивидуальной позиции автора – героя. Конец неограниченной возможности движения, выраженный через описание симптоматики детского паралича, противопоставляется здесь легкому парящему движению, стереотипному для советской топики праздника:
«Так вот, бесконечно смеясь, подпрыгивая, пересекая прекрасный мост над мощной городской рекой, по дороге мы много ели мороженого… Количество мороженого, поедаемое населением за день, превышало всякое воображение».
Несовместимые временные пласты постоянно описываются в форме различных форм двигательной динамики, вписанных в человеческое тело, физически не способное их контролировать:
«Но в пределах мировой линии пространства памяти я продолжаю лететь, лететь… Я по-прежнему лечу, прыгаю, чуть поворачивая голову, замечаю себя же, одновременно охваченного другой формой движения…».
Вектор движения (вперед), конечно, немыслим без поездки на метро, подробно описанной в романе, но уже сопровождаемой первыми симптомами детского паралича. Таким образом, фантастические отступления, возникающие в этой части, мотивированы здесь психологически – приступами лихорадки и первыми признаками судорожных припадков.
Таким образом, в финале романа, мы имеем дело не с «поэтом Приговым», а с автобиографическим «Я», болеющим, лишенным способности к движению, «Я» помещенным в «нулевую точку» детства, в безжизненное нечто, располагающееся ближе к смерти, чем к игре. Но как раз в этом неподвижном изолированном состоянии («Меня нельзя было трогать») юный повествователь главы «Москва 1» (вместе со своей бабушкой!) не только встречает милиционера «дядю Петю», но и – в рамках своих возможностей, т. е. с учетом двигательно-физиологическими отклонений и искажений, в соответствии с обусловленной возрастом разницей в росте – становится буквальнымдвойником Милицанера (русское слово «двойник» не содержит имеющуюся в немецком эквиваленте «Doppelganger» сему «движения», «ходьбы»): юный, хромающий повествователь имитирует милиционера и даже идентифицирует себя с несущим «перед его окном» службу милиционером «дядей Петей», который охраняет американское посольство и защищает русских ворон от американских посягательств:
«И мы продолжали шествовать с ним вдоль забора, заворачивали за угол, исчезали из бабушкиного поля зрения, доходили до следующего угла, разворачивались. Он терпеливо дожидался, пока я совершу маневр своими нерасторопными, позорящими меня ногами».
«Я» здесь – это уже «Я» поэта Пригова; обретенная здесь перспектива повествования, уже чревата «проектом ДАП», знакомым нам по стихам Пригова, где прописаны и описаны основания этого проекта.
РАССЧИТАННОЕ ВРЕМЯ И РАССКАЗАННОЕ ВРЕМЯ
Георг Витте
Да, мы как-то привыкли не смешивать биографическое «Я» и «имидж» ДАП. Однако роман, его жанровая логика размывают эту, казалось бы, надежную границу. Это на мой взгляд связанно с динамикой, присущей собственно повествованию, которой Пригов, так сказать, подверг себя, сделав шаг к роману. Мне бы хотелось сейчас вернуться к тому моменту нашего диалога, где мы обсуждали генеративные программы, такие, как назначение и расчет, и, опираясь на твои рассуждения о временных пластах в романе, поразмышлять о поэтике романа Пригова в контексте постконцептуализма.
Назначение и расчет – это операции, которые противостоят принципу повествования. Повествование базируется на событии, взятом в его единичности. Повествование организует динамические ряды событий. Назначение и расчет образуют таксономические порядки, в виде списков, балансов, каталогов. Но что происходит, если время – историческое, биографическое – является нам в модусе подсчета? К подобной операции Пригов прибегает довольно часто. Демонстрируя расхождение между воспоминанием как повествованием и воспоминанием как бухгалтерским подведением баланса, он рассуждает о значении и функции индивидуальной и коллективной памяти. И в этом отношении роман также оказывается своеобразной точкой сборки. Этот жанр предоставляет, по крайней мере, в своей традиционной форме, оптимальную временную структуру воспоминания, которое укладывается в биографические и исторические масштабы. Однако и это воспоминание уже абсорбировано подсчетом и обменом, перечислением и подведением баланса. Ведь в языке, который понимается Приговым как «поток реальных или вымышленных позиций поминания и употребления» («Кого я хотел убить в разные свои возраста», 1997), время в буквальном смысле превращено в пространство, события мутировали в позиции.
Особенно это заметно в текстах, созданных начиная с середины 1990-х годов, то есть, именно в инкубационный период Пригова – романиста, текстах, в которых утверждается топос автобиографических и календарных расчетов и обменов. «Список» становится здесь методом вспоминания («Мой список умерших», 1994). В «Хронометраже» (1999) среднестатистическая длительность поездки на метро в Лондоне, Берлине и Москве (в этих городах поэт бывал регулярно) экстраполируется на жизнь длиною в шестьдесят лет. Или подводится баланс поездок в европейские и американские города («Позволь», 1999).
Так возникает своего рода поэтическая бухгалтерия жизненных удач и потерь, выраженных в цифрах баланса прибылей и убытков, бонусов и штрафов. Разделение зон личной и коллективной памяти внутри подобной, всё со всем сравнивающей и уравнивающей речи становится невозможным («Кого я хотел убить в разные свои возраста», 1997). Подобное смешение временных масштабов характерно и для «Пересчетов времени» (1997), где засчитываются «потерянные» годы жизни: величина собственной жизни становится эквивалентом величины целого столетия и истории человечества.
Как ни парадоксально, именно принудительная логика всех этих операций программирует их невозможность. Такая невозможная экономия времени находит свое выражение в «Назад, вперед и посередине» (1999). В тексте осуществляется проспективное и ретроспективное растяжение времени до неизмеримого количества лет. Одновременно настоящий момент расщепляется на доли секунд. В «Датах рождения и смерти» (1999) фиксация времени собственного рождения оказывается невозможной ввиду бесконечного числа прошлых и будущих рождений. В конце концов, ставятся под вопрос сами предпосылки вычислительных операций.
«Рождение», «убийство», «встреча» – приговские каталоги воспоминаний наполнены архетипическими событиями. Их универсальный расчет подчиняется reductio ad absurdum. Время при этом не только превращается в пространство, но и трансцендируется. Бесконечность этих операций, доведенных до логического предела, отменяет категорию события как таковую, в том числе и категорию любого порогового события в биографии: «A может, и не будут знать уже, что такое рождение» («Даты рождения и смерти»). То же можно сказать и о пороговых событиях истории, таких, как победа или поражение. Эти исторические категории, метки исторического времени заменяются числом как единственным оставшимся параметром организации времени («Победа с минимальным преимуществом», 1999).
В чем заключается комизм такого трансцендирования события? Оно остается приклеенным к действительности речи. Ведь лица и события, в качестве субстратов вычислительных операций, продолжают получать имена. Они по-прежнему упорствуют в простом факте своего существования. Даже самый радикальный отказ от повествования не может стереть эти остатки времени, а именно времени, которое испытывается и осознается нами в нарративном модусе. Когда историяи истории сводятся к точке ноль, тем самым как раз и обнажаются ядра нарративности. Именно здесь находится тот нервный узел, где встречаются воспоминание как расчет и воспоминание как рассказ. Здесь же одновременно располагается место встречи концептуалистской поэзии и романа.
У классического концептуализма сложились непростые отношения с романом. Тезис «пантекстуализма», вовлеченности мира в сети и иерархии знаковых систем, отрицал иллюзию повествовательной репрезентации человеческой жизни. На фоне истории романа реактуализация этого жанра казалась возможной в лучшем случае в виде фарса. Уже авангард начала ХХ века провозгласил «конец романа», и соцреалистическое его возрождение привело к ложной эпизации. Позднесоветский роман, начиная с «оттепели», тяготел к психологи-зации и отождествлению индивидуальности с субъективностью. А именно такое отождествление отвергал постмодернистский роман, который не отрицал индивидуальные перспективы, но выявлял их как окказиональные и сингулярные, как всякий раз особенные. Специфика московского концептуализма в этом контексте состояла в том, что здесь точка зрения была отнята у индивидуального тела и перенесена на фантазматическое коллективное тело. Можно сказать: в концептуализме перспектива стала бестелесной. Владимир Сорокин впервые продемонстрировал это в романе «Очередь» (1985), где аккумуляция голосов происходит без выделения индивидуальных перспектив и без повествовательной объективации индивидуальных тел.
Именно на таком фоне формируется поэтика романа позднего концептуализма, или постконцептуализма. Я вижу ее специфику в парадоксальной реанимации индивидуальной перспективы и индивидуального воспоминания. Здесь на первый план выходят разрывы между индивидуальным и коллективным измерениями воспоминания. В романе «Живите в Москве» этот процесс разыгрывается как художественный эксперимент повествователя над самим собой.
Поэтика воспоминания приобретает у Пригова двойное временное измерение. Его рассказчик движется внутри автобиографического хронотопа, где любой исторический пороговый опыт измеряется масштабом человеческой жизни и субъективной способностью к воспоминанию. При этом автобиографический и универсальный масштабы вступают друг с другом в конфликт. Они узурпируют друг друга: «я» присваивает себе божественную, всеведущую память, одновременно его индивидуальная способность к воспоминанию поглощается коллективной памятью. Масштаб времени воспоминания выходит за пределы биографического и исторического горизонтов и помещает «лично» пережитое прошлое в категорию абсолютного прошлого. В предисловии к немецкому изданию романа автор заявляет, что всё изображенное кажется ему настолько чужим, «как будто речь идет об империи древних ассирийцев». Всё, изображенное в романе, – это «нечто, больше не познаваемое, что с огромнымиусилиями вытащили на поверхность из архаических слоев пренатальной жизни». Описанное так немыслимо удалено, что здесь, по – видимому, разрушается основная предпосылка автобиографического повествования, а именно: личное переживание описываемых событий, личное пребывание автора в тех местах, о которых вспоминается.
Сюжет романа организован биографически. В то же время это биографическое ядро раздувается из-за всё возрастающей массы событий катастрофического характера. Мемуарная рефлексия нарушается преувеличенной эпизацией. События растягиваются до масштабов коллективных катастроф и сотрясающих мир катаклизмов, явно выходящих за пределы романа. Апокалипсис представляется нормальным состоянием мировой истории и, таким образом, теряет характер исключительного финального события, к которому мог бы стремиться нарратив.
По сути дела, в романе выдвигается оригинальная теория памяти, – абсолютной памяти, «вездесущей памяти» как порождающего механизма, в котором логика репрезентации подвергается инверсии: не события сохраняются в памяти, а память порождает события:
«Чем и как это все завершилось – не ведаю, поскольку не ведаю, как подобное вообще может завершиться хоть чем-то вразумительно-человеческим. Но завершилось же. Ведь все, даже самое немыслимое, завершается каким-то образом. Жаль только, что, как правило, без всякого нашего участия, присутствия и свидетельства. Так что приходится припоминать по вере, по некой везде присутствующей, независимо от нас и нашего реального наличия в месте происшествия, памяти.»
Как же тогда утвердиться индивидуальному повествовательному голосу на фоне этой всепоглощающей универсальной памяти? Как вообще может выразить себя собственное повествование, тем более повествование мемуарное? В романе «Живите в Москве» подобная конкуренция между собственной и чужой памятью разрешается парадоксальной формой приватизации:
«Я молод. Я безумно молод. Я все еще безумно молод. Ну, молод достаточно, что, вспоминая нечто, никак не могу себе представить, что это вот есть из прошлого. Вернее, откуда-то. Но ведь не из будущего же. Представляется, что из какого-то чужого. Вернее: а не из чужого ли? Как иногда нечто чужое, рассказанное, особенно во вторичном уже пересказе, как бы становится собственным. Хотя обычно остается, конечно, некоторая его пришлость, чуждость что ли. Но, обрастая всяческими детальками, добавками, зачастую становится более близким, чем чистое свое, редко выковыриваемое на свет. Оно свое в чистой идее. Оно почти не поддается овладению».
Итак, повествование – это нарастающее приближение прошлого, как чего-то по сути чужого, к собственной персоне. Однако не следует представлять себе такое усвоение прошлого как мирный процесс. Наоборот здесь господствует конкуренция. Мы наблюдаем повторяющийся акт узурпации чужого прожорливым «Я» воспоминания. Результатом этого процесса становится претензия на автократию авторского воспоминания:
«Но я ничего не забыл. Поэтому и повествую здесь, не боясь быть кем-либо опровергнутым или уличенным в неточностях и прямых искажениях. Никто ничего не помнит. Поэтому возразить-то некому, да и нечего. А я помню. Все помню. Все помню отлично и достоверно. Такая у меня натура и память».
РОМАН КАК ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К СТИХАМ
Бригитте Обермайр
Рассуждая о «романе из стихов», нельзя, конечно, не сказать и о соотношении между прозой и поэзией в более узком контексте приговского творчества, а именно, о взаимосвязи между предуведомлениями и стихами. Мы уже затрагивали эту тему в начале, когда обратили внимание на то, что открываем этот том циклом «Одно стихотворение», состоящим из семистраничного предуведомления и одного-единственного стихотворения. Непосредственно о соотношении между прозой и поэзией в связи со знаменитыми приговскими предуведомлениями к стихотворным циклам написано пока ещенемного. Развивая тезис «роман из стихов», я хотела бы предложитьв заключение несколько соображений относительно этого соотношения. Причем речь пойдет не только о соотношении между предуведомлениями и стихами, но прежде всего, об основополагающей связи между романом и поэзией Пригова. При этом нужно будет учесть, что и роману «Живите в Москве» предпослано предуведомление.
Когда речь заходит об отношении между «предисловиями» и «основными текстами», на ум приходят рассуждения Жака Деррида (в первую очередь, из его книги «Диссеминации»). Для Деррида важной представляется, прежде всего, парадоксальная послевременность предисловия (оно пишется после завершения основного текста, но предпосылается ему и, как правило, читается до него), что приводит к тезису о некой форме темпорального нивелирования, одновременности, «явного присутствия» основного текста в предисловии. Подобное «явное присутствие» стихов в предуведомлении (и наоборот) существенно и для нашей концепции «романа из стихов» – в смысле присутствия стихов в романе / романа в стихах.
Для приговских предуведомлений характерно сочетание поясняющих жестов и теоретических экскурсов с анекдотическими отступлениями. В любом случае, речь так или иначе всегда идет о том, что будет после, об основном тексте, который соотносится с предисловием, или, по крайне мере, о том, что собственно к теме основного текста касательства не имеет («не о том»). Но встречаются и настоящие объяснения – структуры, названия и т. п. Подчеркнем, что жанр предуведомления появляется у Пригова в 1970-е годы, то есть в тот период, когда его художественная программа уже четко оформилась. Предуведомления быстро стали обязательным пунктом программы для каждого цикла стихотворений Пригова. Предусмотренное для них место должно было быть непременно заполнено. К примеру, предуведомление к сборнику «Некрологи» звучит так:
«Предуведомления нет и не будет».
В абсолютном большинстве, предуведомления демонстративно не справляются с возлагаемой на них функцией – быть «инструкцией по применению» или ключом к последующим текстам. То, как они не выполняют свое предназначение, само по себе может быть существенной частью объяснения. Важно, что предуведомления добавляют к следующим за ними текстам своего рода цезуру, отсрочку «собственно» текста, новое распределение слоев: того слоя, что разделяет прозу и поэзию, и тех слоев, что располагаются между объяснением / концепцией и соответствующим исполнением, между (квази)теоретическим метаязыком и поэтическим языком. Пригов продолжает здесь, не в последнюю очередь, проект Стефана Малларме, который в предисловии к поэме «Бросок костей» говорит, что единственным новшеством в ней является расположении строк на странице:
«Единственная новизна заключается в непривычном размещении (espacement) текста / чтения (la lecture)».
Это размещение, как ты уже показал, играет существенную роль в стихотворениях Пригова, в том числе, и с формальной точки зрения. Стремление к «опространствливанию текста» не ограничивается у Пригова модернистскими «пробелами», как у Малларме. Абстрактное беспредметное белое поле теряет в постмодернизме свой знаковый характер, опространствливание означает теперь расширение пространства письма.
В более широком смысле «размещение текста / чтения» касается общего движения по направлению к прозаизации лирики в творчестве Пригова, которое не может не оказывать влияния и на соотношение между предуведомлением и стихотворными текстами, между которыми Пригов ставит знак равенства в выше сформулированном смысле «явного присутствия» одного в другом. Программным в этом отношении становится предуведомление к циклу «Несколькострочия / крики души и размышления» (1977). Там говорится, что предуведомления не призваны объяснять стихи или раскрывать их суть, напротив, их следует воспринимать на одном уровне со стихами, предуведомления соотносятся с лирикой как «стихи со стихами»:
«Для чего я пишу предуведомления? Поначалу я думал, что для объяснения. Нет, нет! Я и поначалу так не думал. Я и поначалу так не думал, потому что, если бы я так думал, то не было бы у меня никаких претензий к тем, кто по прочтению предуведомлений сказал: наконец-то мы поняли тебя, вот ты какой! Вот они твои посягания! Твое честолюбие и суемудрие! Которые раньше прятались за рифмы, слабость твоя человеческая, прикрывавшая мерность узаконного стиха. Предуведомления суть небольшая откровенность, чем стихи, они сами суть стихи и относятся со стихами не как биография или исповедь со стихами, а как стихи со стихами».
С этой точки зрения, «роман из стихов» окажется скорее не завершающей, подводящей итог, трансформацией лирических текстов в прозу, а постскриптумом, послесловием к стихам. А стихи – предуведомлением к роману.
____________
P.S. В работе над этим томом огромную помощь нам оказали Роман Коверт и Каролина Шуберт. Сердечно их благодарим!
Автобиография
Пригов Дмитрий Александрович
Ф.И.О.
Дмитрий Александрович Пригов
ГОД РОЖДЕНИЯ:
1940
МЕСТО РОЖДЕНИЯ:
Москва
ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
скульптура, объекты, графика, концептуальная поэзия, визуальные тексты, рукописная книга, перформансы
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА:
Москва
Oдно стихотворение
1977
Так что же он есть, поэт, отдельно от своих стихов, то есть в той несловесной (не скажу: непоэтической) области, в которую, по мнению замечательного московского поэта Александра Леонидовича Величанского, не следует заглядывать ни поэту, ни тем более охочему до всякого рода (по человечности более ему понятных, чем неразговорный план стихового языка) подробностей читателю. Я лично не придерживаюсь подобного рода мнения и все время пытаюсь осознать непостороннесть и неотрывность жизнеявления поэта от его чисто словесного образа. Кстати, запомним эту страсть читателя к вехам человеческого (зачастую мифологизированного) пути поэта.
Так что же он есть в наше время, поэт, отдельно от своих стихов? Собственно, он есть то же самое, что и был всегда – дитя, охочее до внимания и славы, которые его непременно ждут (либо должны ждать) в отведенной им и ему области общественного бытования поэзии. Правда, мне могут возразить, что есть примеры чистого и стоического служения единственно слову, но я осмелюсь утверждать, что это – тип ущербного подвижничества (я не утверждаю, что поэзия этого рода ущербна, а в смысле целостности образа и функции поэта как представителя поэзии в обществе людей). Это тип подвижника, не сумевшего (по недостатку ли понимания или мужества) найти истинное поле для возделывания, служения, соответственно точному и естественному развертыванию своей личности. Такое творчество условно может быть отнесено к поэзии только по причине словесности отходов молитвенных (назовем условно) трудов.
Так что же он есть, поэт, отдельно от своих стихов? Например, входит он, поэт, в какое-либо общество людей, одетый в черный, сюртучного покроя, вельветовый пиджак, с поддетой под него светлой рубашкой, и в светлые же брюки (он может быть одет совсем и иначе, но мне легче представить себе подобное одеяние, поскольку именно в таком виде я обычно сам являюсь в общество), так входит он, поэт, и быстро, незаметно, почти опасливо оглядывается – стало ли событием его появление? Нет. В данном случае – нет. Тут подходит к нему, поэту, некий знакомец, заводит какую-нибудь беседу, и тут поэт (еще не в полную силу), так как не до конца уверен в ситуации, начинает являть свой образ, но пока сдержанного размера. Знакомец, отговорив свой разговор, отходит и за спиной поэта извещает о его имени. Поэт якобы озабоченно осматривается, словно бы выглядывая кого-то, и перехватывает любопытствующие взоры, свидетельствующие о том, что публика уже почувствовала себя в присутствии поэта. Поэт окрыляется, в силу своих возможностей, и становится тем, чем должен быть поэт на публике.
Я описываю самый незначительный случай поэта. Это еще что! А вот московский поэт Евгений Александрович Евтушенко, рассказывали мне, входя в Дом литераторов (где и так уж заведомо, помимо него, одни поэты сидят) непременно своротит какой-нибудь стол, чтобы всякий заметил его явление.
Но есть ли необходимые, объективно закономерные причины, побуждающие поэта к такому поведению и к восприятию такого поведения, если не как необходимого, то хотя бы естественного. Сегодня я утверждаю: Да! Это есть поза поэзии в социально-поведенческом мире!
Тут можно заметить, что каждое время выдвигает свой вариант позы: мот и балагур пушкинского образа, мрачный презиратель байроновско-лермонтовского, духовидец и прозорливец символического, хулиган и эпататор футуристического, шут и проказник обериутского. Причем всегда есть широкая гамма между крайними типами баловня судьбы (Гете) и неудачником (Вийон).
Это как перископ, торчащий из-под воды и свидетельствующий о чем-то подводном. Но в надводном мире, в его измерениях и расчетах, он – нечто отдельное; для надводного мира он – самостоятельный житель. А та, подводная часть, определяет интенсивность проявления его самостоятельности в открытом мире.
Это как вид монаха в городе, который может быть совсем и не монахом, а переодетым мошенником, но среди города он есть свидетельство (не укор, не побуждение) жизни иной, некая полюсная отметка.
Так сшибайте, Евгений Александрович, положенный вам столик перед лицом положенных вам свидетелей положенного им зрелища!
Каждый поэт проходит, должен пройти три фазы бытия в поэзии. В данном случае я буду говорить об их идеальной, а не конкретно реализуемой, последовательности воплощения в образе поэта. Первая – это духовно-мировоззренческая. Вторая – экзистенциально-воплотительная. Третья – социально-олицетворительная. Конечно же, все эти фазы, эти пласты, эти времена никогда не наличествуют в отдельности, но всегда осмысляются и реализуются поэтом в единстве. Просто на определенном этапе какая-либо из них доминирует и искривляет остальные в сторону своего пространства.
Соответственно, и дар поэта многосоставной. Это и способность к данному роду деятельности, и способность роста, способность выживания (не доживания до седых волос, а выживания как поэта), терпения и угадывания знаков судьбы. В разной мере разные поэты одарены этими компонентами общего, целого поэтического дара.
Да, я не случайно помянул об идеальной последовательности фаз бытия поэта в поэзии (каждая из которых способствует преимущественному раскрытию соответствующего ей компонента поэтического дара) и не в смысле их иерархического соотношения. В данном случае они есть как человеческий возраст, где зрелость не имеет никаких бытийных преимуществ перед детством и юностью, но каждая из них имеет смысл только в своем месте этой цепи последовательности, незаменима, необратима и не может быть переставляема. Так же обстоит дело и в возрастах поэзии, где все-таки приходится говорить об идеальной последовательности, так как встречаются здесь вечные дети, ранние неумудренные старцы и бескачественная зрелость. Есть немало примеров, особенно среди современных официально признанных поэтов (да только ли в наше время?), когда не в свой срок возымевшая власть последняя фаза выплостила поэтов до состояния картонных силуэтов (без третьего измерения) и инерцией своей покорительной жизнереальности вряд ли уже даст им время и возможность на постижение истин духовных, которые должны быть постигаемы в свое время (я говорю о возможности безущербного их постижения). Очевидно, именно это имел в виду Пастернак, утверждая, что «быть знаменитым некрасиво», так как на действительный образ поэта это не распространяется, и как раз наоборот – быть знаменитым красиво! Такая ситуация с вышеупомянутыми поэтами тем более обидна, что наше общественное сознание имеет такие богатые традиции и все еще существующие возможности для приятия и лелеяния поэта в его истинной последней фазе, возрасте бытия в поэзии, когда он уже есть сам и воплощенный миф о себе.
В конце единственно возникает вопрос сомнения: а оправдывает ли уровень современной поэзии столь высокие рассуждения о ней? Известный московский поэт Владислав Константинович Лен, из Ленинграда возвратясь, пересказывал мне разговор с известным ленинградским поэтом Кривулиным, в котором последний развивал опасную для моих рассуждений мысль о кризисе и упадке современной поэзии. Подобные мнения всегда субъективны и в отблесках неоспоримых и узаконенных прошлых поэтических достижений, ценностей и систем (кстати, с кризисом которых часто и спутывают кризис поэзии собственно) ностальгически соблазнительны и самоуничижительно вдохновляющи, к тому же соответствуя клишированной модели постоянного процесса упадка культуры от золотого века через серебряный до нашего ничтожества; иными словами: все гении уже умерли. Не пытаясь давать качественной оценки произведений нынешних творцов и не сравнивая их с классическими образцами (это сделает время), мы можем только попытаться увидеть следы неложного искусства вокруг них. Проследить побудительные причины их творчества, цели, ценности и жизнь в поэзии. По всем этим параметрам большинство поэтов, мне лично знакомых, поэты по сути. Кстати, именно по этим параметрам выявляется упадок и кризис поэзии официальной. Возможно, правда, мы есть свидетели и участники кризиса культуры целиком, кризиса той питательной среды, от которой зависит весь корпус поэзии целиком. Но мне кажется, что сама трагичность нашей эпохи, мужественное и честное осмысление ее людьми культуры, неложность их целей и ценностей – уже гарантия невозможности искусства легковесного и пустого. А восстанавливающаяся усилиями редких выживших представителей старой культуры и усилиями яростных нарастающих новых поколений наследственность культурных традиций и вечно неоскудевающая талантами русская земля дают права надеяться на успехи, и немалые.
- 11 | 00811 Я вам скажу последнее прости
- Последних дней последнего поэта
- Вам не останется другого, как снести
- Меня словесного в грядущее за это
- Я как кузнечик ножками упрусь:
- Я не хочу! с моим народом весь я!
- Но кто же там расскажет им про Русь
- Эпохи устроенья бессловесья
Стихи в чистой прозе
Стихи в чистой прозе (Стихи со слабыми отличительными признаками)
1981
Предуведомление
Вы, возможно, читали подобные тургеневские стихи. Я тоже читал в свое время. Но мне не понравилось. И понятно почему: стихи – это стихи, а это – незнамо что. Или можно вспомнить других, но вы таких, наверно, и не слыхали: Бертран, Лотреамон, Кро. Или Бодлер, Рембо – этих вы, наверно, слыхали, хоть они и французы.
Но не о них речь. Этот сборник я хочу посвятить памяти Евгения Владимировича Харитонова. И не только по причине безусловного уважения к нему и к его творчеству. Когда я начал писать эти, с позволения сказать, стихи, я припомнил Евгения Владимировича, чьи произведения, объявись они в виде подобного сборника, были бы именно стихами, и именно в чистой прозе.
Так что будь жив Евгений Владимирович, отдал бы я ему это название, а для своего сборника взял бы какое-нибудь другое: Стихи со слабыми отличительными признаками, например.
* * *
- Вот оно, так сказать, небо. И ведь не скажешь ему: Нале-во!
- Оно и так налево и направо.
- Так что же ему сказать от имени человечества?
- Нечего ему сказать.
* * *
- Идеологическим подспорьем врагу часто служит недостаточная идейно-научная аргументация мотивов решений наших хозяйственных органов в их постановлениях по разрешению насущных экономических задач.
- Вот.
- Что вот?
- А что подспорьем служит недостаточная идейно-научная аргументация мотивов решений.
* * *
- Иду по Ленинграду и вижу: Щеточный комбинат имени 18-ой Партконференции. Ну, понятно: 18-ая Партконференция, была там после 17-ой Партконференции, и, наверно, перед 19-ой.
- А имя-то у нее какое? – Софья, там, Вера, там,
- Надежда, Любовь…
* * *
- Художник Исаян (фамилия, заметьте, армянская) и другой,
- с фамилией непонятной – Волохонский, пошли на рынок
- покупать розы по какому-то подходящему поводу.
- «Дайте-ка нам, дружок, три розы», – обратился Исаян величаво к грузину (а розы у нас грузины продают) – «Дайте-ка нам три розы». «Пачему три? Пачему не пять?» – изумился грузин. «Я не могу! Я не могу! – вскричал Исаян. – Анри! (а таким непонятным именем вдобавок к непонятной фамилии, назывался Волохонский) Анри! Объясни ему!»
- Маленький Анри стал напрыгивать на грузина,
- грозно вопрошая: «Сколько лиц у Бога? Сколько лиц у Бога?»
- «Два падесят», – испугался грузин.
- А ведь это был почти Интернационал: Исаян – армянин, продавец – грузин, и Волохонский – непонятно кто.
* * *
- Я знал собаку Мурри, и знал собаку Накси, знал собаку Рулли,
- собаку Куто.
- Но знал и просто собак Фрэнка, Рэкса, Кинга.
- И тоже – достойные животные.
* * *
- Мышь мертвая посереди дороги. Целенькая, аккуратненькая —
- с горя, видно, померла.
- Что мышь – люди мрут, даже при такой активной
- заботе государства.
- Но смерть, видимо, заботливее.
* * *
- В политических кругах Запада развернута шумная пропагандистская кампания вокруг так называемой «инициативы» Европейского совета сообществ о созыве международной конференции, которая была одобрена на состоявшейся недавно встрече глав семи ведущих империалистических держав.
- Вот.
- Что вот?
- А что так называемая «инициатива» на встрече глав семи ведущих империалистических держав.
* * *
- Виноградье ты мое, виноградье! В смысле, садик ты мой, садик!
- В смысле, нет у меня садика! Бедный я, бедный, в смысле!
- В смысле, грузины на рынке обдирают! В смысле, я ничего не имею против грузин – хорошая нация, поэты, говорят, у них хорошие.
- Хочешь – покупай, не хочешь – не покупай!
- Какой же я бедный?
- В смысле, бедный ты мой край! Русь, земля моя родная!
- В смысле, виноградье ты мое, виноградье!
* * *
- Когда я работал на ЗИЛе (было дело), на конвейере, мы с соседом
- в летнее время выходили на обеденный перерыв во дворик, ложились на редкую травку, и он рассказывал, как принимал участие
- в венгерских событиях.
- «Вскакиваю я в танк», – начинал он, – твою мать, тра-та-та! И снова тра-та-та! И дальше – тра-та-та!» И обеденный перерыв кончался. И на следующий день снова. И так, сколько я проработал
- на заводе, все вскакивал он в танк.
- И подумалось: если бы наша жизнь была бы не дела, а слова, то так бы и длиться вечно этим венгерским событиям. А так они – достояние истории уже.
* * *
- Вот ты говоришь, Орлов, что всяк человек – хозяин своей судьбы.
- Помню, случай был в метро. Сидит гражданин, читает газету. Входит девица, становится прямо над ним; вынимает
- из сумочки платочек и губки начинает напомаженные вытирать.
- Тут она роняет платочек, и он падает гражданину прямо на это место, а девица выпархивает на первой же остановке. Весь вагон смотрит, что же дальше будет. Гражданин замечает всеобщее внимание, выглядывает из-за газеты и замечает что-то беленькое. Он прикрывает это беленькое газеткой и, делая беспечный вид, начинает запихивать. Запихивает, запихивает – запихал.
- Нет смысла представлять, что дальше будет. Всякий, с кем случалось нечто подобное, знает, какие продолжения бывают.
* * *
- В ходе развития законы естественные трансформировались в законы социальные. А все законы взаимосвязаны. Так что, воздействуя на законы социальные, мы можем изменить законы природные.
- Это объективная истина.
- Так вот отменили частную собственность, и природа тотчас изменилась.
- Сомневаться может разум,
- А ты поверить обязан.
- А я не хочу! не хочу! Не хочу!
- И не буду!
* * *
- В современных условиях, когда под воздействием социального
- и научно технического прогресса произошли изменения
- в практике религиозных организаций, важно обеспечить комплексный подход к этой идеологической проблеме, проводя планомерную работу в неразрывной связи с трудовым, нравственным, патриотически-интернациональным и научно-идеологическим воспитанием.
- Вот.
- Что вот?
- А что в неразрывной связи с трудовым, нравственным, патриотически- интернациональным и научно-идеологическим воспитанием.
* * *
- Вот я давлю тараканов и иногда задумываюсь: а хорошо ли это?
- Ведь должны же они где-то жить. Они маленькие, места много
- не занимают. Они вместе взятые-то меньше меня одного.
- Но нет. Нельзя. Этак можно докатиться до мысли, что все дозволено. А дозволено не все. И они должны это знать.
- И они знают.
* * *
- Отец мой до середины 60-х годов очень любил китайцев и говорил: «Вот ведь нация! Собрались – и всех мух уничтожили! Эдак они раньше нас и коммунизм построят».
- А после середины 60-х он уже не любил китайцев и говорил: «Вот ведь нация! Собрались – и всех мух уничтожили. Эдак они и весь мир уничтожить могут».
* * *
- Вот какие слова с детства в душу запали: «Ваша неправда,
- дяденька Биденко» («Сын полка»).
- или
- «Чуешь, Сашко?» – «Чую, дедусь»
- (радиопостановка «Александр Матросов»).
- Потом были тоже неплохие, хотя и более абстрактные:
- «Это что-то неземное!»
- или
- «Это же крах всего святого!»
* * *
- Лепили мы с Орловым идеологический объект в Калуге, и был там рабочий Юра. Юра говорит Орлову: «Ты художник?» – «Да». —
- «А художник в вечном долгу перед народом». И Орлов снял с себя
- часы и отдал Юре.
- Это потом уже Орлову стало жалко часов, и он говорил,
- что Юра украл их.
- Но Юра
- Но Юра тех часов не крал
- Он просто в виде символическом
- Лишь долг тот вечно-исторический
- Назад от имени народа взял.
* * *
- Видел я, как люди от любви плачут.
- Возвращался я как-то ночью на такси. Человек стоит.
- Мы притормозили, оказалось, ему по дороге. Он наклонился
- к открытому окну и спросил жалостным пьяным голосом: «Только
- у меня нет денег». Шофер сказал: «Что, совсем нету?» Молодой человек показал на ладони какие-то медяшки. Я сказал, чтобы садился.
- Шофер посмотрел на него и спросил: «Ремень у тебя кожаный? Давай ремень, что ли». Ремень оказался из заменителя. Затем шофер спросил,
- что у него в портфеле. Там оказались книги. «Вот эта мне подойдет», – сказал шофер. Но студент сказал, что не может отдать, так как ему
- по ней отвечать завтра на семинаре. Это были стихи Майорова.
- Он был филолог, он провожал девушку, думал у нее остаться,
- но она прогнала. И он заплакал от любви.
* * *
- Вот мое детство, малоспособное запомниться. Неяркое, в смысле.
- Хотя ведь – Москва! По тем временам – порт пяти морей!
- А вот детство незапоминающееся.
* * *
- Патриотическое сознание – это тот внутренний идейный, мировоззренческий стержень, который определяет ценностные ориентации и установки личности, та духовная сила, благодаря которой человек занимает активную жизненную позицию, выражающую, в конечном счете, уровень ее нравственной
- и идейной зрелости.
- Вот.
- Что вот?
- Я что не хочу! Не хочу! не Хочу!
- И не буду!
Четыре элегии
1977
Предуведомление
Я все время пишу, пишу, пишу…
Возникает вопрос, уже не у посторонних (у них этот вопрос возникает естественно и сразу), а у меня самого – зачем? Действительно – зачем? Если хотя бы часть той энергии, укладываемой в немыслимые и реально не практикуемые языковые конструкции, направить, ну, хотя бы на опубликование малой части их, либо просто на семью, детей – что бы изменилось?
Я подумал, что, очевидно, движет мной та неописуемая и непресекаемая жажда познания. Каждому дан свой дар, свой способ познания этого, как его? – назовем его: истина. Кто пахотой познает (не узнает, не выясняет, а познает), кто танцем, кто как я – стихом. В этих размышлениях я дошел даже до такой кощунственной мысли, что кто-то познает и убийством. Ну, не всякий убийца, конечно (с этой, весьма сомнительной точки зрения), – познающий, как и не всякий пишущий стихи. Но если мы зашли в такую опасную крайность, то надо выяснить: что же тогда познается?
Я постараюсь оперировать материалами только собственного поэтического опыта, так как прочий материал внутренне мне не столь ясен.
Что же познаю я средствами поэзии? Конечно же, не многообразие материального мира, не людей, не их психику, не социальные законы, не… ничего. Тут я понял, что я, скорее, не познаю что-тоуже существующее, а построяю. Построяю мир поэзии и параллельно его же и познаю. Познаю его законы, априори данное ему пространство, ключ перевода всего, что вокруг меня и во мне, в символы поэтического пространства. И пытаюсь ли, просто ли нахожу в нем (кроме специфических) те же общие законы, присутствующие и определяющие пространство любой человеческой деятельности и прочего мира – начало и конец, жизнь (самодействование) и разложение (воздействие внешнего), наличие и отсутствие. Вернее, едва прикоснувшись к любому роду деятельности, сразу чуешь эти законы, сходящиеся, очевидно, где-то за пределами материального бытия, в один-единственный закон, и все виды деятельности, соответственно, в своем пределе имеют один-единственный метод и цель.
Значит, приступая уже ко второму стихотворению (а, возможно, и с самого первого), я уже знаю, ощущаю реальность этих незыблемых законов. Значит, я не познаю, не построяю, по сути, а просто подтверждаю их. И всякое творчество есть простое подтверждение. Подтверждение жизни в себе, себя в стихе, стиха в поэзии, поэзии в высшем. И все частные и профессиональные проблемы роста, вычищения стиха, использования нового материала – то же самое подтверждение, подтверждение и подтверждение. И сама страсть к этому подтверждению – то же подтверждение.
- 11 | 00812 На птичьей полусогнутой ноге
- Как человек, притворно ходит муза
- Она со мной не празднует союза
- По наущенью же небес небесных
- Она над мною празднует надзор
- Чтоб, не дай бог! – что выдал за свое
- Но чтобы было все как Божий дар
- А сам лежал в сторонке, словно шкурка
- Чтоб не мешал Божественну дыханью
- Идти сквозь моих ребер придыханье
- До самого момента издыханья
- Когда лежать в сторонке влажной шкуркой
- Какая ж она муза?! – она ж урка!
- Весна кругом, кругом прохладная прохлада
- И синевой усилен свод небес небесный
- И солнечный сияет солнца шар
- Из твердых шуб выходит люд прелестный
- Особно женщины с приманками своими
- Кто создал их? и как им будет имя?
- Куда бегут? и почему все мимо?
- Возможно потому что будет смерть
- Возможно так. Возможно так и будет.
- Возможно будет все наоборот
- Придут, возможно, просто скажут: Этот!
- Возможно, следом хлынет кровь от слова
- Употребить, возможно, надо будет пулю
- Употребить, возможно, надо будет пулю снова
- Употребить, возможно, надо будет пулю снова-снова
- Тем временем и шкурка охладело
- Отвалится – тогда употребляй ее на дело
- До блеска натереть какой ботинок
- Или какой до блеска полботинок
- Или уж вовсе чей четвертьботинок
- А я ведь и ребенком был когда-то
- Каникулярным летом позабытым
- Не знал ни малой ни беды-заботы
- А ведь кругом ходил злодей зубатый
- А я был мальчик, и меня любили
- Как говорил поэт Владислав Ходасевич:
- Любила мама и водила в гости
- Где мальчика того родные кости!
- В каком музее! кто с ним ходит в гости
- Смотреть на тоненькие птические кости
- Какие ходят пожилые гости
- В музей, где рядышком другие кости
- К которым ходят, но другие гости
- Смотреть на те, а заодно – и эти кости
- Которых кости еще ходят в гости
- А вот еще привиделась картина:
- Сидел на почве неогромный человек
- На землю крылья положив ладонью кверху
- И приподнял одно – одна пустая яма
- Поднял другое – и другая яма
- Для всех кто здесь, остался, не уехал
- Не захотел, не смог иль опоздал
- И полетел и сверху закричал:
- Господь здесь пожелал пустое место!
- Господь здесь пожелал пустое место!
- Пусть мертвецы своих хоронят мертвецов
- Пусть мертвецы своих в тиши хоронят мертвецов
- Пусть эти мертвецы своих в тиши хоронят мертвецов
- Эти мертвецы своих в тиши хоронят мертвецов
- Мертвецы своих в тиши хоронят мертвецов
- Своих в тиши хоронят мертвецов
- В тиши хоронят мертвецов
- Хоронят мертвецов
- Мерт-ве-цов
- Ве-цов
- Цов
- 11 | 00813 Не побоимся этих слов
- Утерянных для стихотворства
- Что жизнь есть бесконечный прах
- Бесконечный прах
- Прах
- Прах безупречный
- Прах безупречный если взглянуть
- На дело с ветра стороны —
- Кого ж ему свивать в народы
- Кого ж селить среди природы
- Кого сносить в последни воды
- И обращать в последный прах
- Кого же как не местный прах
- Местный прах
- Прах
- Прах монотонный
- Прах монотонный но пристрастный
- И поделенный внутрь себя
- И тем живой и ненапрасный
- Не просто он носимый прах
- Он сам он тоже носит прах
- Другой он носит – праха прах
- А наш – предмет спасенья прах
- Предмет спасенья прах
- Спасенья прах
- Наш прах
- Прах
- 11 | 00814 Был летний день в безоблачной Эстоньи
- Шел лесом к морю я свободною походкой
- Нехитрый строй мои приняли мысли
- Да – в стороне лицом в траву лежаща
- Случайно я заметил человека был он мертв
- Лежал он и возможно был он мертв
- Но нет, скорей, он не был мертв
- Хотя, возможно, все же был он мертв
- Иль нет, наверное, он не был мертв
- Хотя, скорее, все же был он мертвый
- А, впрочем, отчего же он был мертвый
- Нет, все-таки тогда он не был мертв
- А, может быть, в то время был он мертв
- Или скорее…
- Но нет – не получается рассказа
- 11 | 00815 Проносись, моя жизнь, проносись!
- А не хочешь – так не проносись
- Ляг здесь и помирай по марксистс —
- ским законам о жизни, иль вдруг
- Помирай по каким-нибудь друг —
- им законам, где смерть – это жизнь
- Они лучше, они хоть наш жи —
- вот отделят от нашей души
- Ее корни уж так хороши
- А плоды – те не так хороши
- А верней – не всегда хороши
- А бывало ведь раньше душа —
- Чем уж только вам не хороша
- Столько благости было в душе
- Хоть сиди рядом и хорошей
- Или дева какая была —
- До чего ж хороша да бела
- Ни предмета какого белей
- А теперь на виду кобелей
- И табун вороных кобылей
- Будет будто бы снега белей
- И откуда же будет душа
- При условьях таких хороша
- Нет не быть уже больше душе
- С ходом времени все хорошей
- А тогда уходи, уносись
- Куда хочешь, душа, уносись
- Если хочешь – согласно марксист —
- ским законам
Вирши на каждый день
1979
Предуведомительная беседа
(ОРЛОВ, МИЛИЦАНЕР И ПРИГОВ)
(сидит Орлов, выходит Милицанер)
- МИЛИЦАНЕР Что читаешь, товарищ?
- ОРЛОВ Да вот – последний сборник Пригова
- МИЛИЦАНЕР Постой, постой, Пригов… Пригов… А! Вспомнил.
- Это который такие вроде бы стихи пишет.
- ОРЛОВ Почему же это, товарищ, вроде?
- МИЛИЦАНЕР Ну, на таком вроде бы непоэтическом языке.
- ОРЛОВ А что же это за такой поэтический язык?
- МИЛИЦАНЕР Как бы вам это объяснить? Он пишет не на русском
- языке, а на некой новоречи. Как если бы я, например,
- пришел бы к женщине и лег бы к ней в постель
- в мундире.
- ОРЛОВ Да, но и во фраке к женщине тоже ведь не ляжешь.
- МИЛИЦАНЕР Но это все-таки как-то поприличнее, что ли.
- ОРЛОВ А на пост во фраке выйдешь?
- МИЛИЦАНЕР Ну, то работа, должность, о ней разговор особый.
- ОРЛОВ О всем разговор особый, да один и тот же.
- (вбегает Поэт, в данный момент под фамилией Пригов)
- ПРИГОВ Здравствуйте, здравствуйте, товарищи! Что читаете?
- ОРЛОВ Вот, ваши стихи, Дмитрий Александрович.
- ПРИГОВ Это какие же такие мои стихи?
- ОРЛОВ Уж будто и не знаете, Дмитрий Александрович!
- ПРИГОВ Откуда мне знать, Борис Константинович.
- ОРЛОВ Ох, уж эти мне поэты, все бы им пококетничать.
- Но ваши вирши читаем, Дмитрий Александрович.
- МИЛИЦАНЕР Это он читает, я не читаю.
- ПРИГОВ А-а-а… вирши. (Косится на милицанера).
- Да это все так. А вообще-то я лирик. Блок я.
- МИЛИЦАНЕР Блок?
- ПРИГОВ А что?
- МИЛИЦАНЕР Нет, ничего.
- ОРЛОВ А на мой взгляд, замечательные вирши.
- МИЛИЦАНЕР Что, правда?
- ОРЛОВ Правда. Видите ли, в стихе с регулярным размером,
- мысль кажется вещью случайной, то есть, всегда
- ощущение какого-то фокуса.
- МИЛИЦАНЕР Фокус?
- ОРЛОВ Ну, да. Все думаешь, как это в нужный размер еще
- что-то и разумное уложилось. А в виршах мысль
- является конструктивным принципом стиха.
- Почти физически ощущаешь, как предложение
- со всеми оговорками и неизбежной для рефлексии
- отбеганиями в сторону добегает до неизбежной на этом
- нескончаемом, затягивающем и самопорождающемся
- пути до рифмы. Выходит не мысль в стихе,
- а стих посредством мысли.
- МИЛИЦАНЕР (Пригову) И это ваши вирши?
- ПРИГОВ Нет, нет, не мои. Это его. Он умный.
- А я бесхитростный, я – Исаковский.
- МИЛИЦАНЕР Исаковский? А он сказал, что ваши.
- ПРИГОВ Ах, поэты, поэты! Все бы им пококетничать.
- Они же патологически скромны. Ужас какой-то!
- Ведь вот ведь как он все про эти вирши знает
- и понимает. Точно его. Ах, прежде чем поэта заставишь
- сознаться, столько всего утечет. Вы его, наверное,
- напугали, вот он и сказал, что не его.
- МИЛИЦАНЕР Нет, я его не пугал. Стихи не ругал.
- ПРИГОВ Не ругали? Понятно. Понятно. Ну, тогда,
- как бы вам сказать. действительно,
- это в некотором роде мои стихи.
- А то, что они не мои, так это я выразился фигурально.
- МИЛИЦАНЕР Как это фигурально?
- ПРИГОВ Ну, в том смысле, что я сейчас пишу уже другие стихи.
- А эти – как бы уже и не мои. Они уже скорее чьи-то,
- кто их читает, сопереживает им или ругает их, вот,
- например, Орлова. А я-то тут при чем? А?
- Я вас спрашиваю, товарищ Милицанер?
- МИЛИЦАНЕР Как это – при чем?
- ПРИГОВ А вот так. Я уже другой. Мне они уже чужие.
- А кому они в данный момент близки – с тех
- и спрашивайте, а кому не близки – с теми
- и спрашивайте. А я сейчас пишу чистую нежную
- лирику. Я уже не Ломоносов. Я сейчас поэт
- без малейшей мысли в голове. Я сейчас Есенин.
- МИЛИЦАНЕР Есенин?
- ОРЛОВ И напрасно. На мой взгляд, вирши – это лучшее
- из всего, что вы написали, Дмитрий Александрович.
- И как мне кажется, это есть как раз наиболее
- адекватное выражение вашей поэтической сути.
- ПРИГОВ Ах, читатели, читатели! Ведь как это страшно быть
- узаконенным, даже для самого себя! Хотя, нет.
- Я неправ. Многие даже из этого некое начальственное
- место себе соорудили. Сидят себе – прямо
- благородные Герцены, а тут к ним вдруг в их
- лондонскую там, или московскую здесь, квартиру
- в черном пиджачке Нечаев входит и все благородное
- портит. И забывают, что сами-то – такие же Нечаевы,
- а никакие не Герцены.
- МИЛИЦАНЕР Так вы кто же на самом деле гражданин —
- Нечаев или Герцен?
- ПРИГОВ Нет, нет, нет. Вот я кто. (протягивает паспорт)
- МИЛИЦАНЕР (читает) До-сто-евс-кий. Это что же,
- вы тот самый знаменитый писатель и есть?
- ПРИГОВ Он самый.
- МИЛИЦАНЕР Так, значит, вы все это и выдумали?
- ПРИГОВ Выдумал.
- МИЛИЦАНЕР И меня тоже?
- ПРИГОВ Все, все выдумал! И тебя тоже.
- МИЛИЦАНЕР И его? (указывает на Орлова)
- ПРИГОВ И его! И его! Он совсем не такой. Все я выдумал.
- Весь мир выдумал! И себя тоже! Себя тоже выдумал!
- Никакой я не Достоевский. Пригов я! Пригов!
- Слышите вы – Пригов!
- 11 | 00816 Если смысл жизни в нас самих положен
- То отсюда и вывод непреложен:
- Смыслов жизни столько – сколько на земле людей
- А что касается наших детей
- То из вышесказанного следует непреложно
- Что утверждение: Дети – наше будущее! – ложно
- Мы сами свое будущее всегда и везде
- А чужие будущие живут сами по себе
- 11 | 00817 Всякая мало-мальская свобода
- Это потом ищет выхода, а сначала она ищет входа
- Сначала она на небе сидит
- Вниз так строго и внимательно глядит
- Когда кого подходящего заметит – сразу слетает и внутрь
- входит
- А потом начинает томиться и выхода себе не находит
- И тяжко, тяжко тому, кто ей вместилищем служит
- Выход-то уже – постарались! – завалили да и приперли
- снаружи
- А тот, в ком нет ни выхода ни входа
- Тот говорит: Свобода – ясная вещь! А что – Свобода?
- 11 | 00818 Восточные женщины рая
- Весьма беспомощны мужчин выбирая
- Потому что это дело не их:
- В природе их выбирают самих
- А западная женщина ада
- Выбирать и свободна и рада
- И поскольку выбирает она сама
- То терпит в мужчине и слабость и преизбыток ума
- 11 | 00819 Как страшно жить в безжалостной истории
- Словно на неподвластной истине и оправданию территории
- Так Борис Годунов по прошествии стольких чужих слов и дел
- И сам в результате уверовал, что царевича убил и даже съел
- А другие, кто действительно был замечен при жизни в этом
- деле
- Уверились, что святые, что только и делали, что постились
- – не пили, не ели
- 11 | 00820 Канадец грозный как под Ватерлоо стоит
- Но наш спокойно в шлеме и с клюшкой на него глядит
- Что ему нужно в такой от Родины дали
- Не отдадим ему ни пяди нашей земли
- Но покроем себя славной несчетной
- А коли силы неравны – погибнем все, так и не узнав
- окончательного счета
- 11 | 00821 И вдруг я делаюсь на миг вечно свободен
- Хотя вроде бы и не умирал и не делал даже шага в сторону
- вроде
- Но нету уже во мне ни великости, ни малости
- Но главное, что нету, хотя есть как и прежде – в полной
- мере – и даже больше,
- ни капли жалости
- Ни жалобы, словно у какой геометрической фигуры
- (хотя у нее, фигуры, вполне возможно, что есть), а у меня – нет
- И выходит – что я лишен всяческих примет
- 11 | 00822 Душа незаметна, потому что легка как дымка
- А может быть она есть чистая выдумка
- Может быть все, что про нее пишут – душа страдает,
- душа ликует – все это ложно
- Но дело не в том, что может быть или не быть, а в том,
- что быть должно
- А душа быть должна
- Хотя может и не быть – как случаются холостяки,
- в то время как у всех прочих есть жена
- 11 | 00823 С трагическим усердьем слежу я за нашим временем
- И нету горшего занятия, большего бремени
- Вот вижу: какие уж времена проходят
- А все государство с народом, или хотя бы народ
- с государством, согласия не находят
- Лезут в одну дырку пихаясь и толпясь
- И возникает между ними при этом вроде бы тесная связь
- Но кто-то из них занимается не своим делом
- Как если бы душа возжелала стать вторым телом
- 11 | 00824 Вспоминаю свое далекое, но вполне конкретное детство
- Ведь было! – так куда же оно умудрилось деться?
- Были дом и сад и точное детское тело
- Но что-то не припоминаю ни своего детского скелета,
- ни детской могилки —
- куда же оно улетело
- Или до сих пор все это внутри меня отдельным размером
- сидит
- Незабываемое, но и недоказуемое, не явное на вид
- 11 | 00825 Дом вокруг печки на четыре стороны стоит
- Вокруг дома повытоптанная трава лежит
- А вокруг травы – лесная прогалина, а за прогалиной – леса
- За лесами – плотный воздух, потом воздух поразреженнее,
- потом пустота, а за ними – небеса
- А за небесами в обратной точке тьма стоит
- А внизу, внутри дома, в центре – человек сидит
- Он сидит и думает: вот последний мой час настает
- Сейчас окружающее где-то даст слабинку: дырочка
- маленькая – и тьма натечет
- 11 | 00826 Когда я размышляю о поэзии, как ей дальше быть
- То понимаю, что мои современники должны меня больше,
- чем Пушкина любить
- Я пишу о том, что с ними происходит, или происходило,
- или произойдет —
- им каждый факт знаком
- И говорю им это понятным нашим общим языком
- А если они все-таки любят Пушкина больше чем меня,
- так это потому, что я добрый и честный:
- не поношу его, не посягаю на его стихи, его славу,
- его честь
- Да и как же я могу поносить все это, когда я тот самый
- Пушкин и есть
- 11 | 00827 Будь на то моя воля
- Я бы снова учредил сословья
- Ну, может быть, не в тех рамках, что прежде, но учредил
- бы снова
- А то к чему свобода слова тому, у кого нет и одного слова
- Ему этого просто не понять
- Или – свобода забастовок, кому не от чего бастовать
- Нет, конечно, может быть и общая свобода, но она,
- как правило, с пользой
- у нас не дружна
- О свободе слова рассуждают в основном те, кому она
- не нужна
- 11 | 00828 Что же это такое —
- Прихожу домой – и нету мне дома покоя
- Бегу на улицу, а если рядом лес – бегу в лес
- И там покоя нет, словно гонит меня какой бес
- Бегу к знакомому, приятелю, но в общем-то чужому человеку, неповинному в том
- Опять нет покоя, бегу в следующий дом
- Так как мы устроим на земле мир во всем мире
- Когда найдется вот такой, какому нет покоя ни на улице,
- ни в гостях, ни
- в собственной квартире
- 11 | 00829 Как я понимаю – при плановой системе перевыполнение
- плана есть вредительство
- Скажем, шнурочная фабрика в пять раз перевыполнила
- шнурков количество
- А обувная фабрика только в два раза перевыполнила план
- Куда же сверх того перевыполненные шнурки девать нам
- И выходит, что это есть растрачивание народных средств
- и опорачивание благородных дел
- За это у нас полагается расстрел
- 11 | 00830 Да, он ужасен, но не ужаснее, чем вся остальная
- история мира
- Имеющая целью родить и такого вот вампира
- И если мы от него отмахнемся как от случая
- То что в истории поймем, кроме возрастания благополучия
- Нет, Сталин – это мы даже в большой степени,
- чем подозреваем
- И в этом смысле он – вечно живой, как раньше и говорили,
- но совсем не это подразумевая
- 11 | 00831 Говорят: нет зла, есть отсутствие добра. А разве
- отсутствие добра не зло?
- На этом деле, кстати, очень коммунистам не повезло
- Им казалось: изничтожь частну собственность —
- и все станут добряки,
- А вот теперь ходят и сами потирают синяки
- Нет, зло вполне реально, вроде того козла
- Какое там добро! – хорошо бы просто отсутствие зла.
- 11 | 00832 Вдруг мне показалось, что на улице зима
- Которая постоянно сводит с ума
- Как блестящий металлический шарик на уровне глаз
- Уводит от окружающего и словно завораживает нас
- Так любой предмет пристального внимания или неприятия
- нас уничтожает
- И совлекает с нас Жизнь и Смерть обнажает
- 11 | 00833 Я видел, как падали люди с отвесной стены
- По жестоким, но и не чуждым человеку законам войны
- Как человек пытал человека и внутри у него
- на то способность, он захотел и смог
- И все это выдумал Бог
- Природа до такого не додумалась бы сама
- Разве что – до целесообразной обыденности
- усвоившего ее ума
- 11 | 00834 Женщины особенно страдают в этом мире
- И одинокие и в замужестве и даже в собственной квартире
- Потому что их печальный народ
- На привязанность уповает, ею только и живет
- И в утверждение упования привязывать начинает
- Ну, тут уж все ясно: где влезет – там и слезет,
- где начинает – там и кончает
- Потому что этот мир – не мир собственно, а перерыв
- Не квартира собственно – а пропасть,
- не связь собственно – а разрыв
- 11 | 00835 Прошиты желтоватой нитью
- Осенних возвестительных дождей
- Как в гобелене тьма самых немыслимых событий
- Сложилась вдруг в плоскость двух-трех дней
- Где слева, с краю, я не сказал еще ни слова
- А справа – уже ухожу
- А дальше и вовсе – пропадает нитевая основа
- И я уже не изобразительный, а смытый и невидный лежу
- 11 | 00836 Товарищи! В канун великого праздника Революции
- Рассмотрим возможные результаты неслучившейся
- Эволюции:
- Под влиянием Столыпинской реформы постепенно
- развились высокоразвитая промышленность и современное сельское хозяйство, а может быть —
- и нет.
- Народ постепенно приучился бы к демократическому
- сознанию, а может быть и нет
- И стала бы наша страна постепенно снова великой
- могучей и прекрасной,
- а может быть и нет
- В общем, примерно то же самое, но за гораздо большее
- количество лет
- Но зато и с меньшими людскими потерями
- Правда, это человеку дорога жизнь, а время дорого истории
- 11 | 00837 Вот вижу: памятник Ленину в Ташкенте стоит
- Неужели он и здесь жил? – не похоже на вид
- Нет, скорее всего. А как умер – так и живет
- И Дзержинский, и Маркс и прочий великий народ
- Так думаю: и я может быть
- Пока жив – нет сил жить сразу везде, а вот умру —
- начну жить
- 11 | 00838 Внимательно и долго всматривался я в себя в зеркало
- не смущаясь
- И это не было неприлично, не какая там шалость
- Но безутешная игра угадать свое Нечто, а Оно вместе
- со мной снаружи в зеркало смотрело
- Правда, временами пытаясь отбежать и хоть частицей
- вселиться в это тело-не тело
- И даже не картину, за которую всегда таким вот образом
- забегает художник
- Но исполнился я жалостью и умилением: это холодное
- и бесполое тоже ведь – тварь Божья
- 11 | 00839 Ах, как меня одна японка любила
- Она была прекрасна, просто чудо, да и все остальное
- было мило
- Как-то особенно по-японски чисто и нежно
- А может быть, она была не японка, а китайка, и даже больше
- – финка-норвежка
- Да и вообще: жизнь есть сон! – как сказал Кальдерон
- и отвез
- Или как говорят в советских фильмах: на этом месте
- пионер Дима проснулся
- 11 | 00840 Вопрос о хорошем вкусе – вопрос весьма мучительный
- Тем более, что народ у нас чрезвычайно впечатлительный
- Как часто желание отстоять и повсеместно
- утвердить хороший вкус
- доводит людей до ожесточения
- Но если вспомнить, что культура
- многовнутрисоставозависима,
- как экологическая среда, окружение
- То стремление отстрелять дурной вкус как волка
- Весьма опасная склонность, если мыслить культуру
- не на день-два, а надолго
- В этом деле опаснее всего чистые и возвышенные
- порывы и чувства
- Я уж не говорю о тенденции вообще отстреливать
- культуру и искусство
- 11 | 00841 Вот женщины танцуют между столами как при
- каком-нибудь хане
- или шахе, например
- И все это в доме приемов правительства Узбекской ССР
- Что я могу сказать: приятно, красиво и вкусно
- И даже до некоторой степени не унижает искусства
- А наоборот – соприкасает с земной радостью и утехой
- А хочешь в облака лететь – лети! кто тебе помехой
- 11 | 00842 Москва – столица нашей Родины
- Отчего же такая плохая погода по прихоти
- какой-то природины
- Нет, конечно, в основном – хорошая погода,
- но эти нарушения —
- Прямой вызов принципу стабильности
- и постоянного улучшения
- И дальше так жить нельзя, едри его мать
- Надо менять природу, коли столицу нельзя сменять
- 11 | 00843 В жизни всегда есть место для подвига, даже когда его нет
- Вот скажем совсем простой случай: поэт
- Он может не писать стихотворения, а пишет
- Словно каким углекислым газом во вред себе дышит
- Или наоборот: когда его кто-то или что-то гонит, говорит:
- пиши, рожа!
- А он отвечает: идите вы все к черту, лучше
- идейно и морально разложусь – подвиг тоже
- 11 | 00844 Как жаль их трехсот пятидесяти двух юных, молодых,
- почти еще без усов
- Лежащих с бледным еще румянцем и с капельками крови
- на шее среди дремучих
- московских лесов
- Порубанных в сердцах неистовым и матерым Сусаниным,
- впавшим в ярость патриота
- И бежавшим отсюда, устрашившись содеянного,
- и затонувшим среди местного болота
- Жаль их, конечно, но если подумать: прожили бы еще
- с десяток лишних шляхетских лет своих
- Ну и что? а тут – стали соавторами знаменитого
- всенародного подвига, история запомнила их
- 11 | 00845 Высокие слова Конституции
- Спутывать с обыденной жизнь было бы почти проституцией
- Жизнь совсем другая, хотя и не лишена своей красоты
- Посему ею зачастую правят местные правила, лишенные
- конституционной чистоты
- Но возводить их в ранг Основного закона —
- значит быть наивнее выучивших арифметику детей
- Конституция как Плерома – и не действуя, любых законов
- реальней и действительней,
- да и в высшем смысле —
- самой жизни живей
- 11 | 00846 Вчера починяя обитые ступеньки крыльца
- Обнаружил я две кошачьи мумии с сохранившимися
- присохшими улыбками своего лица
- Были они потустороннего (когда-то, видимо, пушистые,
- милые) страшного и плоского вида
- Эти, сгубленные какой-то трагедией, или просто случаем,
- кошачьи Радамес и Аида
- И подумал я: вот ты ходишь, любуешься, берешь
- и оставляешь вещи
- А как истлеешь, кто тебя полюбит – разве что только
- с тобою рядом истлевший
- 11 | 00847 Государство – это отец, его мы боимся и уважаем
- А в дни празднеств и побед с собою отождествляем
- А Родина – это, естественно, мать, ее мы любим
- и даже больше – обожаем
- И стыдимся, и ревнуем, и презираем, и помыкаем,
- и мучаем, и желаем
- И наиболее впечатлительные, как говорит Фрейд,
- убивают отца и с Родиной сожительствуют и все
- не удовлетворены вполне
- А мы – мы простые люди, мы и с отцами разойдемся
- да и женимся на стороне
- 11 | 00848 Заметил я, как тяжело народ в метро спит
- 1 |00064 Как-то тупо и бессодержательно, хотя бывают
- и молодые на вид
- Может быть жизнь такая, а может глубина выше
- человеческих сил
- Ведь это же все на уровне могил
- И даже больше – на уровне того света, а живут и свет горит
- Вот только спят тяжело, хотя и живые на вид
- 11 | 00849 Известно, что можно жить со многими женщинами
- и в то же время душою той единственной не изменять
- Как же в этом свете измену Родине понимать
- Ведь Родину мы любим не плотью, а душой
- Как ту единственную, или не любим – тогда тем более
- измены нет никакой
- Но все это справедливо, конечно, если Родину, как у Блока,
- как женщину понимать
- Но нет никакого оправдания, кроме расстрела,
- если она – мать
- 11 | 00850 Нет последних истин – все истины предпоследние
- И в смысле истинности и в смысле порядка следования
- Да и как бы человек что-то окончательное узнал
- Когда и самый интеллигентный, даже балерина,
- извините за выражение, носит внутри себя
- в буквальном смысле, кал
- 11 | 00851 Я пил коньяк Камю и Шартрез с его тремя преследующими
- друг друга вкусами
- Пытаясь французскими средствами нейтрализовать
- жизнь с ее глубокими укусами
- И мне временно удавалось отстоять независимость
- позы и лица
- Но она по-советски, а в общем-то – по-международному,
- заходила и кусала
- с другого конца
- И я подумал: коли ей дано нас зубами касаться
- Отдам ей ее кусок меня и не буду считать его своим,
- а как бы общим, где мы будем равноправно кусаться
- 11 | 00852 Да здравствует территория, народ, да и КПСС
- Советского Союза
- Слепленные в нечто такое историческими обстоятельствами
- и времени узой
- Да здравствует и мир во всем мире
- Включающий в себя и войны, а то куда же их девать,
- не делать же вид, что они противоестественны человеческой натуре
- Да здравствует Я – яркий представитель
- современной культуры
- Предоставленный Богом для этой естественной, живучей
- и смертной макулатуры
- 11 | 00853 Чтоб понять, чтоб понять
- Что же это в мире происходит
- Мало просто честным человеком быть
- Надо еще быть и чем-то бессовестной птицы вроде
- Чтоб щебетая возлететь
- Пусть и умственным усильем
- Над этим миром, имеющим конечным определением
- все-таки смерть
- И увидеть все это как бы в некоем историческом веселье
- 11 | 00854 Какой же надо достичь степени величья
- Чтоб твоя зубная боль стала всенародным горем
- безграничным
- Но в то же время в этом опасность для обоих:
- Народ будет слишком уж увлечен твоею всегдашнею болью
- А ты, как бы это деликатнее выразиться – ведь не узнаешь
- наперед
- Вдруг с тобой не зубная боль, а что-нибудь неприличное
- произойдет
- 11 | 00855 Людмила Зыкина поет
- Про те свои семнадцать лет
- А что ей те семнадцать лет
- Тогда она и лауреатом Ленинской премии-то не была
- Вот мне про те семнадцать лет
- И плакать бы как про утрату
- Что приобрел я за последующие двадцать лет?!
- Оглядываюсь, шарю по карманам – ни премии, ни почета,
- ни уважения, разве что
- в годах приобретение —
- да это все равно что утрата
- 11 | 00856 Вот букашка по руке мальчика ползет
- Который вырастет, окончит школу в Университет пойдет
- Где будет слушать лекции московского профессора
- Рубинштейна
- Излагающего взгляды великого Альберта Эйнштейна
- В чем-то схожие с мыслями великого древнего индуса
- Шанкары
- Чей друг повинуясь неумолимым законам Кармы
- За свои грехи в одном из будущих рождений букашкой
- станет жить и вот —
- По руке мальчика ползет
- 11 | 00857 Трудно жить на свете порой
- Так пхнешь в сердцах кошку ногой
- А рядом девочка заплачет горько
- А ее мать работает в Парке культуры и отдыха имени
- Горького
- Где одна посетительница знала сестру генерала Брусилова
- жены
- Вот и выходит, что ты виновник Первой мировой войны
- 11 | 00858 Основатель Первой Конной
- Семен Михайлович Буденный
- Имел друга, у которого любовницы муж
- Был честным человеком и к тому ж
- До чрезвычайности общителен и один его знакомый
- Знал бойца Третьей Конной
- 11 | 00859 Обычное дело – непогода
- Но как представишь себе, что до следующей весны
- два-три года
- То если бы это было в моей моральной и человеческой
- власти —
- Отдался бы любой претендующей власти
- Осмысленно отрицающей наличие погоды
- Не говоря уже вообще о поголовной заселенности смертью
- антигосударственной природы
- 11 | 00860 Дело было вечером
- Делать-то было в общем нечего
- Да и потом делать было нечего
- А потом и вовсе уж делать было нечего
- В смысле – ничего не поделаешь
- Хотя это было с самого начала
- 11 | 00861 Полурусский смысл его понятно-нечеловеческих
- устремлений
- Тяжелой зрелостью отличался от всего, что делал Ленин
- Даже скорее зрелостью самого проведения
- Так что оба достойны пятерки за поведение
- А с народом сложнее – он вроде бы круглый идиот:
- Он, как все, руку тянет, а как спросят – так и не знает
- о чем речь идет
- 11 | 00862 Еврей тем и интересен, что не совсем русский
- А китаец тем неинтересен, что совсем не русский
- А русский не то чтобы неинтересен
- А просто – некая точка отсчета тех кто интересен
- и неинтересен
НЕБО, ЗЕМЛЯ, ЛЕТО, ЗИМА
I
- 11 | 00863 Небо-то оно – небо
- Да сколько до него лететь
- Не менее, чем треть
- Совокупной жизни всего человечества, едри его мать
- Земля-то она – земля
- Зато рядом, тем более, смерть
- Тем более, что треть
- Человечества уже и померло, едри его мать
II
- 11 | 00864 Лето-то оно – лето
- Да столько его ждать
- Что можно и помереть
- Ждя это, как соловей лето, едри его мать
- Зима-то она – зима
- Зато рядом и не надо ждать
- Можно даже не помирать
- Ждя лето, как соловей это, едри его мать
- ИНТЕЛЛИГЕНТ Что живет, живет, а потом умирает?
- РАБОЧИЙ Человек
- ИНТЕЛЛИГЕНТ Нет – Правда! Загадка вторая: Что бесплатно на этом свете?
- РАБОЧИЙ Образование
- ИНТЕЛЛИГЕНТ Нет – Правда! Вопрос третий: Что не поймаешь и не положишь на плаху?
- РАБОЧИЙ Любовь!
- ИНТЕЛЛИГЕНТ Нет – Правда! Я победил!
- РАБОЧИЙ А пошел ты на хуй!
20 доказательств
1982
Предуведомление
Если пределом поэзии считать молчание, то, по мере удаления от него, можно различить следующие ближайшие уровни: называние (номинация), утверждение (постулирование), доказательство. Именно на этом уровне проявляются такие речевые возможности поэтического языка как вариативность и комбинаторика.
Онтологическое доказательство
- 11 | 00865 Когда бы этому не быть
- Так отчего же оно есть
- А коль оно в итоге есть
- Так отчего же ему быть
Научное доказательство
- 11 | 00866 Когда бы этому не быть
- Так отчего же ему быть
- А коль оно в итоге есть
- Так отчего ж ему не быть
Доказательство от обратного
- 11 | 00867 Коли это скажем есть
- Так ведь может и не быть
- А коли может не быть
- Так оно напротив есть
Доказательство верой
- 11 | 00868 Коли этому не быть
- Значит этому не быть
- Значит так тому и быть
- Значит так оно и есть
Парадоксальное доказательство
- 11 | 00869 Когда бы этому не быть
- Не быть поскольку оно есть
- Поскольку есть чтобы не быть
- Не быть ему, чтоб быть как есть
Наивное доказательство
- 11 | 00870 Как же этому не быть
- Когда вот же оно есть
- Это же не может быть
- Это же неправда есть
Фаталистическое доказательство
- 11 | 00871 Коли этому не быть
- Так что пользы коли есть
- Потому что в смысле есть
- Вовсе ведь не значит быть
Художественное доказательство
- 11 | 00872 Когда бы этому не быть
- Прекрасно что оно вот есть
- Поскольку же такое есть
- Прекрасно что ему не быть
Психологическое доказательство
- 11 | 00873 Коли этому не быть
- Так ведь как же мне-то быть
- Потому что коль я есть
- И оно в итоге есть
Логическое доказательство
- 11 | 00874 Когда бы этому не быть
- Так что ж оно такое есть
- И как же это может быть
- Чтобы не быть а все же есть
Прагматическое доказательство
- 11 | 00875 Коли этому не быть
- Хоть оно обычно есть
- Что же тогда будем есть
- Что же тогда будем быть
Абсурдное доказательство
- 11 | 00876 Когда бы этому не быть
- Чтобы не быть когда бы есть
- Когда бы и не есть – не быть
- Когда бы и не есть – не есть
Прямое доказательство
- 11 | 00877 Когда бы этому не быть
- Тогда бы этому не быть
- Когда же оно все-тки есть
- Тогда же оно все-тки есть
Антинаучное доказательство
- 11 | 00878 Коли этому не быть
- В том что уже явно есть
- Значит что-то должно быть
- Вместо того что не есть
Недоказательство
- 11 | 00879 Кабы этому не быть
- Да кабы этому не быть
- Кабы все что ни на есть
- Кабы стало бы что есть
Легкомысленное доказательство
- 11 | 00880 Коли этому не быть
- Так и этому не быть
- Так быть может это есть
- Или что другое есть
Глубокомысленное доказательство
- 11 | 00881 Когда бы этому не быть
- Оно возможно так и есть
- Должна на то причина быть
- Которая не следствье есть
Оптимистическое доказательство
- 11 | 00882 Коли этому не быть
- Коли так оно и есть —
- Надо же такому быть
- В этом все же что-то есть
Житейское доказательство
- 11 | 00883 Коли это скажем есть
- Так чего ж ему не быть
- Ну а коль ему не быть
- Значит так оно и есть
Хвостатые стихи
1984
Предуведомление
Как сразу бросается в глаза, к нормальному стиховому организму снизу приделано некое развевающееся, разматывающееся, распыляющееся окончание неизвестного предназначения. Именно поэтому стихи названы хвостатыми. Но все, конечно, зависит от точки зрения – откуда посмотреть. Если посмотреть снизу, так и стихи можно назвать рогатыми. Пока я еще предпочитаю смотреть сверху.
- 11 | 00884 До восьмьдесят восьмого года
- 8035[11] Давай же, Рейган, жить любя друг друга
- И будет тихая прекрасная погода
- И ласточки будут летать любя друг друга
- И звери будут ластиться любя друг друга
- И люди будут ссориться любя друг друга
- Ракеты будут рушиться любя друг друга
- И земли будут рушиться любя друг друга
- И мир будет рушиться любя друг друга
- И все вокруг вскипит, вскипится, взроется, взовьется, обрушится, пыль мелкую поднимая, взвивая вверх, взбрасывая, засевая уголки отдаленные, все обнимая, выравнивая, отъединяя, утешая, умиряя, смиряясь, обнявшись и от мелочей мелких отрешившись, принимая, лаская, неземной любовью любя друг друга.
- 11 | 00885 Без видимых на то причин
- 8037 Что-то ослаб к Милицанеру
- И соприродному размеру
- Ему подобных величин
- Через прозрачного меня
- Уходит жизнь из этой сферы
- Иные, страшные размеры
- Ночами ломятся в меня
- Но я их пока не допускаю
- На мой конкретный облик примериться на время, необременительное для них по причине их вечности, ласково отставляя.
- 11 | 00886 Выхожу я на улицу Волгина
- 8038 Вижу: бродит ужасный злодей
- Посреди неразличных людей
- От меня же он не укроется
- Подхожу к нему как полагается:
- Я узнал тебя, страшный злодей!
- Он кричит и как червь извивается:
- Что ты делаешь между людей
- Проклятый?! – и скрывается
- Лающий
- Воющий
- Взвывающий голосом протяжным, мучительным, неисчезающим, тянущимся от самой Сибири, нитью кровавой по дну Оби и Енисея проскальзывающий, шнуром толстым через Уральский хребет переползающий, переваливающий, под Волгу ныряющий, Москву по кольцевой дороге охватывающий, в центр ее влетающий, ввергающийся, свивающийся, вскидывающийся фонтанами черной земли и асфальта, камня полированного, золота обрамляющего,
- и на небо обратным фонтаном крутящимся уходящий.
- 11 | 00887 Ведь вот ведь – малое дитя
- 8108 А вырастет простою бабой
- И будет думать все: куда бы
- Девать себя, а то когда бы
- Была бы малое дитя —
- Все плакала бы безутешно
- До наших дней – и всякий грешный
- Устыдился бы
- Сокрушился бы сердцем тонким, морщинистым, прослезился бы, голову бы свою твердую пеплом усыпал бы и снова, снова слезами залился бы.
- 11 | 00888 Две юные совсем девицы
- 8120 В кафе-мороженом сидят
- Напротив их сидит поэт
- И смотрит нежные их лица
- Потом он им и говорит:
- О, юные!
- Нежные!
- Невообразимые!
- Поражающие душу щемящим чувством видимого
- с высоты моего сокрушительного возраста, лет убегающих, срока приближающегося, уже выглядывающего из-за вашего нежно-холодеющего плечика, в мои глаза пристально через ваши головы вглядывающегося, но еще сохраняющего видимость молодости ваших лет, чтобы ловко увертываться при грациозном повороте головок ваших маленьких и чистых, для быстрого взглядывания за спину существа в чем-то вам самим подобного, но уже стянувшего черты лица своего, то есть и вашего тоже – милые! худенькие мои! – стальной сетью необратимости, невозвратимости, неотвратимости, невозвратности в это тихое предвечернее кафе, мягким холодком детского мороженного овеянного, невозвратимости взгляда поэта меланхолического лелеющего, знающего и наполняющего все окружение и ваши чистые бескачественные личики, мордочки лисьи, спинки лягушачьи, ручки беличьи сиянием смиренного, неподвластного еще ему в свободном, своевольном пользовании, но лишь эпизодически, набегами тайными, случайным взблескиванием чернеющих глаз фосфорических, поворотами нежного тела юности взвращающейся, беспредельного и неоднонаправленного Эроса.
- 11 | 00889 Первая конная, пан и барон
- 8124 Шли друг на друга от разных сторон
- Шли они шли и в итоге пришли
- В общем-то в землю в итоге ушли
- И тополя шелестят с подоконника:
- Нет на земле твоего первоконника
- И пана нет, и барона нет, и царя нет, и героя нет, и первого
- в стране дезертира нет, и ассенизатора революции нет, а чего нет – того уж нет, извините.
- 11 | 00890 Мы были молоды с тобой
- 8128 Как Киевская Русь прекрасны
- А там пришел Иван Ужасный
- А после первый и второй
- Пришли большие Александры
- А следом первый и второй
- Пришли за ними Николаи
- А там и разные Кассандры
- И вместе с ними Далай-ламы
- А там и наша смерть стоит
- Какое имя предстоит
- Ей дать —
- И не знаю даже
- Какое дадим —
- Под таким и будет значиться в неописуемых пределах наших, в порывах бурного нетерпения перехлестывая границы исторические, обретая неведомые нам оттенки и придыхания, гримасы и благоволения в сердцах нам неведомых, утверждаясь волею своей, и нас тем самым в сердцах оных, нам неведомых ни по виду, ни по жару, ни по предназначению, измененными, но и неизменными, вечными, помимо своей воли и воли тех, принимающих – утверждая.
- 11 | 00891 Жил я тихо поживался
- 8131 В кулинарию ходил
- И по мере слабых сил
- Очень многим убивался
- Но под вечер восходил
- На седьмой этаж свой Грозный
- Все что вместе – стало розно
- Все что розно – во един
- Некий
- Сплелось
- Под взглядом моим в дали голубой мной
- прозревающим прозреваемой.
Песни стихи и стихоидные потоки
1985
Предуведомление
Устали мы писать стихи. Ах, устали. Все вместе, да и я, в отдельности, тоже. Стискиваем мы себя, стискиваем, усилием некой внешней мускулистой волевой руки тащим мы себя к источникам былых благоухающих вдохновений и терпим, терпим. Это ж известно, это ж всем известно, что перетерпев, бывает легче, легкость неземная бывает даже, как говорится, второе дыхание, как известно. Дотерпеть бы, а пока – страх, ужас, смятенье, разор, выклики дикие, несуразица всяческая, пока и не стихи даже, а мужество, одно мужество, исключительно.