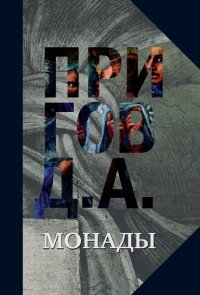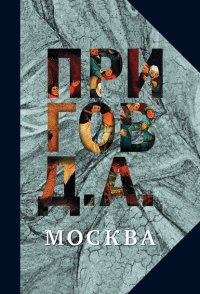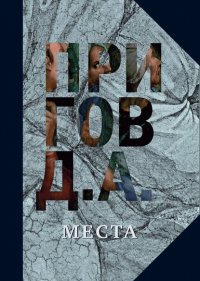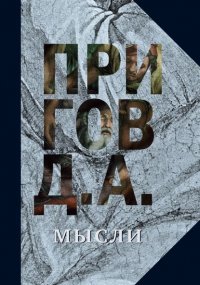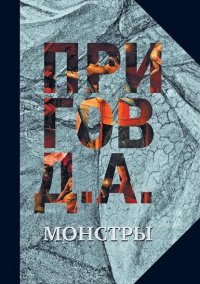
Читать онлайн Монстры бесплатно
- Все книги автора: Дмитрий Пригов
Ирина Прохорова
Предуведомление издателя
Общим местом в рассуждениях об искусстве второй половины ХХ века и, соответственно, о творчестве Дмитрия Александровича Пригова (ДАП), стали два постулата. Первый, с легкой руки Энди Уорхола, апеллирует к отказу художника от создания единичных, уникальных шедевров в пользу производства серийного культурного продукта. ДАП свой художественный имидж строил на ироническом переосмыслении понятия «стахановца», «передовика труда», перевыполняющих ежедневную норму работы. Он называл собственную невероятную поэтическую активность «безличным количественным проектом», утверждая, «что только беспрерывное письмо позволяет найти что-то новое».
Второй постулат утверждает приоритет поведенческой тактики современного художника перед созданными им произведениями. ДАП в предуведомлениях и интервью неоднократно утверждал, что в литературе ему «интересны стратегические и поведенческие модели, а не тексты».
Если еще принять во внимание, что в творчестве Пригова пластические виды искусства и перформативные практики занимали не меньшее место, нежели собственно литература, то станут понятны трудности, с которыми столкнулось издательство, пожелавшее опубликовать собрание сочинений столь многогранной и многоликой художественной личности. Каким образом можно учесть и объединить все эти особенности художественной стратегии автора: сериальность, интерактивность, многожанровость – в книжном формате?
Ответ отчасти был найден в рефлексии самих художников-концептуалистов. В своей знаменитой статье 1969 года «Искусство после философии» один из пионеров концептуального искусства Джозеф Кошут констатировал кризис современной философии, которая, отказавшись от интеллектуального анализа реальности, превратилась в каталожную библиотеку истин. По мнению Кошута, функцию философии – сохранение метафизической позиции по отношению к бытию – теперь выполняет концептуальное искусство, обладающее достаточным аналитическим инструментарием и способностью воспринимать и признавать целостность мира. В такт этим рассуждениям резонируют многие высказывания Пригова, который, глубоко и последовательно изучив философские тексты разных времен и народов, сделал их «постижением возможностей переложить на грамматику обыденного языка сложность умопостроений».
Подобная позиция помогла нам построить формулу, описывающую многовекторное творческое наследие Дмитрия Александровича Пригова. Назвав его «Данте ХХ века», мы ничуть не погрешили против истины, ибо, подобно великому итальянскому визионеру, Пригов из бесчисленных фрагментов своих произведений создал Gesamtkunstwerk, грандиозную мифологическую картину бытия современного человека, собственную философию действительности по обе стороны материальности. Эта метафора позволила нам найти ключ к исследованию и описанию разных сторон творчества Пригова, не теряя из вида стройную логику его художественной сверхзадачи. А положив в основание собрания сочинений декларируемый ДАПом принцип сериализации современного искусства, мы сформировали каждый том, опираясь на один из его четырех романов, вокруг которого расположились более мелкие прозаические, стихотворные, драматические и аудиовизуальные произведения автора. Мы принципиально отказались от нумерации томов, поскольку каждый из них, с одной стороны, вполне самодостаточен и дает представление об общем авторском демиургическом замысле; с другой стороны, тождественный принцип организации материала в каждой последующей книге создает эффект повторяемости приема и тем самым служит усилению и закреплению авторской стратегии, что так свойственно, говоря словами Пригова, серийному «художественному промыслу».
Настоящий том получил название «Монстры», поскольку выборка текстов строилась с ориентацией на третий роман Пригова «Ренат и Дракон», посвященный антропологии чудовищности человеческой природы. Тема монструозности бытия становится смысловым стержнем антропологического проекта ДАПа; лейтмотивом его творчества можно с полным правом назвать «чудесные превращения ужаса в торжество и обратно в ужас». Размышления о жестокости как фундаментальной составляющей советской цивилизации, разрушившей старую гуманистическую антропологическую модель, разбросана по всем произведениям Пригова:
«По тем временам [т. е. после Октябрьской революции] откровенно обнаружилось, обнажилось в человеке постоянно в нем присутствующее, но в иные дни если не сладко, то достаточно крепко спящее, упрятанное, экранированное нечто нечеловеческое. Вернее сказать…сверхчеловеческое».
В интервью и предуведомлениях автор раз за разом (пере)формулирует свой пристальный интерес к философской антропологии. С его точки зрения, проблема новой антропологии вставала перед человечеством в моменты кризисов, завершения больших культурных эонов, возникновения новых больших идеологий, таких как христианство и тоталитарные системы ХХ века. По мнению ДАПа, коммунистическая доктрина, провозгласившая осознанную необходимость вторжения в телесное и духовное начало человека с целью его радикального преобразования, разрушила основные принципы христианской антропологии, стоявшей на страже священной целостности тела, скроенного по образу Божиему. Грядущий новый антропологический поворот, связанный с технологической революцией, виртуализацией мира, массмедийными утопиями, окончательно подрывает устоявшиеся концепции смысла человеческого существования, размывая последние границы между естественным/искусственным, телесным/духовным, природным/культурным, живым/мертвым и т. д.
Неудивительно, что в (пост)советском универсуме Пригова так много образов телесных расчленений и деформаций, фантасмагорических переплетений человеческих и животных тел, физических страданий, призванных очертить порог человеческой выносливости. Исследователи неоднократно и справедливо указывали на глубокое знакомство ДАПа с мировой философской мыслью в его рассуждениях о феномене чудовищного, но я хотела бы обратить внимание на историко-биографический подтекст его интеллектуальной рефлексии.
Разумеется, после двух катастрофических мировых войн проблема художественной репрезентации социальной монструозности была общеевропейским интеллектуальным и моральным императивом. В Германии Ханна Арендт размышляет о банальности зла, а Теодор Адорно считает невозможным и постыдным писать стихи после Освенцима. В Англии Джордж Оруэлл в «Скотном дворе» и «1984» исследует генезис тоталитарного мироустройства. Во Франции Антонен Арто в предвоенные и послевоенные годы разрабатывает концепцию «театра жестокости», а Эжен Ионеско и Сэмюэль Беккет создают в 1950-х годах театр абсурда…
Пригов при его огромной начитанности был несомненно знаком с этими феноменами и концепциями, но я хотела бы обратить внимание на историко-биографический подтекст его интеллектуальной рефлексии. Нельзя забывать и о том, что Дмитрий Александрович принадлежал к поколению детей войны и позднесталинской эпохи, пронизанной тотальным насилием над человеческой личностью. Ужасы военного времени, изуродованные тела фронтовиков, истерические погромные послевоенные кампании, криминальный террор, бытовая жестокость и распущенность, «павлико-морозовская» атмосфера в школе, голод и нищета – такова была типовая среда обитания советского человека того времени. Творческой сверхзадачей поколения Пригова, также как его старших и младших современников, стала попытка найти язык для осмысления, описания и преодоления этого трагического опыта.
В Советской России процесс создания аналитического и художественного инструментария для деконструкции чудовищного был затруднен в силу цензурных установок государства, не желавшего отказываться от милитаристско-террористического этоса. Поэтому работа памяти и поиск нового языка для выражения «невыразимого ужаса» активно протекали прежде всего в неподцензурной культуре, где каждый художник прокладывал индивидуальный путь в область тьмы. Более всего в этом направлении преуспела литература, где сосуществовали и конкурировали такие выдающиеся писатели разных поколений и направлений, как Лидия Гинзбург, Варлам Шаламов, Александр Солженицын, поэты лианозовской школы, Лидия Чуковская, Людмила Петрушевская, Саша Соколов, Владимир Сорокин и многие другие.
«Особый путь» Пригова заключался в том, что он тонко уловил архаизацию уклада жизни и варваризацию советского мира не как аномалию или временный сон разума, а как структурообразующий принцип новой антропологической вселенной. В то время как мир живет в историческом времени, Россия, по мнению ДАПа, пребывает во времени природном, которое предполагает не последовательное развитие событий, а циклическое. Циклическое же, утверждает Пригов, является той моделью, которая растаптывает всякий событийный смысл. В таком случае для деконструкции феномена советской чудовищности лучше всего подходит квазимифологический образ универсума, где фигура Милицанера замещает собой Древо мира, а жизнь человека балансирует на тонкой грани между вечным адом и призрачным раем.
Дантовская «Божественная комедия» оказывается для автора отправной точкой для вербализации и визуализации антропологических основ советского трагического бытия. Главный лирический герой его эпоса – Дмитрий Александрович Пригов – становится своеобразным Вергилием этого чудовищного универсума, а сам автор, подобно Данте, – создателем нового литературного языка, выросшего из «вульгаты» советского новояза. В этой архаической косноязычной вселенной только тонкая мембрана рутинного существования отделяет человека от хтонической мировой бездны. Первобытный хаос и многоликий бестиарий на каждом шагу подстерегают живущего, грозясь утащить несчастного в пропасть нескончаемых и необъяснимых мучений. Советский мир как дантовские круги ада, как обиталище первобытных демонов становится центральной метафорой романов Пригова. Недаром через все его произведения проходит образ дракона, чешуйчатый хребет которого то и дело возникает на поверхности земли.
Однако приговский ад вовсе не плод метафизических фантазий художника, он покоится на неотрефлексированном страхе индивида перед страшным социумом, попавшим в плен тотальных идей. Это проекция общекоммунальных социальных страхов: преследования, мимикрии, боязни быть замеченным, опознанным, к чему-то причастным, зафиксированным и схваченным. Символическим воплощением этого социального ужаса становятся в творчестве Пригова фигуры Mилицанера и монстров, а метафорой циклического бытия – вселенские катастрофы (смерчи, землетрясения, потопы, нашествия грызунов и проч.), уничтожающие созданное предыдущим поколением и оставляющие выживших на голой земле, принуждая их к новому сотворению мира.
Почти единственным способом для рядового человека удержаться на хрупкой поверхности протоцивилизованной реальности, т. е. своеобразным чистилищем становится повседневность с ее рутинными заботами и практиками. Сам Пригов неоднократно называл себя певцом обыденности, сравнивал рутину с монашески-медитативным ритуалом, ратовал за благодетельность усредненности и нормального быта в противовес сверхчеловеческим и богочеловеческим устремлениям, ввергающим общество в тоталитарный ад. Ритуализованная культура повседневности, которой посвящено столько стихотворных циклов и перформансов Пригова, оказывается тем магическим кругом, который способен хотя бы на время защитить индивида от сонма монстров. Но бродя вместе с ДАПом-Вергилием по нескончаемым кругам советской преисподней, изумляясь инфернальной креативности и безбрежности зла, невольно задаешься вопросом: существует ли в приговском телеологическом проекте Бог и рай?
Репрезентация божественного начала в творчестве ДАПа – отдельная большая тема. Укажем лишь, что в послевоенном поколении богоискательство было важнейшей составляющей интеллектуальной работы общества в поисках противовеса коммунистической квазирелигиозной идеологии, прикрывающейся вульгаризированными атеистическими доктринами. Известно, насколько популярными были полузапретные сочинения дореволюционных русских религиозных философов (Шестова, Флоренского, Сергия Булгакова и проч.), западной религиозной литературы (Шопенгауэра, Ницше, Штирнера, Гартмана и т. д.), а также восточной эзотерики. Отзвуки этого чтения можно легко уловить в многочисленных текстах Пригова. Фигура Бога тоже неоднократно появляется в произведениях ДАПа то как главный персонаж и вершитель судеб, то как грозный собеседник лирического героя. Но каковы его функции и полномочия в новой «божественной комедии», сотворенной Дмитрием Александровичем Приговым? Невозможно в этой связи не согласиться с тонким наблюдением Бориса Гройса, сделанным им еще в далеком 1979 году в статье «Поэзия, культура и смерть в городе Москва». По мнению Гройса, Бог в универсуме ДАПа «проигрывает перед Государством в качестве убийцы, но в качестве хранителя бессмертия он проигрывает тоже». Подмена божественной идеи справедливого суда безраздельным произволом тоталитарного государства является для Пригова первопричиной монструозности советского бытия, его бестиарной сущностью.
Если Бог в подобной модели вселенной неотличим и неотторжим от государственного всевластья, то можно прийти к печальному выводу, что в приговском универсуме, в отличие от дантовского, рая не существует. Однако это не так, для Дмитрия Александровича, как и для его поколения в целом, подлинной Беатриче – идеалом разума, гармонии и спасения – стала культура. Великий современник Пригова Иосиф Бродский с предельной точностью описал «облученных» тоской по мировой культуре детях войны, к которым принадлежал сам: «для этих людей цивилизация значила больше, чем насущный хлеб или ночная ласка. И не были они, как может показаться, еще одним потерянным поколением. Это было единственное поколение русских, которое нашло себя, для которого Джотто и Мандельштам были насущнее собственных судеб». Для Пригова словосочетание «деятель культуры» стало формулой самоидентификации, занятие искусством и проживание в культуре – сродни монашеской медитации.
В интервью Сергею Шаповалу он открыто признает:
«Я принял на себя служение: я – деятель культуры. <…> основное мое служение именно культурное, и в этом отношении я поставлен для того, чтобы явить свободу в предельном ее значении в данный момент».
Служение культуре позволяет человеку освободиться от страха смерти, ибо именно культура, уверен ДАП, занимается уничтожением смерти и утверждением бессмертия. И самое главное, проживание в культуре дает человеку свободу от монструозности тотальных идей, именно этим ДАП объясняет свою пожизненную приверженность концептуализму. Позволю себе закончить краткое предуведомление цитатой из Пригова:
«Концептуализм явил свободу человека в оценке всех тотальных идей, он прежде всего сказал, что любой тоталитаризм, пытающийся представить себя в качестве небесной истины, в общем-то есть условный тип человеческой договоренности, говорения…»
Дмитрий Голынко-Вольфсон
Место монстра пусто не бывает
1
Казалось бы, творчество Дм. А. Пригова, зарекомендовавшее себя безостановочной текстуальной игрой с масками, имиджами и ролевыми стратегиями, обращается к религиозно-метафизическим мотивам исключительно с позиций иронического отстранения или даже саркастичного стеба. Тем не менее, тексты, включенные в настоящий том, свидетельствуют о наличии у Пригова собственного «теологического проекта». Проекта неканонического, зашифрованного и оттого с трудом поддающегося истолкованию. Приговская теология, своеобразная и местами весьма гротескная, чрезвычайно далека от церковно-богословских объяснений мироустройства, ортодоксальных взглядов и конфессиональных моделей. При этом Пригов постоянно апеллирует к многообразию религиозного опыта, то в комически-смеховом, то в патетическом ключе. В фокусе внимания регулярно оказывается проблема поиска трансцендентного и (не)возможности приобщения к нему в ситуации постмодерна, которая характеризуется отказом от ценностных вертикалей и культурных иерархий (по крайней мере, в упрощенном понимании этой ситуации).
Новые и неожиданные параметры «взыскания трансцендентного» занимают Пригова в двух аспектах. С точки зрения этики его интересует, как инновационные формы антропологического опыта, например клонирование, роботизация, генная инженерия и биотехнологии, взаимодействуют с устойчивыми религиозными представлениями и включаются в траектории духовного поиска современного человека. Этот комплекс идей был связан для Пригова с тем, что он называл «новой антропологией»: «В человеческой культуре, в общекультурном смысле, виртуальность присутствовала в качестве медитативных, галлюциногенных и мистических практик – практик измененного сознания. В этом отношении культура не отторгает, в культуре нет принципиальных запретов на это, в то время как традиционная антропология, в пределах христианской и не только, а [в целом] общей монотеистической [восходящей к] иудейской – традиции, несет в себе весьма существенный запрет, [исходящий из убеждения, что человек сотворен] по образу и подобию Божьему. Вообще, тело есть зона эксклюзивного права Бога: вносить изменения, порождать».
В эстетическом плане он стремится подвергнуть критике и развенчанию привычные религиозные мифологии, прибегая к поэтическому инструментарию соц-арта или концептуализма. Внешне шутливое и ерническое (а в глубине вдумчивое и подчас трагическое) отношение Пригова к религиозному познанию мотивировано его пониманием современности как пострелигиозной – и одновременно постсекулярной – эпохи. Той эпохи, когда сфера идеального подменяется миром медиа, священный образ уступает место цифровой копии, а человек способен обрести бессмертие без всякого божественного вмешательства, путем биотехнологического репродуцирования или дигитального воспроизводства. Собственно, теологический проект Пригова основан на безусловной вере, но это вера в нерушимое триединство техномистицизма, техноутопизма и технопрагматизма. Это вера не в мистико-символическую, не в иконическую, а в индексальную природу трансцендентного. В цикле «Трансценденция» (см. также раздел «Трансцендентное») Пригов пишет: «В результате складывания индексов всех последовательно развернутых картин и сложившихся в результате этого в одну объемлющую картину получаем генеральный, объединяющий, сводящий и нередуцируемый индекс ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ». Очевидно, что подобная механистичная трактовка трансцендентного порождена скорее искусственным машинным разумом, нежели провидческим озарением или интерпретацией священных текстов. В этом ракурсе теологический проект Пригова отчасти оборачивается культурно-философской утопией, предполагающей вытеснение божественного – кодовым, человеческого – кибернетическим; сакрального пространства – «метакомпьютерными экстремами» (название одного из приговских циклов) и виртуальными мирами.
Любопытно, что приговская «новая антропология», построенная на метафорическом обыгрывании киберкультуры, биотехнологий и компьютерных систем, в свою очередь производит «монстров» – новые «чудовищные» формы Иного, новые пугающие и манящие архетипы религиозного (само)сознания, подчас более эсхатологические, нежели устойчивые иудеохристианские или буддийские концепции. В сборнике «Новая антропология» (1993), открывающем настоящий том, Пригов аргументирует свое понимание этой (квази)дисциплины как новаторской культурной практики, связанной с религиозной обрядовостью: «…эта проблема впрямую взаимосоотносится со столь безумнонаговоренной и в то же самое время малозначительно разработанной сферой электронно-виртуальных разработок, опытами генной инженерии, клонирования и т. п.», и далее: «…ясно, что на пути прямых антропогенных вмешательств <…> стоят весьма серьезные нравственные запреты (во всяком случае, в пределах христианской культуры: по образу и подобию Божьему), а также глубинные пракультурные ужасы, связанные с оборотнями, насекомыми, змеями и т. п.»
2
Теологический проект Пригова опирается на несколько четко продуманных и проговоренных теоретических предпосылок. Свои установки Пригов тезисно обосновывает в развернутой беседе с Олегом Куликом, опубликованной в томе «Xenia», собрании сопроводительных материалов к выставке «Верю», прошедшей в 2007 году на «Винзаводе» под эгидой Второй московской биеннале современного искусства. Первое авторское «кредо» Пригова заключается в том, что искусство – точнее, актуальное искусство с его мультимедийной жанровой системой, в которой и реализуется приговский проект, – оперирует предпоследними истинами и тем кардинально отличается от религии, отсылающей к истинам последним. По замечанию Пригова, «последними истинами занимаются вероучители, основатели школ, эзотерических систем – ск-сств – [искусство] – это школа предуготовления, промывания глаз и осознания, а дальше – шаг делает сам человек. Либо он, предуготовленный, идет в сторону последних истин, либо он остается в зоне жестовой и указательной». Интересно, что различие между последними и предпоследними истинами устанавливает не столько сам художник, сколько тот сектор аудитории, на который художественный жест направлен: «…стихи какого-нибудь иеромонаха оцениваются не по красоте его рифм и прочее, а по целевой направленности. Он просто использует этот материал в качестве хорошего педагогического способа донести свои идеи».
Таким образом, актуальный современный художник и религиозный деятель, наставник или праведник, согласно Пригову, различаются функционально, они обслуживают принципиально разные идейные и рыночные сегменты социального пространства. Художник, предъявляя свое творение в виде предпоследней, неокончательной и неустановленной истины, заявляет об отказе от мессианского служения и пророческой позы, которые предписаны ему романтической риторикой русской классической (или наследующей ей интеллигентской советской) культуры.
В проекте ДАП мифология многогранной творческой личности привязана к постмодернистской теории расщепленного субъекта, свободно реализующего себя во всех областях культурного производства. И все-таки мне представляется, что поэзия, визуальное искусство, медиа-арт и критика современной культуры для Пригова были взаимосвязанными, но сравнительно автономными сферами приложения таланта. С начала перестройки и на всем протяжении 1990-х и 2000-х Пригов в качестве актуального художника объездил буквально полмира, выставляя в музеях и галереях Лондона, Берлина или Нью-Йорка свои инсталляции, в которых был изображен домашний, замкнутый и зловещий «мирок» советской идеологии. Хотя поэзия Пригова обращена к той же проблематике прекрасного и гнилостного советского мира, но гипнотическая природа ее совершенно другая. В его инсталляциях и объектах использован визуальный язык, апеллирующий к всеобщим демократическим и либеральным ценностям, которые в 1990-е годы разделялись и западным, и российским актуальным искусством. В поэтических текстах язык принципиально иной: это язык визионерского переживания идеологии в ее нечеловеческом обличье.
Идеология в поэзии Пригова предстает неантропоморфным монстром, ангелическим и одновременно демоническим, призрачным и неотвратимым, и homo sapiens как существо идеологическое выглядит мечущимся чудовищем, расколотым изнутри на человеческое и нечеловеческое. Поэтический мир, в представлении Пригова, – это также мир «новой антропологии», основанной на том, что «человечество постепенно, посредством проигрывания различных сюжетов шаг за шагом примиряется, привыкает к мысли о возможности существования жизни в неантропоморфном образе»[8]. Причем это мир дуальный и биполярный, где человеческое и монструозное (иначе – идеологическое) выступают не амбивалентными двойниками, а разноприродными элементами реальности: «…мир делится не на хороших людей и плохих монстров, а на хороших людей и монстров и на плохих людей и монстров»[9]. Здесь Пригов отчасти солидаризируется с идеями Славоя Жижека, высказанными им в книге «Возвышенный объект идеологии» и в последующих работах: идеология – это не только выверенная система правил и регулировок, но и неуправляемое травматическое ядро (Реальное – в терминологии лакановского психоанализа), поддерживающее базирующийся на нем символический порядок и одновременно его подрывающее. Только для Пригова с его многолетним опытом противостояния и противления советской идеологии этот монстр ассоциируется не с постоянным институциональным превышением Закона (точка зрения Жижека), а с повседневной и привычной домашней напастью, зачураться и оберечься от которой и позволяет поэтическое высказывание.
3
Другая программная установка Пригова предполагает полнейшее неразличение (а порой слипание и взаимное поглощение) быта и бытия, то есть физического и метафизического, потустороннего и посюстороннего, сакрального и профанного. В беседе с Куликом Пригов особо подчеркивает феномен «онтологической привязанности человека к небесам», которая проявляется, в первую очередь, в бытовых мелочах, в подметании, готовке обеда, выбрасывании мусора и т. п. Согласно Пригову, «проблема всех религий: как сделать быт, повседневную жизнь человека онтологически наполненной, а не только редукционно». Непредсказуемое и хаотическое взаимопроникновение быта и бытия, с точки зрения И.П. Смирнова, приводит к их слиянию в «одно неразложимое образование, не предполагающее, что в нем будет наличествовать homo creator – носитель дифференцирующего начала». Смирнов подчеркивает специфику приговской пародийности, которая сознательно подрывает самое себя и свою направленность на пародийный объект и при этом «опровергает не столько язык, сколько стратегию негативного богословия, противостоит не высказыванию, а его отсутствию – молчанию, требует «многоглаголания»». Таким образом, приговский подход к феномену веры возможно конкретизировать как пародийную «негацию» негативного богословия.
Очевидно, что Пригов был неплохо знаком с популярными и обсуждаемыми в среде московской и ленинградской интеллигенции трактатами Псевдо-Дионисия Ареопагита «О Божественных именах» и «О небесной иерархии», а также с патристикой, апофатикой и теорией исихазма, что отразилось в его цикле «Апофатическая катафатика» (1991).
Апофатическая катафатика – емкая и лаконичная формула, раскрывающая парадоксальную диалектичность приговской теологии. Зоны священного, трепетного молчания у Пригова быстро заполняются неудержимым спонтанным «речеверчением», а возвышенная и патетическая речь неумолимо переходит в бессвязное бормотание. См. фрагмент из «Азбуки поминальной» № 57: «Ка-ааааа-занова убиеннный! / Лака-а-а-ааааааа-оба убиеннный! / Малакаа-а-ааааааа-нин убиеннный и сыыын его убиеееннныыый», а также из «Оленей азбуки» № 61: «Я цепляю пальцами звезду: Ю-ююю, из вод пальцев моих фонтан небесный: Ю-ююю! словно шелк синий, холодный и блестящий: Ю-ююю! Уйди! Вернись! Ю-юююююююю – еле слышно – Уйди! Вернись! вернись! Ю-ююююю!»
Сборник-книжечку «Апофатическая катафатика» (в настоящем издании – раздел «Бог, чудо, чудище») открывает стихотворение, которое содержит отсылки и к теории «общего дела» Николая Федорова (предполагающей коллективное воскрешение отцов путем космической экспансии всего человечества), и к предложенной Оригеном еретической идее «апокастасиса» – возрождения всего тварного мира в состоянии до грехопадения, в результате чего все зло будет искуплено, а все живущее обретет спасение. Процитируем этот текст целиком:
- Вот и отцов мы воскресили
- В духовном смысле лишь, увы
- Но и то!
- Отцы! Отцы! В чем ваша сила? —
- А в том, что мы уже мертвы
- И не подлежим изменениям согласно желаниям
- или нежеланиям
- нашего гипотетически-амбивалентного воскрешения
- или невоскрешения! —
- Так неужто ль это сила? —
- Это неместная сила, превосходящая
- сосуд вашего вмещения!
Лейтмотив коллективного умирания, воскрешения, бессмертия и бестелесного, бескачественного сосуществования после смерти в катастрофическом разрыве между историей и безвременьем является сквозным и даже доминантным для эсхатологической поэтики Пригова. Этот мотив возникает уже в раннем стихотворении, написанном в 1983-м году и включенном в цикл «Звери, люди и сила небесная» (в настоящем издании – раздел «Бог, чудо, чудище»):
- А что нам смерть, когда Небесной Силой
- Мы от нее охранены надежно
- И даже в виде подвига и смерти
- Нам с нею все равно не умереть
- Ну, там умрем как греки, как евреи
- Как русские, ну – вымрем как народы
- Физически, психически, соцьяльно
- Как хомо сапиенс и как перво-Адамы
- И будем налегке торжествовать
Таким образом, в теологическом проекте Пригова не только быт и бытие слипаются в одно неразличимое, недифференцируемое единство, но вместе с ними также история и мифическое, время и вечность, смерть и бессмертие, Божественное и человеческое. В поэтическом проекте Пригова осуществляется полномасштабная отмена Истории и радикальный подрыв символического порядка, что перекликается с понятием «актуального настоящего» (Jetztzeit), разрабатываемым в мессианском марксизме Вальтера Беньямина. Собственно, антиисторизм Пригова – отдельная богатая тема, требующая подробного осмысления в сопоставлении с текстами его коллег-концептуалистов, а также с более обширным контекстом русской поэзии 1960 – 2000-х годов. Причем непреодолимое апокалиптическое разрушение символического порядка (а один из циклов Пригова 1983 года так и озаглавлен: «Апокалиптические видения внутри стиха») наделено позитивной оценкой, оно одаряет «неместной силой» и позволяет «налегке торжествовать», то есть приводит в давно искомое состояние высшего гармонического и космического равновесия.
4
В беседе с Куликом Пригов отвергает диалектический синтез противоположностей ради достижения универсального равновесия, пропорционального соотношения противоположностей, достигаемого путем столкновения идейных и метафизических полюсов: «…в любой религии, в человеке борется Бог и черт… везде происходит какое-то взаимоотношение двух полюсов, попытка найти если не синтез, то как бы некое равновесное состояние». Теологический проект Пригова предполагает процесс обретения универсального равновесия путем упразднения конститутивных различий между трансцендентным и повседневным, Божественным и дьявольским, человеческим и монструозным. Иными словами, чтобы вернуться обратно к обычному ходу вещей и упорядоченному строю бытия, необходимо пройти через промежуточную временную стадию всемирного и планетарного уничтожения всего и вся. Именно на этом принципе обретения гармонии через гипертрофию космического хаоса (и животного ужаса) построены нарративные схемы приговских романов, в том числе «Живите в Москве» и «Только моя Япония».
Манифестарный жест стирания границы между трансцендентным и обыденным одновременно актуализирует разделение мира на сферы человеческого – и нечеловеческого (таинственного и неописуемого). Когда в беседе с Куликом Пригов говорит об «ощущении наличествующего зачеловеческого мира, который в человеческом мире просто сложно объяснить», он указывает на необъяснимую и фатальную близость трансцендентного, на то, что «зачеловеческий» мир существует имманентно, здесь и теперь, рядом с нами. Когда Лена Силард, сопоставляя поэтику Пригова с теургией Вячеслава Иванова и теософскими построениями Андрея Белова, пишет, что у Пригова «слово «о нашем» мире произносится не из-за географической границы, не из сферы иноязычия, а из сферы потустороннего, которую, впрочем, Пригов выбирает в качестве «места поэтического голоса» столь же часто и в не менее разнообразных манифестациях, чем Андрей Белый», следует учитывать, что сфера потустороннего (зачеловеческого) у Пригова приблизительно совпадает с контурами нашего материального мира, иногда превосходя его, иногда свертываясь в его пределах. Иными словами, предлагаемая Приговым теология после религии, после трансценденции и после апокалипсиса предполагает, что мир чудесного и чудовищного располагается настолько рядом с человеком, настолько захлестывает его, что нередко игнорируется им подобно заурядному бытовому фону.
5
С точки зрения хронологии становление теологического проекта Пригова можно подразделить (впрочем, весьма условно и с большими оговорками) на два этапа – пародийно-ироничный и мистико-визионерский, хотя, безусловно, проект этот отличался крайним эклектизмом и нарочитой непоследовательностью. Первый этап приходится на 1970 – 1980-е годы, время соц-артистской игры с риторикой партийного официоза и тиражированными клише советской идеологии. Этот этап знаменуется такими текстами, как «25 Божеских разговоров» (1982), «Звери, люди и сила небесная» (1983), «Апокалиптические видения внутри стиха» (1983), «Воинств небесных чудных размеры» (1984), «Силы человеческие неземные» (1985) и др., и характеризуется пристальным вниманием автора к религиозным устремлениям и тенденциям, свойственным гуманитарной и научно-технической интеллигенции. Одна из таких противоречивых тенденций основывалась на массовом стремлении совместить мистико-эзотерические доктрины, оккультизм, гностицизм, астрологию, парасенсорику, буддизм и индуизм с передовым на тот момент «фронтом» естественно-научного знания, с открытиями в области квантовой физики, молекулярной механики, термодинамики, а также семиотики и нейролингвистики.
Подобный синкретизм сопровождался, как правило, логико-рациональными и одновременно богословскими обоснованиями – репертуар из высказываний Планка, Пуанкаре и Бора, Хайдеггера, Гадамера и Витгенштейна, Тертуллиана, Августина и Фомы Аквинского нередко составлял мозаичный понятийный коллаж. Что позволило Пригову изобрести собственный парафилософский жанр «предуведомлений», использовав этот синкретизм в качестве конструктивного фактора, подвергнув его саркастичному высмеиванию и одновременно превратив его в познавательный метод. Как бы «высокий» жанр гиперусложненного философско-религиозного изыскания в поэтике Пригова середины 1980-х обретает зеркального двойника в виде как бы «низкого» бытового, банального рассуждения. На таком принципе двойничества «высокого-низкого» построены нумерологические циклы «40 банальных рассуждений на банальные темы» или «20 доказательств»; так, в «Доказательстве верой» Пригов пишет: «Коли этому не быть / Значит этому не быть / Значит так тому и быть / Значит так оно и есть».
Михаил Эпштейн выделяет у Пригова два антагонистичных типа (квази)религиозного сознания: разорванное сознание, принадлежащее человеку культуры, интеллигенту-одиночке, онтологически несчастному, задающему проклятые вопросы и полностью запутавшемуся в загадках бытия, и сорванное сознание, которым наделен человек из народа, эйфорически счастливый и оптимистичный, знающий разгадки всех бытийственных проблем. Говоря, что «нахождение повсюду «одной и той же сущности» и превращает нашу «разорванную способность» в сорванное сознание, поскольку форсирует недостающее единство», Эпштейн показывает, что дихотомия разорванного и сорванного сознания снимается в самом акте демиургического творения, в котором Поэт подражает Божественному волюнтаризму (и пародирует его непредсказуемость). Эффект (порою курьезный и комический) неистового религиозного поиска истины у Пригова возникает в результате совмещения нескольких социально-культурных сознаний. Но руководит этим смешением не описанный Бахтиным момент карнавальной амбивалентности, а скорее дадаистский и абсурдистский принцип алеаторики, случайной выборки той или иной социальной речи или ее огласовки (в позднем авангарде этот прием «слипания» социальных голосов практиковали обэриуты, главным образом Даниил Хармс и Александр Введенский).
Другая тенденция, представленная в приговских текстах, состоит в том, что богатое энциклопедическое наследие Серебряного века, русского религиозного ренессанса, философии соборности (В. Соловьев, С. Булгаков и С. Франк) и экзистенциального персонализма (Н. Бердяев, Л. Шестов) в позднесоветскую эпоху прочитывается в среде интеллигенции некритически, без анализа историко-культурных контекстов и генетических связей с немецкой идеалистической философией. Изобилующие цитатами и полемикой с предшествующими метафизическими системами труды, например, П. Флоренского, Н. Лосского, В. Эрна или С. Булгакова нередко воспринимаются как последняя инстанция истины, как нечто, принимаемое на веру безотносительно и абсолютно. Такой феномен, вызванный, в первую очередь, полузапретным распространением богоискательских сочинений в самиздатовских машинописных рукописях, привел к возникновению сложного конгломерата (около)религиозных мифов. Вдумчивой ревизией (не без пародийной травестии) этих мифов Пригов сосредоточенно занимается в своем творчестве 1970 – 1980-х годов.
В пьесе «Место Бога», датированной, предположительно, 1973-м годом, Пригов всесторонне рассматривает мифологию свободы воли и свободного выбора, искушения властью и ужаса богооставленности, аскетического отшельничества и земных наслаждений, мифологию, в условиях закрытого тоталитарного общества стремящуюся стать суммой моральных критериев или догматов. Видимо, текстом-предшественником этой пьесы является книга Н. Бердяева «Миросозерцание Достоевского», доступная в то время благодаря самиздатовским спискам или парижской републикации 1968 года в издательстве «YMKA-Press». Бердяев говорит, что «…злo имeeт глyбиннyю, дyxoвнyю пpиpoдy. Пoлe битвы Бoгa и дьявoлa oчeнь глyбoкo зaлoжeнo в чeлoвeчecкoй пpиpoдe. Дocтoeвcкoмy oткpывaлocь тpaгичecкoe пpoтивopeчиe нe в тoй пcиxичecкoй cфepe, в кoтоpoй вce eгo видят, a в бытийcтвeннoй бeзднe. Tpaгeдия пoляpнocти yxoдит кaк бы в caмyю глyбь бoжecтвeннoй жизни».
Пригов косвенно цитирует и одновременно лишает героичности бердяевскую метафизику зла, показывая ее взаимосвязь с позднесоветской риторикой «двойных стандартов» и тотального лицемерия: «Ты знаешь, у нас и в Бога даже можно верить. Ну, не повсеместно и не в буквальном смысле, а опосредованно, если это не мешает твоей основной работе. Ты понимаешь, жизнь пересиливает, пережевывает все». В концовке пьесы отшельник утверждает «невидимое присутствие Бога в любой точке», то есть сама фигура Бога и оказывается зоной невозможного и неразрешимого (и подчас идеологически спущенного сверху) этико-религиозного выбора.
Кроме того, Пригов переосмысливает важную для русского модернизма мифологему мученического пути и страдательного жребия, уготованного творцу ради искупления грехов и очищения человечества от скверны. В 1973 году Пригов, будучи скульптором по образованию, лепит свой бюст с терновым венцом, исследуя, с одной стороны, христологические аспекты самоидентификации художника, а с другой – границы или безграничность экстремального телесного опыта (за которым может открыться либо мистическая глубина откровения, либо «пустотный канон» концептуалистской редукции). В визуальных работах Пригова задействована мифологема всевидящего и надзирающего Божественного ока, проникающего в сущность вещей и паноптически наблюдающего все людские дела, мысли и поступки. В работе «Боже» второй половины 1970-х Божественное око представлено в виде цветных концентрических кругов, отсылающих к эстетике дадаизма, в частности к «Механическому балету» Фернана Леже, а в цикле «Фантомы инсталляций» изображение Божественного глаза напрямую заимствовано из традиции православной иконописи.
В ранних текстах Пригова Бог уподобляется модернистскому автору-творцу. С одной стороны, он наделен неоспоримым всесилием и циничным всеведением по отношению к своим героям. С другой, он заключен в темницу собственного произведения и превращен в одного из беспрекословно управляемых персонажей, то ли в медиума-сомнамбулу, то ли в послушную марионетку, управляемую по прихоти чьей-то магической воли. В цикле «25 Божеских разговоров» (см. раздел «Бог, чудо, чудище») Бог предстает то скептическим, приземленным наблюдателем и надсмотрщиком за делами человеческими:
- Вместо чтобы страдать и метаться
- Лучше в грядочках было б копаться
- Посидишь, покопаешь и снова
- Поглядишь там на солнце-луну
- А Бог выглянет, скажет сурово
- Значит, садик копаешь? – ну-ну —
то всеприемлющим и милосердным наставником, говорящим набоковской девочке «Живи», а самоубийце «Послушай, эй! Смирись!», то заботливым опекуном («Бог наклонится и спросит: / Что, родимый, подустал? / – Да, нет, ничего»), то ленивым и безучастным соглядатаем («– Государство, что ль, поменять / – Подумает Бог / Но не станет»), то соперником или сотрудником поэта в его титанических и демиургических усилиях («25-й Божеский разговор»). Бог в ранних текстах Пригова нередко гипертрофирован в размерах, огромен и необъятен, иногда нематериален и сведен к акустической иллюзии, голосу из репродуктора, а подчас до неразличимости совпадает со своим протагонистом – Дьяволом. В пьесе «Место Бога» соблазняющий отшельника бес Легион так описывает гигантские размеры «Самого главного» (видимо, симбиоз Бога и Дьявола): «Наш самый главный сюда сунуться не может. Он занял бы слишком много места. Я же тебе говорил, что это как электричество.» А в «24-м Божеском разговоре» Пригов переводит религиозный образ Благой вести в масштаб необозримости и необъятности, связанный с переживанием запредельного:
- Пусть человек какой ни есть
- Но я один здесь в огромном пространстве
- И как-то необыкновенно страстно
- И это вдруг почувствовал как весть
- Святую в оперенье крыл
- И следом голос был
- Ты здесь один на все огромное пространство
- – Я это чую – необыкновенно страстно
- Я отвечал
В ранних текстах Пригова Бог, как правило, превышает человека или соразмерен ему, воплощаясь в пародийно-возвышенном облике земной государственной власти вроде Милицанера. Бог пантеистичен (он распределен в каждой сингулярной точке), тотемичен (нередко он совпадает с официальными иконами советской идеологии, ее почитаемыми символами или идолами), но самое главное, он диалогичен, с ним возможно вести серьезный или насмешливый разговор. Бог пребывает внутри определенного, хотя и подвергнутого пародийной перепроверке дискурса, – дискурса власти, знания или веры.
6
На рубеже 1980 – 1990-х годов в поэтическом проекте Пригова – возможно, под влиянием смены социально-политических формаций – происходит быстрое и радикальное тематическое смещение: от свойственной соцарту игры с идеологическими штампами (или их концептуалистской редукции) к подробному описанию того, что не может быть концептуализировано, что ускользает от любых усилий по разоблачению претендующего на гегемонию властного языка. Одним из центральных персонажей-объектов приговского проекта делается не многажды тиражируемый идеологический стереотип, а нечто иное, непостижимое и запредельное. По сути, это нередуцируемый элемент реальности, «сухой остаток» идеологии, не пристегиваемый к продиктованным нормам символического порядка, то, что Жак Лакан называет «объект маленькое а» и что своим присутствием указывает на непреодолимый разрыв внутри субъективности.
В одном из циклов 1990 года (с моей точки зрения, пороговом) этот пугающий «антиобъект» обретает определенное, хотя иносказательное имя. Это «капелька крови» – «капелька крови на лапке котенка», «капелька крови, прикрытая бархатной тряпочкой», «капелька крови за ушком плюшевого медвежонка», «капелька крови на чудотворной иконе», «капелька крови на капельке крови» и т. д. (см. раздел «Слово число, чудовище»), Это и есть просачивающаяся в нашу физическую реальность частица запредельного ужаса, которая образует внутри реальности зияние или воронку, и уже вокруг этой воронки крутится «абсорбирующая среда» текста. «Капелька крови», этот жуткий частичный объект, функционирует не в сфере Божественного, ангелического или инфернального, но в области неуправляемо чудовищного. Но именно эта область в поздней поэтике Пригова осуществляет посредничество между человеческим и находящимся рядом потусторонним.
Понятно, что теологический проект Пригова также не остался без реформирования: его, условно говоря, второй этап, пришедшийся на 1990 – 2000-е, ознаменован переносом внимания с развенчания религиозных представлений, бытующих в среде либеральной советской интеллигенции, на мистико-визионерские практики. Практики эти связаны с обнаружением и описанием топографии неведомого, а также выявлением его параметров непостижимости. Ключевыми текстами этого этапа могут быть названы «Неодуховные реминисценции» (1990), «Апофатическая катафатика» (1991), «Предшествие постсвятости» (1992), «Холостенания» (1996), «Кабалистические штудии» (1997), «Бегунья» (2001) и др.
В этих циклах Пригова Божественное присутствие неопределимо и неназываемо, оно недискурсивно и неподвластно предписанным гносеологическим критериям. В сфере поэтического языка Пригов проделывает революционную работу по деконструкции религии, во многих пунктах схожую с критикой религиозно-метафизических постулатов, которая предложена в книгах Деррида, Нанси, Ваттимо, Рорти и др. Мотив призрачности и необъяснимости Божественных проявлений, неоднократного встречаемый в поздних текстах Пригова, перекликается с обоснованным Джоном Капуто понятием «слабой теологии», отводящей Богу страдательно-пассивную роль в мистерии спасения. Отчасти христология Пригова (особенно в «Неодуховных реминисценциях») концептуально «рифмуется» с пониманием парусии, второго пришествия Христа, как выхода за пределы религии в критике метафизики присутствия, развитой в книге Жана-Люка Нанси «Приоткровение». Сейчас трудно сказать, насколько основательно Пригов был знаком с этими теориями, базовыми для современной деконструкции религии; вероятно, многие из них доходили до него если не напрямую, то через художественный контекст тех международных выставок и фестивалей, которые он посещал, реализуя свою артистическую карьеру.
Ключом к пониманию (или, по крайней мере, к созданию рабочей интерпретации) теологического проекта позднего Пригова может послужить концепция «монструозности Христа». Под влиянием гегелевской формулировки она выдвинута Славоем Жижеком в одноименном, написанном в соавторстве с Джоном Мильбанком, фундаментальном исследовании неразрешимых противоречий христианства. Изучая различные экзегетические трактовки земного воплощения Христа – от гностицизма, Мейстера Эйкхарта, Якова Беме до Гегеля и Шеллинга, Жижек полагает, что основная дилемма христианства заключается в несоединимости абсолютной полноты/пустоты Божественного присутствия и тотальной пустоты расщепленной субъективности. Материализация Христа не преодолевает эту несоединимость, а, наоборот, увеличивает раскол, делая его конститутивным для формирования европейского субъекта. Финальная реплика Бога в пьеске Пригова «Стереоскопические картинки частной жизни» (в разделе «Чудища современной жизни») разделяет по принципу взаимного целеполагания «жизнь» и «живых», то есть познающую субъективность и объективацию Высшего разума: «Бог: А живой, Машенька, не обязательно для жизни, и жизнь, Машенька, не обязательно для живых». Жижек объясняет «чудовищность Христа» тем, что непреодолимый разрыв проходит не столько внутри самого субъекта, не столько между человеком и Богом, сколько внутри самого Бога.
Согласно Жижеку, таинственная и непостижимая фигура, с которой мы не можем мириться, это не объяснимый для нас Другой, а Другой внутри Другого, то, что для Другого является никогда не разгадываемой загадкой внутри него самого. Так, материализованный Христос оказался в первую очередь фигурой (непонятного и непонятого) Другого для самого Бога. Отсюда Жижек делает вывод, что земное воплощение Христа явилось непостижимой и катастрофической мистерией не только для человека, но и для самого Бога, мистерией, благодаря которой происходит «двойной кенозис»: отчуждение человека от Бога сопровождается самоопустошением и отчуждением Бога от самого себя. Согласно Жижеку, Человек-Христос «монструозен», поскольку, будучи и оставаясь Богом, является самому Богу в анаморфическом обличье человека. Иными словами, именно воплотившийся в человека Христос содержит в свернутом виде (а иногда раскрывает ее) диалектически необъяснимую загадку физического соприсутствия запредельного, опасной и чарующей близости монструозного Иного.
По-своему виртуозная критика христианства, предложенная Жижеком, строится на радикализации гегелевской диалектики, доведении ее до экстремальной негативности и органичного соединения с деконструкцией религии, проделанной в современном философском дискурсе. Любопытно, что в поздней поэтике Пригова сакральное также проявляется в оболочке-ауре монструозного (а монструозное в обличье сакрального). Фигура приговского монстра может быть прочитана как зловещее выражение Другого, уже потенциально содержащего в себе собственного неотторжимого Другого. Отсюда понятно пристрастие Пригова к уточняющим его теологические представления префиксам. Вместо духовности он предлагает термин «неодуховность», вместо святости – «постсвятость», тем самым подразумевая наступление «пострелигиозной» стадии, когда познание Идеального, Божественного, Неведомого становится возможным благодаря столкновению с предъявленным эмпирически, сосуществующим рядом с человеком монстром.
В цикле «Неодуховные реминисценции» (раздел «Бог, чудо, чудовище») Христос постоянно вынужден приоткрывать свою «монструозность»: он ассоциируется, вполне в соответствии c криминально-брутальной романтикой российских 1990-х, с фонтанами крови, неиссякаемо бьющими из молодого тела:
- А он вдруг как обернется
- Телом юным и прекрасным
- Да на кресте висит ужасном
- Кровь от рук и ног лиется
- Посмотри-ка я какой
- Милая
Или:
- Стройный юноша тихо идет
- Его девушки окружили
- Одна за руку нежно берет
- Да и вовсе его закружили
- Хочешь, хочешь, приятное сделаем?
- Но вдруг раны открылись на нем
- И в их лица прекрасные белые
- Кровь потоками, словно огнем
- Хлынула
Или:
- Он рубаху свою поднимает
- И две раны живых на груди обнажает
- Кровь бежит от них как две прозрачные реки
Приговский Христос – вовсе не Христос Евангелия, не Христос сектантских суеверий или народного православия, это ни в коем случае не еретическая или богоборческая аллегория. Это новый антропологический образ неведомого, который включает неизбежное столкновение с монстром, нередко предстающим в традиционных символических ипостасях. Поэтому приговский Христос «локализован» в небесном аду и обнимает огненного апокалиптического зверя:
- В аду небесном вкруг Христа
- Они сидели кругом плотным
- Тут Зверь вошел и лаять стал
- И все узнали: Вот он! Вот он!
- Христос поднялся, подошел
- И обнял огненного зверя
В разделе «Эрос чудовищного» читатель найдет шутливо-хулиганском цикл «Холостенания» (по словам Пригова, «термин, составленный из двух слов: холощение и стенание», но не следует забывать, что по-гречески означает целостность), в котором описывается, следуя апокрифической традиции или церковной агиографии, загробное странствование отрезанного детородного органа, превращенного в автономный частичный объект, сгусток чудовищного и одновременно глумливый субститут Божественного дара. Открывает цикл перифраз пушкинского «Пророка»: отсечения грешного языка уподобляется символической кастрации:
- С серпом боюдоострым входит
- Глядит, как серафим, лучась
- И я ложусь, и он находит
- Серпом
- Берет отрезанную часть
- Ее ласкает как мертвицу
- Мне говорит: лети как птица!
- Ты свободен
- А я сам с ней поговорю об ее будущем
В следующем эпизоде читатель ознакомляется с «будущим» этой дискретной отрезанной части, этого монструозного частичного объекта: «…между мною и нею, моей отрезанною частью, да и за ней вплоть до самого метафизического горизонта вставали бесчисленные воплощения, беспрестанно мутировавшие в моем направлении». Что это за мутировавшие бесчисленные воплощения? Монстры, встречаемые на пути духовного самосовершенствования человеческим разумом? Этот цикл, как и многие другие, написанные в данный период, свидетельствует о достижимости религиозно-метафизического озарения только в результате взаимодействия с утраченным/отрезанным частичным объектом, заведомо непристойным монстром, безостановочно порождающим других монстров. Место Бога, когда преодолено искушение, пустеет; место монстра пусто не бывает, оно постоянно пополняется продуктами культурного механического воспроизводства чудовищного.
7
В этом контексте понятно, почему в поздних стихотворениях Пригова такое значительное место занимают мотивы телесного насилия (мучаемая и заставляющая мучиться, пытаемая и производящая пытки телесность показана в циклах «Мои неземные страдания» и «Каталог мерзостей»), причем на первый план выходит насилие по отношению к детям как максимально бесчеловечная, непростительная форма жестокости. Речь идет именно о будничном и механичном воспроизводстве чудовищного. В цикле «Дети жертвы» (1998) эпизоды сексуального надругательства над детьми кажутся документалистскими фрагментами, взятыми из журналистского расследования или бесстрастного публицистического очерка:
- Когда его почти насильно вытащили из угла
- Куда он забился, сжавшись почти до полного
- самоуничтожения
- Тело его, казалось, чернело одним
- сплошным синяком
- Уже много позже, почти разучившись говорить
- Он поведал, как его родной дядя заставлял его
- ртом делать это
- И когда он однажды укусил его за это
- Дядя воя и матерясь долго бил его
- Они оба кричали от боли
- Пока не услыхали соседи
- Дядя исчез
- Но он почти до седых волос все уверял,
- что дядя вернется
- и все начнется сначала
Массмедиа, знакомя с каким-либо шокирующим жестоким событием, либо смакует его отвратительные подробности, либо отвлеченно подает его в виде обычного происшествия, не требующего вовлеченности, соучастия и сострадания. Поэзии, с точки зрения Пригова, остается воспроизводить массмедиальные схемы, доводя до апофеоза либо принцип любования омерзительным, либо циничную бесчувственность и погоню за сенсацией. Если поэзии доведется стать более циничной и тавтологичной, чем массмедиа, то она преодолеет медиальные соблазны и демаскирует тот «ужас реального», что скрывается за уверенными и звонкими фразами теледикторов. В цикле «Дитя и смерть» (1998) преступление против детской психики и соматики совершает уже не взрослый человек, а сама природа, диктующая необратимость физического старения и умирания, но при этом выступающая еще одним искусственным и устрашающим медиальным мифом.
Ολος
- В приморском парке вечерком
- Вот духовой оркестр
- Играет, все сидят рядком
- И нет свободных мест
- Дитя со взрослыми сидит
- Не чуя ничего
- Вот нота некая звучит
- И уже нет его
- Дитя
- А это была Его Смерть
* * *
- Приходит свежее дитя
- А к вечеру уже увядшее
- К утру же силы обретя
- Опять живое и расцветшее
- Кто ж прихотливо так играет
- С ним? —
- А это Смерть приготовляет Его
В программном цикле «По материалам прессы» Пригов доводит до абсурда постсоветскую идеологию всеобщей индифферентности, показывая, что она убийственно воздействует на рядового обывателя, который вместо гражданского сознания обзавелся праздным любопытством и брезгливым отторжением. Для Пригова важно высмеять и одновременно поставить под сомнение трюизм культурного сознания, гласящий, что беспрерывная новостная лента с ее скупым и беглым перечислением «последних известий» разъедает мозг медиапотребителя. Обывателю, уже неспособному проявлять какую-либо связную реакцию на промелькивающие перед ним факты, остается только изумленно ахать, расстроенно охать или недовольно пыхтеть:
- Запредельный цинизм
- Проявили
- Два тридцатилетние убийцы
- Они прежде ногами забили
- Свою жертву
- А после ножом
- Кухонным
- Мясо срезали и бросали в унитаз
- Спускали
- Унитаз и засорился
- Они – что за бредятина! —
- Вызвали слесаря
- Тут все и обнаружилось
- Уж и не знаешь, по поводу чего
- Тут изумляться
Или:
- Серийный убийца
- Два года орудовал
- В Красноуфимске
- Перебрался в Екатеринбург
- Этот вывод сделали дознатели
- По сходству преступлений
- Которые убийца совершал
- Против пенсионеров
- Убивая их ударами молотка по голове
- Забирая все сбережения
- И ценные вещи
- А какие ценности-то у наших пенсионеров
- Обделенных жизнью
- И властью
- Господи, что дальше-то будет
Вроде бы никто не виноват, что житель современного русского мегаполиса (да и региональных городов тоже) лишен сознательной воли и энергии, не совершает преобразовательных усилий, пассивно, с мрачным пессимизмом относится к политическим переменам, обращая внимание только на материальные вопросы, типа пресловутого квартирного:
- Зверское убийство
- Четырех невинных человек
- Произошло вчера на улице Берсеневской
- Есть такая
- В Москве
- И все из-за квартиры
- Проживало там четверо —
- Осталось двое
- Переедут на другую жилплощадь
- Кому же достанется квартира
- Политая столь многой кровью?
В этом цикле Пригов, имитируя стиль желтой прессы, вполне держит «в уме» рецепцию городских слухов-«ужастиков», произведенную в стихах Игоря Холина конца 1950-х:
- У метро у «Сокола»
- Дочь
- Мать укокала
- Она это сделала
- Из-за вещей
- Это теперь
- В порядке вещей, —
и тем самым отсылает ко вполне литературной традиции «лианозовской школы».
Пригов воспроизводит брюзжание обывателя, для которого политическая речь, громкие тирады политиканов теперь – не горделивое клацанье партийных лозунгов, а однообразный бессмысленный бум-бум, раздающийся из уст заполонивших телеэкран демагогов:
- На поле нынешней партийности
- Расклад довольно непростой
- Учитывая маргинализацию
- Причем стремительную
- Российских коммунистов
- Вперед выходит поколенье патриотов —
- Так заявил Рогозин
- А что уж заявил Рогозин —
- То Рогозин заявил.
Параллельно Пригов отыгрывал эти сюжеты в своей авторской колонке на polit.ru, язвительно высмеивая превращение поля публичной общественной псевдодискуссии в России 2000-х в коловращение имен-брендов – вполне монструзоных по своей фантазменной природе. Для Пригова виновата в такой стремительной деградации в общественного самосознания именно оболванивающая власть массмедиа, являющаяся сегодня преемницей назидательной и учительской власти классической русской литературы.
Монстры авторитетной идеологии, в представлении Пригова, могут быть побеждены только бесконечным начетническим повторением риторических средств убеждения и моделей саморепрезентации, свойственных данной идеологии. В результате должно произойти «размораживание», декодирование сознания, захваченного и проеденного такой агрессивной идеологией. С «виртуальной» и достаточно авторитарной идеологией, насаждаемой массмедиа, Пригов предлагает бороться тем же способом, только вопрос, будет ли победа когда-нибудь окончательной, так и остается открытым.
8
В 2000-е годы Пригов открывает для себя новую «отрасль литературного производства» – прозу. Его романы («Живите в Москве», «Только моя Япония», «Ренат и Дракон») или сочинения малых жанров (повести «Боковой Гитлер» и «Три Юлии», многочисленные статьи, очерки, лекции, фрагментарные зарисовки сновидений), с одной стороны, продолжают и расширяют проблематику его поэтического проекта, с другой, выступают новой самостоятельной вехой в его творчестве. Проза Пригова – не ритмизованная проза поэта, а чеканная проза концептуалиста-идеолога, в условиях исчерпанности концептуалистского проекта размышляющего о причинах и последствиях такой исчерпанности. Пригов знает: чтобы не быть старомодным и устаревшим, достаточно свою предшествующую манеру раскритиковать с точки зрения новомодных мейнстримовских трендов и тем заново вернуть ее в зону актуальности.
Лейтмотив приговской прозы – фантасмагорические скитания странника-визионера внутри странноватой социальной реальности или в пространстве воображаемого, в результате чего он изобретает собственную географию идеологии, сам обустраивается в ней и лукаво-радушно приглашает в нее читателя. География эта имеет косвенные связи с действительностью – скорее, она основана на работе памяти, вытеснении и фантазии, она обладает притягательной безуминкой, загадочно манит своим расположением на грани прозрения и банальности. Локус идеологии, пусть он называется Москвой («Живите в Москве») или Японией («Только моя Япония») или основан на обыгрывании нарративных стратегий русского романа XIX века («Ренат и Дракон»), самостоятельно разрастается до планетарного масштаба, напрочь исключая прочие реальные места и топонимы.
Например, Япония в романе Пригова – не только конкретная геополитическая территория с ее историко-символической спецификой, но – и в первую очередь – пространство мерцающего и пульсирующего фантазма. В нем обрывки воспоминаний автора о московском детстве уживаются с его сновидениями и озарениями, автоцитаты из собственных поэтических опытов перекликаются с «японским пластом» русской и мировой литературы, а реальные достоверные факты слипаются с безудержным фантазированием. Собственно, в романах Пригова география идеологии – это разветвленная география всепоглощающего авторского фантазма, постоянно изменчивая и поэтому с трудом позволяющая составить ее полную «карту».
Принципы картографирования идеологии предложил Славой Жижек в объемном предисловии к вышедшему под его редакцией коллективному сборнику статей «Mapping Ideology». Развивая идеи, высказанные в предшествующих трудах «Возвышенный объект идеологии» и «Возлюби свой симптом», Жижек разделяет три модификации идеологического: идеологию-в-себе – совокупность приказов, запретов и наставлений, то есть риторический корпус идеологии; идеологию-для-себя, ее аппараты и учреждения, образующие строгий институциональный порядок; и «спектральную идеологию», принципиально неуловимую, поскольку она маскируется под либерально-демократические процедуры или другие механизмы постидеологического общества. В романах Пригова господствует именно «спектральная идеология» – и география ее предстает в рассеянном виде, подобно необозримому пространству пророческих видений или неотвязных кошмаров. Пространство это содержит в себе множество «подводных камней», обманок и миражей, оно фактически не существует, а только мерцает в различных уголках авторского сознания.
В повести «Боковой Гитлер» (см. том «Места») принцип осколочного и мерцательного существования идеологии доведен до апогея в сцене, когда Гитлер «и его команда» посещают мастерскую московского художника и «под занавес» этого визита утрачивают физическую оболочку, подвергаются материальному распаду:
И тут художник с ужасом заметил, как они немного, насколько позволяло необширное пространство мастерской, расступились и во главе со своим всемирно печально-известным фюрером чуть сгорбились, слегка растопырив локти, словно изготовившись к дальнему прыжку. Их лица стали едва заметно трансформироваться. Поначалу слегка-слегка. Они оплывали и тут же закостеневали в этих своих оплывших контурах. Как бы некий такой мультипликационный процесс постепенного постадийного разрастания массы черепа и его принципиального видоизменения. Из поверхности щек и скул с характерными хлопками стали вырываться отдельные жесткие, как обрезки медной проволоки, длиннющие волосины, пока все лицо, шея и виднеющиеся из-под черных рукавов кисти рук не покрылись густым, красноватого оттенка волосяным покровом, —
после чего эти новоявленные скелетообразные монстры исполняют вокруг художника издевательский макабрический танец:
Толпящиеся подпихивали друг друга, чуть отшатываясь при неожиданном и резком появлении у соседа нового крупного мясистого нароста или костяного выступа. Вся эта единая монструозная масса разрозненно шевелилась. Уже трудно было различить среди них поименно и пофизиономно Фюрера, Геббельса, подошедшего-таки Геринга, Бормана, Шелленберга, Розенберга, хитроумного Канариса, Мюллера, Холтоффа и нашего Штирлица, —
а в финале монстры ритуально поедают художника, в этом акте псевдоканнибализма иронично обыгрывая неутолимый аппетит правящей идеологии:
Монстры урча рвали художника на куски. Выволакивали из глубины его тела белые, не готовые к подобному и словно оттого немного смущавшиеся кости. Их оказалось на удивление много. Хватило почти на всех. Именно, что на всех. Дикие твари быстро и жадно обгладывали их. Потом засовывали поглубже в пасть и, пригнув в усилии голову к земле, вернее, к полу, с радостным хрустом переламывали, кроша уж и на совсем мелкие осколки.
В приговском проекте под броским термином «мерцательность» понимается «утвердившаяся в последние годы стратегия отстояния художника от текстов, жестов и поведения». Эта стратегия «предполагает временное «влипание» его в вышеназванные язык, жесты и поведение ровно на то время, чтобы не быть полностью с ними идентифицированным, – и снова «отлетание» от них в метаточку стратагемы и не «влипание» в нее на достаточно долгое время, чтобы не быть полностью идентифицированным и с ней». Движение в зоне мерцательности осуществляется оригинальным и нестандартным способом, а именно «боковым Гитлером»; «пройтись БОКОВЫМ ГИТЛЕРОМ» для Пригова обозначает «способность аватары, эманационной персонификации некой мощной субстанции благодаря низкой энергии взаимодействия и почти нулевой валентности проходить касательным или капиллярным способом там и туда, где и куда самой основной сущности благодаря ее мощи практически путь заказан». Обладающие смещенной или текучей идентичностью персонажи в прозе Пригова двигаются по сюжетным траекториям исключительно «боковым Гитлером», то есть, проникая сквозь одну мнимую оболочку реальности, затем сквозь другую, третью и так далее, они обнаруживают, что за этими оболочками открывается не реальность, а очередные незыблемые идеологические уровни. Здесь следует учитывать, что Гитлер в поэтике Пригова – вовсе не одиозная историческая фигура, а чисто иносказательный персонаж, точнее, мультипликационный фантом любой претендующей на власть идеологии.
В своих романах Пригов создает уникальную модель космологии – нет ничего за пределами безбрежного идеологического фантазма – и не менее самобытную космогонию: фантазматическое пространство рождается и погибает в результате извечной тавромахии, смертельного поединка героярассказчика с монстром идеологии и его бесчисленными аватарами. Ужасающие и гротескные картины тавромахии у Пригова делаются сюжетообразующими. В романе «Живите в Москве», где автор делится воспоминаниями о своем московском детстве, пришедшемся на позднесталинскую и на хрущевскую эпохи, мотив тавромахии воплощен в гипертрофированных описаниях насланных на Москву бедствий, мора, глада, потопа или нашествия саранчи, и особенно в сцене избиения огромных крыс, заселивших коммунальную квартиру и гиперболизированно грозящих гибелью всему человечеству. Вот эта феерическая баталия:
Крысиный вой смешивался с нашим. Мы заходились в истерике, не соображая, не чувствуя ничего, хватая голыми руками проносившихся обезумевших же зверьков. Они, тоже выбитые из привычного им жизненного ритма, внутренне и внешне перевернутые, ничего не понимая, уже пройдя этап истерического кусания всех и вся, начинали ластиться к нам, норовя в губы последним предсмертным поцелуем. Мы это чувствовали, ласкали их и со слезами на глазах отпускали в погибельно и неумолимо, как жизнепожирающая воронка, затягивающий коридор, где, подобно ангелам смерти, стоявшие на столе неистово, без перерыва давили огромную, увеличивающуюся, расползающуюся по комнатам жидкую массу кровавых телец, с разодранной, уже ничего не удерживающей в своих пределах серой волосатой кожицей.
Роман «Только моя Япония» (см. том «Места») представляет собой коллекцию этнографических заметок о путешествии в старинную и технократическую Японию, волшебную страну, задолго до реальной поездки измысленную в приговских «японофильских» стихах. Мотив тавромахии здесь раскрыт в эпизоде нашествия фантастических монстров, поданном в популярной стилистике анимэ и реализующем апокалиптическое поверье о неминуемой гибели древней островной культуры: «Количество тварей было несчетно. В темноте им было легко группами нападать на людей и стремительно обгладывать до костей, так что находящиеся буквально по соседству не успевали реагировать. Потом эти демоны разрослись настолько, что стали нападать на людей в одиночку, легко расправляясь с ослабевшей и не ориентирующейся в потемках жертвой».
В «Ренате и Драконе» – центральном для настоящего тома – расплывчатый персонаж Ренат, с ошеломительной быстротой меняющий исторические контексты и социальные маски, занят бесконечной борьбой с многоликим Драконом, который предстает то в обличье двух сестер, неизменно соблазняющих героя, то мерзкой хтонической твари, то самого идейно-нравственно-воспитательного каркаса классического русского романа. Собственно, в приговском тексте беспрерывно варьируется некая изначальная, первичная матрица мифологической темы драконоборчества и змееборства: «Уничтожение мелких будущих губителей всего человеческого на нашей планете продолжается до тех пор, пока их взрослый породитель, окончательно повалившись на пол, сам не рассыпается под напором собственных, им уже не управляемых энергий».
Герой-рассказчик, вступая в прямой и последовательный антагонизм с монстром идеологии, одновременно срастается с ним, перевоплощается в него, глядит его собственными глазами на распадающуюся, мерцающую реальность. Здесь пригодится великолепный разбор стихотворения Осипа Мандельштама «Век», проделанный Аленом Бадью в его программном сочинении «Столетие». Анализируя двустишие «Век мой, зверь мой, кто сумеет / Заглянуть в твои зрачки…», Бадью говорит, что взглянуть в зрачки Века-Зверя, то есть оказаться с ним лицом к лицу, и означает увидеть гибель мира и распад связи времен глазами этой жалкой, бесхребетной твари. Дракон Пригова является прямым наследником мандельштамовского Века-Зверя, насильно перенесенного в иную историческую ситуацию тотальной иронии и множественной идентичности. Романы Пригова, при всей пестроте использованного в них тематического и стилистического репертуара, все-таки сводятся к единому замыслу или озарению: чтобы победить монстра идеологии, необходимо стать им самим и заговорить от его множественного, неисчерпаемого лица.
9
В эссе «Культура монстра (Семь тезисов)» Джеффри Джером Коэн пишет: «Монструозное тело – это чистая культура. Конструкт и проекция, монстр существует, чтобы быть прочитанным, этимологически monstrum – это то, что проявляет, предостерегает, глиф, ожидающий собственного гиерофанта. Подобно букве на странице, монстр обозначает нечто другое по отношению к самому себе, он всегда – смещение». Согласно Коэну, монстр стоит «на вратах различия», то есть своим чудовищным и чрезмерным присутствием утверждает этнокультурные, биологические, классовые, сексуальные, национальные и прочие отличия, проявляемые именно благодаря настойчивому вторжению монстра внутрь символического порядка. Кроме того, монстр раздвигает и проблематизирует границы социально и этически допустимого, он преступен, беззаконен и перверсивно эротичен; будучи постоянно изгоняемым и уничтожаемым, он с тем же постоянством возвращается в статусе вытесненного травматического опыта или коллективного фантазма.
Приговские монстры, зооморфные (крысы, тараканы и т. д.), антропоморфные (нередко близкие друзья и коллеги поэта или этнокультурные идентичности), неантропоморфные (Махроть Всея Руси, бегунья), монстры внешние (демоны из романа «Только моя Япония) и внутренние (обитающее внутри старца чудовище из романа «Ренат и Дракон»), – все они представляют чрезмерные, раздутые «тела культуры», все они вторгаются в реальность в момент обнаружения и обострения непреодолимых базовых различий, все они подрывают границы дозволенного, расширяя представления о пределах и беспредельности нового антропологического опыта.
Исследуя процесс порождения симулякров в приговской прозе, Михаил Ямпольский говорит, что она «постоянно сталкивается с элементами, несущими различие только как мелкую рябь, под которой торжествует стихия сходства, неразличения». Кроме того, «идентичность, сходство реализуется только каким-то внешним корсетом, за которым прячется полная бесформенность тотального различия». По сути, сходство и различие в поэтике Пригова тождественны друг другу, обратимы и взаимозаменяемы. В «De Divinatione» Цицерон сравнивает монстра с провиденциальным указанием на Божественное присутствие; монстры Пригова также выполняют функцию иногда явного, иногда сокрытого указания. Они указывают на непрерывное стирание границ между человеческим и нечеловеческим, а также на потенциальную невозможность установить сходство и различие между посюсторонним и трансцендентным.
В цикле «Бегунья» монструозный центральный персонаж – бегунья, предстающая поэту «высоко в небесах, сопровождаемая шлейфом фосфоресцирующих частиц», в финале валится с ног у финиша, «и Бог / Висит как раз над этим местом / И улыбается, заместо / Хлопот / И подлой суеты / Он знает, чему улыбается»53. Чему улыбается Бог? Он знает, но читатель не знает, потому что Бог здесь гносеологически непостижим, будучи культурной аллюзией, «неодуховной реминисценцией» предшествующего духовного опыта. Бог здесь, подобно монстру, по сути, чрезмерное и неописуемое «тело культуры». Теологический проект Пригова – это не богословский «проект веры», а эклектичное культурное построение со спрятанными ключами, предназначенное для пафосной или сатирической работыс религиозными догмами, заветами или суевериями. Зачастую христианские метафоры и аллегории, вплетенные в тексты Пригова, суть ускользающие следы разоблачаемых им устойчивых и популярных мифов коллективного бессознательного. Божественное и трансцендентное прочитывается Приговым подобно одной из сфернечеловеческого; эта сфера располагается где-то на границе (или за границами) человеческого и монструозного, отчего она способствует пониманию универсальных оснований антропологического опыта.
Инсталляция, представленная Приговым на выставке «Верю» и озаглавленная «Подземные скоты жмутся поближе к человеку», – гигантский экскаватор, задрапированный непрозрачной материй, с выпростанной клешней – показывает, что необъятный (и подчас враждебный) мир иного и запредельного сосуществует рядом и наравне с человеческим, на одной экзистенциальной плоскости, не отделенный какой-либо метафизической дистанцией. Приговская поэтика, занятая шаманским заговариванием монстров и попутным их произведением на свет, производит мощнейший смысловой сдвиг в традиционно религиозной мифологии, изображая потустороннее и трансцендентное подобно неотъемлемым элементам повседневного и человеческого.
Что подумает обо мне иной
1998
Предуведомление
Ну, здесь представлены образы меня в представлении различных людей. Вы думаете, что они суть некое преувеличение моего воображения или самоотдельно живущей творческой фантазии, стилеобразующей силы. Отнюдь. Хотя, конечно, собранные вместе, отдельные от их конкретных породителей, они представляют нам некие укрепленные в культуре общие квазимифологическиеобразы-имиджи. Ну, так и выдумали их такие же люди, что же в этом странного?
* * *
Иной думает, что я талантливый, умный, красивый, что только крикни мне: На помощь! – и я брошусь сломя голову, что я высокий, голубоглазый, что в шкафу у меня хранится шитая золотом генеральская форма, что каждый мускул у меня весом в 7–8 килограммов, что я изящен и танцую танго, что я вижу все насквозь, – ну что же, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я коварен, злобен, подл, что пишу стихи ради огромных денег, что под подушкой у меня кривой нож, что думы мои черны и беспросветны, как только человек отвернется – я уже на него руку заношу, или клевещу бессовестно, или гнусность замышляю, – ну что же, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я черный, почти абиссинец, что горбатый и припадаю на левую копытообразную ногу, что вынужден каждую ночь подрезать когти и уши, что с трудом отбиваю исходящий от меня серный запах, что хвост оттопыривает сзади мне брюки и скользит вниз по левой штанине, высовываясь мохнатым кончиком, – ну что же, может, он и прав, но не совсем.
Иной думает, что я медлителен и отлетаю по первому дуновению утреннего ветерка, что прохожу сквозь стены легкой нежной улыбкой, оседаю росой на полевых цветах, что доношусь прозрачным эхом, легко отделяясь от уст бледной девушки возгласом: Как печальна, как печальна эта жизнь! Но и прекрасна! – ну что ж, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я стремителен и неистов, что волевой поворот головы влево означает решение бросить на неприступные стены Берлина лейб-гвардейские полки, что мужественен и чувствителен, что скупая слеза подступает к стальным глазам при виде сокрушенной вдовы или оставленного ребенка, – ну что же, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я умен, умен, невероятно умен, что, бросив беглый взгляд, я говорю: Делать надо так! или: Ошибка вот в этом! или: Копать надо здесь! или: Ему доверять нельзя! что мгновенно исчисляю в уме произведение многих семизначных чисел, что одним движением руки провожу ровную окружность диаметром в два метра, что взглядом определяю вес, массу, объем, скорость и химический состав и возраст, – ну что же, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я по ночам занимаюсь чем-то неведомым, что касаюсь какого-нибудь предмета, а на расстоянии тысячи километров от него что-то взрывается или кто-то падает замертво, что движением руки в воздухе вспарываю пространство, что приказываю неким тайным помощникам и пробуждаю некие силы и потоки, – ну, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я тих и неведом даже по имени и внешности, что дни провожу согнувшись под камнем и стоя на камне же, и только доносится голос: Смирись, сын мой возлюбленный! – Да будет воля Твоя! – отвечает мой голос, и я покрываюсь сединой, отодвигаю тарелку с черствым куском черного хлеба, что меня не дано никому видеть, да и вообще мало кто может сказать обо мне что-то определенное, – ну что же, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я толстый, мрачный и саркастичный, пишу целыми днями, опустив ноги в таз с горячей водой, иногда разражаюсь диким демоническим хохотом, что отзываюсь обо всех презрительно и нелицеприятно, – ну что же, может, он и прав, да не совсем.
Иной думает, что я талантлив, злобен и коварен, почти абиссинец, тих и медлителен, прозрачен, стремителен и неистов, прямо пена с губ, что, бросив беглый взгляд, я говорю: Копать надо здесь! что беззаботен и смешлив до истерики, что по ночам занимаюсь чем-то неведомым, что я и сам почти неведом, незнаем даже по внешности и по имени, что толстый и мрачный, что только крикни мне: На помощь! – и я брошусь, сломя голову, что легкомыслен и транжир, что горбат и припадаю на левую копытообразную ногу, что оседаю росой на сонных цветах, что бросаю полки на неприступные стены Берлина, что забывчив и безответственен, что в уме исчисляю произведение многих семизначных чисел, что приказываю неким тайным силам и помощникам, покрываясь сединой и опустив ноги в таз с горячей водой, – ну что же, может, он и прав, да не совсем.
Прямая и новая антропология
Новая антропология
1993
Предуведомление
Проблема новой антропологии вставала перед человечеством всякий раз в моменты кризисов, завершений больших культурных эонов, возникновения новых больших идеологий. Ну, к примеру (совсем не уравнивая их ни в нравственном, ни в идеологическом, ни в результативном смысле) – христианская антропология, новый советский человек, арийский человек будущего… Степени радикальности проектов разнятся, конечно, и по социальным, и по культурным практикам, а также по явлению экстремальных примеров преображения биологического уровня человеческого существования (мы не приводим тут прочих, восточных учений, может быть и еще более рационализированных, практичных и радикальных в преодолении привычного биологического уровня антропологической агрегатности).
Сейчас эта проблема впрямую взаимоотносится со столь безумно-наговоренной и в то же время малозначительно разработанной сферой электронно-виртуальных разработок, опытами генной инженерии, клонирования и т. п. Говорят, за всем этим неизбегаемое уже будущее. Рады поверить, но пока не можем проверить.
Конечно, опыты данного сборника на фоне наисовременнейших прорывов в сферу новой антропологии выглядят весьма архаично, и даже культурно-заштампованно в своей привычной метафоричности… Однако же все вариации этой проблемы, на протяжении большого человеческого времени, встраиваются в финальный горизонт, финальный контур некоего антропологического строительства (умолчим об аксиологии и завершающем результате), типологически соотнося все этапы прокручивания этой идеи. Наш сборник не претендует на оригинальность, но лишь служит напоминанием, как и предыдущие бестиарии, монстро-воспроизведения, фантомы, фэнтези и т. п.
Ясно, что на пути прямых антропогенных вмешательств (в отличие от виртуальных стратегий, имеющих аналогии и культурное оправдание в традиционных медитативных, мистических и пр. практиках измененного сознания), стоят весьма серьезные нравственные запреты (во всяком случае, в пределах христианской культуры: по образу и подобию Божьему), а также глубинные пракультурные ужасы, связанные с оборотнями, насекомыми, змеями и пр.
Так что посмотрим.
- Вот я на все готовый – мне
- Приделайте сосцы коровьи
- А что?
- Чтобы выл ночами при луне
- А по утрам мочился кровью
- Доился, в смысле
- Чтобы как свой дикобраз
- Местный, в смысле
- Родил крылатого мышонка
- Чтобы он рос, он рос, и враз
- Возросши, в вашу мошонку —
- С завидным постоянством порождающую все, что ни попадя
- Впился и выгрыз начисто
- Шел я как-то вечерком
- В тихую погодку
- Вижу: на траве ничком
- Юноши-погодки
- Лежат не шевелясь
- Будто мертвые лежат
- Подхожу поближе
- Вдруг они как завизжат —
- Синий пламень лижет
- Стеклянные тела их
* * *
- Женщина-паук меня не любит
- Она любит своих паучат
- Гадких
- Ради них она меня погубит
- Лишь один, по-моему, зачат
- Мною
- Самый светленький
- А другие – кто от капли крови
- Волчьей
- Кто от безысходности простой
- Местной
- А последний самый – от любови
- С гордою известною змеей
- Тоже местною
Прямая антропология
1997
Предуведомление
Ну, это все обычно. Т. е. обычные процедуры проецирования на вертикальную ось и вертикальные членения человеческого тела. И обратно – проецирование частей человеческого тела на всевозможные феномены, события и структуры этого мира. Т. е. как это было раньше принято называть – соотношение микрокосма и макрокосма. Ну, что же, значит, так оно и есть.
* * *
Рассматривание головы и лица приводит к затемнению смысла и почему-то к проборматыванию слов Армагеддон и Кассиопея
* * *
Вид шеи, ее вертикальных закручивающихся и боковых движений приводит к неким аффазийным явлениям и пропаданию на карте, скажем, целого Индостана или Пиренейского полуострова
* * *
Пробегание по плечевому поясу приводит к неким паранормальным эффектам, почти жидкостным аберрациям
* * *
Наличие груди приводит к серии множественных мелких взрывообразных разрывов и так называемому явлению бикфордового шнура с последующими удалениями на порядок 20–25 миллионов световых лет
* * *
Живот в наблюдении и ощущении связан с многочисленными образами огня и его метафор от паука до скорпиона, до анаконды, динозавра и дракона, социальная же экстериоризация в виде Гефеста и Перуна оккупирует зону уже параноидальной синтагматики, все смыслы рождения, порождения, земли и пр., относящиеся к поздним, логически поздним функциональным спецификациям
* * *
Наличие гениталий вообще порождает много трудностей – например, окисление выделений, светящихся в низком диапазоне и вообще изменения перцептивной и даже синдромной последовательности, например – идешь, скажем, и вдруг все указатели меняют направление на 163 градуса, или в подъезде дома прорастают зубы, или что-то подобное
* * *
Принятие во внимание области коленей ничем не примечательно, разве неким расшатыванием вертикальных осей и линий, приводящим к мелким продольным трещинам и осыпаниям вдоль них внутреннего содержания, что вполне соотносится с легкими гравитационными и психосоматическими нарушениями
* * *
Со ступнями же связано все твердое и в то же время отсекающее, типа бритва Оккама, апорий Зенона, двайты-адвайты Шанкары, но и исчезновение таких понятий, как «вон там, за углом», «парочку минут спустя» или «закон непрямого действия» и «границы разумного распространения», тем более что характеризуется это и утерей способности жестко фиксироваться на чем-либо, отстоящем хотя бы на 3–4 миллиметра
Слово, число, чудовище
Кровь и слезыи все прочее
1980
ПРЕДУВЕДОМИТЕЛЬНАЯ БЕСЕДА
(Гамлет, Милицанер, Поэт)
ГАМЛЕТ Убить или не убить?
МИЛИЦАНЕР Убить, убить.
ПОЭТ Конечно же, убить!
ГАМЛЕТ Но почему?
МИЛИЦАНЕР Видите ли, товарищ Гамлет, коли есть Милицанер – должен быть и убийца. Уже в вашем вопросе проглядывает это двуединство. То есть сомнение «убить или не убить?» говорит о том, что естественному желанию убить, являющему чистый витальный порыв, противостоит столь же естественный охранительный принцип, который есть манифестация охранительной функции Государства, материализацией которой я и являюсь. В поле между двумя этими полюсами и совершается жизнь, история, прогресс. И дабы они совершились, актуализировались, дабы явилось Государство, как реальный фактор двуединой формулы бытия, явилось как гром и молния из столкновения туч, вы, товарищ Гамлет, призваны убить!
ПОЭТ Да, да, вы правы, товарищ милицанер! Видите ли, товарищ Гамлет, искусство не есть случайная забава праздных созерцателей. Нет. Искусство есть одна из форм познавательной деятельности человека. И в нашей ситуации с ограниченным набором действующих лиц она представительствует всю эту сферу деятельности человека, которая, как справедливо заметил товарищ Милицанер, соучаствует и способствует жизни, истории и прогрессу. Отбросив всякие личные, эмоциональные и прочие случайные привнесения, искусство представительствует эту сферу человеческой деятельности как чистый язык описания. Но для искусства важен факт. А что есть основные, так сказать, артефакты в жизни человека – это Жизнь и Смерть. Но это Факты природного человека. А насильственная смерть, т. е. убийство, есть Факт человека человеческого, это Факт, который не стоит в противоречии с Фактами человека природного, т. к. происходит уже после рождения и не противоречит Факту смерти как таковому. Но он работает на опережение природы, он отнимает у природы диктаторские права. Этот факт объявляет человека человеческого, но притом не вырывает человека из природы, а внедряет человека человеческого в природу как существо, волящее в недрах мирового процесса. И в данном случае вы, товарищ Гамлет, будете этим самым волящим человеком, так называемым убийцей, а товарищ Милицанер, представляя Государство, будет тем противовесным элементом, который представляет интересы высших законов природы, а я как описатель этого процесса, т. е. будучи чистым языком его – стану синтезом человека человеческого и человека природного.
ГАМЛЕТ Ну, тогда я убью вас, товарищ Милицанер!
МИЛИЦАНЕР Нет, нельзя. Так как я – это не я, в высшем смысле, то убив меня, вы уничтожаете Государство, уничтожаете один из вышеназванных полюсов и лишаете жизнь динамики, и тем самым лишаете себя этой динамики, уничтожая тем самым возможность порыва убить меня. Вы противоречите сами себе, товарищ Гамлет, поскольку если бы у вас было намерение убить Государство, то вопрос стоял бы не в «убить или не убить?», а – «как убить?». Но поначалу вы, товарищ Гамлет, правильно почувствовали суть проблемы, и не надо отступать от частного ее разрешения, соблазняясь ложными и случайными проблемами.
ГАМЛЕТ Тогда я убью вас, товарищ Поэт!
ПОЭТ Нет, товарищ Гамлет, нельзя. Убив меня, вы лишаете событие описателя, т. е. языка, и в данном случае само событие становится невозможным, т. е. становится не закономерным, а случайным, и может вообще не произойти, и тем самым обессмысливается ваш, товарищ Гамлет, вопрос «убить или не убить?», т. е. вы, товарищ Гамлет, убиваете, можно сказать, самого себя и уже не можете вообще убить кого-либо иного, скажем – меня.
ГАМЛЕТ Тогда я убью себя.
МИЛИЦАНЕР Тоже нельзя. В каждом убийстве должен быть объект убийства и субъект убийства. Убив себя, вы уничтожаете субъект убийства, становясь чистым объектом убийства. Но государство не может соотноситься с объектом убийства. Тогда оно, чтобы быть явленным в мире перед фактом убийства, вынуждено объявить кого-то другого субъектом убийства. Объявить субъектом убийства Поэта нельзя, т. к. поставив его субъектом убийства, мы лишаемся языка описания, и все различия объекта и субъекта убийства теряют всякие возможности быть описанными и определенными. Тогда Государство вынуждено объявить субъектом убийства меня, Милицанера. Но в этом случае, помимо явной бессмысленности этого акта как акта реального, Государство лишается возможности реализоваться в этом мире, т. к. я уже убийца и не есть его представитель в этом мире. Реализоваться же в поэте Оно не может по тем же самым причинам, т. е. исчезает язык описания, который дефинирует все эти понятия. Следовательно, Государство противостоит мне как чистая абстракция. Как нирвана. Но этого не может быть, т. к. это не так. Если бы это было так, то вы бы сами, товарищ Гамлет, не задали бы вопрос «убить или не убить?», а спросили бы «что делать?».
ПОЭТ Да, товарищ Милицанер абсолютно прав. Убив себя, вы бы, товарищ Гамлет, в тот же самый момент, как убили себя, стали бы чистой природой, в которой отсутствует язык описания, и тем самым бы уничтожили бы всякую возможность человека человеческого, но узаконили бы человека-камня, человека-дерева.
ГАМЛЕТ Понятно. Я пошел. (Вынимает шпагу.)
МИЛИЦАНЕР Иди, иди. (Вынимает револьвер.)
ПОЭТ Иди, иди. (Вынимает авторучку.)
- Что-то крови захотелось
- Дай, кого-нибудь убью
- Этот вот, из них красивый
- Самый первый в их строю
- Вот его-то и убью
- Просто так, для пользы дела
- Искромсаю его тело
- Память вечная ему
- Девочка идет смеясь
- Крови в ней всего три литра
- Да, всего четыре литра
- Литров пять там или шесть
- И от малого укола
- Может вытечь вся она
- Девочка! Моя родная!
- Ради мамы, ради школы,
- Ради Родины и долга
- Перед Родиною – долго
- Жить обязана! Родная
- Береги-храни себя!
- Как же так? —
- В подворотне он ее обидел
- В смысле – изнасиловал ее
- Бог все это и сквозь толщу видел
- Но и не остановил его
- Почему же? —
- Потому что если в каждое мгновенье
- Вмешиваться и вести учет
- То уж следующего мгновенья
- Не получится, а будет черт-те что —
- Вот поэтому.
- Домик дачный средь участка
- А над ним с небесных круч —
- Звезды – и не то чтоб часто
- Да и то в отсутствье туч
- А не то чтоб досаждают
- А проглянутся когда
- Мать ребенка утешает:
- Вон, горит твоя звезда
- Да тебе еще не скоро —
- Но кто может предсказать?
- Этот домик, этот сад
- Возле улицы Садовой
- Это было, это было
- Ровно сорок лет назад
- Или лет немного меньше
- Только все равно назад
- Сколько мимо их прошло —
- Этих лет и этих женщин!
- Только всех я отменил
- Из-за справедливой мести —
- Не жил я на этом месте!
- Да и вообще не жил!
- Как мучит нас ненужная природа
- От дел высоких гонит нас в кровать
- К делам, которые должны занятьем быть
- Спецьяльно выделенного народа
- Вот в Византии евнух – муж и полководец
- И чистой государственности свет
- Он прав, не прав – ему позора нет
- И в чистом сне ему домеку нет
- Что мучится какой-то детородец
- Свет зажигается – страшный налет
- На мирное население
- Кто налетает? и кто это бьет?
- Вечером в воскресение?
- Я налетаю и я это бью
- Скопище тараканов
- Громко победные песни пою
- Воду пускаю из крана
- Милые, бедные, я же не зверь!
- Не мериканц во Вьетнаме!
- Да что поделаешь – это, увы
- В нас, и вне нас, и над нами
- Что значит атлет? Что являет он в мир? —
- Безумье бумаги промасленной!
- А в древности грек с наготою осмысленной
- Носил свое тело как носят мундир
- Лишь ты ему равен, мой милицанер
- Вы равно осмысленны и узнаваемы
- И как не оденешь его, например —
- Тебя не разденешь, хоть и раздеваемый
- Вот скульптор лепит козла
- Сам про себя твердя:
- Я им покажу, блядям
- Как надо лепить козла
- Кому он покажет и что
- Посредством лепного козла
- Ведь он за гранью добра и зла
- Тем более глиняный что
- Нет, мой скульптор, заместо козла
- Слепи что-нибудь такое
- Чтоб каждый пришедший: Да – сказал
- Он нам воистину показал
- Небесное-неземное
- После обычного с работы прихода
- По комнатам ходит он взад-вперед
- И громко пукает из заднего прохода
- А спереди песню поет
- На самом же деле он крупный начальник
- И может быть даже вооружен
- И может быть даже женщина он
- Но это маловероятно
- И все это за домашними стенами
- Для других он как будто и не был
- И все это строго между нами
- И между землей и небом
- Вот и окончилась в Москве Олимпиада
- В стечении количества народа
- В звучании прощального парада
- На главном стадионе средь Москвы
- Там были иностранцы, но и мы
- И я там был средь этого Содома
- И понял, что досель не понимал:
- Я здесь в гостях, они же здесь все дома
- И мой резон невыразимо мал
- Пускай, что через час все разойдутся
- Пускай, что далеко не все спасутся
- Да ведь не я ж здесь всех пересчитал
- И я в слезах по-детски зарыдал —
- Здесь праздник был, а я был чужд и мал
- И самый маломальский Гете
- Попав в наш сумрачный предел
- Не смог, когда б и захотел
- Осмыслить свысока все это
- Посредством бесполезных слов
- Он выглядел бы как насмешник
- Или как чей-нибудь приспешник
- Да потому что нету слов
- Вот таракан с распахнутым крылом
- По стенке бегает игриво
- На что тебе крыло, мой милый? —
- Да чтобы Богу угодить
- Он любит, говорят, крылатых
- К тому ж оно не тяжело —
- Вот истинный ответ: коль нам не тяжело
- Так почему ж другим не угодить
- Итак, поэт, о мещанине
- Давно пора поговорить
- Как нам вредит он, как не любит
- Он нас, хоть должен нас любить
- Мы отомстим ему примерно —
- Вот он с объятьем к нам летит
- Ему ответим мы, примерно:
- Уйди, проклятый! Ненавижу!
- Я жил во времена национальных
- Героев и им не было числа
- Одни несли печать Добра и Зла
- Другие тонус эмоциональный
- Поддерживали в нас по мере сил
- Народ любил их, а иных бранил
- И через то герой героем был
- А я завидовал им эмоционально
- Поскольку я люблю национальных
- Героев
- Напомните мне, как это у Моцарта
- Тара-та-та-та или тара-там-там-там
- Или, скажем, у Македонского там:
- Пам-пам-пам-пам па-пам коня за полцарства
- Да ведь и у нас все по-прежнему так
- Не выразить словом ни новым, ни старым
- Тара-та-та-та-та
- тара-та-та-там
- Пам-пам-пам-пам-па-пам
- тарьям-трьям-трьям-тьярам!
- Солнце светит ярко-ярко
- Среди поля жарко-жарко
- Нестерпимо-невозможно
- Что и помереть возможно
- Ах, без цели понапрасну
- Помереть в такой прекрасный
- День!
- Проходил я здесь рыдая
- Как по острому ножу
- А теперь вот прохожу
- Разве чуточку страдая
- Разве только лишь о том
- Что вот жизнь проходит мимо
- Было разно, было мило
- Будет что-нибудь потом
- Как страсти мучают людей
- С ножами бегают в припадке
- Неописуемых страстей
- Детей пугая в их кроватке
- Средь ночи, в свете полуденном
- Пугая жен неразведенных
- Соседей всевозможных вер
- И только ты, Милицанер
- Не отвергая, не любя
- Свидетелем момента мори
- И стражем данных территорий
- Приходишь сам не от себя
- Когда бы не было тебя
- Я сам бы выдумал тебя
- Но призраком в кипящем море
- Девица ты красная
- С револьвером в кожанке
- Почто девицу белую
- Белую пригожую
- По имени Ксения
- По фамилии Романова
- Уложила окровавленну
- Вплоть до Воскресения —
- – А чтоб не была белая
- А была красная
- Красное – оно всегда прекрасное
- Даже бездыханное.
- А что дитя? – он тоже человек
- Он подлежит и пуле и закону
- А что такого? – он ведь человек
- А значит родственник и пуле и закону
- Они имеют право на него
- Тем более когда он пионером
- Бежит вперед и служит всем примером
- Чего примером? – этого… того
- Что-то исчезли продукты
- Только без них по зиме
- Кровь уж совсем леденеет
- Клонится тело к земле
- Я понимаю, что сложно
- Сеять продукты, растить
- Да многого нам и не нужно:
- Может климат видоизменить
ВЫСОКАЯ ЛЮБОВЬ
- Когда в Кустанае проездом я был
- Молодую казашку я там полюбил
- И ничего для нее мне было не жалко —
- Стройна и пленительна как парижанка
- Тогда я Орлову в сердцах говорил
- (Со мною Орлов там по случаю был):
- Смотри же, Орлов, как справедлива природа —
- Рождает красоту средь любого народа
- Вот так бы и жить уподобясь листку
- А мы все срываемся, а мы все – в Москву
- Текла старинная Ока
- Со всем что есть в округе новым
- И мы с товарищем Орловым
- Следили неиздалека
- Сидели мы на берегу
- Средь лодок въехавших в крапиву
- Сидели, попивали пиво
- А дальше вспомнить не могу
- Счастье, счастье, где ты? где ты?
- И в какой ты стороне?
- Из-под мышки вдруг оно
- Отвечает: вот я! вот я!
- Ах ты, милое мое!
- Детка ненаглядная!
- Дай тебя я пожалею
- Ты сиди уж, не высовывайся
- Тучи шустро набежали
- И испортили весь праздник
- Эти тучи – паразиты
- Этот праздник – безобразник
- Этот праздник – черт-те что
- Падла – если разобраться
- Эта жизнь – сплошное блядство
- Праздник тоже! – твою мать!
- Мой брат таракан и сестра моя муха
- Родные, что шепчете вы мне на ухо?
- Ага, понимаю, что я, мол, подлец
- Что я вас давлю, а наш общий Отец
- На небе бинокль к глазам свой подносит
- И все замечает и в книгу заносит
- Так нет, не надейтесь, – когда б заносил
- Что каждый его от рожденья просил
- То жизнь на земле уж давно б прогорела
- Он в книгу заносит что нужно для дела
- Лишь только выйду – портится погода
- А в комнате сижу – прекрасная стоит
- Наверно, что-то ставит мне на вид
- Против меня живущая природа
- Наверно, потому что я прямой и честный
- Сторонник государственных идей
- Которые уводят у нее людей
- В возвышенный мир рыцарский, но тесный
- Так они сидели
- На той ветке самой
- Один Ленин – Ленин
- Другой Ленин – Сталин
- Тихую беседу
- Ото всех вели
- Крыльями повоевали
- На краю земли
- Той земли Восточной
- В Западном краю
- Мира посередке
- Ветки на краю
Апокалиптические видения внутри стиха
1983
Предуведомление
Сложно отношение поэта с жизнью. Она не хочет вербализоваться, не хочет быть понятой и явленной на языке поступков и событий. Она хочет, чтобы в ней пропали.
Сложно отношение поэта с народом. Он хочет быть действующим лицом, он хочет, чтобы с ним разговаривали на языке совместного восторженного дыхания. Он хочет, чтобы в нем пропали.
Сложно отношение поэта со стихами. Они не хотят быть придатками, они хотят, чтобы с ними разговаривали на языке вдохновения. Они хотят, чтобы в них пропали.
Сложно отношение поэта с собой. Он не хочет быть понятым и отвергнутым. Он не хочет, чтобы с ним разговаривали. Он хочет, чтобы в нем пропали.
Сложно поэту. Куда ни глянешь – всюду смерть.
- Вот мальчик выходит из света
- 5914[1] Бледней попадьи райсовета
- О, мальчик мой милый родной
- Когда надвигается вечер
- И душу утешить нам нечем
- Лишь думой безумной одной
- Которая машет крылами
- В соседстве кровавых порезов
- Вцепившись прямыми ногами
- В растенье у края над бездной
- Над маленькой бездной одной
- О, мальчик мой милый родной!
- Милицанер один гуляет
- 5911 Следя закон, блюдя устав
- И лист осенний облетает
- Висеть на дереве устав
- И рядом возникают лица
- Равносионских мудрецов
- И огненная колесница
- Летящая с земли отцов
- И кто-то в воздух поднимает
- Прозрачный камень лазурит
- Милицанер все это зрит
- И безусловно понимает
- Вот корова пробежала
- 5909 Впереди у нее жало
- Сверху – горб и аллилуйя
- Снизу – лик живой
- Дай тебя я расцелую
- Милый же ты мой!
- Летел огромный зверь косматый
- 5915 Посланник дальних государств
- Блеща огнем, рыгая матом
- Пред небесами благодарствн
- И с виду был он Руставели
- Внутри же – чистый Хомейни
- И его губы розовели
- О, Господи, нас помяни
- В Отечестве твоем!
- Вот тигор движимый любовью
- Нагую обнимает лань
- Ей на хребет он ложит длань
- И отнимает уже с кровью
- О, что за тяжкая природа! —
- Познанья жаждою гореть
- Любвьей объятому лететь
- И видеть только смерть у входа
- Лететь, стремиться и гореть
- А рядом видеть только смерть
- В итоге
- Бывало столько сил внутри носил я
- 5960 Бывало умереть – что сбегать в магазин
- А тут смотрю и нету больше силы
- Лишь камень подниму – и нету больше сил
- Другое время что ли было, или
- В другом краю каком чужом жил-был
- Бывало скажешь слово – и уговорил
- А тут что скажешь – и уговорили
- Насмерть
- Они мерзнут у меня
- 5961 Кабы развести огня
- Только вот у папеньки
- Спичек нет ни капельки
- И завернуты мы с сыночкой
- Словно в влажную простыночку
- Кто поможет нам в беде
- Спичек нет, поди, нигде
- Стужа синяя с утра
- 597 °Cнег алмазный расцветает
- Радостная детвора
- От восторга замирает
- Потому что это край
- Эти детки, эта стужа
- Суть обетованный рай
- Замороженный снаружи
- И снутри для вечности
- Частной человечности
- В обход
- Туча вышла озираясь
- 5974 Заглянула мне в глаза
- Это ж ужас! это ж ужас!
- Будет страшная гроза
- Я навстречу ей как пыхну
- Полыханием огня
- Не хотел я! не хотел я!
- Вынудили меня
- Премудрость Божия пред Божиим лицом
- 5981 Плясала безнаказная и пела
- А не с лицом насупленным сидела
- Или еще каким таким лицом
- Вот так и ты, поэт, перед лицом народа
- Пляши и пой перед его лицом
- А то не то что будешь подлецом
- Но неким глыбкомысленным уродом
- Будешь
- Я сижу и наблюдаю:
- 5989 Разный ходит здесь народ
- Кто что в сумочке несет
- Кто на ножку припадает
- Кто бежит и пропадает
- Кто споткнулся-упадает
- Я сижу, а жизнь идет
- Про то сья песня сложена
- 5993 Чья жизнь прекрасна и сложна
- Вот в небесах полузаброшенных
- Порхает птичка зензивер
- А в подмосковном рву некошеном
- С ножом в груди милицанер
- Лежит
- Ой, ты молодость – розовый дым!
- 6004 Ой, вы легкие лебеди-гуси!
- Хорошо умереть молодым
- Да, увы, впопыхах промахнулся
- Впопыхах перепутал кровать
- А теперь уж чего умирать!
- Уже сморщенный и некрасивый
- Уже кашляет старая грудь
- Уже молодости не вернуть
- Даже силами смерти всесильной
- Не вернуть
- Вот они приходят молодые
- 6007 Близкой мне погибелью грозят
- У них зубы белые прямые
- И на каждом зубе блещет яд
- И глаза их страшные горят
- Небеса над ними голубые
- И под ними пропасти висят
- Я же в нишке маленькой сижу
- И на них испуганно гляжу
- Господи, где мне искать спасенья?
- Может, Ты мне скажешь? – Не скажу —
- Он отвечает
- В синем воздухе вечернем
- 6013 Солнце ласкотало тени
- Сын с улыбкою дочерней
- Примостился на колени
- Эта ласковость в природе
- Словно предопределенье
- Но зато замест в народе
- Эка сила разделенья
- Страшная
- Нету мне радости в прелести цвета
- 6014 Нету мне радости в тонкости тона
- Вот я оделся в одежды поэта
- Вот обрядился в премудрость Платона
- Но не бегут ко мне юноши стройные
- И не бегут ко мне девушки чистые
- Все оттого, что в основе неистинно
- Жизнь на земле от рожденья устроена
- Бедные! что без меня вы здесь значите!
- Злые! оставьте меня вы в покое!
- Вот я сейчас вам скажу здесь такое —
- Все вы ужасной слезою заплачете
- Подлые
- На прудах на Патриарших
- 6034 Пробежало мое детство
- А теперь куда мне деться
- Когда стал намного старше
- На какие на пруды
- На какие смутны воды
- Ах, неужто ль у природы
- Нету для меня воды
- В железном бункере своем
- 6044 С какой-то норной тварью схожий
- С экземою покрытой кожей
- Сидел он с Евою вдвоем
- Германский рухнувший Адам
- И изгнанный уже из рая
- Он говорил ей: Дорогая
- Сейчас вот яду тебе дам
- И мы пойдем в поту кровавом
- Возделывать поля небес
- Кто нас возьмет – не знаю, право
- Возможно Бог, возможно Бес
- На этот труд кровавый
- Без
- Гарантий
- Ты помнишь край, где все мы жили
- 6065 Где пел полночный соловей
- И некоторый мужик двужильный
- Пахал поля при свете дней
- И возвращаяся с работы
- На наш невинный палисад
- Как будто из потьмы египетской
- Бросал свой истомленный взгляд
- И были мы не виноваты
- И лишь сводящая с ума
- Во всем была здесь виновата
- Одна великая потьма
- Египетская
- В чистом поле, в чистом поле
- 6072 В чистом поле кто лежит —
- Пуля мертвая лежит
- Тело рядышком лежит
- Каждый сделал свое дело
- Пуля – смертное, а тело —
- Тоже ведь не скажешь смело
- Что бессмертное
- Когда немыслимый аграрий
- 6193 Забился в судороге полей
- Рождая от потьмы своей
- И объявился пролетарий
- Который в судороге завода
- Забился посреди станков
- Рождая вдруг большевиков
- И объявилася свобода
- Которая с безумным криком
- Забилась в судороге масс
- Рождая их, рождая нас
- Тогда и объявился Пригов
- Средь нас
ЧИТАЯ «ЛОЛИТУ» НАБОКОВА, НО НЕ ВО ВСЕМ СОГЛАСНЫЙ С НИМ
- Мячик звонче ударяйся
- Ножка выше поднимайся
- Ножка выше поднимайся
- Мячик звонче ударяйся
- Мячик ударяется
- Ножка поднимается
- Ножка поднимается
- Что-то открывается
- Что-то открывается
- Что-то закрывается
- Ой-ой-ой-ой, дяденька
- Ой, увидит тятенька
- Ой, увидит тятенька
- Ой-ой, больно дяденька
- Принесли ее домой —
- Оказалася живой
- Мышка погрызла весь хлеб на столе
- 6164 Ах ты, проказница! Спряталась где-то
- Жизнь тяжела! Ну, да ладно – смелей!
- Как-нибудь зиму прокормимся эту
- Ну, а как грянет чего пострашней
- Скажем, ужасное – уж не взыщи ты
- Я тебе в этом уже не защитник
- Мне самому бы спастися – ей-ей!
- О чем так необдуманно и страстно
- 6196 Взываешь к Богу, бедное дитя
- Смотри, подслушает живое Государство
- И переймет все дело на себя
- И правильно, дитя – живи подвластно
- Там кто-нибудь и против, а я – нет
- И не минуй в печалях Государство
- А то оно безумеет в ответ
БОЛЬШОЕ АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ В 61 СТРОКУ
- Любители Баха и Апассьянат
- 5933 Ведь тоже – обычные люди
- Мы строго, пожалуй, их судим
- Ведь скажем кому попадись автомат
- Ведь он что пожалуй и не виноват
- Тем более ежели будит
- Его среди ночи кромешной
- Какой-то там голос и говорит:
- Смотри, вон звезда над тобою горит
- Вон зверь появился нездешний
- Который когтями ягненка когтит
- И падает кровь безутешно
- Но вот из-за тучи поспешно
- Прекрасная птица к событью спешит
- Прекрасными крыльями страшно шуршит
- От скорости крыльями страшно свистит
- И светится страшной любовью
- И малую капельку крови
- Небольно подхватывает на лету
- И бедную малую капельку ту
- Несет и уносит в какую страну
- И там ее в влажную землю бросает
- И малый росток из земли вырастает
- Растет постепенно, растет-вырастает
- И листьями сочными ствол обрастает
- И крупные рядом плоды нарастают
- И лопается один маленький плод
- И следом другие, и разный народ
- Оттуда нарядный выходит
- Гуляет, шатается, бродит
- Не зная беды и печали
- А то вот вдруг крыльями все закачали
- А то вот вдруг крыльями все зашумели
- И кверху поднялись как будто стрекозы
- Приняв осторожные легкие позы
- Куда-то огромной толпой полетели
- К какой-то единой намеченной цели
- И вот из какого-то там удаленного
- Небес уголка волокут что есть сил
- Зверюгу того, что ягненка когтил
- Влекут одинокого и удивленного
- И ручками маленькими дрожа
- Они его страшное тело хватают
- И рвут его в клочья и кровь упадает
- На нижнюю землю и тут же пожар
- Огромный ужасный внизу возникает
- И все поджигает, и всех поджигает
- Деревья сжигает, растенья сжигает
- Людишек висящих вверху зажигает
- И с криками громкими вниз упадают
- Они и лежат; и кричат, и страдают
- Прекрасная птица над ними летает
- И все это молча она наблюдает
- Ни малой травинки не смея коснуться
- Так как же от этого тут не проснуться
- Хватая заряженные пистолеты
- А то вышеназванный автомат
- Не всякий проснувшийся еще при этом
- Любителем Баха и Апассьянат
- Бывает
Воинств небесных чудны размеры
1984
Предуведомительный рисунок воина Гундлаха Свена Гуйдовича (уменьшенная копия Д.А.Пригова)
- Воинств небесных дивны размеры
- Чуден их говор и чуден их вид
- Все под ногами внизу их горит —
- Восторг, господа офицеры!
- Господа ангелы, время не ждет
- Меч наш стриглавый всегда по размеру
- Восторг, господа офицеры!
- Господа офицеры, вперед!
- За Отечество, товарищи, за веру!
- Банзай!
- Вот гармонику беру
- И играю что выходит
- А в ответ из-под земли
- Мальчик маленький выходит
- Я играю и пою
- А он тихонько подрастает
- В конармейца вырастает
- А я играю и пою
- Но потихоньку затихаю
- А он пошел в обратный рост
- Вот лишь маленький нарост
- Пыли – вот она какая
- Тайна жизни
- Бесчинствует немец над нашей державой
- А я еще маленький в гриппе лежу
- И гвоздик случайный в ручонке держу
- Откуда он взялся-то мелкий и ржавый
- А может не ржавый – стальной и блестящий
- Не гвоздичек вовсе – карающий меч
- Что негде где немца от гнева сберечь
- В том будущем бывшем, сейчас – настоящем
- Вечном
- Гремя огнем, сверкая блеском стали
- В эффекте месмерических блистаний
- Вот он летит без слабости и дрожи
- Но что-то в воздухе его тревожит
- Не пуля, не осинный кол
- Но некий маленький укол
- прорастающий
- Не немцы ли нас всех погубят
- Да это было в прошлый раз
- Теперь китайцы нас погубят
- То-йсть, мериканцы нас погубят
- А уже в следующий раз
- Как мериканцы нас погубят
- Тогда китайцы нас погубят
- Или еще там кто погубят
- Но Силы Небесные нас приголубят
- И скажут: Давайте же всех их совместно
- С земли их сотрем и на чистое место
- Новую жизнь поставим
- Счастливую
- На века
- Скажи-ка воин нам Гундлах
- Как ты французов под Полтавой
- Смертельной опоил отравой
- И поморозил в пух и прах
- Вот расскажу вам для урока
- Одно из первых дел своих
- Как я татар, детей жестоких
- Навел на Русь, а после их
- Сам и уничтожил
- Живой не вскрикнет и мертвец не ахнет
- Когда пройду я над страной
- Неимоверною стопой
- Не потревожив разный прах их
- Но вздрогнут лишь от узнаванья
- Как знамени гвардейский шелк
- Прошелестев: Вон наш пошел
- Высокого ужасно званья
- Неимоверного
- Вот всех вас тут я и порушу
- Собрались вместе – и добро
- Забудьте, бедные, про душу
- Имайте ножик под ребро
- Который остр в буквальном смысле
- А в переносном – и вдвойне
- Ведь мы повсюду на войне
- По-христиански мыслить если
- Когда Буденный мощью ног
- Носился скакуна здесь пегого
- То разве бы представить мог
- Какого-нибудь, скажем, Рейгана
- Хотя представить очень мог
- Так как Буденные, выходит
- Увы, приходят и уходят
- А Рейганы – суди их Бог! —
- Тоже приходят
- Вот они летят собой огромны
- Что нам делать маленьким таким
- А мы шприц покажем им укромный
- И уколом тонким пригрозим
- И они вдруг задрожат, забьются
- В обморок мгновенный упадут
- И с небес посыпятся-польются
- А затем они такие тут
- Мы просто отпугнуть хотели
- Меняется погода быстро
- Сдвигая атмосферный фронт
- Как будто 1-й Украинский
- Или 2-й там Украинский
- На 3-й Белорусский фронт
- Надвинулся с победой длинной
- А мы под ними здесь Берлином
- Насмерть стоим
- Холм к холму идет с вопросом:
- Долго ль нам еще стоять
- Средь пустых лесов-покосов
- И томиться, твою мать? —
- А хуй его знает
- Товарищ майор
- Вот из России к ним с любовью
- Летим не убоясь труда
- Они ж наполненные кровью
- Стоят как тучные стада
- Не в силах вынести, когда
- Такая жаркая любовь
- Лишь тронешь – сразу брызжет кровь
- Во все стороны
- Вот он ярится слоновидный
- Пятой всех попирая ниц
- Но вдруг оглядывается – шприц
- Торчит оттуда еле видный
- И тут безумный беспричинный
- Его вдруг ужас обуял
- И он несется на Дарьял
- И гибнет в водяной пучине
- Когда под-над Россией светлой
- Он в виде ворона летал —
- Он видел пламя и металл
- А снега-то и не заметил
- Но тот словно индийский слон
- На него сзади навалился
- Злодей по горло провалился
- А дальше – пение и сон
- Нирвана
- Когда он на Святой Елене
- Томился дум высоких полн
- К нему валы высоких волн
- В кровавой беспокойной пене
- Убитых тысячи голов
- Катили вымытых из почвы
- Он их пинал ногою: Прочь вы
- Подите! Вы не мой улов
- Но Божий
- Когда Иосиф Сталин немцев
- Рукою сухонькою сжал
- То было их совсем не жаль —
- А что жалеть их, иноземцев
- Да и вобще – кого жалеть
- С какой такой позицьи глядя
- Поскольку ведь недаром, дядя
- Мы рождены чтоб умереть
- И это сделать былью
- Генерал Торквемада войска собирал
- На подземно-небесную битву
- Вот выходит он после молитвы
- А пред ним – ослепительный бал
- Что ты пляшешь, нечистая сила?
- Говорит боевой генерал
- И кровавый чертенок упал
- На седые усы генерала
- Ворон сверху покосился
- На меня, даже меня
- Я – одежды поправлять
- Можт, пиджак перекосился:
- Что ты, черный гад, воззрился
- На меня, аль незнаком?
- А он мне русским языком:
- Да ты чего засуетился?
- Просто сладким вдруг душком
- Потянуло
- Нарушая все законы
- Обрушая все границы
- Вот летит он словно птица
- Словно конь из Первой конной
- Или конь из Второй конной
- Или конник Третьей конной
- Всякой конной всякий птах…
- Что это? – да это так
- В небесах
- Они сбираются, невидимыми нервами
- Как молнии простегивая мир
- Перед великими последними маневрами
- И грозные поют: Гиваямир
- И вниз глядят, своих сзывая басом
- А я вот здесь – я офицер запаса
- Пока что
- Над картой ночею бессонной
- Сидели в штабе до утра
- Под городом Армагеддоном
- И он сказал тогда: Пора!
- И огляделся напоследок
- И выходило так ли, эдак ль
- Что победим
Демоны и ангелы текста
1989
Предуведомление
Чуяли ли вы (о, конечно! конечно чуяли! кто не чуял?! – нет такого), как под тонкой и жесткой корочкой стиха пузырится вечно что-то, пытаясь разорвать ее зубами, вспучить спиной своей бугристой пупырчатой! Это и есть демоны текста, внаружу выйти пытающиеся, и выходят, да нет им как бы языка среди этой расчерченной поверхности. И вот разгрызают они слова, разваливают их по слогам, в разные дикости, для слуха и глаза еще не изготовленного для невидения их, эти куски соединяя.
Но тут же бросаются им наперерез белые ангелы текста, выхватывая из их зубов слова в их предначертанной целости, и распевают как имена, с другими неспутываемые и ни в какие, кроме равенства, возможной одновременности и разной слышимости звучания, отношения не вступающие. И поют ангелы! И поют! А демоны рычат и рвут! А ангелы поют! А демоны рычат! А ангелы поют!
- Мой друг, бежим к живым Ешумам
- На берег океана Уберт
- Где шумом нас омоет Шуман
- И шубою укроет Шуберт
- И в жабрах рыбы Еныбах
- Задышит старец хлебный Бах
- Бежим, друг
- Бежим
- К Ешумам
- На берег
- Океан
- Шум
- Шууум
- Шууууммм
- Шууумммм
- Шууубееерт
- Еныбаааххх!
- Бах
- Вот я словно лесная лань
- Лечу – за мной солдатский топот
- И выкрики и злая брань
- И следом словно вал потопа
- Смывает всех! и я одна
- Стою и на песке у дна
- Вижу:
- Я
- Ты
- Она
- Лаань леснаааяяя
- Топооот солдааатский
- Выкрикиии дииикиеее
- Вода
- Песок
- Дно
- И я одна
- Летит, летит железная страница
- Из жизни маршала времен второй войны
- Над ней колдует маленькая птица
- По имени людей Торойв Ойны
- Непобедимая
- Да
- Страница железнааааяяя
- Маршаааал войныыы
- Маааршааал Жууукооов
- И мааааршааал Рокоссооовскииий
- И маааршааал Кооонееев
- И война
- И птица
- И я
- Ты
- Они
- Непобедимые
- Берешь топор, выходишь в лес
- И рубишь дивный ствол Ванливо
- И слышишь голос с поднебес:
- О, что ты сделал, раб чванливый
- А что я сделал? —
- А Ванливо кто срубил? —
- Я срубил! —
- Тогда обернись! —
- И что? —
- Видишь Даобер Нись? —
- Не вижу! —
- Бедный мой! —
- Не вижу! —
- Бедный мой! —
- Но я не вижу! —
- Сейчас увидишь!
- Блестящая Вена, десятые годы
- И Штраус со скрипкой как змейка поет
- Эрцгерцога ужас, Валькирий полет
- Во тьме проступающий лик Тыегоды
- И Гитлер приходит, и я прихожу
- Босая, невидящим взглядом гляжу
- На Восток
- И Вена блестящая
- Годы десяяятыеее
- Штраус поеееет
- И Вагнер
- Шенберг
- Шостакович
- Ужас
- Я на большой горе стояла
- И сердце мне орел клевал
- И медленно околевал
- И кудри я его ласкала
- И свое сердце проклинала:
- И, мое каменное сердце!
- Ты разве пища для младенцев
- Небесных
- О-о-о!
- Я шла в октябрьской демонстрацьи
- Над мною плыли облака
- В моей груди колокола
- Звучали, и под жестким настом
- Размыт был тонким слоем враг
- И каждый мой невинный шаг
- Был победой над ним
- И я шла
- И враг размыт
- И враг разбит
- И враг бежит-бежит-бежит
- Иду по полыни я по белене
- Навстречу мне Жуков на белом коне
- Лицо его словно кипящий алмаз
- Но не отвожу я невинная глаз
- Ему говорю: Что твой конь-то рыдает? —
- Уж больно лицо твое дивно пылает!
- Отвечает он
- И твое пылает дивно! – говорю
- И Твое ослепительно, словно солнце в зените! – говорю
- И Твое нестерпимо пылает, как свод золотой небес! – говорит он
- Смотреть невозможноооо! – рыдает конь
- Вот шагом строевым волчица
- Проходит зимнею Москвой
- За нею что-то волочится
- Как красный на снегу подбой
- Пред ней бегут все оробелые
- Я подхожу к ней черно-белая:
- Иди домой! – говорю
- А где дом мой? – рычит она
- Дом твой в доме отца твоего! – говорю я
- А кто отец мой? – спрашивает
- Кто отец твой? —
- Кто отец мой?
- Тогда я – отец твой!
- Злая кошка на улицу вышла
- Огляделася важно и прытко
- Тут и я выхожу из калитки
- Она плачет притворно и пышно
- А и я говорю: Ах ты змей!
- Да и посохом прямо пред ней
- Как вдарю
- А из земли – фонтан черный, как кошка злая на улицу вышедшая, важно и прытко по сторонам оглядывающаяся, а из калитки – ангел белый, а она пред ним плачет притворно и пышно, а он: Ах ты, змей! – да как посохом ударит перед ее носом, а из земли – фонтан черный, вроде кошки злой, что погулять вышла по сторонам оглядываясь притворно и пышно
- Мне ноги жгли железом красным
- И разрезали на ремни
- Но я была как снег прекрасна
- Морозные стояли дни
- Я пела голосом Лазо:
- Япе! Лагол! Осомл! Азо!
- Япееее
- Лагооол
- Осооомл
- Азооо
- Уже душа томится счастьем
- Уже забыла все на свете
- Пред ней как маленькие дети
- Резвятся-прыгают несчастья
- Она их гладит по головке
- И на меня глядит неловко
- И говорит
- Может, усыновим? а? —
- Конечно, дорогая! одним-двумя больше! вон, их там миллионы резвятся в комнатах наших! а то что-то уж очень ты счастьем затопилась!
50 капелек крови в абсорбирующий среде
1990
Предуведомление
Как можно заметить, этот опус находится на пересечении стилистик японской хайху, ассоциативной поэзии, традиции афоризмов и поп-артистских и концептуальных текстов.
Правда, в отличие от хайху, всякое указание на конкретный предмет или же переживание сей же час стремится стать простым высказыванием, просто языковым актом.
В отличие от традиции афоризмов автор не следует принципу экономии и дидактической осмысленности, если и не манифестируемой, то предложенной как осмысляющая интенция.
Ассоциативной же поэзии не соответствует столь жесткая предумышленность, почти каноническая форма (3–4 строки), с назойливо повторяющейся присказкой о капельке крови.
От поп и соц-арта, а также концептуальных текстов эти отличает стремление апеллировать к какому-никакому реальному визуальному и эмоциональному опыту, а также к прямому поэтическому жесту.
В общем, всего понемножку, и ничего, к сожалению, в целом.
- Морозный узор на стекле
- Капелька крови на пальце мальчика, одетого в изящный лейб-гвардейский морской мундир
- Робкий первоклассник у черной доски:
- Мама мыла раму
- Слезами
- Маленькие свастики на брачной простыне
- Капелька крови на безымянном пальце
- Чистая, как опушка заячьего воротника, экзистенция
- Москва – Берлин, 1990 год
- Жало тигра
- Хобот быка
- Капелька крови на мужском пальце, выходящем
- из чужого тела
- Чей-то будущий плач
- Мелкий топот убегающих по крыше ног
- Капелька крови на лапке котенка
- Судьба поэта в России
- Чудесные превращения ужаса в торжество и обратно
- В ужас
- Семь подмосковных чудес света
- Капелька крови прикрытая бархатной тряпочкой
- Откуда это томление по розовому бальному платью
- и вздрагивающим оборкам
- Частная жизнь офицера
- Капелька крови на левой груди местной красавицы
- Пристальный взгляд невидимых махатм, переведенных
- на русский язык
- Разговор англичанина с немцем
- Капелька крови у стен вечереющего монастыря
- Камень, летящий из русской глубинки в воды Атлантического океана
- Картина незабвенного Фридриха
- Почему-то вспоминаются всякие глупости
- Честь мужчины все-таки на полях сражений
- Возвращение из обморока возле капельки крови, почерневшей от проведенного времени
- Капелька крови на клюве голубя
- Искренность партийного работника
- И нечего ответить на недоуменный взгляд вопрошающих
- Разве что: голубь, капелька крови
- Искренность партийного работника
- Ледяная водка меж оконных рам
- Слабое потрескивание оголявшихся проводов
- Рысь, оборачивающаяся девушкой с капелькой крови
- в уголке рта
- Строгость живого милицейского мундира
- Дворник, сметающий капельку крови с заснеженного тротуара
- Смуглые ангелы, парящие над Сахарой в поисках
- сбежавшего священного зайца
- Жизнь по весне, но уже в Самаре
- То, что называется жопой
- Капелька крови на краю унитаза
- Голос из соседнего пространства и мгновенная смерть
- И трансценденция
- Сабельная атака на рассвете
- Специфическая капелька крови, подбегающая к сердцу
- Огромный рулон шерсти цвета электрик, проеденный
- мышами
- Где-то в Бирмингеме
- Концерт Моцарта
- Безумное количество рассыпанных на земле капелек крови
- Сим победиши
- Интеллигибельный зверь отмщения Уатцриор
- Почему-то вспоминаются балетные тапочки Анны Павловой
- Капелька крови за ушком плюшевого медвежонка
- Маршал Ворошилов
- Демонизм и чувство товарищества в средневековом
- Гёттингене
- Капелька крови на игле одноразового шприца
- Фиолетовое чернильное пятно в виде царевича Дмитрия
- Вызываемая неимоверным напряжением воли
- капелька крови
- Последующая частичная реабилитация
- Капелька крови на почти нетронутой шее
- Двести пятьдесят изоморфизмов Просветления
- Почти невидимый сверху домик в зеленой Богемии
- Голос адвоката Макарова на чурбановском процессе
- Капелька крови на чудотворной иконе
- Тихий подземный голос, по ночам говорящий женщине
- какие-то слова, ею неправильно истолковываемые
- Бутылочка уксусной эссенции
- Гулкий пустынный зал после ремонта
- Капелька крови, подлетающая на пергаментных крыльях
- и жужжащая над ухом
- Тухачевский, прекрасно танцующий мазурку
- Рюмка водки с капелькой крови на дне
- Вид странных земляных знаков с высоты орлиного полета
- Не обязательно реального
- Капелька крови на капельке крови,
- Человек по имени Ким Ир Сен, бредущий
- по проселочной дороге
- Всеобщее смятение при одних только слухах из Сыктывкара
- Капелька крови на пакете молока
- Пушкин на фоне воспеваемого им анчара
- Освежающее чувство одиночества и гордыни
- Чем не праздник?
- Иван да Марья в обоих смыслах
- Послеобеденная капелька крови на усах Сталина
- Прочитайте, прочитайте мне начало четвертой эклоги
- со слов: Когда позабудутся и эти имена…
- Ветка сакуры на листке японского календаря
- Капелька крови и слезинка на фарфоровом блюдце
- Громовой иероглиф, выпадающий из свинцовой тучи:
- Рим должен быть разрушен!
- Отрубленная в шутку голова
- Капелька японской крови в огромном американском теле
- Шестой день недели и не суббота – что это?!
- На вид – пакетик синильной кислоты
- Капелька, но не крови
- Размытая, за давностию лет, всеобщая гармония
- простых чисел
- Один, два, три, четыре священных трепета
- Капельку, капельку крови забыли!
- Отчего же забыли
- Не забыли
- Фарфоровое вскипание довоенного крепдешина
- Капелька зеленой крови оборотня
- Одиночный ловец человеческих душ над желтым
- потоком ускользающих вод
- Бархатистый талончик на сахар
- Материализовавшаяся в большого серого кота метафизическая капелька крови
- Смутная от стекающей вертикально по стеклу слезы линия
- отечественного горизонта
- Проплывающий в зеркале сигаретный дым
- Невостребованная капелька христианской крови
- Огромные, по рассказам, исторические зоны иных
- существований
- Сами собой разумеющиеся страдания Наполеона
- Капелька крови, просачивающаяся из-под двери
- ванной комнаты
- Что-то напоминающее из виденного у арабских геометров
- Затягивающиеся белизной глаза умирающего ягненка
- Поздно обнаружившееся смещение Марса в сторону
- обитания Лебедя
- Но и не капелькой крови единой ведь
- Конечно, нет
- Безумие несчастного младенца
- Капелька крови
- Неидентифицируемый текст транссибирской Упанишады
- Холодящие душу крики из соседнего зоопарка
- Скачкообразный промежуток времени между принятием решения и отказом от него
- Обморок при виде капельки крови
- Как и в прошлый раз – ничего
- Большой глоток крови и оставшаяся капелька
- Звуки ангельского пения в Лурде, доносящиеся
- из района Лубянки
- Цепь губительных несоответствий
- Знобит что-то
- Прямо-таки горение на сгибах кожаного фиолетового
- пиджака
- Капелька крови в абсорбирующей среде
- Легкое сырое дуновение из предполагаемой между ног
- космической дыры
- Божественный пластилиновый пейзаж на столике у окна
- Хочется капельки крови
- Нечто английское, вычищенное до отрицающей нас степени
- Испытание снегом и копотью
- Внутри капельки крови таящееся существо
- Грааль, мой Грааль! лю-ли, лю-ли, Грааль
- Священный
- В забытой книжке забытая десятка
- Чудовищного вида то ли блядь, то ли просто девушка
- Разрубленная надвое топором капелька крови
- Неизвестно каким образом устраивающийся на голове
- тюрбан
- Скажи мне: Капелька крови!
- Ветка сирени из жизни недосягаемых лирических поэтов
23 явления стиха после его смерти
1991
Предуведомление
Касаясь последних тенденций (и не только, и даже не столько в литературе, а в культуре в целом и в изобразительном искусстве в особенности), мы видим возрастающую тенденцию растворения стиха (или в общем смысле – текста) в ситуации и жесте, т. е. предпочтительное описание возможности текста (типа: «в первой строчке мы описываем то-то и то-то с рифмой, скажем, на аясь»), его функционирования в социокультурной ситуации (типа: «поэт входит через правые двери, немного волнуясь, вынимает текст, исполненный печатной графикой обычного стиха, начинает читать, на что публика горячо реагирует»). В акционно-перформансной деятельности текст (стихотворение, скажем) присутствует как нулевой или точечный вариант ситуации и жеста.
Эта проблематика, конечно, интересна и касается только представителей сугубо авангардных, постмодернистских и прочих нетрадиционных направлений (впрочем, у нас весьма немногочисленных на фоне основного литературного процесса, для которого подобного рода проблемы вполне невнятны или просто находятся за пределами разрешаемости).
Задачей этого сборника является как раз переориентировка вектора, т. е. в вышеописанной ситуации вектор направлен от текста к ситуации, мы же его поворачиваем в обратном направлении, приняв нынешнее состояние литературного процесса (в авангардной среде) за первичную данность. Т. е. для неразличающего глаза события происходят примерно на той же самой территории и вполне неразличимы, спутываемы. Взгляд же различающий заметит, что ситуация, жест как бы отменяемы стихом, обнаруживая приводимые куски жестового и ситуационного описания в их самопародировании (кстати, роли, которая в предыдущей ситуации отводилась стиху) на фоне самоутверждающегося стихотворного текста в его онтологической первородности.
Вот стихотворение, которое потрясло меня в детстве, хотя и было написано на 50 лет позже
- Капли дождя как тварь дрожащая
- Пройдя насквозь зеленый пруд
- Ложится на прохладный лоб
- Младенца заживо лежащего
- На дне пруда
Эти строки я долгое время приписывал Пушкину, пока не оказалось что мои
- Она летит как пух изящная
- Вдруг спотыкается о зуб
- Зверя под сценою сидящего
- И ужас, ужас! пенье труб!
- И ужас
После смерти следует писать гораздо-гораздо проще, как я уже приводил в пример
- Много деревьев в саду
- Пыль в полвершке над дорогой
- Завтра я снова приду
- Только ты больше не трогай
- Меня пальцем
Происходят суровые и значительные споры и схватки по поводу будущего, а в промежутках, чтобы отвлечься, звучит что-нибудь, не привлекающее всеобщего внимания
- Сыпется белый снежок
- Словно судьбы сапожок
- Шитый то черным, то синим
- А то вместе
- Да – еще и красным
- Рядышком от России
- А зачастую так и посреди ее
Доказывая глупость и нехитрость подобного рода занятия, приводят первые же пришедшие на ум строки
- Как освежевана стояла
- И кожа вниз с нее бежала
- Что беззаботная струя
- Задерживаясь на хвосте
- Условно
- И она рухнула в постель
- И белоснежна простыня
- Червонно-красной тут же стала
- Вот – вочеловечивание, оно же – страстотерпство
Только в качестве ничего не значащей заставки между 13 и 14 главами крупного исторического сочинения
- Стареют наши женщины
- Но Боже, Боже мой!
- Ведь нам были обещаны
- Их вечность и покой
- Вечный
- Наш
- Рядом с ними
- Боже мой
Сидят за столом, читают, появляется Милиция, учиняет проверку документов, поднимаются крики, возможно и драка, последнее, что тонет в общем гуле
- Где белого единорога
- Не пустят даже на порог
- В наше-то время
- У одного вдруг от порога
- Как только вошел
- Стремительный белоснежный рог
- Во лбу вдруг прорастает
Он долго рассказывает, как все это писалось, какие различные структурные и семантические смыслы вкладывались в различные строки и в целом в их последовательность, чтобы в итоге получилось такое
- Сестра моя, войди в мой дом
- Мы вместе на постели ляжем
- Ни слова лишнего не скажем
- Словно погибнем, а потом
- Друг другу тайное покажем
- Над каждым
- Его отдельно висящее
- Тайное
Только в страшный холод при попытке согреться так быстро-быстро проборматывается
- О, незабудочка живая
- Как рана жизни ножевая
- Как некий фитилек спасенный
- К потьме вселенской поднесенный —
- И вспыхнуло, и все горит
- Но так невидимо, едрит
- Так, едрить твою мать, невидимо —
- Невидимо все
Кто-то из сидящих за столом, чтобы не выглядеть чересчур глубокомысленным, произносит
- И девочкою на бегу
- Белеет березняк сосновый
- Буквально только что в снегу
- Чернелся мальчиком – и снова
- Чист как девочка —
- произносится игривой скороговоркой
Истончение истончающегося стиха
1993
Предуведомление
Как всем известно, любое стихотворение, да что стихотворение – слово! – чревато разрастанием в целую поэму; цикл, цикл поэм! Просто даже невозможно все и обозреть в его потенции. Просто даже усталость сразу какая-то, утомление и скука. Только одно стихотворение напишешь, а дальше… ну дальше как-то так, эдак в том же духе. Да и вообще не стоит об этом.
Вот эти серии и явлены с предшествующим им нехитрым образцом, да и с бесчисленным возможным продолжением всего этого.
Да вообще-то все в мире может разрастаться до уровня, этот самый мир превышающего.
Вот так.
2 СЕРИЯ
- Над смертью кошки разрыдалась
- Кошечка
- И что ей кошка-то далась
- А просто въяве оправдалась
- Та несмываемая связь
- Но укрытая от быстроокидывающего взгляда
- Между женщиной и кошкой
- Мужик так не разрыдался бы
* * *
Мужчина разрыдался над собакой – очевидная связь
* * *
Ребенок – над птичкой, пояснения не нужны
* * *
Старик над муравьем – это самоочевидно
* * *
Пожарный над кикиморой – не совсем ясно, но можно обоих связать с таинственной стихией огня
* * *
И последнее, неясно кто – над Сычуанским хребтом, персонажи, их связи и ответы переживаются всеми разом и неоднозначно
3 СЕРИЯ
- Рыбак в ночи причалит лодку
- На берег выйдет незнакомый
- Найдет причал, найдет молодку
- Закрепит лодку
- И странной страстию влекомый
- В глубь территорьи углубится
- Да так назад и не вернется
- Исчезнет
* * *
Потом про человека ушедшего в горы и не вернувшегося
* * *
Потом про то, как человек сошел на мелкой станции, да и затерялся в полях
* * *
А вот про человека, который ушел в большой город с манящими сверкающими огнями, да и не вернулся
* * *
А вот уже человека кто-то ночью поманил сладким зазывающим голосом, он в полузабытьи встает с постели, отворяет дверь, выходит в лунный сад и никто его больше не видел
* * *
Или вообще, непонятное – среди улицы стоял, стоял человек и не отходил вроде, не двигался, не делал даже попытки, не подавал виду – а исчез
4 СЕРИЯ
- Мы от честности помрем
- К нам придут и спросят: Вы ли
- Все вокруг разворовали
- А? —
- Мы! – ответим и помрем
- От честности ответа
* * *
Мы помрем и от ужаса, то есть всех вокруг поуничтожаем, посмотрим на это, ужаснемся и помрем
* * *
Потом как мы помрем от совестливости, т. е. все тут искалечим, а после совесть до смерти заест
* * *
Потом как мы помрем от ума, т. е. порушим все, разорим все к чертовой матери тут, ебить, разнесем, ебить, а потом все-таки поймем, что так нельзя и помрем от неожиданности ума своего
* * *
Потом как мы помрем от аккуратности, исполнительности, точности, умеренности и скуки
* * *
Потом как мы уничтожим Бога, в смысле – Бог умер, умер! умер! но помрем все-таки от набожности
5 СЕРИЯ
- Стоит, безумный, улыбается
- Гранатою в руке играет
- Взорвет сейчас вот – и останется
- Мокрое место
- От нас
- Вот-вот-вот дернет за чеку
- Ан, передумал и: Чайку
- Что ли
- Попить? – говорит
* * *
А вот некий задумал что-нибудь снести с лица земли, но потом постоял и: Чайку – говорит – что ли пойдем выпьем
* * *
Или, скажем, Ньютон, вослед закону тяготения почти открывает теорию относительности, да подпустил: Чайку – говорит – надо выпить, что ли! – и упустил момент
* * *
Затем непонятно кто, но что-то уж совершенно ужасное замышляет, но что-то отвлекает его, и уже позабывши восклицает: Чайку, чайку испить бы!
* * *
А под конец уже и про меня, как я задумал совершить что-то, уж и не припомню что именно, да передумал и закричал: Чаю! Много чаю сюда! И немедленно! Пить будем!
6 СЕРИЯ
- Жизнь несется как заяц косыми
- Перебежками, петлями – ой! —
- А особенно-то в России
- У нас
- Словно заяц с орлом, да свиньей
- Пополам
- Ну, а после – какое-то марево
- Да и в обществе некое варево —
- Все слипается
* * *
А в Германии, к примеру, жизнь движется по прямой, по прямой, а потом – обвал-таки, зигзагами, как носорог лошадиный с котеночком обмирающим
* * *
Во Франции же все ходит квадратами, как волк с бабочкиными крыльями и все распаляется газообразно
* * *
А в одном месте как уперлись в точку, так и стоят, словно помесь слоняры и комариного тигра, а еще и мышонка, камень напоминает – Индия, кажется
* * *
А вот в Америке все по касательной, по касательной, вернее, это в Японии, как снегирь глазурованный с изюмистой змеей, а потом – все есть воздух горячий
7 СЕРИЯ
- Среди поля разводят сурьму
- Разбавляют густой мочевиной
- И настой, недоступный уму
- И бесстыдности очевидной
- С леденящею штучкой одной
- Близкородственный, в смысле
* * *
Или, скажем, замешивают на кухне кислое тесто, а оттуда зайчик выскакивает – ах ж ты шалунишка эротический!
* * *
Где-то в потаенном месте в горячий отвар сыпят какие-то зелья, поднимается удушливое испаренье и является дух омерзительный
* * *
Берутся какашки и что-то еще по рецепту знатоков, размешивается в дачной постройке, потом выносится на азиатское солнце, из этого вырастает как бы крыса как персонификация мобильности
* * *
В воду сыпется шипучка, и все вдруг улетучивается – и ничего – всемирная пустота
* * *
Собирается по долам прах, трава, теплота и влажность, замешивается на крови и слизи, вдыхается жизнь и получается человек
8 СЕРИЯ
- Я рано утром вышел в город
- А к вечеру уж превеликие
- Количество смертей и трупов —
- Вот так свершаются великие
- Событья —
- Неожиданно, стремительно, за спиной и в другом месте
- Лет через двадцать так идея
- Обывательская
- Приходит в голову: А где я
- Был в это время? —
- Чаек, наверное, попивал
* * *
Или, скажем, отвернешься на чей-то зов, оглянешься – а сзади полдома рухнуло, никого нет, а ты за столом чаек допиваешь
* * *
Или пойдешь по тропе, вернешься, а все селения волной как языком слизнуло! ни кола, ни двора
* * *
Или еще – один человек на даче, в саду сидит, а тут в какой-то момент полчища саранчи пролетающей все уничтожают – а ведь только что зелено, радостно все было
* * *
А вот человек отъехал, вернулся часов через пять, а власть переменилась, и он уже не начальник, а разыскиваемый преступник! а где жена? где дети? где дом? дом с горячим чайком? где что? – кто знает
9 СЕРИЯ
- Львиная доля комизма
- Что от коммунизма
- Были всего в двух вершках
- На тебе! тут вот ба-бах!
- И все под хвост тебе псиный
- Вечно у нас вот в России
- Так
* * *
Еще, конечно, комизм, что вот у меня почти счастье, а тут – ба-бах! – и все козлу в пасть, вечно у нас в России так
* * *
Немалый комизм, конечно, и в том, что мы почти что завоевали полсвета, а как раз тут ба-бах! – и все корове в печень, всегда у нас так в России
* * *
Чистый комизм и в том, что обнаружили закон всего и неожиданно ба-бах! – все к чертовой матери, как и всегда здесь
* * *
Ну и комизм был в том, что вот почти что рай знали, видели, щупали, ан нет, кому-то понадобилось и – ба-бах! – все таракану под яйца! вот так всегда с нами как с говном каким-то обращаются
* * *
Вечный комизм у нас в России, как-то так – ба-бах! – как и не было, просто до колик смешно! да и у них не лучше
Человек не знает что делать
1993
Предуведомление
Идея этого сборника нехитра. Это вековечная страсть, идея, утопия синхронизировать все природное и космическое с временем человека, единственного существа среди небожественных, владеющего и овладевающего временем и будущим. Конечно, внутри сборника ничем не овладевается, да и ничем овладеваемо быть ничто не может, но только являются языково-ментальные конструкции и простейшие технологии овладения, становящиеся актуальными, мощными и реальными при внедрении их в каждодневную ритуальную или ментально-репетиционную практику.
- Кошка режет воздух крылом
- Струганным
- Зверь наливается пьяной силой
- Человек не знает что делать
- 15 августа 1993 года в Москве на перекрестке
- Пушкинской
- и Столешниковского
- Гусь зубами вцепляется в колесо
- Раздраженно
- Саламандра недосчитывается двух-трех лет
- Человек стремителен и неосведомлен о многом
- В жаркий июль, Афины, 6 век до нашей эры
- Лев просовывает голову в трансформаторную будку
- И гибнет
- Вурдалак на вурдалака заносит клык
- Что-то смутное проносится в голове человека
- 6 век, сентябрь, песчаный берег Янцзы
- Курица лелеет свою полуспиленную набок голову
- Каракатица окутывает окрестность ядовитыми испарениями
- Человек что-то быстро смекает
- На Унтер дер Линден в Берлине в мае 1944 года
- Старый беззубый конь пасется возле баньки
- Дракон вместе с огнем изрыгающий несгораемые фракции
- Человек в кирасе и с отрубленной рукой не знает, что делать
- Под Прагой 1235 года
- Ворон хвостом оставляет след
- Оборотень плачет одним глазом
- Человек не знает, что делать, но выдержан и достоин
- В сентябре, среди Лондона викторианской эпохи
- Котенок мажет сметаной кушетку
- Акула выплевывает изо рта что-то непоправимое
- Хотя редко
- Человек уже не ведает что к чему
- Лето, жара, Волга, 1929 год
- Крыса выпрыгивает навстречу из кувшина
- Безумное насекомое впадает в ярость
- Человек не знает, что делать
- Стоит задумавшись, прислонясь к парапету белой ночью
- 1821 года
- Таракан в ночи не ищет выгод
- Социальных, в смысле
- Гуингнм накидывает мешковину на голову
- зазевавшегося собрата
- Человек крадется неосвещенной московской улицей
- 15 ноября 1612 года
- Волчатина смотрит на свой отмороженный хвост
- С явной недоброжелательностью
- Индус выхватывает горящие камни откуда-то из кипящего воздуха и обрушивает их на головы посетителей Международной выставки в Париже
- Человек не знает, что делать в Амстердамском кафе
- 17 марта 1997 года
- Белочка прильнула к замочной скважине
- Остерегись, белочка!
- Чиполлино в ярости ощерил деревянный рот с крашеными
- красными зубами
- Человек не знает, что делать, выходя из миланского
- театра Ла Скала
- 6 апреля 1851 года
- Фазан с удивлением глядит на свою тень, превзошедшую
- его своей яркостью
- Птица Симер осыпает всех неожиданными дарами
- Человек не знает, что делать задрав голову, смотря
- на страшнодышащую Фудзи
- в марте 1211 года
- Змея в последней судороге быстро перегрызает себе щеку
- И плачет
- Химера дует на воду, превращая ее в вязкую ртуть
- Человек схвачен минутным озарением в июльском саду
- под яблоней Британии шестнадцатого века
- Медведь вынимает и прополаскивает свои
- израненные внутренности
- В черной воде
- Единорог освещает все розоватым светом
- Человек не знает, что делать, обнаружив себя
- 19 декабря 1919 года
- на Северном полюсе
- Жук опрокидывается на спину от жгучей ласки
- Ласкайте же!
- Вий страдая стирает с себя налипшую слизь живых кровоточащих существ
- Человек вскипает ненавистью 5 декабря 5481 года
- до нашей эры на берегу слившегося океана
- Рысь, взобравшись на вершину сосны, высматривает добычу
- Далеко видать
- Василиск запоминает все вокруг, втягивая в себя
- и опустошая окрестности
- Человек не знает, что делать на площади разрушенного
- Владимира весной
- 1243 года
- Паук умело перебирает ногами внутри какого-то механизма
- Голем приникает к оконному стеклу и смотрит
- невидящими глазами
- Человек абсолютно не знает, что делать
- 29 сентября 1993 года на седьмом этаже девятиэтажного дома № 25 по улице Волгина
Архаический способ сочетания слов
1996
Предуведомление
Предуведомление вроде бы и не нужно, если бы оно не было нужно. Ну в том смысле, что если уж быть до конца откровенным, но не в побочных беседах и воспоминаниях, но в процессе самой культурно-драматургической деятельности, то нужно как-то, каким-то способом обнажать и являть все ее этапы. То есть имеется в виду, что как-то попытаться проявить и тот трудно-объявляемый интимный момент как бы полувербального замысла и пред-обдумывания, предумысливания стиха, и заключительный этап – спокойное дидактически-нравоучительное или романтически-задыхающееся объяснение, попытка объяснения, как все это надо понимать.
Вот мы ничего этого, конечно, и не объяснили, но хотя бы объяснили, что надо бы объяснить в предуведомлении.
- Шумит воздушная ворона
- Ей ясно видно с высоты
- Что
- Прорвав небесные посты
- При том не потерпев урона
- Значительного
- Надвинулась густая тьма
- Это со слабого ума
- Ее
- Сводит
- Возьмем себе закусочки
- И теплого пивка
- Усядемся на воздухе
- И станет жизнь легка
- Потом в машину светлую
- Запрыгнем и пошли
- По вольну-вольну ветру мы
- Летим-летим – нашли
- Нас
- Только через несколько недель
- Лошадь тут овцу забила
- У нас
- Насмерть
- Прям-таки стальным копытом
- Да и тут же позабыла
- Про это —
- Ну, убита и убита
- В самом деле – что за дело!
- Ведь не хищник же – не съела
- В самом деле
- С ногами длинными и голыми
- Блестящими как плотный жгут
- Идет
- А я навстречу ей с глаголами
- Которые сердца лишь жгут
- А ноги, ноги они не жгут?
- И прочьи мелочи нательные
- Не жгут? – и вот они отдельные
- Уходят
- Какая мягкая погода
- Совсем, совсем, как в пору детства
- Моего
- Совсем, совсем в пору одеться
- В сандалики на босу ногу
- И в матросочку
- И поскакать на речку прямо
- Выкрикивая: Мама! Мама!
- Где ты? —
- А все вокруг уже в слезах
- Вот ОМОН остановил
- Неземную иномарку
- Цвета серого немаркого
- Неземного
- Глянули – и нету сил
- Никаких
- Улыбаясь тихо скупо
- Там внутри сидят два трупа
- И смотрят
- Заглянул я в окно – стало тяжко невмочь —
- Всюду дикая, дикая ночь
- Побегу я к себе и зароюсь в кровать —
- Буду спать! буду спать! буду спать!
- А проснуся под утро – вроде и полегчало
- И попробуем снова, сначала
- Все начать
- Так, века с 12-го
- Я шел и свежий воздух пил
- Но вдруг какой-то звук раздался
- Я моментально огляделся —
- Оказывается, наступил
- На неожиданного зайца
- Какого-то
- Он плакал, лапку прижимая
- К груди! но жизнь была живая
- Вокруг
- Все было в порядке
- Чайка лежит словно живая —
- Но мертвая! не ножевая
- Глубокая под сердцем рана
- Но маленький какой-то странный
- В головке ровненький овал
- Чернеет – как поцеловал
- Кто
- Неудачно
- Шел и повстречал я ежика
- Заглянул ему в глаза
- Он мне говорит: А ножика
- Нету у тебя ли за
- Спиной
- Я ответил: Милый мой
- Кто же знает – за спиной
- Что творится
- Под одеялом дышит мерно
- Лошадка, сон ее глубок
- А я один в полях безмерных
- Брожу угрюм и одинок
- И шевелю губами травы
- И все-тки они были правы
- Те
- Которые про Навуходоносора
- Немножко кушают, немного
- О счастье думают, потом
- Под яблоню в густую тень
- Ложатся и безумно долго
- Спят
- А кто это? – а наши кошки
- Сперва покушали немножко
- Затем немного подумали о счастье
- И улеглись спать в густой лиловатой бархатной яблоневой
- тени в саду
- На ножках тоненьких как спички
- Словно из Блока настоящего
- Ждет подходящей электрички
- Ночная девочка гулящая
- Всеми не то чтобы заброшенная
- Стоит, стоит да и в некошеный
- Ров
- Свалится
- Мимо здания большого и красивого
- Среди поздней ночи проходил
- И забитыми все двери находил
- Лишь записка там: Товарища Нусинова
- Просим заглянуть к нам двадцать пятого
- А сегодня тридцать первое – понятно, он
- Уже заглянул
- Тиха-тиха деревенька
- Белым снегом прикровенька
- Да среди холмов лежит
- Словно славный кот-Баюн
- Видит, кто-то там летит
- лапой хвать его: Аю!
- Как звать-то? —
- А он лежит, не дышит
Буквы
1997
Предуведомление
Подобное мы уже имели однажды повод описать. Но артикуляционное становление, как бы составление, выращивание из букв-онтологем стройного растения смысла, поданное как картина, состоящая из исторически-детерминированных разбросанных по разным временам и народам актов в их квазипроцессуальной выстраиваемости – как такое может не заворожить взыскующую и тонко чувствующую душу и не заставить возобновлять поиски сходных глубоко волнующих архисобытий
* * *
Для произнесения первой буквы едет черт-те куда, меняя поезда, а после дилижансы, укутываясь от дождя и ветра в тяжелую серую крылатку, распахивает дубовую дверь какой-то таверны, забивается в угол и, посматривая через плечо в маленькое темное грязное окно, произносит: Е, и обнаруживает себя на польско-литовской границе
* * *
Для произнесения второй буквы находит, что сподручнее всего обернуться в ударника 2-й пятилетки или что-либо подобное и на головокружительной высоте монтируемой домны громко, почти вызывающе выдыхает в искрящийся воздух: В
* * *
Для произнесения третьей буквы обнаруживает себя ребенком в бело-синей матросочке бродящим по старинному саду, забредшим в неведомую беседку, бледным, тонким мизинцем в глубоком молчании на пыльных мраморных перилах выводящим откуда-то выплывающее А
* * *
Затем оказывается в бреду, толи после тяжелых и неудачных родов, толи принесенный незнакомыми крестьянами с соседнего поля битвы в темную избу, где он лежал, окруженный горой погубленных им врагов, то ли после судьбой, либо агентами тайной полиции, порушенной любви, мечется и в горячке выкрикивает: Н-ннн!
* * *
Для произнесения следующей буквы бегает в виде зверя с длинными висящими ушами, завивающимся хвостиком, голубыми глазами, окруженными длинными шелковистыми темными ресницами, оборачивается на чье-то глухое шевеление в темноте кустов и произносит чуть заикаясь: Г-гггг!
* * *
Уже дальше вынужден в виде некоего насекомого переползать многочисленные препятствия, не смея даже приподнять голову, только упорно и неодолимо волоча какую-то неимоверную тяжесть, подвывая: Е-ееее
* * *
Для произнесения седьмой буквы и вовсе оказывается какой-то маленькой клеточкой, стремящейся по потоку крови, достигающей блестящего вздрагивающего сердца, проникающей в него и громко разрывающейся на еще более мелкие, чем сама, крохотная, частичечки с возгласом Л-ллл
* * *
Для произнесения предпоследней буквы стоит посреди поляны огромным дубом, поскрипывающим и покачивающимся, и проезжающему мимо князю, проходящему крестьянину, горожанину, беглецу, вору, убийце, ребенку, птице пролетающей, зверю, безумцу, герою, вождю, насекомому, иноземцу, местному духу, русалке, уху и ежу, таитянке и китаянке местным, философу и антропософу, столяру и маляру, и актеру, и саперу, младенцу и владельцу, клептоману и наркоману, кошке и собаке, и римлянину, и иудею произносит И